 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: БСЭ :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Картленд Барбара :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж Популярные книги:: Бек и щедроты шведов :: Старик-годовик :: The Boarding House :: Сон Колриджа :: Сделка с дьяволом :: Разрушь преисподнюю! :: Кавалер Макабка :: Охота на невесту :: Атлантида под водой :: Волшебный сон |
Этьен и его теньModernLib.Net / Приключения / Воробьев Евгений Захарович / Этьен и его тень - Чтение (Весь текст)
ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ ЭТЬЕН И ЕГО ТЕНЬ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  1 Да, весна в этом году припозднилась. Горожане не доверяют пасмурному небу и не расстаются с зонтиками. Извозчичьи экипажи день-деньской разъезжают с поднятым верхом, а кучера не снимают плащей, отлакированных ливнями, дождями, дождиками и дождичками. Автомобили блестят, словно их заново выкупали в краске. Продавцы сувениров на пьяцца Дуомо не один раз на дню прикрывают лотки клеенчатыми фартуками. Уличные фотографы таскают громоздкие аппараты в непромокаемых чехлах, а сами не расстаются с зонтиками. Голуби и фотографы кружат по площади в полном согласии. Голуби совсем не пугливы, а фотографы сами могут напугать бесцеремонной привязчивостью. Карманы у фотографов набиты вареной кукурузой: подкормка нужна, чтобы снять клиента среди порхающей стаи, чтобы за крыльями не видно было самого воздуха и мокрой мостовой. И подобно тому как голуби хищно дерутся зимой из-за нескольких зерен, фотографы чаще враждуют и ссорятся между собой в такое вот холодное ненастье, когда мало туристов. Милан сегодня верен себе – небо прохудилось, моросит дождь. Так некстати Этьен оказался без зонтика. Он поднял воротник пальто и втянул руки поглубже в рукава – уберечь крахмальную манишку, уберечь манжеты. Небо стылое, в рваных тучах. То смутно видна, то исчезает золоченая статуя Мадоннины на шпиле собора. Туман стелется над Миланом холодной, промозглой тяжестью. На пьяцца Дуомо уже горят все восемь фонарей, каждый о шести лампионах, но светят они тускло, как за матовыми и пыльными стеклами. Этьену с трудом верилось, что часа два назад его в полете ослепляло яркое солнце. Тень от учебного биплана «летающая стрекоза» скользила этажеркой по облачной кровле, прикрывшей Милан. Лишь Мадоннина время от времени показывалась в облачных просветах, чтобы блеснуть позолоченным одеянием и снова скрыться. Асфальт черно лоснился от дождя, все крыши сделались аспидного цвета. Авиатор Лионелло предполагал, что они утром отправятся в тренировочный полет то ли на аэродром Тревизо, северо-западнее Венеции, то ли на аэродром Христофора Колумба под Генуей. Но куда полетишь, если, как говорят летчики, «консолей не видно»? В такую погоду только упражняться в слепых полетах или летать над знакомыми ориентирами. На посадочной полосе блестели рябые от ветра, черные лужи. Этьен решился сесть только с третьего захода и все-таки посадил машину грубо, «с плюхом». Инструктор Лионелло, весь в кожаных доспехах, щелкнул фотоаппаратом, замахал рукой, что-то закричал, но слов нельзя было разобрать из-за шума мотора. «Летающая стрекоза» подрулила и остановилась. Кертнер отстегнул ремни, сдвинул очки на лоб. Взгляд его привлек стоящий неподалеку истребитель с немецкими опознавательными знаками. Кертнер вылез на крыло, поглядел на истребитель. – Ну как, Лионелло? – с напускным самодовольством спросил Кертнер, снимая шлем с очками. – Еще одна такая посадка – и остаток своей жизни вы пролежите в гипсе! – Лионелло не принял шутливого тона. – Захотелось поиграть с грозой? За каким дьяволом вас понесло в центр города? Поцеловаться с Мадонниной? Или снести макушку Дуомо? Кертнер спрыгнул на мокрую траву и увидел, как рабочие подтаскивают брезент к истребителю. Ими распоряжался летчик в элегантном комбинезоне. – Вот так встреча! – Кертнер подбежал к летчику, они обнялись. Кертнер повернулся к Лионелло: – Синьор Аугусто Агирре. В прошлом году на воздушных гонках в Англии занял второе место. Кубок короля Георга просто выскользнул из его рук. А это, – Кертнер повернулся, – высокочтимый синьор Лионелло, мой инструктор. Кажется, сегодня он гордится своим учеником… – …особенно его идеальной посадкой, – нахмурился Лионелло. – Держите. – Он протянул фотоаппарат Кертнеру. – Сможете полюбоваться собой. – Подождите минутку, – попросил Кертнер, не беря фотоаппарата. – Пожалуйста, еще снимок. На память. Кертнер и Агирре стали в обнимку на фоне истребителя. Лионелло щелкнул затвором, отдал фотоаппарат и ушел. – Каким ветром? – спросил Кертнер. – Контракт с Хейнкелем. Перегоняю эти игрушки за Пиренеи. Но… – Агирре показал на грозовое небо. Рабочие укрывали истребитель брезентом. Агирре помогал им, а между делом спросил: – Опять собираешься в гости к королю Георгу? – В этом году кубок разыграют без меня. – Как всегда, коммерция мешает авиации? Кертнер беспомощно развел руками. – Поужинаем? – предложил Агирре. – Сегодня в «Ла Скала» дают «Бал-маскарад», поет Титто Гобби. Вот если после театра… – Позже буду занят… Понимаешь, обещал навестить одну скучающую синьору. Здесь замешана женская честь и достоинство испанского офицера… Тебе могу признаться: рад, что застрял в Милане… – Если не улетишь, звони утром. – Кертнер протянул визитную карточку. – Гуд лак, фрэнд! – Ариведерчи, амиго! Из-за Агирре он вынужденно задержался на аэродроме. А потом еще нужно было добраться из местечка Чинизелло до города, заехать домой, наскоро переодеться… Чтобы не промокнуть, уберечься от грязных брызг и вконец не испачкать лакированные туфли, Этьен пошел галереей Виктора-Эммануила. Мозаичный пол галереи пятнали следы, только они напоминали о слякоти. У кафе Биффи, по обыкновению, околачивались биржевые агенты, валютчики, маклеры и просто любители посудачить о новостях, вычитанных из газет, а еще охотнее – о новостях, которых газеты не сообщают. В воздухе держался стойкий запах сигар и папирос, все прогуливались с зонтиками под мышкой. 2 Этьен едва не опоздал в театр. Войдя в партер, он мельком взглянул на часы, висящие над занавесом, – две минуты до начала. У знатных театралов считается признаком хорошего тона прийти в самую последнюю минуту. Все взоры обращаются на тех, кто появился в пустовавшей ложе бенуара или величественно, неторопливо следует по проходу между кресел. Шествуют такие театралы с провожатым – маститым седовласым капельдинером, в черном камзоле с крахмальным воротником. На массивной цепи висит бронзовая медаль; один конец цепи опущен за спину, другой свисает до пупа; на медали чеканный абрис театра. Капельдинеры встречают Этьена как хорошего знакомого. Вот что значит щедро платить за программы! Ингрид приходит с неизменной пунктуальностью, не рано и не поздно. Она посматривает на часы под потолком и напряженно ждет, когда появится ее всегдашний сосед. Но как только Этьен усядется рядом, она притворится равнодушной. В руках у Ингрид неизменная черная папка с надписью «Ноты». Многие музыканты, студенты консерватории слушают оперу, осторожно перелистывая в полумраке партитуру, сверяясь с ней, устраивая негласный экзамен певцам, дирижеру и самим себе. А еще больше придирчивых слушателей и строгих ценителей – на галерке. Там перелистываемые ноты шуршат, как страницы в читальном зале библиотеки. Тускнеет люстра, обессиленная реостатом, вот-вот она померкнет вовсе, и белый с золотом зал погрузится в темноту… Этьен так хотел прийти сегодня пораньше! Есть своя прелесть в том, чтобы явиться в «Ла Скала» минут за десять – пятнадцать до начала, отдышаться в кресле от кутерьмы и суматохи делового дня. А потом следить, как заполняется впадина оркестра, как там становится все теснее, толкотнее; слушать, как музыканты настраивают инструменты, наигрывают вразнобой, репетируют напоследок каждый что-то свое, а в звучной дисгармонии выделяются медные голоса труб, флейта, английский рожок… Зал погружается в темноту, и лампочки в оркестре светят ярче. Через светящийся оркестр пробирается дирижер, музыканты приветствуют его постукиванием смычков по пюпитрам. Он торопливо кивает и, перед тем как подняться на возвышение, здоровается с первой скрипкой. Едва дирижер появляется за пультом, раздаются аплодисменты. Он поворачивается к залу и озабоченно раскланивается. Этьену из шестого ряда виден его безукоризненный пробор; волосы приглажены и блестят. Но вот дирижер подымает свою державную, магическую палочку, придерживая ее пальцами левой руки за кончик, словно рукой не удержать… Только что он в первый раз взмахнул палочкой, а Этьен уже всецело в его власти. В памяти оживают полузабытые строчки: «Уже померкла ясность взора, и скрипка под смычок легла, и злая воля дирижера по арфам ветер пронесла…» Чьи стихи? И почему – злая воля? Скорее – добрая воля. Все-таки: чьи строчки? Спросить в антракте у Ингрид? Бессмысленно. Она подолгу декламирует Гейне и Рильке, но в русской поэзии – ни бум-бум… Этьен заметил вокруг себя несколько лиц, примелькавшихся с начала сезона. Боязливо скосил глаза влево и увидел перекормленную белесую девицу; она, как обычно, сидит через два кресла от него в пятом ряду. Стал ждать, когда девица начнет шуршать программкой или примется за свои конфеты, упакованные в хрустящие бумажки, а сверх того еще и в фольгу, – черт бы побрал эту завертку, эту конфету и эту девицу фламандского покроя! Справа сидит старушенция с глазами на мокром месте; в чувствительных местах она начинает хлюпать носом. А с симпатичным старичком, по-видимому из бывших певцов, Этьен даже раскланивается. Старичок слушает самозабвенно и страдает от одиночества. После верхней ноты, виртуозно взятой певцом, старичок безмолвно повертывается к Этьену, и тот понимающе кивает. Этьен сидит насупившись, сложив руки на груди, и, когда ему невтерпеж поделиться своими восторгами, тоже находит безмолвное понимание у этого симпатичного старичка. Этьен очень любит «Бал-маскарад» Верди, но недоволен певцом, который поет партию графа Ричарда Варвика. В первом антракте Этьен признался Ингрид, что уже примирился с тенором, нет худа без добра, он внимательнее, чем обычно, вслушивается в оркестр. Чем пленяет дирижер? Прежде всего тем, что сам восхищен музыкой. Плавные движения рук, мелодия струится с кончиков длинных пальцев. При пьяниссимо он гасит звук ладонью – «Тише, тише, умоляю вас, тише!»– и прикладывает пальцы к губам, словно говорит кому-то в оркестре: «Об этом ни гугу». При объяснениях графа и Амелии медные инструменты безмолвствуют, а когда звучит воинственная тема заговора – нечего делать арфам и скрипкам. В эти мгновенья дирижер протыкает, разрезает воздух своей палочкой, он изо всех сил сжимает воздух в кулак, будто воздух такой упругий, что с трудом поддается сжатию. Движения его рук становятся неестественно угловатыми – как бы не домахался до вывиха в локтях. Копна растрепанных волос – от прически не осталось следа. Он торопливо листает страницы, не заглядывая в партитуру, оркестр мчится все быстрее и быстрее, увлекая за собой слушателей и самого маэстро. Обычно в первом антракте Ингрид брала свою папку с нотами и отправлялась в курительную, а Этьен сидел в опустевшем, притихшем партере и делал записи в блокноте. Однако сегодня сосед Ингрид был неузнаваем, будто его подменили. Сегодня, вопреки обычаю, он в курительную Ингрид не отпустил, а повел в буфет, угостил кофе с тортом, купил коробку ее любимого шоколада «Линдт» с горчинкой и вообще был необычно любезен и внимателен. – У меня медвежий аппетит к горькому шоколаду… – Русские говорят – не медвежий, а волчий аппетит, – поправил по-немецки Этьен. – Но аппетит, несмотря на ошибку, у меня не пропал! – упрямо сказала Ингрид. Она поглядывала на своего новоявленного кавалера и только удивленно подымала брови, а он делал вид, что не замечает ее тревожного недоумения. Большую часть первого антракта он прилежно фланировал с рослой фрейлейн по фойе. Дождь прекратился, видимо, собирался с новыми силами, и зрители заполнили балкон над театральным подъездом. Сегодня для горожан погода лишь неприятная, скверная, а для Этьена она оказалась еще и нелетной. Про густую облачность летчики говорят «молоко». Но сегодня он хлебал «сгущенное молоко». Краснея, вылез он после неудачной посадки из кабины учебного самолета «авро», который здесь называют «летающей стрекозой». Пришлось выслушать длинное нравоучение инструктора Лионелло, который при этом раздраженно похлопывал себя по кожаным брюкам перчатками с раструбами. «С воздушного корабля – на «Бал-маскарад», – усмехнулся про себя Этьен. Но ему так хотелось побывать сегодня в опере! На днях он уезжает в Германию и может там задержаться недели на две. Когда-то он вновь выберется в «Ла Скала»? Этьен и фрейлейн Ингрид постояли на балконе, подышали влажным воздухом, покурили. Света фонарей не хватает на всю площадь, но Этьен отчетливо представляет себе каждый из домов, обступивших ее. Лишь в этой стороне площади звучит музыка, а с трех других сторон – в здании Итальянского коммерческого банка, в бухгалтерии муниципалитета и в каком-то обществе взаимного кредита – дни напролет считают, вертят ручки арифмометров и выводят дебет-кредит… – Даже на вас, герр Кертнер, музыка действует благотворительно, – донесся будто издалека голос Ингрид; она упрямо практиковалась в русской речи, когда рядом никого не было. – Благотворно, – поправил ее Этьен вполголоса и продолжал по-немецки: – Гм, всего одна коробка шоколада – и вы уже делаете мне комплименты. – Не говорите гадостей. Только плохие люди равнодушны к музыке. – А как тогда быть с Сальери? – «Моцарт и Сальери»? – Ингрид осмотрелась и полушепотом спросила по-русски: – Разве это не есть легенда? Я думала, одна из сказок вашего Пушкина. Как там сказано? Идет направо – заводит песенку, идет налево – говорит сказку… Никто сейчас не мог их подслушать, и все-таки Этьен считал упражнения Ингрид неуместными. Сам он сказал по-немецки: – А может, «Моцарт и Сальери» не легенда, а быль? Может, Сальери отравил Моцарта? Из черной зависти… Ингрид продолжала разглагольствовать. Она убеждена: многие сегодня уйдут из театра облагороженными, музыка сделает их более умными, чуткими, счастливыми, чем они были еще вчера. – Счастливее – могу согласиться. А вот умнее… Боюсь, мы с вами этого правила не подтверждаем. – Бойтесь, пожалуйста, только за себя, герр Кертнер. Что касается меня, то я… – И добавила по-русски: – Сегодня поумничала… – Поумнела, – шепнул ей в ухо Этьен, не наклоняясь: оба одного роста… – Простите, поумнела. Мне жаль тех, кто не есть любитель музыки. Кому косолапый Михель Топтыгин – как это говорят русские? – сел на ухо. – Наступил на ухо, – совсем тихо уточнил Этьен. – Простите, наступил. – Ингрид потерла себе ухо так, как это делают, боясь его обморозить. Второй акт принес триумф знаменитому баритону, исполнявшему партию Ренато. Да, Титто Гобби умеет долго держать дыхание на верхней ноте, вызывая сердцебиение всех шести ярусов. Каждая его ария заканчивалась неминуемой овацией. Ладонью, поднятой над затылком, дирижер отгораживался от овации, готовой вот-вот сорваться, защищал заключительные аккорды оркестра от криков «браво, брависсимо». А конфетная бумажка отвратительно шуршит. Ну сколько можно с ней возиться? Да разверни, наконец, свою конфету, чертова кикимора! Во втором антракте певцы вновь выходили на авансцену, и красавец Ренато с заученной грацией раскланивался, принимал цветы, делился ими с Амелией и графом, показывал великодушным жестом на маэстро и на весь оркестр. Ингрид ушла в курительную, а Этьен остался в опустевшем партере. Он держал в руке блокнот, сосредоточенно писал, и антракт показался ему удивительно коротким. В третьем, последнем антракте к Этьену вернулась общительность и галантность. Они снова фланировали по фойе, добровольно подчинив себя круговороту фраков, черных костюмов, вечерних платьев. Кертнер раскланялся с каким-то важным толстяком. – Кто это? – спросила Ингрид. – В кармане у этого толстяка все мое состояние… Вице-директор миланского «Банко Санто Спирито». – С внучкой? – С женой. Она любит есть конфеты под музыку. Кертнер поклонился еще одному важному синьору с бакенбардами. – Удивительно похож на императора Франца-Иосифа, – сказала Ингрид. – Это ему даже положено по должности. Наш с вами новый австрийский консул. Старый меломан, сосед по креслу, подошел к Кертнеру с партитурой в руке, раскрыл ноты на загнутой странице и сказал тоном заговорщика: – Теперь все дело за графом. – Вы имеете в виду предсмертную арию Ричарда Варвика? – Конечно! Если он чисто не возьмет верхнее «до», я умру вместе с ним. С главным фойе соседствует театральный музей. В первом антракте в музее всегда многолюдно; во втором – пустовато, а в третьем – и вовсе пустынно. Иностранные туристы, провинциалы уже в первом антракте поглазели на афиши, фотографии, эскизы костюмов и декораций, искусно подсвеченные макеты постановок. Ингрид и Этьен, по обыкновению, заглянули туда в последнем антракте. И сегодня Ингрид крайне заинтересованно разглядывала экспонаты музея, поставив папку с нотами на застекленный столик. Этьен вытащил бумаги из внутреннего кармана пиджака, вырвал листок из блокнота и положил все в папку с черным лакированным переплетом. Одновременно он переложил к себе в карман письмо из папки Ингрид. Звонок зовет в зал, последний акт, начинается бал-маскарад. Заговорщикам удалось наконец узнать, под какой маской скрывается граф. Вскоре потерявшего бдительность графа пырнули кинжалом, а он, перед тем как окончательно проститься с жизнью, спел длинную арию. Этьен шепнул Ингрид на ухо: – Умер при попытке взять верхнее «до»… Граф Ричард Варвик еще не испустил дух, а белесая сластена зашуршала конфетой. Трагический финал не испортил Этьену настроения, и он шел к выходу, посмеиваясь: – Тоже мне заговорщики! Не могли выяснить, под какой маской скрывается граф. Да кто хуже всех поет, тот и граф… Капельдинеры, похожие на министров, шеренгой стояли в полукруглом коридоре, держа пальто, шляпы, зонтики сиятельных посетителей, которым не пристало ждать и толкаться в очереди. Этьен и фрейлейн Ингрид подошли к трамвайной остановке. Ждать пришлось долго. Уже проследовали все номера, иные дважды, а трамвая Ингрид все не было. По-видимому, тот же запропастившийся номер поджидал мужчина с непокрытой головой, в серых брюках, он стоял рядом на остановке. Наконец-то долгожданный трамвай отошел, переполненный театралами. – Счастливой ночи! – крикнул Этьен вдогонку; то были первые слова, сказанные им сегодня вечером по-итальянски. Ингрид помахала зонтиком, стоя на задней площадке вагона. «Русские желают «спокойной ночи», немцы – «хорошей ночи», итальянцы – «доброй ночи», а иногда «счастливой ночи». – Этьен все еще глядел вслед трамваю, исчезнувшему за поворотом. – В напутствии на сон грядущий тоже сказывается характер народа…» Этьен собрался идти своей дорогой, повернулся и заметил на другом конце каменного островка мужчину без шляпы, в светло-серых брюках. Почему-то он не уехал трамваем, который так долго высматривал. А что касается Ингрид, то Этьен весьма кстати и ко времени пожелал ей сегодня именно счастливой ночи. Разве можно что-нибудь лучшее пожелать радистке перед тем, как она потаенно выходит в зашифрованный эфир? 3 Ингрид ехала из «Ла Скала» на отдаленную виа Новаро и напряженно гадала: чем вызвана перемена в поведении Кертнера, почему он сегодня играл роль любезного кавалера? Она не могла знать о разговоре Джаннины с кассиршей театра, который состоялся в среду. В тот день секретарша «Эврики» Джаннина ездила за билетами на «Бал-маскарад», заказанными для Кертнера. – Простите за любопытство, – спросила кассирша, – кто эта немка, с которой ваш патрон всегда ходит в театр? – Она тоже из Австрии. – Студентка консерватории? – Кажется. Наконец кассирша нашла конверт с надписью: «Синьору Конраду Кертнеру». – Как всегда, в шестом ряду. Два кресла, пятое и шестое… Ваш патрон не женат? – Нет. – Такой интересный, почти молодой мужчина – и старый холостяк? – Да. – Тогда все ясно. Это его невеста? – Право, не знаю. – А красивая эта австриячка! Правда, могла бы быть чуть пониже… – Я никогда ее не видела, – сказала секретарша отчужденным тоном и, взяв билеты, поклонилась кассирше. Джаннина вышла на улицу и остановилась у афишной тумбы. Двое парней обратили внимание на Джаннину и попытались с ней заговорить, но она не удостоила их ответом. Джаннина – стройная, с хорошо очерченной грудью, на легких и длинных ногах. Матовый цвет лица, волнистый лоск волос, большие темно-серые глаза, верхнюю губу чуть-чуть оттеняет пушок. Она ускорила шаг. За углом, к неудовольствию парней, ее поджидал Тоскано. Он сидел в маленьком открытом «фиате». Тоскано был в вечернем костюме, он то и дело зачесывал назад и приглаживал блестящие волосы, которые росли низко, закрывая лоб. Едва Джаннина села в машину, Тоскано обнял ее, она отвела руку жениха. – А теперь ты свободна? – Тебе придется подождать, у меня еще дела в конторе. Вручая билеты своему шефу, Джаннина выглядела весьма озабоченной. Она хмурилась, морщила чистый лоб и не сразу решилась пересказать свой разговор с кассиршей. Кертнер поблагодарил секретаршу и притворился беззаботным: – Обычное женское любопытство! Но он понимал – неспроста в кассе выспрашивают, с кем он ходит в театр. Пожалуй, Джаннина кстати сказала кассирше, что Ингрид австриячка. И самое естественное – сыграть роль кавалера, чуть ли не жениха Ингрид, а в дальнейшем вести себя сообразно такому званию. Этьена не встревожила бы так информация секретарши, если бы за два дня до того, в понедельник, он не получил от нее другого тревожного сигнала. Она отправляла деловую телеграмму. Кертнер просил предупредить на телеграфе – телеграмма должна уйти немедленно. А если линия перегружена, пусть возьмут тройной тариф и отправят как срочную. Джаннина сдала телеграмму, а вспомнила о просьбе шефа, когда уже вышла на улицу. Бегом вернулась и увидела, что телеграфист, нещадно дымя сигаретой, списывает текст сданной ею телеграммы в какую-то книжечку. Она бесшумно удалилась, спустя несколько минут подошла к окошку заново, передала просьбу своего шефа. Телеграфист заверил, что телеграмма уйдет без задержки. – Как выглядит телеграфист? – Синьор с нездоровым цветом лица. Мешки под глазами. Прокуренные, с проседью усы. Желтые от табака пальцы. Этьена не на шутку встревожила новость, принесенная Джанниной. «Надо сменить почтовое отделение, – поспешно решил он. – Излишне любопытный субъект сдает телеграммы в тайную полицию. Пускай немного отдохнет. Телеграммы-то я отправляю каждый день…» Нет, разумнее сделать вид, что он ни о чем не осведомлен, зато характер корреспонденции изменить. Наряду с деловыми телеграммами полезно посылать лирические, которые аттестовали бы подателя как болтливого влюбленного. Сбить с толку шпиона-телеграфиста и дезинформировать тех, кто заставляет этого синьора с нездоровым цветом лица усердно заниматься грязным чистописанием. Джаннина и не подозревает, какую услугу оказала. Застукала стукача! Подсказала, как надо вести себя с Ингрид. Сегодня в «Ла Скала» нужно демонстративно и публично оказывать ей больше знаков внимания. У Джаннины хватает такта не задавать своему шефу праздных вопросов, когда он бывает сильно озабочен или встревожен. Она умеет отстукивать на пишущей машинке скучнейшие деловые коммерческие письма, но при этом мурлычет фривольные песенки. На стене позади ее столика висит маленькое распятие, а по соседству на той же стене она повесила легкомысленную, но весьма красочную и зазывную рекламную картинку: «При наличии косметики Коти ни одна женщина не имеет права быть непривлекательной». 
А к чему косметика Коти красивой синьорине с вишневыми губами, с нежным румянцем на матово-смуглых щеках? В секретарше многое от беззаботной мамзели, и в то же время с ней можно говорить о самых серьезных вещах. Она не жеманничает, не кривляется, а наивность ее вполне искренняя. «А это очень больно, когда болят зубы?» Сама она смеется так, что видны все тридцать два зуба. «А что вы чувствуете, когда у вас болит голова?» Святая непосредственность, порожденная молодостью и избытком здоровья! Она получила обычное в те годы для всей итальянской молодежи воспитание в фашистском духе и тоже с энтузиазмом декламировала стихотворные упражнения Муссолини. Но, уверяла Джаннина, по мере того как она становилась старше и училась думать самостоятельно, она проникалась критическим отношением к тому, что видела вокруг себя и о чем читала в крикливых, хвастливых газетах. А может быть, с годами сильнее сказывалась ее душевная преданность отцу, который сделался жертвой черных рубашек?.. Изредка ей звонил из Турина жених, они почему-то всегда ссорились по телефону. Этьен удивился, нечаянно подслушав разговор: она спорила с женихом по поводу каких-то газетных сообщений, называя их лживыми, да так горячо, резко. Жених знает об этих настроениях и взглядах Джаннины и вынужден с ними мириться. Но вот понимает ли, что он и Джаннина – совершенно разные люди? Достаточно ли он умен, чтобы разглядеть в своей красотке наблюдательность и оценить ее ум?.. После «Бала-маскарада», после того, как он пожелал Ингрид счастливой ночи, Этьен отправился на телеграф. Почему бы не послать телеграмму родителям Ингрид, сообщить об ее успехах в музыке, о том, как она хорошо выглядит, как скучает без родных, как мечтает приехать в Австрию на пасхальные каникулы? За стеклянным окошком сидел в облачке табачного дыма пожилой телеграфист болезненного вида. Пока он перечитывал слова на бланке, лицо его было непроницаемо. Но, увидев подпись на телеграмме, он не удержался и взглянул на подателя с неумело скрытым любопытством. В первый раз этот австриец, которым интересуется тайная полиция, сам сдает телеграмму. Этьен отошел от окошка, посмеиваясь, глаза его улыбались. Пусть телеграфист перепишет для тайной полиции его длинную телеграмму, полную сентиментальной галиматьи в чисто немецком духе. А телеграфист даже встал со стула, провожая подателя оценивающим взглядом: благообразный брюнет средних лет, походка непринужденная, одет с иголочки. Откуда принесло этого франта? Из театра? Со званого ужина? Со свидания? На нем вечерний костюм, черный в белую полоску; костюм облегает спортивную фигуру, плечи явно не ватные. На всякий случай нужно к этому австрийцу приглядеться внимательнее. И телеграфист смотрел с неприязненной зоркостью, пока за австрийцем не захлопнулась дверь… 4 У аристократа есть родословная, и пусть он даже беден, как церковная мышь, – титул всегда при нем. Богатый коммерсант обходится без титула, но обязан иметь достоверную деловую биографию. Если отец передал свое торговое дело сыну, или кто-то женился на невесте с богатым приданым, или нежданно-негаданно получил наследство от тетушки-дядюшки – тут все очевидно, все яснее ясного, все объяснимо, и новоявленный богач может вызвать скорее зависть, чем подозрение. Но в среде предпринимателей, коммерсантов всегда чужаком будет человек, никому до того не известный, который таинственно свалился на землю с мешком денег. Известно, что в пустоте бумажка и монета падают с одинаковым ускорением. На грешной земле, на биржах и в банках, все подчинено закону тяготения, и этот закон распространяется не только на коммерсанта, но и на его кошелек, независимо от того, набит ли он золотыми монетами или ассигнациями. У вас много денег, вы хотите, высокочтимый синьор, открыть счет в банке, сделать крупный вклад? Соблаговолите обратиться в ближайшую сберегательную кассу. В солидном банке не откроют текущий счет и не вручат чековую книжку тому, кто обладает капиталом сомнительного происхождения. И ошибочно думать, что застрахован от недоверия и подозрительного внимания к себе коммерсант, который ведет широкий образ жизни: околачивается на ипподроме, в казино, присутствует на парадных приемах в муниципалитете или в торговой палате, день напролет просиживает за столиком фешенебельного кафе, а ужинает в самом дорогом ресторане. В коммерческом мире всегда вызывает наибольшее доверие тот, кто слывет тружеником, кто постоянно занят, эдакий толстосум-трудяга, – пусть он даже делает то, что вполне мог бы поручить юрисконсульту, управляющему, старшему приказчику, бухгалтеру, инкассатору, своему шоферу, наконец. Не первый год Кертнер был связан с конструкторами спортивных самолетов, планеров, двигателей, аккумуляторов, с изобретателями всевозможных точных приборов, со специалистами по авиационному оборудованию. Он встречался с этими людьми на международных ярмарках, на выставках, на соревнованиях планеристов и аэролюбителей, на испытаниях в аэроклубе. Он ежегодно ездил в Англию, где на воздушных гонках разыгрывался королевский кубок. Нередко у конструкторов, инженеров, изобретателей возникала необходимость оформить авторский патент на то или иное изобретение или приобрести лицензию на изобретение, уже зарегистрированное в Международном бюро патентов. В таких случаях не сыскать более умелого, знающего и добросовестного человека, чем Конрад Кертнер. В тридцатые годы Вена была местом, где функционировало много разнообразных контор и фирм, в их числе бюро изобретений и патентов «Эврика» на Мариахильферштрассе. «Эврика» пользовалась в деловых кругах неплохой репутацией, и тут сыграли роль два обстоятельства. Первое – Кертнер тренируется как пилот и часто бывает на аэродромах, у него широкий круг знакомств среди авиаторов, планеристов, мотористов, техников, конструкторов, наладчиков. Второе обстоятельство – у него текущий счет в солидном «Дейче банк», этот счет указан на бланках и конвертах «Эврики». «Оборотистый парень этот Конрад Кертнер! – удивлялся Этьен. – Откуда только у него взялась коммерческая жилка? Насколько я знаю, у нас в роду торгашей не было». Но средств, для того чтобы поставить дело на широкую ногу, не хватало, и Кертнер стал подыскивать себе компаньона. Впрочем, для этого были и другие основания, вовсе не финансового характера: единоличный владелец скорее привлечет к себе внимание тайной полиции. На международной выставке в Лейпциге Кертнер познакомился с синьором Паоло Паганьоло, итальянским авиаинженером и благонадежным дельцом. Кертнер предложил Паганьоло стать компаньоном, и тот согласился. Промышленные центры Ломбардии открывали перед «Эврикой» обширное поле деятельности. Компаньоны нашли в Милане приличное помещение для своего бюро, а этажом выше в том же доме Кертнер снял маленькую, двухкомнатную квартирку; он все жаловался, что зимой зябнет, что ему и его ревматизму недостаточно двух худосочных секций батареи центрального отопления, которые в здешних домах бывают чуть-чуть тепленькими; наконец-то ему удалось найти кабинет с камином. Кертнер поместил в миланской торгово-промышленной газете «Иль Соле» объявление: «Конторе «Эврика» нужна секретарша. Предложения направлять по адресу: почтовый ящик № 172, Главный почтамт, Милан». Предложений поступило множество, по мнению Паганьоло – несколько весьма подходящих. Но почему его компаньон так настаивает на кандидатуре синьорины Джаннины Эспозито? И стенографию она знает слабо, и опыта работы у нее маловато. Только потому, что она такая смазливая и бойкая на язык?.. Паганьоло, не в пример своему компаньону, мало интересовался судьбой отца синьорины. Некогда тот состоял в коммунистической ячейке, распространял газету, которую выпускал Антонио Грамши, был одним из руководителей забастовки на заводе «Капрони» и умер в городской больнице Турина от побоев после драки у заводских ворот с чернорубашечниками. Бывший товарищ отца, а ныне ее отчим и сейчас работает мастером сборочного цеха на том самом авиационном заводе. Не знал Паганьоло также и о том, что у синьорины есть жених… С той поры, за два с половиной года, никто в коммерческих кругах Милана не усомнился в безупречной репутации богатого дельца Конрада Кертнера. Подписи Кертнера и Паганьоло были зарегистрированы в Торговой палате Милана, и отныне их векселя принимали во всех банках. Как не раз с довольной усмешкой повторял Кертнер, их векселя «имеют хождение наряду со звонкой монетой». 5 Не только кассирша из театра «Ла Скала» и пожилой телеграфист интересовались делами «Эврики» и знакомствами Кертнера. Сигналы Джаннины не были первыми. Еще раньше Этьена насторожили письма, приходившие на его имя. Вот и сейчас Кертнер, разбирая почту в конторе, взял конверт и стал рассматривать его на свет. – Аккуратно подклеено, – сказала Джаннина, наблюдая за шефом. – Это тоже женское любопытство? – Письмо из Цюриха, – сказал Кертнер, – вместо двух дней шло две недели. Судя по штемпелям, с некоторых пор письмам стала присуща подозрительная медлительность, письма терпеливо ждали, пока их перлюстрируют… Были и другие тревожные сигналы. Еще в прошлом месяце Этьен убедился, что его телефонные разговоры подслушивают. Он ничем не выдал своей осведомленности, напротив, находил в разговорах поводы сообщать подслушивающему, где он будет или куда едет. И был сознательно точен в информации о себе. Очень скоро служба подслушивания оставила его в покое. Кассирша и телеграфист, черепашьи письма и подслушанные разговоры. Все это находилось в тесной связи между собой и еще с одним происшествием, которое, пожалуй, было самым тревожным. После одного из недавних полетов на «летающей стрекозе» агент ОВРА[1] на аэродроме Чинизелло пригласил Кертнера к себе и заявил, что пленка, снятая им, должна быть изъята. Кертнер уверял агента, что сегодня вообще не фотографировал, так как «лейка» не в порядке; он заметил это еще утром, когда заряжал пленку. Но объяснения не помогли, Кертнер разрядил свою «лейку» и вручил агенту катушку с пленкой. Тот скрылся в фотолаборатории, а через несколько минут вышел смущенный. Он просит принять извинения: фотоаппарат у синьора действительно не в порядке, вся пленка засвечена. Этьен заранее знал, что скажет агент. Все объясняется тем, что в «лейке» есть секретная кнопка и, нажав на нее, можно мгновенно засветить всю снятую пленку. Секретная кнопка сконструирована надежным товарищем из фотоателье «Моменто» и выручала уже не раз. Слишком много следов оставляли сыщики вокруг Кертнера. Может, он совершил какой-нибудь промах? Был недостаточно осторожен? Или слежка идет не за ним одним, но и за другими иностранцами? Недавно в Италии введены новые, более строгие законы о соблюдении секретности. То, что прежде публиковалось в печати, демонстрировалось на заводах, на выставках в рекламных целях, теперь оказалось под запретом. И так ему уже трудно дышать в предгрозовой атмосфере последних дней, иногда он просто физически ощущал нехватку воздуха. Вот такое же ощущение пережил Этьен однажды, когда летел на большой высоте: он сидел в неотапливаемом бомбовом отсеке на парашюте, надев кислородную маску, а кислород в маску не поступал – шланг был поврежден. Слишком много признаков того, что на него ведут облаву, за ним охотятся, кто-то идет за ним по пятам, уже дышит ему в затылок. Хорошо бы сбить ищеек со следа! Вот почему Этьен так охотно принял приглашение берлинской фирмы «Нептун», с которой поддерживал деловой контакт. Будет очень кстати скрыться из Милана хотя бы на две недели. Раздался настойчивый телефонный звонок. Джаннина сняла трубку: – Алло!.. Да, здесь… Цюрих… Ваш компаньон. – Джаннина передала трубку Кертнеру. – Алло! Синьор Паганьоло?.. Большое спасибо… Как всегда. Какая у вас погода?.. Завидую. – Кертнер, продолжая разговор, подошел к окну. – Юбилей? Это в наших интересах. «Нептун» празднует половину столетия… Ну что же, тогда поеду один. – Он внимательно сквозь жалюзи посмотрел на улицу и увидел в подъезде дома напротив человека в светлых брюках, который посматривал на окна «Эврики». Кертнер удовлетворенно усмехнулся. – Поеду послезавтра. Сейчас закажу билет на курьерский поезд до Берлина… – Кертнер положил трубку, обернулся к Джаннине и распорядился: – Закажите билет на поезд до Цюриха. И – на сегодня! 6 Компаньоны позаботились о том, чтобы получить представительства в Ломбардии или во всей Италии от нескольких австрийских, германских и чешских фирм. Наибольший оборот давала германская фирма «Нептун»; так называли морского бога древние римляне. Фирма изготовляла аккумуляторы; аккумуляторные батареи этого типа, в частности, устанавливались на подводных лодках. Фирма «Нептун» не ошиблась в выборе представителя: сбыт аккумуляторов в Италии стал расти из месяца в месяц. Этьен давно понял, что в коммерческой деятельности нужно быть асом, гроссмейстером своего дела. Вот уже где дуракам делать абсолютно нечего! А собственно говоря, существует ли область творческой деятельности, где дураки и оболтусы в фаворе? И еще Этьен понял, что в коммерческой среде нечего делать сердобольному человеку. Дельцу часто приходится быть жестоким, безжалостным. Коммерция требует не только специальной подготовки, но и определенных способностей. Лет десять назад, перед тем как заняться коммерцией и открыть свою первую фирму, Этьен перечитывал статьи Ленина, относящиеся к нэпу. Наивно было думать, что Этьен почерпнет в тех статьях какие-то советы, рекомендации. Ленин призывал партийцев учиться торговать в социалистическом государстве, а Этьену пришлось преодолеть брезгливость и не гнушаться низости, бесчестности и жестокости, какие прежде были известны Этьену лишь по романам Диккенса, Синклера и Бальзака. Член РКП (б) с 1918 года, бывший комиссар бронепоезда, за плечами две военные академии, полковник Красной Армии – новорожденный буржуй. Сколько раз Этьен слышал в лекциях по политэкономии или читал о приметах загнивания капиталистического строя, о том, как злокачественная конкуренция тормозит технический прогресс. И вот Конрад Кертнер сам ловко сыграл на этих противоречиях! Он называл это про себя «разговор с классу на класс»… «Эврика» успешно продолжала сбывать на рынке германские аккумуляторы. А когда в Берлине собрались торжественно отметить полувековой юбилей фирмы «Нептун», на торжество был приглашен и Конрад Кертнер, умелый защитник интересов фирмы в Италии. Банкет, или, как значилось в пригласительном билете, «скромный товарищеский ужин», состоялся в ресторане «Валькирия», в переулке, выходящем на Тирпицуфер. Хорошему настроению и пищеварению устроителей юбилея способствовали большие дивиденды, которые за последний год получили держатели акций. Кертнер чувствовал себя на банкете уверенно, держался непринужденно. Дело не только в хороших манерах и соблюдении этикета. Само собой разумеется, он безупречно умеет повязывать салфетку, знает, как полагается есть рыбное блюдо, знает, как макают спаржу в растопленное масло и как управляются с мидиями. Австрийский делец не внушил бы к себе доверия, если бы внешний вид его и все поведение за банкетным столом не соответствовали его общественному положению. Вот так же нам не внушает доверия портной, который носит уродливо скроенный и мятый пиджак с оторванными пуговицами; или часовщик с грязными руками, с глубоким трауром под ногтями; не вызовет у пациента доверия зубной врач, у которого полон рот гнилых зубов. Но внешнее поведение человека, обязательное и первое условие игры, – не самое трудное. Этьен давно влез в шкуру богатого коммерсанта, надел маску, и маска как бы срослась с лицом. Он выработал в себе естественность всех поступков, свойственных преуспевающему коммерсанту. Солидный текущий счет в банке сказывается даже на манере разговаривать. Мало вообще знать правила хорошего тона, нужно знать повадки богача – как он зовет лакея, носильщика, как дает на чай услужливо склонившемуся швейцару, кельнеру, метрдотелю. Только неумные парвеню, прирожденные хамы или разбогатевшие выскочки ведут себя с прислугой заносчиво, высокомерно. А человек, привыкший к своему богатству, попросту небрежен в отношениях со слугами, на которых не следует тратить внимания, даже снисходительности, вообще – никаких душевных сил. Когда-то Этьен чувствовал себя неловко, если гардеробщик в театре ждал его, держа в вытянутых руках шинель. Этьен торопился и не попадал в рукава из-за спешки. Но это было давным-давно… Нужно уметь властно и небрежно крикнуть «гарсон» седому пожилому человеку. И в то же время нужно уметь самому элегантно снять шляпу, отступив предварительно на шаг: опытные люди утверждают, что, отступая на шаг, ты внушаешь доверие. Не легко и не сразу он научился с изящной небрежностью носить шляпу, не чувствовать себя скованно, как на маскараде, когда на белоснежной манишке красуется галстук-бабочка. Уже давным-давно Этьен наблюдает за Конрадом Кертнером со стороны. Вернее сказать – как бы с изнанки, с исподу. Поначалу Кертнер был излишне робок, и его непосредственный начальник Старик, хотя никогда и не видел Этьена в чужом обличье, посоветовал ему набраться дерзости, бесцеремонности, стать менее брезгливым, да, именно менее брезгливым. Бывает, нужно, не моргнув глазом, чокнуться с какой-нибудь сволочью, пожать его сволочную руку, выпить за его сволочное здоровье и пожелать этой сволочи благополучия и успехов. Не будь чистоплюем, умей не морщась вскинуть руку в знак фашистского приветствия и сказать про себя: «Хайль, сволочь!» Грубее отъять Кертнера от тех навыков, привычек, с какими сжился, сросся Этьен! Не только нормы поведения, но совсем другие статьи морального кодекса типичны для Кертнера, фашиствующего пижона, оборотистого пройдохи, дельца, не слишком разборчивого в способах обогащения. Поэтому Этьен бывал недоволен Конрадом Кертнером, когда тот вел себя чересчур тактично, излишне порядочно, не в меру благородно. Что еще за мнительность?! Значит, Этьен утратил незримую границу между собой и Кертнером, не решился, хотя бы на время, ему подчиниться и тем самым нарушил натуральность перевоплощения. Подделываясь под другого, в какие-то моменты перестаешь быть самим собой. Ты так часто сознательно обедняешь мыслями и чувствами того человека, чье имя и фамилию носишь, на чьем языке разговариваешь и даже думаешь, что при подобной многолетней трансформации можешь растерять и свои душевные богатства, обеднить самого себя. Большинство товарищей, как сам Этьен, отучали себя – и отучили! – не только разговаривать, но даже думать по-русски. Они не имеют права произнести что-нибудь по-русски даже со сна, в полузабытьи, в горячечном бреду… Рихард Зорге, товарищ Этьена, признался ему однажды: в последней командировке у него было нервное перенапряжение. Он несколько раз просыпался утром, беспомощно лежал в номере отеля и не мог вспомнить – на каком языке ему предстоит сегодня разговаривать, кем быть… И ночью разведчик не имеет возможности и права снять с себя маску, не смеет почувствовать себя свободным от жестокой власти конспирации. Так изнурительно – постоянно прислушиваться, приглядываться к себе! Он мучительно устал от постоянной слежки за самим собой… Да, на таком торжественном банкете нельзя ударить лицом в грязь. Конрад Кертнер должен представиться своим шефам как верноподданный Третьего рейха. Он готов сказать слово за праздничным столом, если к тому представится случай. Во вступительной речи директор-распорядитель счел нужным отметить в ряду лучших сотрудников и друзей фирмы предприимчивого герра Кертнера и высокий национальный дух, коим пронизана работа итальянского представительства. Взгляд у директора-распорядителя «Нептуна» настороженный, брови нахмурены, а нижняя половина лица все время пребывает в немой улыбке, которая должна изображать добродушие. У него прямой, коротко остриженный затылок, усы он носит «а-ля Вильгельм Второй», волосы стрижет бобриком «а-ля Гинденбург»; в его физиономии – целая эпоха. Вскоре в чопорном застолье наступила неуклюжая пауза – кто произнесет очередной тост? Кертнер счел момент подходящим и попросил слова: – Ваши превосходительства, высокочтимые дамы и господа! Беру на себя смелость напомнить, что когда древние боги поделили между собой сферы влияния, то громовержец Юпитер взял себе небо, Нептун – море, а Плутон получил подземное царство душ умерших; земля же осталась в общем владении. С тех пор волны моря послушны малейшему движению руки Нептуна, вооруженного грозным трезубцем. Высокочтимые сиятельства, дамы и господа! Разрешите поднять бокал и пожелать, чтобы волны морей и океанов были послушны Нептуну арийского происхождения, преданному национальным интересам. И чтобы никто, даже бог изворотливости и обмана Меркурий, не мог похитить у нашего Нептуна его оружие – трезубец, как это уже случилось однажды в мифологии. Когда мы говорим о жизненном пространстве, то имеем в виду не только сушу, но также акваторию. Трезубец Нептуна – скипетр мира! О всемогуществе Нептуна полезно помнить каждому, кто не собирается в протекторат бога Плутона. В подземном царстве умерших душ, где Плутон является гаулейтером, есть вакансии для всех, кто осмелится мешать германскому судоходству. Этим безумцам полезно напомнить слова великого Ницше – берегитесь плевать против ветра! Беру на себя смелость заявить от имени сотрудников моей конторы – мы будем счастливы и впредь в доступной каждому форме оказывать услуги нашему воскресшему флоту. Мы вернем немецкому морскому божеству трезубец, похищенный у него в Версале! Далеко не все участники банкета были посвящены в перипетии борьбы «Нептуна» со своим тезкой «Посейдоном», не все понимали, сколько в застольной речи герра Кертнера проглоченных угроз и угрожающих недомолвок. Но директор-распорядитель с его эпохальным лицом понял все, и другие директора тоже благосклонно кивали оратору, а глядя на директоров, выражали одобрение и все другие, кому смысл речи был понятен лишь постольку, поскольку они чуяли в ней реваншистский дух. Так как шефы слушали почти с умилением, в конце речи Кертнера все дружно захлопали. Послышались приветственные возгласы: «Эс лебе!», «Хох!», аплодисменты, а пробки от шампанского хлопали, как трескучие восклицательные знаки, заключившие речь. Ну, а если бы не было аплодисментов, приветственных выкриков, стрельбы пробками? Все равно Кертнер почувствовал, что речь, которую он выдал за экспромт – даже прищелкивал пальцами, как бы подыскивая нужные слова, – имела большой успех. Да, игра стоила свеч, не напрасно вчера в поезде Цюрих – Берлин он прилежно перелистал античную мифологию, легенду о Нептуне. Директор-распорядитель, тронутый застольной речью Кертнера, еще раз во всеуслышание отметил его заслуги. Позже, когда все поднялись из-за стола, директор-распорядитель перезнакомил Кертнера с большой группой предпринимателей, коммерческих директоров, владельцев фирм, крупных держателей акций, банкиров. Конечно, Кертнер не мог запомнить всех, с кем успел обменяться церемонным поклоном и крепкими рукопожатиями. Но он знал, что среди новых знакомых был такой туз, как директор «Люфтганзы» Карл Гебарт собственной персоной. – Для меня большая честь пожать вам руку. – Кертнер почтительно поздоровался с Карлом Гебартом и склонил голову. – Поздравляю вас с открытием регулярного беспосадочного сообщения Штутгарт – Барселона. Подошел лакей с подносом. – Теперь мы можем летать на курорты Испании без французской визы, – засмеялся Карл Гебарт, деловито чокнулся и отошел. – Познакомьте меня, пожалуйста, с господином Теубертом, – попросил Кертнер минутой погодя «Вильгельма Второго-Гинденбурга». Они подошли к Теуберту, главе «Центральной конторы ветряных двигателей». – Хочу вам представить нашего австрийского друга Конрада Кертнера. – А я хочу поблагодарить его за прекрасную речь. – Для меня много значит оценка старейшего деятеля национал-социалистской партии, – сказал Кертнер еще почтительнее. – Этот в полном смысле слова золотой значок, – «Вильгельм Второй-Гинденбург» благоговейно коснулся лацкана на пиджаке Теуберта, – дает право на свидание с Адольфом Гитлером в любое время. – Он обернулся к Теуберту: – Герр Кертнер пользуется нашим полным доверием, и он знает, что в те страны, где ветры дуют не в нашу сторону, мы продаем и скороспелый картофель… – Скороспелый или скорострельный? – спросил Кертнер, и все трое расхохотались. – Ну вот, вы нашли общий язык! – сказал «Вильгельм Второй-Гинденбург». – Извините, господа, меня ждет вице-министр. Да, с «Нептуном» начинают все больше считаться. Их фирма тоже приглашена завтра в советское посольство; русские устраивают прием для представителей деловых кругов в связи с приездом торговой делегации во главе с наркомом торговли. «Где-то на рабфаке или в рабочем клубе их обзывали не иначе, как «акулы капитализма», – мимолетно усмехнулся про себя Этьен. – А в случае надобности мы величаем их «представители деловых кругов». – Большевики явно хотят установить деловые контакты. Если у герра Кертнера есть желание, ему тоже будет вручен билет на прием в советское посольство. Так хотелось принять приглашение, побывать в посольстве на Унтер-ден-Линден, услышать родную речь! Но вдруг его увидит кто-нибудь из знакомых и узнает? В числе сотрудников военного атташе может оказаться бывший слушатель военной академии. Недоставало еще, чтобы кто-нибудь с радостным воплем: «Каким ветром?! Маневич, дружище, сколько лет, сколько зим!» – бросился ему на шею. Размышление заняло какую-то долю секунды, Кертнер, выслушав приглашение, почтительно поблагодарил и отказался. К сожалению, он занят. Завтра у него важное свидание с асом германского спортивного пилотажа. Вильгельм Теуберт любезно вручил Кертнеру свою визитную карточку и пригласил посетить его контору в любое удобное для гостя время. Может быть, «Эврика», помимо поручений, столь блестяще выполняемых для фирмы «Нептун», согласится на тех же условиях представлять в Италии и его фирму? Кертнер поблагодарил за интересное предложение. Он непременно зайдет, когда вернется через неделю в Берлин. Завтра по приглашению директора-распорядителя он отправляется в Осло, чтобы поделиться опытом своей работы с коллегами, работающими в тамошних отделениях фирмы «Нептун». Теуберт осведомился, не пугают ли герра Кертнера морские путешествия в штормовую погоду. Тот ответил, что, к сожалению, его родная Австрия остается пока сугубо сухопутной страной. Но, право же, не все австрийцы отличаются водобоязнью и страдают от морской болезни. Он верит, что Австрия когда-нибудь приобщится к великой морской державе – рейху. Его намек на желанное присоединение Австрии к Германии был достаточно прозрачен, собеседники поняли его с полуслова… После ужина он решил пройтись перед сном по опустевшему, притихшему Берлину. 7 К ночи рекламный румянец столицы слинял. Почти все фонари потушены рачительной рукой бургомистра, – в Берлине жили экономно, а еще больше старались показать: после того как у Германии отобрали колонии, здесь вынуждены экономить и отказывать себе буквально во всем. Этьен прошел по Тирпицуфер, в самый ее конец, прошел мимо громоздкого, мрачного четырехэтажного дома № 74/76; здесь помещается абвер. За какими темными окнами кабинет адмирала Канариса? В стороне остался Ландверский канал. Этьен поравнялся с большим темным зданием. У парадного подъезда, у ворот прохаживались шуцманы. Хотя Этьен стоял на противоположном тротуаре, он прочел вывеску у освещенного подъезда: «Союз Советских Социалистических Республик. Полпредство». Кто-то подъехал в «газике» и вошел в здание. Этьен тоскливо поглядел и зашагал к Тиргартену. Он шел по набережной вдоль парапета, глядя на темную воду канала, покрытую рябью. Остановился и вгляделся в свое отражение на воде, высвеченное одиноким фонарем. И ему представилась такая же ночная, взъерошенная весенним ветром вода в Москве-реке. Плывут одинокие льдины. Дворник в тулупе и треухе скалывает лед на набережной. Звонкая капель. По набережной идут Этьен и Старик. Оба в форме двадцатых годов – остроконечные шлемы, шинели с «разговорами». У Старика на петлицах три ромба. Старик отстает на несколько шагов от Этьена, критически приглядывается к его походке. – А тебе пора отвыкать от строевой выправки, – говорит Старик строго. – Стараюсь, Павел Иванович. Не получается. – Отвыкнешь. И фрак научишься носить. И цилиндр. – Старик остановился. – А вот притворяться в чувствах потруднее. – Ну и дела, – ухмыльнулся Этьен. – Позавчера – комиссар бронепоезда. Вчера – слушатель академии. Сегодня – летчик. А завтра – коммерсант? – Этьен попробовал сменить походку на более свободную. – Ну как? – Чуть-чуть лучше, – подбодрил Старик и продолжал серьезно; – Ты и завтра останешься летчиком. Летчиком свободного полета! Ты должен будешь видеть дальше всех и немножко раньше, чем увидят другие. И коммерсантом ты станешь не простым. – Старик рассмеялся и хлопнул Этьена по спине. – Бальзаковский банкир Нюсинжен – щенок по сравнению с твоим Кертнером!.. Подошел шуцман, подозрительно пригляделся – не собрался ли ночной прохожий топиться? Слишком долго смотрит в воду. Легкая усмешка мелькнула на лице Этьена, и он пошел дальше. Навстречу ему, пристукивая деревянной ногой, шел по аллее пожилой солдат в кителе, с крестами и медалями времен Вильгельма. – Гуте нахт, майн герр. – Гуте нахт. «Этот доковыляет до дома, снимет на ночь протез, чтобы культя его отдохнула, – невесело подумал Этьен. – А я и во сне не имею права забывать, что я Кертнер». Едва войдя в сад, он присел на скамью, снял шляпу и подставил лоб теплому ветерку, который доносил дым из печных труб. В Берлине еще топили; здешний климат – не чета миланскому… Размышлениям в тишине мешал мусорщик, который топтался где-то рядом на дорожке, усыпанной гравием, и в такт своим шагам шваркал метлой, потом приблизился вплотную к скамейке, с жестяным грохотом открыл и закрыл ящик для мусора – наводил в Тиргартене ночной орднунг… 
– Вы сели на чужую скамейку. – Разве здесь требуется плацкарта? – Скамейка только для евреев. Если вы ариец, то… – Откуда мне было знать? – Этьен лениво встал. Он знал, что для евреев здесь в скверах и парках возле мусорных ящиков выделены скамейки ядовито-желтого цвета. – Ночью все скамьи серы. Фонари не горят. Темно здесь… – Берлин живет очень экономно. Этьен кивнул мусорщику, надел шляпу и поднял воротник. Ему не было холодно, но он продрог сердцем. Он в равной степени чувствовал себя сегодня трагически одиноким и в ресторане «Валькирия» и на скамейке в Тиргартене… 8 Кертнер выехал из Берлина утренним поездом. Ему заказана каюта первого класса от Гамбурга до Осло на небольшом, но быстроходном пароходе «Нибелунг». Приближаясь к Норвегии, «Нибелунг» долго лавировал в хаосе островков, долго шел по узкому фиорду, который глубоко вдается в материк. Фиорд кишмя кишел яхтами, а чайки стлались над водой, как метель. Для порядка Кертнер представился в австрийском посольстве. Еще до обеда он ознакомился с норвежским филиалом «Нептуна», с географией и оборотом фирмы и даже успел принять участие в испытаниях какого-то аккумулятора. Однако не только ради своей деловой репутации приехал Кертнер в Норвегию: он привез с собой весьма крупную сумму рейхсмарок. Формально говоря, будучи в Германии, он мог перевести рейхсмарки на текущий счет «Эврики» в итальянском «Банко ди Рома» и на свой личный счет в «Банко Санто Спирито». Но подобный перевод расценивался тогда в Германии как непатриотический поступок. Подлинный патриот не позволит себе ухудшать валютный баланс, подрывать экономику фатерланда. Можно было не сомневаться, что о таком крупном переводе за границу сразу узнают где следует, – существует специальный финансовый сыск. Везти же рейхсмарки с собой в Италию Этьен тоже не мог. Ни в одном итальянском банке не должны знать о немецком происхождении столь крупной суммы. Что оставалось делать? Следовало оформить перевод в итальянский банк из любой страны, только не из Германии. Норвежский банк оказался весьма удобным посредником. Вся операция заняла не больше получаса: рейхсмарки трансформировались в норвежские кроны, которые на днях будут переведены на валютный счет Кертнера в миланской конторе «Банко Санто Спирито»… А после обеда Кертнер направился с рекомендательным письмом Теуберта в норвежский филиал «Центральной конторы ветряных двигателей». Управляющий ждал гостя; видимо, он получил от Теуберта телеграмму. Управляющий рассказал о том, что в ближайшие месяцы ожидается значительное увеличение оборота фирмы. Они разослали по многим адресам следующее письмо: «Многоуважаемый друг нашей фирмы! Начало летнего сезона поставит перед Вами вопрос о пополнении Ваших складов. Наш ответственный сотрудник, только что возвратившийся из Германии, привез выгодные предложения различного рода, которыми Вы, безусловно, заинтересуетесь. Мы были бы Вам весьма обязаны, если бы Вы нас посетили в ближайшие дни. В ожидании Вашего посещения остаемся с германским приветом. Хайль Гитлер! (Подпись)». Кертнер сделал управляющему комплимент: готов учиться у норвежского филиала деловой оперативности! Пароход в Гамбург отправлялся лишь завтра вечером, и таким образом у Кертнера оказался свободный день. Он мог посвятить весь день прогулке по Осло с чувством облегчения. Он правильно решил трудную задачу с норвежскими кронами и рейхсмарками, потерявшими в весе. Не торопясь шел он по Драмменсвейен, и ему нравилось, что каждая из поперечных улиц одета в неповторимый зеленый наряд. Он пересек улицы, сплошь обсаженные то елями, то березами, то каштанами, то соснами, то липами. Он слышал, что в Осло отлично вызревают яблоки, груши и помидоры. «Вот что значит Гольфстрим! Осло на одной параллели с нашим Ленинградом, ничуть не южнее». У Национального театра, где стоит памятник Ибсену, он спустился в метрополитен. Снаружи к вагонам метро приделаны зажимы для лыж, в это время года ненужные. В Осло всего несколько подземных станций, а затем поезд вынырнул из тоннеля и через десяток километров вскарабкался на макушку горы Холменколлен. Там высится трамплин для прыжков на лыжах, пользующийся мировой известностью. Но весенним днем здесь было пустынно, скучно, и тем же метропоездом Кертнер вернулся в город. Сошел на площади Валькирий, его отель по соседству. Вскоре появился агент из бюро путешествий, они сели на извозчика, который церемонно приподнял свой цилиндр, и поехали в порт; уходил пароход той же компании «Нептун». Из Берлина он уехал обласканный «Нептуном» и облеченный доверием еще одной фирмы – «Центральной конторы ветряных двигателей». Владелец фирмы Вильгельм Теуберт был подчеркнуто приветлив: – Надеюсь, вас не утомили морские путешествия? Я слышал, в Немецком море не утихает шторм. – После того, что я увидел и услышал в норвежском филиале вашей фирмы, никакая дорога не может показаться мне длинной и трудной. Этьен знал, что имеет дело не просто с предпринимателем, пусть даже очень богатым, а с крупным фашистским деятелем. Дальнейший разговор заставил Этьена насторожиться. Он знал, что ветряные двигатели – вовсе не основная продукция фирмы и Теуберт занимается этими двигателями лишь для отвода глаз. Не случайно в письме, которое ему показали в Осло, упоминается «о пополнении Ваших складов». Кто станет держать ветряные двигатели на складах? Итак, на будущей неделе в Милан, в распоряжение «Эврики», будет отправлена первая партия ветряных двигателей. Этьен дал понять Теуберту, что у того в кабинете сидит не простофиля, который пропускает мимо ушей намеки, а деловой человек, с достаточной выдержкой для того, чтобы не расспрашивать ни о чем, а почтительно ждать, когда высокочтимый герр Теуберт соблаговолит сам сказать недосказанное. Даже в том, как Теуберт перечислял страны, где открыты представительства фирмы, был какой-то скрытый смысл. С особенным значением он упомянул о работе, развернутой в Испании, Норвегии, Австрии, Чехословакии, в Верхней Силезии и Данциге. После выборов в Испании и прихода республиканцев к власти усложнилась обстановка, в которой там работает филиал «Центральной конторы ветряных двигателей». Кертнер сказал, что предполагает вскоре выехать в Испанию по своим делам. Теуберт просил поставить его в известность о выезде. Чтобы быстрее войти в курс дела, Кертнеру будет полезно ознакомиться с тем, как организована работа в Испании. – Я хорошо знаю, что не во всех странах ветры дуют с постоянной силой и в нужном направлении, – сказал Кертнер. – Но пока в Италии будут дуть ветры, они будут приводить в движение ваши двигатели! Спрос на ветряные двигатели будет расти и расти. Разрешите посмотреть на дело с точки зрения близкого будущего. Так или иначе, каждый ветряной двигатель рождает энергию, энергия в любой форме служит прогрессу, а подлинный прогресс питается сегодня идеями и идеалами Великой Германии! Герр Кертнер еще раз дал понять: он принял к сведению и то, что патрон ему говорит, и то, о чем патрон умалчивает. 9 Письмо, подшитое к делу № 4457/к с грифами: «Совершенно секретно», «В одном экземпляре», «Хранить вечно». «Милан, 25.3.1936 года. Уважаемый Оскар! Сейчас в театре антракт, пользуюсь удобной минутой и повторно пишу насчет моей замены. Прошу рассматривать мои соображения о необходимости замены не как изъявление желания поскорее уехать отсюда и очутиться дома, где меня ждут жена и дочь. Подобное желание не покидает сердца, я не оригинален и не претендую на то, чтобы меня считали тонкой, изысканной натурой, большим патриотом и лучшим семьянином, чем другие. Все товарищи, работающие за рубежом, болеют этой болезнью, которую называют «ностальгия». Однако не о симптомах болезни идет сейчас речь. Считаю опасным для организации мое излишне долгое пребывание здесь. Слишком много глаз следит за мной с враждебным вниманием. Уже не один раз я сталкивался на работе с довольно серьезными неприятностями. Двое из числа тех, кого я пытался втянуть в антифашистскую работу, не оправдали доверия. Не нужно понимать меня так: грозит какая-то конкретная и немедленная опасность. Может быть, такой опасности нет, по крайней мере, я ее пока не чувствую. Но зачем ждать, чтобы опасность, всегда возможная, обернулась бедой? Мне приходится без устали разъезжать, этого требует здешняя обстановка. На днях буду в Берлине. Прямой поезд сейчас не для меня, еду кружным путем. А есть поездки, которые, при неотступной слежке за мной, связаны с риском и для тех знакомых, к кому езжу в гости. Организация расширилась, и в этих условиях я не чувствую себя спокойным за всех, кто мне доверяет. Жаль потерять плоды усилий двух с половиной лет, плоды, которые еще могут принести большую пользу. Имейте также в виду, что по приезде нового товарища мне придется пробыть с ним два-три месяца, чтобы устроить его здесь хорошо (что совсем не так легко) и ввести своего преемника в обстановку весьма сложную из-за разбросанности и пестрого состава помощников. Вот мои соображения. Знаю, нелегко подыскать нового товарища, но именно поэтому настоятельно прошу вас обратить на мое письмо надлежащее внимание и правильно понять все его мотивы. Живу и работаю в предчувствии близкой военной грозы. С комприветом Этьен». 10 У Кертнера был деловой повод для визита к германскому консулу в Барселоне – посоветоваться, в какие именно органы печати сдать рекламные объявления фирмы «Эврика». Он дал понять консулу, что ему не безразлично, где именно будут напечатаны объявления, вопрос не столько коммерческий, сколько политический. Он вовсе не хочет нечаянно оказаться в роли богатого дядюшки, который по рассеянности или недомыслию стал подкармливать каких-то левых голодранцев. Консул Кехер оценил предусмотрительность приезжего и понял, что не одни коммерческие интересы вызвали визит и разговор. Кертнер сделал вид, что не знает политического лица испанских газет и очень нуждается в советах. Вдвоем с консулом они решили дать объявление в газете католиков-реакционеров «ABC», в журнале «Бланко и негро», и конечно же, в газете «Информасионес» – это рупор Германии, в ней больше всего национал-социалистских публикаций. – А как господин консул смотрит на газету «Вангуардиа»? – Самая крупная газета здесь, в Каталонии. Но после выборов 16 февраля «Вангуардиа» стала попросту несносной. Слишком много недружелюбных намеков в адрес Германии. Причем намеки становятся все более наглыми. У издателя испортился характер, надо его проучить. Кертнер спросил также о севильской печати, но Кехер остановил его: – На этот счет вам лучше посоветоваться с консулом в Севилье Дрегером. Он сейчас здесь. – А как его найти? – Я вас познакомлю. Этьен благосклонно кивнул, а сам раздраженно подумал: «Сказал бы мне кто-нибудь прежде, что буду содержать фашистскую печать… Да я бы ему морду набил!..» У Этьена складывалось впечатление, что консул не понял: то ли заезжий богач в самом деле нуждался в рекламе своей фирмы, то ли он явился из каких-то специальных сфер с поручением подкормить профашистскую печать. Но так или иначе, консул преисполнился к герру Кертнеру почтением и пригласил гостя, если ему позволят дела, на субботний кинопросмотр. Кертнер поблагодарил за приглашение, были основания считать, что ему повезло. Дела позволяли Кертнеру сидеть в кино, свободное время было у него в избытке, он не мог похвастаться в Барселоне обилием деловых предложений, он чувствовал, что солидные барселонские коммерсанты относятся к нему с недоверием. В ту пору немало агентов гестапо, офицеров абвера, замаскированных нацистских деятелей выдавали себя за представителей деловых кругов. Вот почему многие предприниматели в Барселоне остерегались вступать в контакты с австрийцем фашистской закваски, считали репутацию Кертнера сомнительной. «Да, я не оригинален в выборе своей «крыши», – размышлял Этьен наедине с собой. – Шпионов-коммерсантов вокруг меня хоть пруд пруди. Однако «крыша» моя не протекает, и в консульстве меня считают своим. Сейчас это важнее, чем доверие честных людей. По крайней мере, я избавлен от чьих-то подозрительных расспросов и назойливых знакомств по заданиям гестапо». Почти весь следующий день Кертнер провел в конторе герра Хуана Гунца, директора местного филиала «Центральной конторы ветряных двигателей». Но Этьен уже знал, что он беседует с одним из руководителей рейхсверовского шпионажа в Испании, с бывшим обер-лейтенантом германской армии. В походке Гунца без труда угадывалась офицерская выправка. У Кертнера не было рекомендательного письма от Теуберта, но он готов был отдать руку на отсечение, что в барселонском отделении предупреждены о его приезде. Шел оживленный разговор, причем Хуан Гунц отгораживался от гостя облаком дыма гаванской сигары, а Кертнер не оставался в долгу и окуривал хозяина венгерскими сигаретами. Кертнер изображал жизнерадостного, общительного человека, он не прочь похвалиться своими первыми успехами по продаже ветряных двигателей. Хуан Гунц великодушно называл Кертнера своим коллегой, поскольку одни и те же ветры часто приводят в движение ветряные двигатели в Испании и в Италии. Кертнер рассказал также о недавней поездке в Осло, о знакомстве с норвежскими сотрудниками; ему понравилось, как там своевременно осведомляют покупателей о получении новых образцов товаров. Хуан Гунц понимающе улыбнулся, нашел в ящике стола бумагу, протянул ее Кертнеру и спросил: – Вы имеете в виду такое приглашение? Кертнер пробежал глазами письмо и кивнул в знак согласия. То была точная копия письма, показанного ему в Осло. У Этьена еще во время пребывания в Берлине, на обратном пути из Осло, окрепло убеждение, что Вильгельм Теуберт только маскируется ветряными двигателями, а на самом деле торгует оружием. Для конспирации оружие называют в деловой переписке скороспелым картофелем. – Каков урожай картофеля в этом году в Италии? – спросил Гунц неожиданно. – Вы имеете в виду скороспелый? – Кертнер вспомнил, что о скороспелом картофеле говорил в его присутствии Теуберт. – Разумеется. – Урожай намного выше прошлогоднего, – ответил Кертнер. Важно, что вопрос Гунца не застал его врасплох. Скороспелый картофель сыграл роль пароля, известного обоим собеседникам. Может быть, поэтому Гунц нашел возможным посвятить приезжего в свои разногласия с компаньоном Альваре де Малибраном. Тот, правда, раздобыл крупные заказы на вооружение для испанской армии, но при этом совсем не думает об интересах рейха, мирится с тем, что другие страны тоже собираются поставлять сюда оружие. Гунц озабоченно мерял свой кабинет из угла в угол, яростно дымил сигарой и так прищуривал глаз, словно целился в кого-то. После недолгого раздумья он подошел к несгораемому шкафу, достал оттуда и подал Кертнеру бумагу: – Прочтите. Послезавтра это письмо уйдет с дипломатической почтой, а завтра специальный курьер доставит его в Мадрид. Гунц не хотел показывать гостю все письмо, а загнул лист на том месте, где было напечатано: «Государственные поставки». Этьен скользнул взглядом по подписи – конечно, «С партийным приветом» и «Хайль Гитлер!» – а потом принялся читать. «Только что нами получено строго секретное сообщение. Мнимый немец по фамилии Эррен, высланный из рейха, заявляет, что когда его высылали из Германии, то пытались похитить патенты на уникальное оборудование для подводных лодок, в частности на водородные моторы. Но чертежи и все расчеты были надежно спрятаны, и ему удалось обмануть агентов абвера. Эмигрант Эррен предложил свои изобретения английскому военному министерству. А после выборов 16 февраля и прихода республиканцев к власти он согласился передать некоторые изобретения военному министерству Испании. Вопрос здесь рассматривался, и патенты вызвали большой интерес. Как нам удалось узнать из совершенно секретных источников, лицензия на использование водородных моторов в подводных лодках обошлась бы испанскому правительству примерно в 250 000 марок, то есть 750 000 песет. Можете себе представить, партайгеноссе, как мы были встревожены. Привели в действие все рычаги и отложили приобретение патента до того, как будут обсуждены германские предложения, значительно более интересные. Долго тянуть нельзя, слишком велик интерес к изобретениям эмигранта, так необдуманно и беспечно высланного из Германии. Надеюсь, нам удастся опорочить техническую идею эмигранта, к возможной материальной выгоде для нашего фатерланда». – Партайгеноссе Кертнер, вы крупный специалист по патентам и лицензиям. Вам известен такой изобретатель в области подводного флота – Эррен? – Такого изобретателя, насколько я знаю, нет. Может быть, вы имеете в виду человека по фамилии Геррен? – Возможно, мы допускаем ошибку. Он вынужденно эмигрировал из Германии и нашел сейчас убежище в Англии. Мало того, что он, по некоторым сведениям, еврей, так еще женат на француженке. – Действительно, Геррен живет теперь в Англии и у него есть ценные изобретения, представляющие интерес для подводников. О жене его сказать ничего не могу, что же касается национальности Геррена, то он – австриец и происходит из старинного рода. Не то у его дядюшки, не то у двоюродного брата есть фамильный замок в Тироле. Гунц пытливо вгляделся в лицо гостя и сказал, как бы продолжая размышлять вслух: – Вы же не только специалист по патентам и лицензиям. Вы и доверенное лицо Теуберта. Кертнер молча поклонился. – Что вы скажете по существу вопроса? – нетерпеливо спросил Гунц. Кертнер сосредоточенно молчал и после длинной паузы сказал, внимательно глядя на пепел сигареты: – Патенты Геррена представляют большую ценность. Жаль, патенты не удалось выкрасть до того, как их автора выслали. Полагаю, Канарис заплатил бы за эти секреты не меньше той суммы, которую согласилась уплатить Испанская республика. Предположим, испанцы не приобретут секретов эмигранта, женатого на француженке. Вы уверены, что это выгодно рейху? Теперь уже Гунц надолго замолчал. Он так поглощен своей вонючей сигарой, что ему некогда ответить на вопрос. – А по мне, так пусть республиканцы озолотят отпрыска знатного австрийского рода! Мне их песет не жалко! – продолжал Кертнер, горячась или делая вид, что горячится. – Допустим, мы продадим испанцам свои лицензии вместо Геррена. Заработаем четверть миллиона рейхсмарок. Но при этом выпустим из рук жар-птицу. И может быть, уже никогда ее не поймаем. Гунц сидел молча, уставясь в угол и прищурившись так, будто брал кого-то на мушку. 
– Патенты нетрудно выкрасть, – наступал Кертнер. – Надеюсь, вы не сомневаетесь, что очень скоро все секреты испанского военного министерства станут нам известны? Ну как долго все секретные патенты еще будут в руках красного правительства? – спросил Кертнер, маскируя запальчивым тоном провокационный смысл своего вопроса. – Недель пять-шесть, самое большее – восемь… Теперь труднее всего скрыть волнение, вызванное тем, что страшная догадка подтверждалась. Значит, мятежники даже наметили для себя ориентировочный срок? А на какие приметы опирается догадка Гунца? – Так или иначе, все секреты Геррена должны попасть к нам, – жестко и спокойно произнес Кертнер тоном, каким отдают приказания, когда чувствуют за собой право их давать. Кертнер вернул письмо, и Гунц спрятал его снова в сейф, но по тому, как Гунц держал письмо, как нерешительно запирал сейф, Этьен уже твердо знал, что в таком виде секретное письмо отправлено не будет. Гунц проводил гостя, внешне поведение хозяина ни в чем не изменилось. Но Этьен знал, что понравился этому офицеру абвера, который хорошо научился носить штатский костюм, только в походке его сохранилось что-то армейское. Казалось, был бы кабинет у Гунца попросторнее, он сразу перешел бы на строевой шаг. Прощаясь, Хуан Гунц спросил у гостя, в каком отеле тот остановился. Кертнер ответил, что громадный десятиэтажный «Колумб» показался ему слишком шумным и он предпочел отель «Ориенто» на Рамбляс де лос Флорес. Хозяин одобрил выбор, он понял, что гость не экономит на своих удобствах. Гунц выразил уверенность, что они еще встретятся, он рад был бы увидеть герра Кертнера у себя дома. Этьен почувствовал, что Гунц говорит искренне; до их беседы Хуану Гунцу не пришла бы в голову мысль приглашать Кертнера к себе домой. Встретил Гунц своего гостя с чопорной почтительностью. Она была естественным откликом на рекомендацию Теуберта, но не могла скрыть всегдашней профессиональной настороженности, и смотрел Гунц на гостя прищурясь, как бы прицеливаясь. А когда хозяин провожал гостя, почтительность перестала быть заученной, потому что в глубине своего разведчицкого нутра он ощутил превосходство гостя. Итальянский посол фирмы «Ветряные двигатели» проэкзаменовал его сегодня, как зеленого ефрейтора, и Гунц знал, что удостоился у приезжего и у самого себя плохой отметки. Хуан Гунц, которого все в консульстве называли Гансом, перезнакомил Кертнера с вожаками германской колонии в Барселоне. Крутили фильм «Наследственная болезнь», в котором демонстрировали ужасы, связанные с изменой расе. Кроме того, показали любимый фильм фюрера «Триумф воли», но в нем слишком много и утомительно маршировали. Картины ввезли в Испанию контрабандой, поэтому на просмотр собралась только публика, внушающая доверие. Генеральный консул Кехер не забыл своего обещания, познакомил Кертнера с консулом Дрегером, и они условились о встрече в Севилье через несколько дней. Тут же Дрегер познакомил Кертнера с консулом из Аликанте, тот кичился своим графским происхождением и представился так: – Вильгельм Ганс Иоахим Киндлер фон Кноблох. Однако каким образом Дрегер и Кноблох оказались одновременно в Барселоне? А за несколько минут до того, как осветился экран, в зале появились консул в Картахене Генрих Фрике, консул в Гренаде Эдуард Ноэ, консул в Сан-Себастьяне Реман… А что здесь, в консульстве, делает почтенный Адольф Лангенхейм? Не поленился, старый хрыч, приплыть из Марокко. Этьен знал, что горный инженер Лангенхейм руководит в Тетуане организацией нацистов, руководит вдвоем с Карлом Шлихтингом, который живет в доме Лангенхейма под видом домашнего учителя. Кертнеру было отчего встревожиться. Совершенно очевидно, что в Барселоне проходит инструктивное совещание германских консулов, выходящее за рамки Испании. Тут были еще какие-то дипломаты и переодетые офицеры с Майорки, с Канарских островов, из марокканских портов Сеуты и Мелильи. По-видимому, ежедневные воздушные рейсы «Люфтганзы» Штутгарт – Барселона удобны не только для конторы ветряных двигателей. По обрывкам разговора можно было понять, что в Барселоне находятся и ответственные чины германского посольства, прибывшие из Мадрида. На кинопросмотр они не пришли лишь потому, что оба фильма уже видели в посольстве. Но тайный слет сам по себе насторожил – «не стая консулов слеталась…». Из Барселоны Этьен улетел в Севилью, где в течение нескольких дней занимался делами, связанными с рекламой конторы «Эврика». Он намеревался побывать также в Мадриде. Но Этьен увидел и услышал в Барселоне и Севилье, столько тревожного, что решил прервать путешествие и вернуться в Италию первым же пароходом. Скорей, как можно скорей добраться до Милана, до патефона «Голос его хозяина», с которым не расстается Ингрид и который правильно было бы назвать «Голос его хозяйки». Сколько дней Ингрид не выходила в эфир? Каникулы в ее музыкальных занятиях затянулись. Они не всегда совпадают с каникулами студентов консерватории. Впрочем, хорошо, что за это время затерялись следы «Травиаты» в эфире. Больше всего Этьену нужна была сейчас Ингрид. Он был неразлучен с ней в мыслях. Скорей бы зазвучал в эфире голос его хозяйки! 11 «8.4. 1936 Мы не забыли о нашем обещании прислать замену. Но, к сожалению, в настоящее время лишены такой возможности. Сам понимаешь, как нелегко подыскать подходящего, опытного человека, который мог бы тебя заменить. Поэтому с отъездом придется некоторое время обождать. Мобилизуй все свое терпение и спокойствие. Оскар». «24.5.1936 Товарищ Оскар! Даже когда я сильно нервничал, никто этого, по-моему, не замечал. Ко мне вернулось равновесие духа, работаю не покладая рук. Но, объективно рассуждая, нельзя так долго держать парня над жаровней. Насколько мне известно, подобная игра человека с собственной тенью никогда хорошо не кончается. Все доводы я уже приводил. Мне обещали прислать замену месяца через два. С тех пор прошло четыре месяца, но о замене ни слуху ни духу. От работы же я бежать не намерен, остаюсь на своей бессменной вахте. Этьен». 12 Великое это искусство – помочь человеку увидеть себя более красивым, чем он есть на самом деле, польстить ему ретушью, дать пищу его маленькому тщеславию. И благополучие фотографа покоится на желании людей выглядеть как можно привлекательнее. Тщеславие, жажда лести жили еще задолго до изобретения фотографии. Как знать, может, первый портрет нашего далекого предка, нацарапанный острым камнем на стене пещеры, уже был приукрашен? Желание приукрасить свою внешность свойственно всем, без различия возраста, пола, национальности и положения в обществе. Но не так-то просто изобразить уродливую – привлекательной, человека с низким, малообещающим лбом и бездумным взглядом – глубоким мыслителем, явного сорвиголову и озорника – смиренным ребенком… Фотография «Моменто» открылась на улице Лука делла Роббиа много лет назад, захудалая фотография, каких немало на рабочих окраинах Турина. Однако прежде она не слишком-то привлекала к себе жителей района. Засиженная мухами витрина, выцветшие фотографии – вымученные, насильственно наклеенные улыбки, испуганные физиономии, заученные позы. А те, кто забредал в «Моменто», снимались на ветхозаветном диване возле низкой старомодной тумбочки на рахитичных ножках с острыми краями; все больно ударялись о тумбочку коленями. Новый владелец делал многое, чтобы репутация фотоателье-замухрышки поскорее изменилась. Он решительно выбросил из ателье всю рухлядь, начиная с тумбочки, которая оставляла синяки на коленях, и кончая бархатной скатертью с бахромой в виде шариков. Теперь в комнате, где ожидали клиенты, на столике лежали не только итальянские, но и французские, немецкие журналы и целая кипа газет. Но сменить вывеску «Моменто» новый владелец не захотел: пусть висит старая. Конечно, Сигизмунд Скарбек мог бы открыть в Турине богатое ателье в центре города, но его больше прельщала третьеразрядная фотография. Обычно городские торговцы или ремесленники хорошо знают друг друга и все вместе начинают дотошно и назойливо интересоваться новым конкурентом – что это еще за птица прилетела из-за границы, чтобы отбивать у них покупателей или заказчиков? Так что фотоателье в центре города, под враждебными взглядами конкурентов, было бы менее надежной «крышей», чем захудалое «Моменто». Скарбека вполне устраивает, что фотография находится на заводской окраине, а клиентами его стали преимущественно рабочие с заводов Мирафьори, Линьотто, с военных заводов, расположенных по соседству. В ту пору многие цехи туринских заводов становились секретными и там вводили пропуска с фотокарточками. Благодаря этим фотографиям-малюткам Скарбек хорошо осведомлен о секретной сущности заводов. Ну, а кроме фото для пропусков, для паспортов, для членских билетов фашистской партии, кроме семейных фотографий, посылаемых в армию, Скарбек успешно занимался также художественной фотографией; он был незаурядным мастером своего дела, подлинным художником. Прошло всего полгода, и теперь у витрины «Моменто» торчали зеваки. Портреты красоток заставляли иных прохожих замедлять шаг, а то и надолго задерживаться у витрины. Новый владелец «Моменто» умел потрафить самым капризным клиенткам, и были случаи, когда к нему приезжали фотографироваться важные синьоры и синьорины. Иные клиентки терпеливо ждали своих фотографий по нескольку недель – так много стало заказчиков у «Моменто». Тем же, кому нужны фото для документов, заказы старались выполнить срочно… – Когда будет готово? – спросил очередной клиент, сидевший в ателье перед громоздким аппаратом. – Не раньше вторника. – Скарбек сбросил с себя черное покрывало и тяжело вздохнул. 
– Где же ваше обещание «сегодня снято – завтра готово»? И как я в понедельник попаду на завод? – Теперь всюду ввели пропуска, все засекречены, кроме меня, – усмехнулся Скарбек. Когда Скарбек появился в «Моменто», городские фотографы снисходительно назвали его «этот маленький фотограф». А сейчас о нем говорили: «Маленький фотограф с большим мешком денег». Фотоателье «Моменто» процветало, в этом помогали Скарбеку не только его жена Анка, но и лаборант Помпео. Пальцы у него желто-коричневые, оттого что вечно мокнут в ванночках с проявителем-закрепителем и прочими химикалиями. Конечно, Помпео не мог сравниться в искусстве со своим шефом, да и откуда было бывшему фотокопировщику, работавшему на военных заводах Ансальдо, научиться сразу волшебной метаморфозе – превращать заурядных жительниц рабочей окраины в фотопринцесс? Но Помпео очень добросовестно выполнял поручение, данное ему товарищами, он по-прежнему входил в подпольный антифашистский комитет на заводе, хотя и работал теперь в «Моменто». Скарбек ни о чем в открытую своих клиентов не расспрашивал. Но его смелое острословие и откровенная общительность, подчеркивающая доверие к клиенту, очень часто вызывали ответную откровенность. Он всегда знал много заводских новостей, и это касалось не только Турина, но в известной степени также верфей Специи, Генуи и других пунктов, где находились дочерние предприятия германского рейха, скрывавшего до поры до времени свой военный потенциал. Фотоателье, так же как, например, парикмахерская, или лавка, или часовая мастерская, или врач, практикующий на дому, – очень удобное место, куда может войти каждый и каждый может выйти, не обратив на себя особого внимания. Но наивно было бы думать, что ОВРА не знает об удобствах такого рода «ходких» учреждений и не держит их под пристальным наблюдением. Тем более удачно, что фотоателье «Моменто» находится в руках опытнейших конспираторов, какими являются Сигизмунд Скарбек и не в меньшей степени Анка. Удачно была снята и квартира, она находилась в таком доме, где швейцар служил в полиции. Он сам доверительно сказал об этом Скарбеку, когда тот пришел снимать квартиру: – Можете, синьор, быть спокойным. Ни один жулик не посмеет показать носа в наш подъезд. Ежемесячно Скарбек платил швейцару больше ста лир и мог не сомневаться в том, что справки о нем в полицию тот дает самые хорошие. Нужно отдать должное Скарбеку, он умел создать себе добрую репутацию. С радостным удивлением и доброй завистью следил Этьен за тем, как быстро Скарбек преуспел в Турине. И все это – без посторонней помощи, без чьей бы то ни было поддержки. Он сам изучил все особенности акклиматизации в Италии иностранных подданных и поселился под надежной «крышей». Было бы неестественно и даже подозрительно, если бы поляк Скарбек не знался в Турине ни с кем из своих сородичей. Пришлось завести знакомства с тамошними поляками – поиграть вечером в бридж или скат; эту игру любят только в Силезии и Познани. Когда Анка играла удачнее Зигмунда, он вспоминал самые язвительные польские присловья: «Редька сказала: я с медом очень хороша, а мед ответил: я без тебя куда лучше». Один из польских гостей осмелился заметить, что Скарбек занимается делом ниже своего плеча, он мог бы найти себе дело и прибыльнее. Хозяин ответил ему польской пословицей: «Лучше воробей в кулаке, чем канарейка на крыше», – и напомнил, что многие миллионеры начинали с совсем малого. Деньги – вокруг них за карточной игрой вертелись все разговоры, все интересы, все планы, надежды и мечты… Жизнь в Турине была бы еще приятнее и легче, если бы Скарбеков не допекали многочисленные родственники в Германии, Чехословакии и Польше, если бы им так часто не нужно было ездить туда по семейным обстоятельствам. 13 Судя по тому, что в течение восьми месяцев Ингрид четыре раза меняла комнату, она была неуживчивой, капризной квартиранткой. И каждый раз переселялась в совершенно другой район города! Теперь она жила недалеко от ипподрома, в конце длинной виа Новаро. Ингрид вполне устраивали окраины, было бы удобное трамвайное сообщение с центром города, в частности с консерваторией и с «Ла Скала». Комната в центре Милана в два-три раза дороже, и потому все студенты, как правило, живут на окраинах, даже в пригородах. Она брала частные уроки и собиралась в следующем году держать экзамен в консерваторию. Там училось немало молодых людей из других стран, всех прельщала итальянская школа пения «бельканто». Удобно и то, что в Италии для поступления в университет или консерваторию требуется минимальное количество всевозможных документов. Ингрид собрала богатейшую коллекцию граммофонных пластинок – симфоническая музыка, рояль, арии и романсы в исполнении знаменитостей. Больше всего ее интересовали записи арий и романсов для лирико-драматического сопрано. Ей важно было уловить нюансы, особенности исполнения одних и тех же произведений разными певицами. Так, например, ария Чио-Чио-Сан из второго акта у нее была в записи семи певиц. Потайной радиопередатчик, известный Центру под названием «Травиата», был вмонтирован в патефон устаревшей марки, несколько громоздкий, но весьма добротный, безотказный. Это был патефон известной английской фирмы «Виктор», марка «Голос его хозяина». Фабричная марка изображает пса, сидящего перед рупором граммофона и внимающего своему хозяину. Под аккомпанемент пластинок Ингрид проводит радиосеансы. Этьена предупредили, что в Германии появились специальные приборы для радиопеленгации, немцы в этой области радиотехники обогнали всех, и русских в том числе. Итальянцы не умели засекать радиопередатчики даже в радиусе трех километров, но где гарантия, что гестапо, при столь нежной дружбе с итальянской контрразведкой, не поделится с ней своими секретными приборами? Этьен требовал от Ингрид предельной осторожности. Это по его настоянию молодая певица стала такой непоседливой квартиранткой. Появились косвенные признаки того, что радиосыщики установили круглосуточную слежку на волне, которой пользовалась Ингрид. Тогда «Травиата» применила систему, которой научил ее опытный Макс Клаузен: тот менял длину волны через каждые двести пятьдесят слов передачи. А так как «Травиата» отказалась от волны, на которой работала прежде, контрразведка ее, по-видимому, потеряла. Второй совет Клаузена также оказался весьма полезным: после каждой радиопередачи, какой бы короткой она ни была, «Травиата» меняла код. При таком условии Этьен мог быть уверен, что итальянские дешифровщики будут сбиты с толку, им никак не найти ключ от шифра, даже если они снова обнаружат «Травиату» в эфире. Радиокод представляет систему чисел, которые перестраиваются в определенном порядке, в зависимости от дня недели. Шифр, которым пользовалась Ингрид, опирался на слово «Бенито». Каждая из этих шести букв несла свою цифровую нагрузку и своеобразно переводила на язык цифр весь алфавит. У Ингрид и у Фридриха Великого, работавшего на радиосвязи в Швейцарии, был под рукой один и тот же международный статистический справочник, битком набитый цифирью. Милан и Лозанна заранее уславливались, с какой страницы, с какой строчки и с какой буквы в слове начнут они свои очередные вычисления. А потом уже следовало помнить, на какой цифре окончится последний разговор и с какого слова начнется новая радиограмма, по новому коду, обусловленному тем или другим днем недели. Но и это еще не все! Помимо скользящей волны и переменчивого кода, время передач также непостоянное – у Ингрид подвижная шкала. Ингрид появилась в Милане незадолго до нового, 1936 года. Этьен воспрянул духом – так долго молчала «Травиата». А радист, который работал прежде, мог передавать лишь телеграммы, зашифрованные Этьеном, потому что шифр тому радисту не доверяли. Ингрид же, несмотря на молодость, была опытным работником, ученицей Клаузена – лучшим в Центре радиоспециалистом. Про Клаузена говорили, что он может смонтировать радиопередатчик в чайнике, заварить в нем ароматный чай и напоить им даже самого привередливого англичанина. У «Травиаты» существенный недостаток – она обеспечивает радиопередачи только на небольшое расстояние, ее радиограммы можно принимать лишь в Швейцарии или в Тироле. Но разве расстояние между «Травиатой» и ее радиособеседниками измеряется только километрами или высотой альпийских гор? Их разделяет граница фашистского государства! Ингрид первая сообщила Кертнеру о том, что в Испании фашистский мятеж: «Фридрих Великий подслушал 18 июля сигнал «Над всей Испанией безоблачное небо». – Вот оно, «пронунсиаменто»! – Кертнер даже слегка побледнел. Вот и вчера Ингрид допоздна сидела за роялем и разучивала трудный пассаж в арии. Вошла хозяйка и внесла скальдино – жаровню с углями. – Погрейтесь, синьорина Ингрид. Ветер северный… Про такой ветер у нас в Милане говорят: свечи не задует, а в могилу уложит. – Вы так любезны, синьора Франческа. Не помешаю, если еще немного помузицирую? – Сделайте одолжение! Мой Нунцио тугоухий, а мне вязать веселее… Хозяйка ушла, Ингрид бесшумно заперла за ней дверь на ключ. Она подсела к роялю, несколько раз подряд спела арию. Продолжая напевать, Ингрид подошла к патефону «Голос моего хозяина» и поставила пластинку. Знаменитая певица исполняла ту самую арию, какую только что ученически пела Ингрид. Она открыла заднюю стенку патефона, выдвинула радиопередатчик, быстро настроилась, нашла в эфире своего Фридриха и начала передачу… 14 В вестибюле отеля «Кристина» толпились военные в испанской, итальянской, немецкой форме, преимущественно летчики. – К сожалению, мы вынуждены отказать вам в гостеприимстве, – развел руками портье. – Как видите… – он показал на военных, – в «Кристине» теперь совсем другие гости. Кертнер протянул визитную карточку: – Я от консула Дрегера. – Вы бы сразу сказали! Тысяча извинений. Вот ключ от вашей комнаты. К сожалению, только третий этаж. Все апартаменты ниже заняты генералом Кейпо де Льяно. Этьен подошел к лифту. Каковы же были его удивление и радость – из лифта вышел Агирре, элегантный, одетый в военную форму. – Давно в Севилье? – Агирре искренне обрадовался встрече. – Только что приехал. – Как попал сюда, в «Кристину»? – Консул Дрегер позаботился обо мне. Ну, а ты как живешь? Давно в капитанах? – Живу как на вокзале, – Агирре отмахнулся от вопроса. – А тебя что привело в Севилью? – Коммерция не должна отставать от авиации. – Мы еще увидимся, надеюсь? А то сейчас я тороплюсь. Вызывает майор Физелер. Но завтра вечером ты найдешь меня в казино. – Вот и отлично! Выпьем за твою военную карьеру. Еще со времени последних воздушных гонок в Англии Этьен был высокого мнения о летном искусстве своего приятеля. Сейчас испанские газеты называли Аугусто Агирре одним из лучших пилотов авиации Франко, а какой-то журналист утверждал, что в искусстве пилотирования, в отваге и опыте Аугусто Агирре вряд ли уступит таким асам, как Гарсиа Морато, капитан Карлос Айе или майор Хосе Перес Пардо… Этьен постоял со скучающим видом у карточного стола. Шла крупная игра, и вокруг толпилось много любопытных. Напротив него за зеленым сукном сидела старуха с дряблыми, оголенными до плеч руками, в соломенной шляпе с золотой лентой. По форме шляпа напоминает стальной шлем немецкого солдата, надвинута на самые глаза. Этьен с той стороны стола не видел ничего, кроме увядшего подбородка и крашеного рта, – старуха не хотела, чтобы видели ее лицо, когда она делает ставки в игре. За спиной ее стоял шустрый молодой блондин; он почтительным шепотом давал советы, ему доверено было залезать к старухе в сумочку и доставать оттуда деньги, он делал это уже несколько раз: старуха горячилась и проигрывала. Кертнер позволил себе поиграть в рулетку – не азартничая и не мельча, как полагалось вести себя солидному коммерсанту, забредшему в казино. Он ставил крупные суммы, но играл только в чет-нечет или ставил на «красное-черное», и довольно удачно, редко оступаясь, переходил с четных цифр на нечетные, менял цвет. Позже он в одиночестве поскучал у буфетной стойки. Агирре все не появлялся, хотя было уже поздно. Этьен прошелся по залам. Говорят, даже мадридское казино «Гран пенья» уступает севильскому в аристократическом клубе «Касинилья де ла Кампана». Ну а если не быть завзятым и неизлечимо азартным картежником, более всего в этом" клубе привлекал нарядный закругленный салон на первом этаже. Большие зеркальные витрины заливали его светом, и при этом в салоне не было душно. Двери клуба открывались только перед избранными. Здесь собирались местные гранды, знатные эмигранты, сбежавшие из Мадрида, Валенсии, Сарагоссы, из других городов и провинций, занятых республиканцами, дипломаты, военные чины, журналисты, тореадоры, сановники, коммерсанты. Севилья походила в те дни на огромный перевалочный пункт, на необъятный зал ожидания на вокзале – зал ожидания первого класса! Иные беженцы задерживались здесь всего на несколько дней и в своих экипажах, в своих автомобилях спешили вдогонку за наступающей армией. Въехать в свой особняк, в свое поместье, войти в свой магазин сразу же, как только выгонят «красных»! Все ночлежные дома, гостиницы, монастырские подворья, таверны при дорогах, ведущих к Мадриду, битком набиты беженцами. Этьен уже собрался в «Кристину», но, перед тем как уйти, подошел к игорному столу, где рулетка была сегодня к нему так благосклонна. И тут он увидел за спинами любопытных Агирре, сидящего понуро за столом. Как же Этьен не заметил его раньше? Или Агирре только что пришел? Крупье с профессиональной сноровкой отгреб лопаточкой деньги с проигравших квадратов стола. Печальным взглядом проводил Агирре эту кучу денег. Низкий абажур повис в табачном дыму над зеленым сукном, освещая стол, расчерченный на квадраты. Напротив Агирре сидела все та же старуха в соломенной шляпе. Крупье рассчитался с играющими. Делали новые ставки. Агирре неуверенно положил деньги на «11», но в самый последний момент нервно передвинул их на соседний квадрат. – Игра сделана, ставок больше нет, – объявил крупье, и рулетка с легким жужжанием завертелась… Агирре неотрывно следил за ней – вот-вот остановится… И вновь неудача. А старуха опять выиграла. Шустрый молодой блондин достал ее сумочку и сунул в нее выигрыш. Старуха игриво похлопала его по щеке рукой в перстнях и показала, на какие квадраты снова ставить. Агирре, подавленный проигрышем, порылся в карманах пиджака, ничего не нашел, встал, но подошедший Кертнер мягко усадил его обратно и незаметно передал деньги: – Держи. Докрутилась рулетка, и крупье пододвинул к Агирре кучу ассигнаций. Тот вскочил в веселом азарте. – Не будем больше испытывать судьбу. – Он взял деньги со стола и хотел отдать долг Кертнеру. – Успеешь. – Нет, нет, карточный долг – долг чести! – Я подожду. – Тогда играю на все! И снова крупье придвинул лопаточкой деньги к счастливому Агирре. Тот иронически улыбнулся шустрому блондину, отдал долг Кертнеру, рассовал остальные по карманам и отошел от стола. Агирре был радостно возбужден и все чаще поглядывал в другой конец зала – оттуда ему улыбалась очаровательная молодая сеньора. Она стояла об руку с пожилым мужчиной, но не сводила сияющих глаз с Агирре. 15 Джаннина укладывала вещи в чемодан, собирала Паскуале в дорогу, напевая «Прощание с Неаполем». Мать хлопотала на кухне. – Мама, где шерстяные носки? На палубе бывает ночью очень прохладно. – Посмотри в комоде, в нижнем ящике, – донеслось из кухни. Джаннина пела и не услышала, как за ее спиной тихо отворилась дверь и вошел Паскуале. Он осторожно положил покупки и стал подпевать Джаннине. Она бросилась отчиму на шею. – Я счастлив, что ты приехала меня проводить, – сказал Паскуале с нежностью. – Я была бы счастлива проводить тебя в последний рейс на «Патрии». Мне совсем не по душе твои поездки в Испанию. – Еще два-три рейса – и синьор Капрони-младший назначит мне пенсию. Ну, а кроме того, ты же знаешь… – Паскуале порылся в бумажнике и достал вырезанное из газеты объявление. – Вот… «Все для приданого… Столовое и постельное белье… Улица Буэнос-Айрес, 41…» Я и опоздал потому, что купил кое-что для своей девочки… Он открыл коробку, в ней полдюжины батистовых рубашек, развернул пакет и достал платье – голубое в белую полоску. Джаннина наспех чмокнула Паскуале и, схватив платье, скрылась за шкафом. – Святые угодники! Паскуале расщедрился! – Мать стояла в дверях с кастрюлей. – Он такой скупой, что из экономии один хотел ехать в свадебное путешествие. – Но все-таки вы ездили вдвоем! – засмеялась Джаннина, голос ее донесся из-за шкафа. – Да, третьим классом! – вздохнула мать и ушла на кухню. Раздался стук в дверь, вошел человек в форме трамвайщика, вертлявый, с бегающим взглядом. – Прошу о снисхождении… Дайте в долг бутылочку масла. Паскуале удивленно посмотрел на вошедшего, а Джаннина сухо пояснила: – Наш новый сосед. – Я поселился в этом доме, когда вы были в Испании, – сказал Вертлявый. Паскуале коротко кивнул. Джаннина успела переодеться и прошлась в новом платье мимо отчима и Вертлявого походкой манекенщицы, покачивая бедрами. – Вам нравится? – Паскуале повернулся к Вертлявому. – А жена недовольна. Называет меня скупым. В дверях появилась мать и нелюбезно оглядела Вертлявого. – Сосед просит бутылочку масла, – объяснил Паскуале. – Вы забыли вернуть бутылочку кьянти, – напомнила мать, но все-таки вынесла масло. Уже в дверях сосед сказал: – Я служу контролером в трамвайном парке. Ваша семья может смело ездить без билетов. – Благодарим, – сказала мать. – Но как раз на трамвай Паскуале не скупится. Едва закрылась дверь за назойливым соседом, Джаннина закружилась перед зеркалом, бросилась на шею Паскуале, запела. В мелодию ворвался свист с улицы. Мать перегнулась через подоконник, помахала рукой: – Паскуале! Джаннина! Скорей посмотрите на этого генерала! Сколько перьев в его шляпе! Джаннина глянула в окно, усмехнулась, отвернулась. – Ощипали двух павлинов… – Пригните голову! – кричала мать в окно. – На лестнице паутина… – Мне дорого обошлась приставка к титулу Виктора-Эммануила «император Абиссинии», – сказал Паскуале невесело. – Я заплатил за это жизнью моих мальчиков Фабрицио и Бартоломео. Не хватает еще, чтобы за титул Франко «генералиссимус» пострадал жених Джаннины. Тоскано вошел одетый с иголочки в форму лейтенанта берсальеров. Он снял замысловатый головной убор, горделиво пригладил волосы и зачесал их пятерней назад. – Я же предупредила. – Мать всплеснула руками, взяла шляпу Тоскано и сняла паутину с перьев. – Можете поздравить, меня произвели в офицеры. Когда отец узнал, то сразу раскошелился… – Тоскано подошел к раскрытому окну и с важностью показал на новенький автомобиль. – Самая последняя модель! – воскликнул Паскуале восторженно. – После Испании мы отправимся в этом автомобиле с Джанниной в свадебное путешествие. Прямо из церкви. Он обнял ее одной рукой и потянулся с поцелуем: она отвернулась. – Думаешь, я буду ждать тебя, как твой автомобиль? – Ну вот, опять вы ссоритесь, – всплеснул руками Паскуале. – А я так надеялся прокатиться сегодня в новом автомобиле до вокзала. – Собирайтесь, я подожду вас внизу. Тоскано молча поправил прическу, надел шляпу с перьями и вышел, обиженно посмотрев на Джаннину. Джаннина выбежала на лестницу и крикнула вдогонку: – Не запутайся в паутине! 16 Метрдотель, немолодой мужчина атлетического сложения, проводил Кертнера к столику, тот сел и развернул газету «ABC», вечерний выпуск. Ресторанный гомон, звон посуды, хлопанье пробок, натуральный и ненатуральный смех – все сегодня щемило сердце. Не далее как 2 ноября, позавчера, Муссолини и Риббентроп объявили о рождении нового пакта Рим – Берлин. Тучи над Мадридом сгущались, и, читая газету, Этьен не мог унять сердцебиения. Генерал Мола, первый помощник Франко, въедет в город на белом коне, конь недавно подарен ему областной организацией «Рекете» в Наварре. Гарцуя на белом коне, генерал Мола въедет через Сеговийский мост на площадь Пуэрта дель Соль, остановится, ему подадут микрофон, и он, не слезая с седла, скажет только два слова: «Я здесь!» А потом в старой кофейне на той же площади он устроит прием для иностранных журналистов и угостит их кофе. В тот день площадь Пуэрта дель Соль, то есть «Ворота солнца», будет в полной мере отвечать своему названию! Сегодня, 4 ноября, впервые прозвучала специальная радиопередача «Последние часы Мадрида». Парад перед зданием военного министерства примет глава государства, высокопревосходительный сеньор генерал Франко. Названы капельмейстеры военных оркестров. Утвержден план переезда правительственных учреждений из Бургоса в Мадрид. Ни одна дата не упоминалась сегодня в застольных беседах так часто, как пятница, 7 ноября… Нет, вовсе не случайное совпадение. Газета «ABC», ссылаясь на германские источники, пишет, что, «по совету некоторых друзей, генерал Франко избрал этот день специально для того, чтобы омрачить ежегодный праздник марксистов, годовщину большевистской революции». Мадрид в огне, под бомбами. Четыре колонны генерала Мола движутся на столицу. «Но Мадрид будет завоеван, даже если эти четыре колонны не дойдут, пятой колонной». Что это за пятая колонна, которая должна нанести республиканцам удар в спину? Знает ли Старик о пятой колонне и можно ли ее обезвредить? Или Франко только сболтнул о пятой колонне, чтобы посеять панику за линией фронта, у республиканцев? Не у всех там крепкие нервы и холодные головы. Метрдотель учтиво попросил у Кертнера разрешения посадить за его столик еще двух посетителей. Ресторан и в самом деле переполнен. Конечно, можно закапризничать, но лучше показать, что у Кертнера нет оснований опасаться чьего-либо соседства. Он очутился в обществе двух немцев в форме гражданских летчиков. Немец помоложе был под мухой, а тут еще, не дожидаясь, пока кельнер принесет заказанное, дважды подходил к стойке бара и прикладывался к стопке. Но, будучи навеселе, не сопротивлялся внутренне своему опьянению, а даже выставлял его напоказ, – что называется, куражился. Немец постарше не прислушивался к тому, что говорит его подвыпивший приятель, и с сознательным невниманием относился к сведениям, которые тот выбалтывал. Ему важнее было видеть, как реагирует на болтовню сосед; немец постарше не спускал с Кертнера тяжелого, изучающего взгляда. Вот ключ ко всему их поведению! Но тем более немец постарше не должен заметить, что Кертнер заметил – его изучают, проверяют, контролируют. Уже яснее ясного, что соседи – не просто посетители ресторана, мыкавшиеся без места, и не случайно метрдотель подсадил их. Обязательный карантин, которому подвергаются здесь все новые лица, или Кертнер допустил в Севилье какую-то оплошность и вызвал подозрение? Как будто нет… и в поведении ничего предосудительного и в чемодане, оставленном в отеле. А фотоаппарат даже не заряжен пленкой, все как полагается. Лишь бы не заметили потайной кнопки. Впрочем, для этого фотоаппарат должен попасть в руки специалиста. На столике в номере отеля «Кристина» лежат специально подобранные книги – книжка доктора Геббельса «От императорского двора до государственной канцелярии» и тому подобное. Кертнера привела в «Кристину» весьма солидная рекомендация, но уже в первый день Этьен заметил, что в его отсутствие чемодан в номере открывали; у него есть свои приметы на этот счет, он всегда знает – открывали или не открывали чемодан другим ключом. Рихард Зорге шутил: элементарная экономия средств рекомендует оставлять замки открытыми или держать ключи в замках, – по крайней мере не испортят чемоданов… Болтовня подвыпившего немца скользкая, неряшливая; зачем-то сообщил, что еще до 6 августа на местном аэродроме успели приземлиться тридцать «Юнкерсов». И немец постарше, потрезвее почему-то не был встревожен, как ему полагалось бы, поскольку он с приятелем находится в обществе совершенно незнакомого им человека. Немцы быстро вынудили Кертнера к разговору, но тот упорно переводил разговор с военной темы на коммерческие – о ценах, о пошлинах… И невнимание коммерсанта к секретам, которые выбалтывал немец помоложе, стало естественным, поскольку все внимание Кертнера поглощено финансовыми делами. Он возмущался высокими пошлинами в Испании. Кертнер, к слову, упомянул, что остановился в «Кристине», это произвело впечатление. Немец постарше спросил: «Как нравится отель?» Он явно ждал восторженного отзыва, но Кертнер отозвался о «Кристине» сдержанно. На прошлой неделе в Альхесирасе он жил в отеле получше. К сожалению, отель почти сплошь заселен англичанами из Гибралтара, и, кстати, за номера там расплачиваются английской валютой. Два фунта в сутки – конечно, немало, но право же, нельзя считаться с деньгами, когда речь идет о личных удобствах, иначе он путешествовать не привык… От почтенных английских фунтов разговор перекинулся к итальянским лирам; Кертнер назвал их деньгами легкого поведения. Немец постарше стал сокрушаться по поводу обесценения лиры, а Кертнер сказал раздраженно: – Еще неизвестно, что опаснее: инфляция лиры или инфляция слова. Муссолини произнес слишком много красивых, пустопорожних слов, а его казначейство отпечатало слишком много ассигнаций. Что касается меня, я предпочитаю немецкие рейхсмарки. А вы? Он круто повернулся и испытующе поглядел в глаза немцу постарше с единственной целью сбить его с толку во всяких догадках. Пусть думает, что его сосед раздражен делами на итальянской бирже. Может, разорился на снижении курса лиры, кто его знает. А что сосед так смело ругает дуче, – наверное, пользуется такой привилегией: простой смертный так говорить о дуче в обществе незнакомых не посмеет. Подвыпивший немец вполголоса произнес тост за Карла Гебарта, а немец постарше тихо чокнулся с ним: тост не предназначался для чужих ушей. Но именно поэтому Кертнер нашел нужным поддержать тост. Немцы обрадовались – господин знает их шефа, генерального директора «Люфтганзы». А Кертнер заверил господ, что он полностью солидарен со словами рейхсминистра Геринга, которые тот произнес на торжественном заседании общества «Люфтганза» в прошлом году. Не помнят ли господа, что именно сказал рейхсминистр? Жаль, жаль, очень жаль. Кертнер укоризненно покачал головой. Он может им напомнить: Геринг сказал, что быть германским гражданским летчиком – большая честь и что германские летчики за границей являются отважными пионерами германского национального духа. – Надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы у себя в Австрии представляем германский дух в правительственном смысле? – Кертнер испытующе посмотрел на собеседника: так засматривают в глаза топорно работающие сыскные агенты. Он достал бумажник и извлек оттуда фотографию: Геринг дефилирует мимо планеристов, а Кертнер стоит справа, возле своего планера, с рукой, поднятой в фашистском приветствии. «Все-таки Скарбек – великий мастер фотомонтажа. Особое и очень тонкое искусство». Немцы почтительно взирали на фотографию, где их сосед снят рядом с Герингом, и оба почувствовали смущение. На их лицах было написано – напрасно они уселись за этот столик, им тут совершенно нечего делать. Кертнер налил коньяк в пузатые, сужающиеся кверху рюмки. Немец помоложе обратил внимание, что герр заказал французский «мартель», и снова торопливо осушил рюмку: рядовому служащему не по карману знаменитый коньяк. – Коньяк «мартель» грешно пить такими глотками. – Немец постарше причмокнул языком. – Можно пожалеть тех, кто спешит напиться, не наслаждаясь букетом напитка, не смакуя его… Немец помоложе обиженно замолчал. А немец постарше начал туманно разглагольствовать об идеалах. Очень приятно было убедиться, что в Австрии есть искренние и преданные друзья, которые исповедуют германские идеалы. – К сожалению, в нашей коммерческой среде, – опечалился Кертнер, – есть люди, которые только болтают об идеалах для того, чтобы на них наживаться. – Мысль строгая, но правильная, – согласился после раздумья немец постарше. – Большое спасибо. Если каждый день будет приходить в голову по одной хорошей мысли, можно умереть умным человеком. – Кертнер строго посмотрел на немца постарше. Тот даже поежился под его взглядом: «Не намекает ли австриец на то, что я помру круглым дураком?» Немец постарше уже давно понял, что имеет дело с кем-то из своих, но рангом повыше. Нужно держать ухо востро, чтобы австриец не нашкодил когда-нибудь потом в разговоре с Карлом Гебартом или с другим шефом по другой линии. Вскоре немцы ушли, а Кертнер остался за столом наедине со своими заботами, опасениями, рассуждениями, догадками, наблюдениями. Нет, он не закончил игру, выйдя из казино, отойдя от рулетки с аппаратом, который называют «страперло». Он по-прежнему ведет крупную игру, и ставкой в игре является его дело и его жизнь… 17 Консул Дрегер появился в дверях и взглядом строгого хозяина обвел зал ресторана. Он увидел герра Кертнера, благосклонно ему улыбнулся, сделал глаза чрезвычайно вежливыми. Кертнер расторопно встал и пошел навстречу германскому консулу, выказывая публично свои верноподданнические чувства. В Севилье был и австрийский консул, но совладелец фирмы «Эврика» не нашел нужным представиться ему; посыльный отеля «Кристина» отнес в австрийское консульство паспорт для выполнения формальностей, с них хватит. Хорошо, что по приезде в Севилью Кертнер посетил Дрегера. В беседе, полной намеков и дипломатически обтекаемых фраз, Кертнер, на правах старого знакомого, попросил протекции в отель «Кристина»: – Я там останавливался в мае, но теперь новый порядок. Только в «Кристине» можно избежать соседства со случайными личностями и нежелательными элементами… – Берусь замолвить за вас словечко директору. В Севилье несколько комфортабельных отелей, но «Кристина» пользуется среди нацистов наилучшей репутацией. Там останавливаются именитые гости из имперской столицы. За последний год хозяин «Кристины», ариец, сразу разбогател – отель зафрахтован военными властями. В «Кристине» разместился штаб германской эскадрильи истребителей. Отель кишел летчиками, военными советниками, корреспондентами, кинооператорами. У главного подъезда и в холлах, на этажах и у некоторых номеров отеля стояли немецкие часовые. Уже само по себе проживание в отеле «Кристина» сильно повышало реноме Конрада Кертнера. Одинарный номер в «Кристине» стоит теперь в три раза дороже, чем весной. В первый приезд Кертнер, не мудрствуя лукаво, использовал свой барселонский опыт и тоже попросил у консула Дрегера совета – в каких именно органах печати поместить рекламные объявления конторы «Эврика»? Он сильно потратился на объявления в газетах и журналах Каталонии и Севильи. Кертнер был тогда раздосадован, разозлен. Черт бы побрал эту диалектику – подкармливать враждебную республике печать! Кроме того, ему жаль было денег, потраченных на объявления. «Известно, что реклама – двигатель торговли, – вздыхал Этьен. – Но такая реклама, пожалуй, может стать двигателем внутреннего сгорания. Хорошо, что «Эврика» за последнее время крупно заработала на ветряных двигателях и аккумуляторах фирмы «Нептун». А то недолго и разориться на такой рекламе…» И только вот теперь, спустя полгода, затраченный Кертнером капитал начинал давать ощутимую прибыль. Дружеская беседа с германским консулом на виду у всех посетителей клуба – прибыль. И то, что его видят беседующим с консулом вернувшиеся в зал шпики из «Люфтганзы», – прибыль. Вот что значит вовремя вынуть чековую книжку и с очаровательной небрежностью выписать чек на кругленькую сумму, сопроводив им рекламные объявления «Эврики». Консул Дрегер осведомился, как герр Кертнер устроился в «Кристине», как проводит время в Севилье. Кертнер доложил, что ему очень понравилось в местном казино, тем более что одна из обитательниц Севильи оказала ему свою благосклонность – он имеет в виду севильянку Фортуну и свой вчерашний выигрыш. В ресторан вошел Агирре; на нем был элегантный штатский костюм. Консул Дрегер весьма любезно с ним поздоровался и обменялся несколькими фразами о погоде. Но фразы вовсе не были малозначащими, потому что разговор шел о летной и нелетной погоде. Консул хотел познакомить Агирре с Кертнером, но оба приятеля рассмеялись – Кертнер непринужденно, а Агирре через силу. Только теперь Кертнер заметил, что сегодня Агирре мрачен. Что случилось? Завтра они хоронят боевого товарища; получил повреждение в воздушном бою над Мадридом, из последних сил тянул машину на свой аэродром, не дотянул и разбился. Кертнер выразил соболезнование своему коллеге и обещал принять участие в похоронах. Утром Кертнер зашел в магазин похоронных принадлежностей, – нигде, кроме Испании, нет столь шикарных, нарядных магазинов подобного назначения. Кертнер заказал венок из чайных роз с траурной лентой от австрийского планерного кружка. Балконы городского аэроклуба были в тот день задрапированы крепом. Сам Альфонс XIII прислал на похороны своего представителя. Фалангисты в беретах кричали: «Бог, родина, король!» Звено истребителей «капрони» пролетело над похоронной процессией, сбрасывая цветы. По общему признанию, венок австрийца был одним из самых богатых во всей траурной процессии. А через несколько дней Кертнер принял участие еще в одной торжественной процессии: из Севильи заблаговременно отправляли в Мадрид статую святой девы Марии – покровительницы города. Событие всполошило Севилью – процессию, которая должна была 7 ноября войти в Мадрид с войсками, провожали до черты города. Севильская дева Мария воодушевит доблестных спасителей Испании на подвиги! Вперемежку с духовными песнопениями гремел военный оркестр. Слишком велик был соблазн провести несколько дней на фронтовых дорогах, и Этьен решил не отставать от статуи святой девы Марии. К тому же обстоятельства позволяли взять с собой «лейку». Он прилежно фотографировал и деву Марию в разных ракурсах, и знатных грандов, и дряхлого кардинала, а заодно еще много любопытного: и мосты, и виадуки, и батареи, и марокканскую кавалерию, которая проходила по улицам Толедо. Тогда же Этьен увидел на марше сверхтяжелый немецкий танк, с которым был знаком по чертежам. Ну и махина! Танк на широких гусеницах, на вооружении орудие, два огнемета, девять пулеметов. Этьен знал о давнем тяготении Гитлера к таким сухопутным дредноутам, исследовал этот вопрос и относился к сверхтяжелым колымагам критически. Теперь он получил возможность заснять танк «рейнметалл» и пристально разглядеть его на марше и на стоянке. Да, он слишком громоздок, неуклюж, станет удобной мишенью для противника. Сперва толпа со святой девой Марией двигалась к Мадриду торопливо, боялась опоздать. Затем скорость замедлилась. Позже дева Мария нашла себе пристанище в монастырском подворье. Пыл у поводырей святой статуи остыл, они бессмысленно топтались в прифронтовой полосе, боязливо прислушиваясь к канонаде. А Этьен присоединился к группе корреспондентов севильских газет, которые, после долгих препирательств и мрачной ругани, решили вернуться в Севилью. По возвращении Этьен встретил в «Кристине» симпатичного Агирре. В тот же вечер они сидели вдвоем за столиком в ресторане. Очень скоро у них завязался профессиональный разговор. Говорили по-французски: почти все испанские пилоты учились в летных школах во Франции и подолгу там стажировались. Кертнера нельзя было назвать человеком любопытным, лезущим с вопросами-расспросами. Он охотнее рассказывал сам о новинках в сборочном цехе завода «Фокке-Вульф» в Бремене, где он недавно был; знал, над чем ломают сейчас головы конструкторы завода «Дорнье» в Фридрихсгафене, в Баварии. Ну как же, он бывал там, еще когда строился дирижабль «Граф Цеппелин». Агирре с уважением говорил о своих воздушных противниках, отдавая должное их летному мастерству и храбрости. Только тщедушный цыпленок, с трудом вылупившийся из яйца, станет кичиться победой над противником, который летает на средневековом самолете французской марки «Потез» или «Ньюпор» или английском «Бристоле». Да у них максимальная скорость – 160 километров! Агирре отдавал должное и тем республиканским пилотам, которые остроумно используют пассажирские «дугласы» в качестве бомбардировщиков. Агирре обмолвился о том, что у него на машине «бреге» капризничает шасси. Но зато какая новинка! Он перешел на шепот: шасси после взлета подгибается, на все время полета прячется в фюзеляж, и только перед посадкой пилот снова выпускает шасси. У Агирре в руках экспериментальная модель биплана-разведчика. Как знать, может, его самолет прямым ходом катится на этом шасси в завтрашний день авиации? По сведениям Этьена, наши авиаконструкторы много и успешно работают в этой области. Уже вышли из заводских ворот опытные машины с убирающимися шасси – истребитель «И-16» и скоростной бомбардировщик. Но удалось ли нам наладить их серийный выпуск? По-видимому, фирма «Бреге» усовершенствовала шасси. Вряд ли французы, даже за большие песеты, продали бы испанцам самую последнюю модель… Этьен следил за собой, чтобы не выдать повышенного интереса к рассказу Агирре. Если тому верить, только для испытания модного шасси и держат Агирре на этой слабосильной колымаге «бреге». – Машина у меня старая, скорость чепуховая… – До двухсот километров? – прикинул Этьен. – В лучшем случае! Это если сама пресвятая дева Мария будет заменять техника-моториста… Вчера, когда Агирре шел на посадку, это дьявольское шасси снова заело при выпуске, ему долго не удавалось сесть, но святая дева Мария все-таки сжалилась потом над ним и его наблюдателем. В свое время Кертнер много и серьезно занимался шасси, на этот счет сейчас последовали какие-то технические советы. Агирре ничуть не высокомерно, а скорее скептически улыбнулся. Подобные советы очень удобно давать за бутылкой хереса, которым они сейчас запивают тунца с зеленым горошком. А когда шасси не выпускается и контрольная лампочка не зажигается, в момент, когда ты уже в седьмой раз облился с головы до пят холодным потом и с ужасом думаешь, что сейчас придется сесть на брюхо, – в такой момент, пусть сеньор Кертнер его простит, все советы несколько теряют свою первоначальную ценность. – Пока мне ясно только одно – у твоего подагрика подкашиваются ноги. Но трудно ставить точный диагноз, не видя больного… – Хочешь? – неожиданно предложил Агирре. – Полетим завтра. Займешь место наблюдателя. Проверишь правильность всех своих советов. А рука у тебя легкая… Помню, как ты пришел в казино вдвоем с синьорой Фортуной. – …и у нее оказалось не одно, а два счастливых колеса, – засмеялся Кертнер. – Вот бы приспособить оба этих колеса к моему «бреге»! Ничего особенно приятного полет на старом «бреге» для Кертнера не сулил. Но попасть на аэродром, а тем более побывать в небе над аэродромом и его окрестностями, прогуляться по летному полю, поглазеть по сторонам, благо летное поле битком набито немецкими и итальянскими самолетами… Может, Агирре сделал предложение в расчете на отказ? Будет вполне правдоподобно, если Кертнер сейчас скажет, что завтра занят, у него деловое свидание с германским консулом или еще с кем-нибудь. Пусть даже Агирре заподозрит Кертнера в трусости, лишь бы не возникло подозрение, что австриец рвется на аэродром. Допуск туда не должен выглядеть как выполненная просьба Кертнера. – Ну что же… – нерешительно протянул Кертнер. – Пожалуй, согласен, если без особых хлопот и формальностей. – Консул Дрегер так тебя рекомендовал, что мы обойдемся без формальностей… Никогда не летал на «бреге»? – Агирре повеселел. – Карета, которую пора сдать на слом. – Тогда это не карета, а дормез. Так во Франции называли кареты в старину. – Кажется, мой аэроплан построен на самой заре воздухоплавания. В «бреге» столько загадок, – продолжил Агирре, когда оба отсмеялись, – что можно сделаться мистиком. Вот одна загадка: между сиденьем пилота и наблюдателем, сидящим сзади, при полете возникает какое-то таинственное завихрение. Дурацкий сквозняк! Все, что в самолете плохо лежит, сносит и тащит к пилоту. Если займешь место наблюдателя – не вздумай помочиться в люк. Выкупаешь меня с головы до ног!.. Половина десятого утра – удобно? Своего техника-моториста он предупредит о полете запиской. Комендант аэродрома и его командансия находятся за восточными воротами. А пропуск на имя герра Кертнера будет у дежурного капрала. 13 В Табладе, как на всех аэродромах, пахло бензином, а также касторовым маслом, разогретым асфальтом, сохнущей краской. Но здесь к непременным, так сказать профессиональным, запахам аэродрома примешивался аромат цветов, пахучих трав, плодов. Пчелы залетали к воротам ангара, на взлетную дорожку. Но рев моторов грубо заглушал их жужжание. Аэродром – в излучине Гвадалквивира, а вся округа в цветниках, садах, плантациях. Они подступают вплотную к кромке аэродрома, и летное поле – в заплатах, полосах асфальта – выглядит чужеродным на благословенной и благодатной равнине. Приехал Этьен на аэродром даже несколько раньше, чем они условились. Пропуск он получил у дежурного капрала, а моториста Агирре сразу узнал по замасленным рукавам и такой же замасленной пилотке, – видимо, это интернациональная примета всех мотористов. Вдвоем они осмотрели «новую новинку» – убирающееся шасси. Этьену нужно было запомнить все, что он увидел, и при этом скрыть от моториста, что все увиденное – ему в новинку. Остроумное решение технической задачи было основано на комбинированном движении, требующем нескольких сочленений. И поскольку плоскость симметрии колеса при движении смещается, задача, которую решали конструкторы убирающегося шасси, относится к области геометрии трех измерений. Ни один былой экзамен в воздушной академии по высшей математике не был таким трудным, как экзамен, который он держал в эти минуты, сидя под крылом «бреге»… Они сделали все, что могли и сумели, чтобы трос не заедало. Но проверить себя и убедиться в полной исправности машины можно только в воздухе. Моторист ушел в ангар, а Этьен лег под крылом «бреге» в душную, пыльную траву, спеша насладиться непрочной, быстротечной тишиной аэродрома. «Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир…» Может, он где-то там и шумит, но до летного поля не доносится даже влажное дыхание реки. Здешняя поздняя осень может смело поспорить с подмосковным августом. Он лежал с закрытыми глазами, и ему мерещился полевой аэродром в Подмосковье, к которому – как здесь сады – со всех сторон подступал лес. Там, на летном поле, трава давно пожелтела, пожухла, а на посадочную полосу уже не доносится грибное дыхание леса. Вечером лес виднеется не так отчетливо, он отступает от границ аэродрома. Ночь напролет шли иногда занятия летчиков, наблюдателей. При свете карманного фонарика штурман Маневич делал поправки к расчетам и цементными бомбами поражал фанерные макеты, изображавшие колонну вражеских танков на шоссе. Кромешная тьма, только перед глазами мельтешат и мелко дрожат стрелки приборов, покрытые фосфором. Однако полет ощупью в темноте – вовсе не слепой полет, для которого нужна хитрая аппаратура… На рассвете керосиновые фонари гасят, последнюю копоть уносит предутренним ветерком, и, когда учлетов увозят с аэродрома, границы его видны из края в край, огражденные частоколом хвойного леса. Уже можно пересчитать все самолеты, совершившие посадку. Почему-то техникам выдавали тогда не маскировочные сети, а светлые чехлы, похожие на простыни. Чехлы сильно демаскировали аэродромы, и Этьен, лежа в душистой траве на берегу Гвадалквивира, запоздало раздражался, что наши самолеты не камуфлировали тогда, а кутали в светлые покрывала. И неуместно посыпали желтым песочком все дорожки. И расставляли на том аэродроме всевозможные яркие щиты и стенды, будто «наглядная агитация» рассчитана на противника, хотя бы и условного… Еще два года назад Этьен получил задание из Центра. Старик просил его тогда сосредоточиться на изучении вопросов, связанных со слепыми полетами, инструментальным самолетовождением, а также полетом авиационного соединения в строю и в тумане. «Вопросы чрезвычайно важные, и мы просим обратить на них самое серьезное внимание. Старик». Каждое слово той радиограммы отпечаталось в памяти, как боевой приказ. Сегодня, как все последние дни, Этьен много думал о Старике. Может, потому, что оба они сейчас под испанским небом? Вот бы оказаться рядом со Стариком, увидеть его! В последний раз они виделись в канун открытия Московского метрополитена. Над станцией «Красные ворота» светилась приземистая буква «М» и плакат: «Привет строителям метрополитена!» Берзин и Этьен подъехали на «эмочке», предъявили пропуска милиционеру и вошли в вестибюль, который встретил их сырым запахом непросохшего бетона. Этьен тоже был в форме, три шпалы на голубых петлицах, полковник, – тогда еще не знали такого звания «подполковник». Подошли к эскалатору, Старик ступил на него с неловкостью новичка. Над соседним неподвижным эскалатором двое парней подвешивали таблицу: «Стойте справа, проходите слева, на ступени не садиться, тростей, зонтов и чемоданов не ставить». Парни засмеялись, глядя, как военный начальник едва не потерял равновесие и комично взмахнул руками. Старик и Этьен тоже засмеялись, оба были в отличном настроении. «Хочу показать европейцу наше метро, – сказал Старик, спускаясь по эскалатору. – Завтра на открытии будет чересчур для нас торжественно. Тебе спокойнее будет посмотреть без оркестра и без дипломатов…» Старик осторожно соступил с эскалатора, Этьен поддержал его под локоть. Они прошлись по пустой станции, с восхищением осматривая мраморные стены, вышли на перрон. Группа будущих дежурных в форменных красных фуражках, с дисками в руках отрабатывала команду: «Готов!» Инструктор кричал: «Повторить!» – и снова вздымались диски над головой, снова звучал разноголосый сигнал к отправлению будущих поездов. Подошел поезд. Старик и Этьен вошли в пустой вагон, с удовольствием сели на кожаную скамью. Прозвучала одинокая, уже не учебная команда: «Готов!» Поезд тронулся. И в пустом вагоне Старик поделился с Этьеном тревожными впечатлениями о только что прочитанной книге Гитлера «Майн кампф», полной явных и скрытых угроз з адрес Советской России. А Зорге сообщал, что японцы все воинственнее поглядывают на запад и тоже на Россию. «Вторая пятилетка, только становимся на ноги, – раздумчиво произнес Старик. – Неужели наше Московское метро станет когда-нибудь бомбоубежищем?..» Судьба разлучила их полтора года назад. Все это время Старик был заместителем Блюхера на Дальнем Востоке, а сейчас он – главный военный советник в Испании. Кто из товарищей еще помогает республиканцам? Про Хаджи Мамсурова и Василия Цветкова он знает твердо. Этьену известно было, что Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров носит имя Ксанти. Мамсуров выдает себя за македонца, что ему, горцу, уроженцу Кавказа, совсем не так трудно. А почему Хаджи записался в македонцы? Может быть, потому, что они пользуются славой опытных диверсантов? Может, и Оскар Стигга там? Может, Леня Бекренев, бесстрашный парнишка, который так симпатично окает по-ярославски: «ЗдОрОвО, МОневич!»? Этьен засмеялся про себя, но тут же повернул голову на звук моторов и стал сердито наблюдать, как один за другим отрываются от земли и подымаются «Юнкерсы» с бомбовым грузом. «А сколько по прямой, если лететь от Таблады до аэродрома Куатро виентос или до Хетафе? Хетафе километров на двадцать ближе. Сколько до Бадахоса или до Алькала де Энареса к северу от Мадрида? Километров четыреста, не больше. Только подумать – полтора-два часа лёту! Я так близко от Старика… Мой дорогой сеньор, главный военный советник! А может, вы сейчас в Барселоне? Или в Гренаде? Сколько отсюда до Гренады? «Гренадская волость в Испании есть…» Вот не думал, не гадал, что будет глядеть в испанское небо и воевать на испанской земле…» Он мог гадать, сколько его товарищей и кто именно помогает республиканцам, постигает здесь грамматику боя, язык батарей, но был уверен, что на территории, занятой мятежниками, нет ни души, кроме него. Конечно, Конрад Кертнер ступает по самому краешку жизни, и Этьен обязан следить за каждым его шагом. Нужно все время проверять – достаточно ли благоразумно рискует Кертнер, в меру ли он осторожен и в то же время достаточно ли дерзок и хитроумен в своих коммерческих и технических делах, в какой степени неуязвим и находчив при встречах с контрразведчиками и тайными агентами – немецкими, испанскими, итальянскими… Так чертовски нужно прижиться к аэродрому Таблада, сделаться полезным Агирре человеком, прослыть своим среди пилотов, которые каждый день, иные по нескольку раз, подымаются, чтобы бомбить позиции республиканцев – так они говорят. Но Этьен знает, что они имеют в виду и улицы Мадрида, жилые дома, может быть, ту самую крышу, под которой нашел приют Старик. Как же важно перехитрить противника, вызнать то, что нужно узнать, подсмотреть то, что нужно увидеть, запомнить то, что никак нельзя, просто преступно было бы позабыть. Страшно подумать, что в Центре не узнают новостей, какими уже располагает Конрад Кертнер, если его схватят чернорубашечники, или фалангисты, или немецкие нацисты. И эта тревожная мысль была страшнее понимания того, что схваченным, убитым, не вернувшимся товарищем будет он сам, Этьен. Высокое чувство ответственности за порученное дело уже не раз помогало в опасном одиночестве, делало Кертнера изворотливым, оборотистым или терпеливым, как, например, сейчас, когда он лежит под крылом «бреге» и ждет Аугусто Агирре. Улетучилась недолговечная тишина. Этьен лежал и профессионально прислушивался к мотору, установленному на последней модели истребителя «фиат». Мотор капризничал, над ним с утра колдовали техники. Вскоре моторист с машины Агирре вместе с Кертнером, которого он представил как немецкого авиаинженера, приняли участие в летучем консилиуме у мотора. Еще в конце прошлого, 1935 года фирма «Фиат» разослала на ряд заводов Италии макет нового, звездообразного мотора в натуральную величину. Но Кертнеру не удалось его увидеть. А сегодня он долго держал в руках схемы этого мотора, чертеж его продольного разреза, успел изучить его технические характеристики. Мотор с воздушным охлаждением предназначен для истребителей и аппаратов высшего пилотажа. Мощность его около тысячи лошадиных сил. Если бы мы только могли в ближайшее время обеспечить такими моторами наши истребители! Он закрыл глаза и отчетливо увидел в небе над Тушином знаменитую пятерку асов. У Этьена даже дух захватило, он снова наблюдал фигуры не высшего, а высочайшего пилотажа. Парадные истребители выкрашены в красный цвет и будто связаны между собой волшебной ниткой. Примите же восхищение не слишком умелого ученика, дорогие товарищи Степанчонок, Коккинаки, Супрун, Евсеев и Шевченко! Этьен понимал, что значит вооружить истребитель тысячесильным мотором. А если мы не успеем одновременно усилить моторы на своих самолетах, если мы позволим себе отстать? Значит – проиграть тысячи и тысячи будущих воздушных поединков в надвигающейся войне. Значит – наши парни в будущих воздушных боях окажутся в заведомо неблагоприятных условиях. И кто знает, сколькими молодыми жизнями придется нам заплатить за свою неосведомленность и техническую отсталость. Он никогда не участвовал в воздушных боях, лишь в качестве летчика-наблюдателя, штурмана вел дуэли с условным противником. Но Этьен отлично знает, что такое маленькая скорость самолета. Значит, нельзя «дожать» врага, к которому уже удалось пристроиться в хвост; враг оставит тебя в дураках и уйдет невредимым. Значит, нельзя самому, если ты расстрелял все боеприпасы, или получил повреждение, или выпил почти всю «горилку», уйти из боя, когда бой тебе невыгоден. Можно назвать молоденького, коротко остриженного парнишку гордым сталинским соколом, но если при том снабдить его слабосильным мотором и тихоходной машиной, сокола заклюют, как желторотого цыпленка, даже если он в отваге и мастерстве не уступит самому Чкалову, Байдукову, Громову, Юмашеву, Чухновскому или еще кому-нибудь из наших асов, о которых Этьен всегда думал с благоговением. Какой же он сокол, если у него хилые крылья и он, при всей своей смелости, страдает сердечной недостаточностью, а то и пороком сердца?! «И вместо сердца – пламенный мотор»!! Лирика, положенная на ноты. А вот каковы технические характеристики сего пламенного мотора? Сколько в сем пламенном моторе лошадиных сил? Еще в Германии, когда Этьен сидел за секретными чертежами, добытыми антифашистами в конструкторском бюро завода «Фокке-Вульф» или в сборочном цехе завода «Мессершмитт», когда он убеждался, что мы отстали в технике от взявшего власть Гитлера, – Этьен попросту страдал. Он страдал так, будто загодя знал о будущих жертвах войны, о проигранных нашими парнями воздушных поединках. И он почувствовал бы себя предателем, если бы не сделал все возможное, чтобы прийти им на помощь. И пусть эти ребятки с первым пушком на щеках, ребятки, из которых иные только поступили в летные училища и не имеют еще ни одного самостоятельного вылета, – пусть они никогда не узнают, да и не смеют знать, кто заботился об их оперении. Положа руку на сердце он вправе сказать: – Сделал, что было в силах. Старику не пришлось краснеть за нас, своих учеников… – Сеньор, мы вас потревожим, – раздался над ухом голос моториста; Кертнер вздрогнул от неожиданности. – Убираем костыли. Команда солдат снимала «бреге» с козел, на которые он был установлен для того, чтобы проверить шасси. Моторист выпрыгнул из кабины, вытер руки ветошью, кивнул Кертнеру, крайне довольный. Тот и сам мог убедиться: шасси то убиралось, то выпускалось без всякой заминки. Вскоре появился и Аугусто Агирре. Он долго и горячо извинялся перед Кертнером за опоздание. Для Агирре было приятной неожиданностью – Кертнер с помощью моториста уже тщательно проверил всю систему шасси, сменил тросик. – А твой венок из чайных роз заметили все, кто был на похоронах, – сообщил Агирре. – Еще бы! Венок с трудом несли два офицера. Богаче, чем королевский. Правда, бедняге Альваресу теперь все равно, но эскадрилья просила тебе передать благодарность. Этьен слушал и думал: «Может, этого самого Альвареса догнал очередью кто-нибудь из наших?» Агирре приказал подготовить «бреге» к вылету. – Теперь твой подагрик крепко стоит на ногах, – заверил Кертнер. – Вот и посмотрим больного в воздухе, доктор. Но тут выяснилось, что нет второго парашюта и поэтому взять с собой Кертнера, после происшествия с шасси, он не вправе. Австрийский авиаинженер пренебрежительно отмахнулся от запрета. – Про капризный характер «бреге» я помню и напитками сегодня не злоупотреблял. -Кертнер рассмеялся и первым полез в машину, что явно понравилось Агирре. Тогда Агирре демонстративно снял с себя парашют, уже надетый на него мотористом, бросил этот парашют, перекрестился, произнес: «Бог, родина, король!» – и полез в кабину, что явно понравилось Кертнеру. Полет не был продолжительным. Но за те двадцать минут, которые Кертнер провел в воздухе, он увидел немало любопытного, в частности, приметил, где стоят зенитные батареи, охраняющие аэродром. А при посадке увидел интересные подробности, связанные с оборудованием взлетной дорожки для тяжелых машин. Агирре оглянулся и показал Кертнеру на шасси – оно плавно выпускалось, убиралось и снова выпускалось. Кертнер одобрительно кивнул, и вскоре самолет пошел на снижение. Следовало спрыснуть живительной влагой исправленное шасси, отметить совместный полет без парашютов. 
Кертнер пригласил Агирре в таверну при аэродроме. Таверна находилась в двух шагах от небольшого зданьица, над которым торчит антенна, а в небе трепыхается, полощется колбаса, набитая ветром и указывающая его направление. Когда Кертнер и Агирре вошли в таверну, хозяин поспешил навстречу из-за стойки. – Мой друг, – представил Агирре своего спутника. – В нем счастливо соединились авиация и коммерция. – Еще неизвестно, чего больше. – Кертнер сел за столик, скользнул взглядом по стенам – портреты тореро, бычьи головы… Хозяин засуетился, подчеркивая уважение к гостю. Он принес Кертнеру стул с резной деревянной спинкой причудливой формы. – Досточтимый сеньор, прошу вас пересесть. Этот стул для самых почетных гостей таверны! На нем не раз сидели Санчес Мехиас, Гаэтано Ордоньес и другие знаменитые тореро. Вот их автографы, – хозяин показал на спинку стула. – Тебе оказана высокая честь! – сказал Агирре. – Мне трактирщик этого стула не предлагал. А напрасно! В тот день, когда я решил стать летчиком, Испания и любимый король Альфонс потеряли замечательного тореро! Агирре увидел красную скатерть на одном из столиков, рванул ее к себе, сделал несколько движений, как на корриде, и набросил скатерть на хозяина. Агирре рассказал, что аэродром Таблада недолго находился в руках республиканцев, мятежники захватили его очень быстро. А еще до того, как в бутылке коньяка «мартель» показалось донышко, Кертнер узнал, что 5 ноября из Альбасете на аэродром Алькала де Энарес, севернее Мадрида, перелетели первые русские эскадрильи. Уже на следующий день они встретили в небе Мадрида «Юнкерсы», «фиаты» и сбили девять самолетов. Сражение за Мадрид идет в последние дни с чрезвычайным ожесточением, войска Мола и авиации несут большие потери. В связи с этим эскадрилью Аугусто Агирре через неделю перебрасывают поближе к Мадриду, на прифронтовой аэродром. Кертнер воспользовался разрешением Агирре и поднялся на крыло новой модели «мессершмитта» и затем посидел на месте пилота, примеряясь к управлению, глядя, удобно ли установлена доска приборов, запоминая, как на ней расположены все кнопки, ручки и рычаги… Его мало интересовали самолеты, которые уже воевали с республиканцами, потому что те уже сбили над своей территорией самолеты всех марок, а значит, республиканцы и наши авиаторы имели полную возможность обследовать и препарировать машины на земле, досконально их сфотографировать, снять размеры и так далее. Кертнера прежде всего интересовали новинки в оборудовании, новшества в технической оснастке, вооружении моделей самолетов, изготовленных на немецких и на тех заводах, которые только считались итальянскими, а по существу были дочерними предприятиями авиационных фирм, прислуживающих Гитлеру. Иные, может, еще не попали на конвейер, им устраивали в небе над всей Испанией последний экзамен в ходе боев с республиканцами и советскими добровольцами. И разве не естественно для австрийского авиаинженера интересоваться тем, как ведут себя в полетах приборы, изготовленные по патентам, проданным фирмой «Эврика»?.. Аэродром дважды бомбили наши, и оба раза безуспешно. Он огорчился, что республиканцы бомбили недостаточно метко, явно не знали системы зенитного огня над аэродромом (вот бы сообщить точные адреса зениток!). И в то же время обрадовался, что бомбы упали в стороне от взлетной дорожки – кому же охота пострадать от своего осколка? «А все-таки у республиканцев и наших добровольцев нету тех бомбовых прицелов, за которыми я охотился последний год», – подумал он в минуту бомбежки. Ведь не мог же штурман бомбардировщика принять за посадочную полосу шоссе вдоль аэродрома. Скорее всего, этот штурман не имел хорошего бомбового прицела. Он разукрасил шоссе воронками, а попутно выкорчевал бомбами десятка два апельсиновых деревьев – их ветви гнулись под золотой тяжестью плодов. Нечего и говорить, что после пустой бомбежки вновь собрались в таверне. В таверну вошел испанский летчик – худощавый, с резкими движениями, холодным и надменным взглядом. – Бутылочку моего, да похолоднее! – Хименес, из нашей эскадрильи, – отрекомендовал его Агирре, когда вошедший подошел к их столику. – Мой друг Кертнер, летающий коммерсант. – Завидую тебе, перелетаешь в Толедо, – сказал Хименес, не расположенный к шуткам. – Десять минут лёта до Мадрида! Но почему так срочно? – Думаю, из-за русских… Слышал, что творится над Мадридом? И днем, и ночью… Большие потери… – Особенно драчливы эти русские «чатос», – сказал Кертнер. – Мы с курносыми не церемонимся, – ответил Хименес зло. – Слышали? Один красный заблудился и сел вчера к нам под Сеговией. – Ну и что? – Разрубили его на куски, запаковали в ящик, привязали к парашюту и сбросили с письмом: «Подарок командующему воздушными силами. Такая участь ждет его самого и всех красных». Воображаю, как красные обрадовались подарку! – Хименес заржал. – А если бы ты сыграл в такой ящик? – спросил Агирре. – Настоящий летчик и христианин до этого не унизится… – А тебе не позволяет голубая кровь? Твой фамильный герб? – Хименес вышел, не прощаясь. Если только не заниматься расспросами и не слыть любопытным, в таверне при аэродроме можно услышать много интересного. Не один бокал мансанильи выпил Кертнер (когда требовалось – и через силу) в той таверне, не однажды щедро угощал соседей по столику. А какой богатый прощальный ужин устроил Кертнер накануне отлета Агирре!.. В тот памятный день на аэродроме приземлился грузовой «юнкере» без опознавательных знаков, и оттуда вышел пассажир с удивительно знакомой внешностью: невысокого роста, совершенно седой, с молодым румянцем на щеках. Никто из аэродромного начальства самолета не встретил, но к крылу «Юнкерса», с которого сошел улыбающийся седоволосый человек, подкатил автомобиль «хорьх». Из «хорьха» выскочил господин в штатском и расторопно раскрыл перед пассажиром «Юнкерса» дверцу автомобиля. Тот козырнул, уселся на заднее сиденье, и «хорьх» рванулся с места, окутывая пылью придорожные оливковые деревья цвета сизой пыли. Никак не мог Этьен вспомнить, кому принадлежит знакомая внешность, и злился на себя и ругал себя безмозглым дураком, у которого не память, а дырявое, гнилое решето. И только когда «хорьх» уже промчался, Этьен вспомнил. Так это же Вильгельм Канарис собственной персоной!! Лицо молодое, если бы не седина, ему можно было бы дать от силы сорок лет, а Этьен точно знал, что Канарису под пятьдесят. Глаза полны живого блеска, со смешинкой. Взгляд вовсе не цепкий, не жесткий, не властный, – вот бы научиться так владеть каждым мускулом лица, даже выражением глаз! Этьен многое помнил о Канарисе, и никак не сочеталась с его внешностью давняя история: после мировой войны Канарис сидел в Италии в тюрьме по подозрению в шпионаже и бежал, убив при этом тюремного священника и переодевшись в его сутану. Значит, Этьена правильно предупредили, что Канарис иногда приезжает инкогнито в Испанию на грузовых самолетах без опознавательных знаков, сидя между ящиками и контейнерами с горючим и пролетая высоко над территорией Франции. И снова Этьен назвал свою память гнилой и дырявой, потому что не сразу узнал того, кто распахнул дверцу «хорьха», а затем уселся рядом с Канарисом. Он же торчал на похоронах летчика Альвареса, это же генерал Вигон, начальник испанской военной разведки! Кертнер уже два раза устраивал проводы Агирре, но его отлет снова откладывался. Наконец эскадрилья Агирре и Хименеса получила приказ перебазироваться ближе к фронту. – Когда и где мы еще встретимся? – вздохнул Агирре. – Теперь в Мадриде! – бодро сказал Кертнер. – Судя по всему, ты успеешь прежде добраться до своей Италии и приплыть обратно. – Назначаю тебе свидание в Мадриде, на аэродроме. Скорее всего, это произойдет на Куатро виентос. Как романтично назван аэродром! Четыре ветра! – Хоть бы один из четырех был для меня попутным. – Агирре без воодушевления пожал плечами. – Не забывай – у нас есть в запасе пятый ветер! – Ты имеешь в виду пятую колонну? Кертнер кивнул. – Я на нее рассчитываю меньше, чем генерал Мола. В тот вечер Агирре был мрачнее, чем обычно, и выпил больше обычного. Он несколько раз вспоминал, что вчера неба над Мадридом не видно было за дымом и огнем и все чаще в небе льется кровь. На следующее утро радиопередачи «Последние часы Мадрида» испарились из эфира, а парижское радио сообщало, что Мадрид героически сопротивляется, весь мир – свидетель этого сражения. 19 Когда вспыхнула война в Испании, Этьен решил использовать свое постоянное местожительство и свою деловую репутацию, чтобы пробраться на занятую мятежниками территорию. Кертнеру нужно было обязательно попасть на пароход «Патриа», который через несколько дней отплывал из Специи в порты Испании, занятые мятежниками. То был грузопассажирский пароход, который в том рейсе был в большей степени грузовым, чем пассажирским. Судя по осадке «Патрии», трюмы ее битком набиты. Вдобавок на палубе громоздились какие-то циклопические ящики, укрытые брезентом. Даже если бы при их погрузке не хлопотал Паскуале, Этьен легко догадался бы, что к Франко плывут «мессершмитты», разъятые на фюзеляжи и крылья. Этьен не предполагал, что почувствует себя на испанской земле так уверенно и будет работать в относительной безопасности. Пусть даже иные испанцы принимали австрийца Конрада Кертнера за пройдоху и спекулянта патентами, который хочет погреть руки на чужом пожаре. Но поскольку Кертнер – авиаспециалист и автор каких-то патентов, вполне закономерно и естественно его внимание к техническим проблемам, возникшим в ходе войны. Был еще один веский довод в пользу испанских поездок Кертнера. Поскольку Муссолини помогал мятежникам, все итальянцы выглядели в Испании как добровольцы, фашисты, и слежка за штатскими итальянцами была меньше, чем у них дома. В самом деле, что подозрительного во встречах итальянцев и австрийца, если они все вместе помогают Франко воевать с красными?! В Италии, когда дело касалось секретных материалов, Паскуале, отчим Джаннины, бывал очень робок. А на испанской земле да и по пути в Испанию он вдруг обрел подобие хладнокровия. Он и суетился здесь меньше, не облизывал все время губы, высушенные страхом. Паскуале выжидал, чтобы в коридоре, куда выходят каюты «люкс», было пусто, и тогда заходил к Кертнеру; он даже позволил себе вымученно пошутить по какому-то поводу. А второй помощник капитана, Блудный Сын, хорошо известный Кертнеру, ни разу его не навестил и не обмолвился с ним ни единым словом, но не из-за своей робости, а лишь потому, что сам Кертнер настоял на такой сверхосторожности… Пока Паскуале был занят на приморском аэродроме сборкой доставленных самолетов, а Блудный Сын занимался судовыми обязанностями, пока «Патриа» плыла из Альхесираса в Кадис, оттуда в Уэльву, Кертнер успел и помотаться по фронтовым дорогам до предместий Мадрида и проторчать неделю с одним днем на аэродроме в Табладе. К отплытию «Патрии» из Уэльвы Кертнер уже опоздал, к отплытию из Кадиса тоже не успевал. Теперь, если не подведет шофер нанятого автомобиля, он рассчитывает застать «Патрию» в Альхесирасе, хотя дорога туда значительно длиннее: придется объезжать горы, делать большой крюк. Нанятый автомобиль давно пора было сдать в утиль, в дороге случилось несколько поломок. Этьен опаздывал, нервничал и успел на пароход только потому, что «Патриа» принимала на борт большую партию раненых итальянских солдат и с погрузкой раненых опоздали больше, чем Этьен опоздал с прибытием в Альхесирас. Кертнер занял свою старую каюту, оплаченную в оба конца, и сразу стал спокойнее. Он быстро установил, что в его отсутствие сюда наведался Блудный Сын. Как было условлено, он унес все, что Этьен фотографировал по пути в Испанию, а также сверток чертежей, которым полагалось храниться в каюте капитана «Патрии». Одноместная каюта «люкс» со всеми удобствами. Если Этьен будет занят своими приватными делами, а в дверь вдруг начнут ломиться непрошеные гости, можно выкинуть в иллюминатор все, что при столь несчастливом стечении обстоятельств должно быть выброшено, все, что он не успел зашифровать и превратить в безобидные описания красот испанской природы, морских пейзажей. А если Этьен заметит опасных попутчиков на палубе, то будет стоять у борта, держась за поручни, всегда готовый выбросить в море кассеты с пленкой. «Патриа» держалась подальше от республиканского берега и поближе к Балеарским островам. После Пальмы на Майорке «Патриа» уже никуда не заходила до самого Марселя. В Марселе на борт поднялся какой-то подозрительный субъект. Он шатался по палубе, небрежная походка, волочил ноги так, словно на нем старые шлепанцы. Когда «Патриа» отшвартовалась и лоцман выводил ее из марсельского порта, подозрительный субъект внимательно следил за другими судами. А едва «Патриа» вышла из порта, подозрительный субъект стал привязчивой тенью Кертнера и торчал рядом с ним у борта, вглядываясь в остров Иф, от которого удалялась «Патриа». Этьен перечитал «Графа Монте-Кристо» на французском языке, когда в мае плавал в Барселону, а сейчас, глядя на Иф, увлеченно рассказывал стоящим на палубе легко раненным итальянским солдатам о злоключениях Дантеса. Эдмон Дантес бежал из тюрьмы замка Иф никому не известный, чтобы потом прославиться на весь мир под именем графа Монте-Кристо. Подозрительный субъект приблизился и тоже с интересом слушал рассказ прилично одетого мосье из каюты «люкс» о том, как с помощью Александра Дюма сбежал из тюрьмы Эдмон Дантес, как он был оглушен падением со скалы в море, вынырнул и поплыл, незамеченный, к острову Табулен. Подозрительный субъект тоже задал какой-то вопрос, касающийся дальнейшей судьбы графа Монте-Кристо, тоже околачивался на палубе, пока остров Иф не скрылся с горизонта. Но потом особого интереса к пассажиру из каюты «люкс» уже не проявлял и увязался за пассажирами, которые поднялись на борт в Марселе. Этьен усердно снимал своей «лейкой» удаляющийся остров Иф. А чтобы снимки не были бездушными, фотографировал на фоне острова пассажиров, стоявших на палубе. Компонуя кадр, он хотел заснять подозрительного субъекта в обнимку с итальянцами, но тот отшатнулся. – Вы не хотите сняться с итальянскими добровольцами? Боитесь, пошлю эту фотографию красным? – Да, такая фотография может не понравиться моему шефу, – вполголоса признался субъект. – Если верить дуче, все, его солдаты герои. А у нас во Франции больше симпатий отдают республиканцам. «По-видимому, французский агент», – рассудил Этьен; он еще прежде уловил по произношению, что говорит с уроженцем Бретани… Глубокой ночью приоткрылась дверь каюты № 11, и показался Паскуале. Он робко огляделся – коридор, куда выходят каюты первого класса, пуст, все двери закрыты. Поспешно, не стучась, он вошел в каюту № 12 и в изнеможении прислонился к двери. – Что с вами? – спросил Кертнер. – Каждая такая встреча… – Паскуале опустился на диванчик. – Я даже хлебнул граппы для храбрости. Посоветуйте, где взять запасные нервы? Он настороженно оглядел каюту, Кертнер его успокоил: – За этой стеной ваша каюта, там – Баронтини, ничего не слышно. – Я лишь наполовину жив… – Паскуале вынул из-за пазухи небольшой пакет, завернутый в газету. – А тут еще этот груз! – Какой? – Кертнер спрятал пакет. – Вы видели, как грузили ящики от молотилок? А в каждом шестнадцать гробов. Бедные парни возвращаются домой в цинковых мундирах. А сколько итальянцев зарыто под Гвадаррамой? На моих мальчиков тоже цинка не хватило. Их неприкаянные тени бродят по пустыне… Покойников выгрузим в Специи, там меньше глаз и ушей, оттуда поплывем в Геную, там снова погрузим молотилки. И дома не придется побывать… Передайте Джаннине мой привет. Она снова привязала меня к жизни после гибели сыновей в Абиссинии. – Паскуале говорил с трудом: у него пересохло в горле, Кертнер налил ему газированной воды. – С появлением русских самолетов некоторые наши выходят из моды. «Патриа» уже привезла один «Мессершмитт-109». Самая последняя модель. – Вы его видели? – Собирали на одном аэродроме. Но немцы нас близко не подпускали. – А техническая документация? – Хранилась в сейфе капитана. – Модель серийная? – Кажется, опытная модель. – Если вам в следующем рейсе удастся узнать какие-нибудь подробности, передайте мне привет через Джаннину… Паскуале вышел из каюты Кертнера и заметил, что дверь наискосок из каюты № 19 приоткрыта. Паскуале схватился за сердце, превозмог внезапную слабость и срывающимся голосом сказал уже невидимому хозяину каюты № 12: – Даже не представляете, сосед, как меня выручили! Повар в Альхесирасе помешался на перце, изжога страшнее морской болезни. Без вашей содовой я бы просто погиб. А «Патриа» привезла бы в Италию одним покойником больше. Доброй ночи, синьор… Наконец «Патриа» пришвартовалась в порту назначения, в Специи. Перед тем как ступить на трап, Этьен прошел мимо Блудного Сына и Паскуале, не попрощавшись с ними. Но зато, сойдя на берег, он вежливо и очень долго прощался с подозрительным субъектом. Тот высматривал кого-то на пристани. Этьен понимал, что своим присутствием и своей болтливостью очень мешает субъекту заниматься слежкой за кем-то, но озорства ради продолжал болтать насчет графа Монте-Кристо. Знает ли мосье, что его соотечественник Дюма присвоил герою своей книги в качестве прозвища название итальянского острова? Это самый южный остров Тосканского архипелага… Этьен нанял в порту извозчика и благополучно уехал на вокзал, не встреченный никем из непрошеных встречающих. Он предпочитал вернуться в Милан через Парму, не заезжая в Геную. И, как всегда, когда Этьену удавалось избежать опасности, он, уже вернувшись в Милан, в свою контору, с удовольствием посмеялся над избыточной осторожностью Кертнера: «Терпеть не могу трусов, которые из мухи делают слона, а потом продают слоновую кость…» 20 «25.8.1936 Наконец мы в состоянии выполнить вашу просьбу о замене. Кандидат уже подготовлен и в конце сентября может выехать и принять от вас дела. Естественно, некоторое время вам придется поработать вместе с ним, пока он не освоится с обстановкой. Ваш преемник хорошо знает французский, болгарский и турецкий языки. По диплому и по образованию – инженер-электрик. Просим сообщить свое мнение – какая «крыша» будет для него наиболее надежной. Привет от далекого Старика. Надеемся на скорое свидание. Надя и Таня шлют приветы. Дружески Оскар». 21 До последней минуты Этьен сидел в зале ожидания первого класса, а на перрон вышел перед самым отходом поезда из Болоньи. Багажа никакого, смахивает на провожающего. Он все поглядывал на вокзальные часы и очень внимательно, как бы выискивая кого-то, осматривался по сторонам. Поезд тронулся, а он все продолжал настороженно оглядываться и вскочил на ступеньку последнего вагона уже на ходу. Ступеньки тянулись вдоль вагонов, по ним можно перейти из конца в конец поезда. Этьен без удовольствия убедился, что прыгнул вовсе не последним. Еще несколько мужчин вскочили на движущиеся ступеньки, а какой-то молодой человек в шляпе ухарски прыгнул, когда вагоны шли уже ходко. Этьен ехал не скорым поездом, как обычно и как ему надлежало ездить при его достатке, а пассажирским. Меньше опасений, что за ним увяжется провожатый. Сидя у окна, Этьен увидел сквозь стеклянную дверь: по коридору вагона прошел молодой человек, которого он несколько раз видел в Болонье. Черные усики и шляпа, надвинутая на самые глаза. Вот наивность! Будто шляпа, надетая подобным образом, делает человека менее приметным. «Усики» проследовали вперед по движению поезда. Этьен вовремя отпрянул в угол переполненного купе и остался незамеченным. 
Он выждал минуту, встал, открыл противоположную дверь, ведущую из купе наружу, на ступеньки, и двинулся, перебирая поручни, вдоль вагона, к хвосту поезда – совсем как «заяц», который увиливает от встречи с контролером. Висунов множество, не пробраться ни вперед, ни назад. Впрочем, Этьена толкучка вполне устраивает. Дело в том, что из вагона в вагон переходил бродячий певец, а его сопровождали любители пения. Сегодня певец пользовался особенным успехом, он собрал немало чентезимо. Пассажир, висевший рядом на ступеньке, сообщил, что этот бродячий певец – будущий солист оперы в Болонье. Далеко разносилась неаполитанская песня, затем ария из «Любовного напитка». Неторопливый поезд приходил в Геную рано утром. Не доезжая одной остановки, Этьен перешел по платформе в первый вагон. Перед тем он сунул шляпу в карман, взял плащ на руку, так его труднее узнать в толпе. Он хотел как можно быстрее исчезнуть в Генуе с перрона. Вдруг «усики» не прекратили слежку? Он благополучно вышел на знакомую площадь. В привокзальном сквере Этьена встретил бронзовый Христофор Колумб; иные деревья ему по плечо, иные выше головы. В Болонье удобнее было прийти на вокзал налегке и не походить на пассажира. А сейчас, наоборот, удобнее было бы выглядеть пассажиром с поезда, и для того, чтобы сразу податься в отель, ему очень не хватало багажа, хотя бы портфеля. Легче всего было бы нырнуть в подъезд отеля «Коломбия»: он как раз напротив вокзала, по правую руку. Но это слишком бойкое место, и если кто-нибудь вознамерится искать Кертнера в Генуе, он должен быть круглым идиотом, чтобы не начать с «Коломбии». Быстрым, размашистым шагом человека, который куда-то опаздывает, он пошел по направлению к пьяцца Нунциата. Предутренний час, в толпе не спрячешься, только дворники расхаживают с метлами. Хорошо бы свернуть в тихий лабиринт переулков, которые карабкаются на холм слева. Он поравнялся с лестницей-улочкой святой Бриджитты. А куда она ведет? Дома лепились по крутому склону; из-за верхних этажей или крыш ближних домов виднелись другие дома, их крыши, мансарды, башни, башенки. Утренний свет наскоро высвечивал, перекрашивал морковно-бурачную мозаику черепичных крыш. Первые лучи солнца уже позолотили кресты и купола, но на улицу, стесненную высокими домами, лучи еще не проникли. Однако любоваться разноэтажным пейзажем некогда. Этьен озабочен, нужно прожить сегодняшний день в полной уверенности, что за ним не следят. Ах, как пригодилась бы ему сегодня волшебная шапка-невидимка! Кто знает, вдруг в толпе носильщиков, извозчиков, шоферов его встретил на вокзале другой незнакомый агент, которому «усики» его перепоручили. Можно бы зайти в самое захудалое кафе и просидеть там часок-другой, просматривая утренние газеты. Но газеты еще не вышли и все кафе закрыты. Как медленно тянется время, то самое время, которое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы держим свои часы на цепочке! Времени у Этьена всегда не хватает – так трудно успеть и в банк, и на аэродром к синьору Лионелло, и на биржу, и в контору, и не опоздать вечером к увертюре в «Ла Скала», а потом, напевая оперные мелодии, допоздна сидеть над своей секретной цифирью. Столько дел нужно втиснуть в каждые сутки! С жалостливым сочувствием уподобил он себя однажды трубачу из оркестра берсальеров. Они бегут на военных парадах легким шагом, и бедняги музыканты ухитряются играть на бегу, не сбиваясь с такта, с шага… А сейчас вдруг время оказалось у него в скучном избытке, просто некуда девать, он сорит минутами, как скорлупой от жареных каштанов. Он делал все для того, чтобы поскорее израсходовались полтора часа до открытия магазинов. Побрился в дешевенькой парикмахерской, там же, ради времяпрепровождения, сделал маникюр. Затем он восседал на троне у чистильщика обуви. Жаль, тот оказался не из медлительных говорунов, которые священнодействуют, когда размазывают гуталин и орудуют щеткой. Чистильщик работал с неуместной быстротой, будто за Этьеном выстроилась длинная очередь. В зеркально начищенных ботинках он зашагал, как всякий уважающий себя приезжий, к домику Христофора Колумба перед башней у входа в старый город. Домик увит плющом, железные скобы скрепляют ноздреватые, замшелые камни. Дверь навечно заперта. В каком столетии последний раз повернулся ключ в ржавом замке? Первый же горластый продавец газет придал Этьену уверенности. Теперь он может сколько угодно сидеть на бульваре, уткнувшись в газетный лист. …Дипломатические церемонии в связи с тем, что Германия и Италия признали хунту Франко «правительством Испании». (Еще самая малость, и фашистский писака захлебнулся бы от восторга.) …Фирма «Фиат» строит железную дорогу в Персии, строит автостраду в Афганистане. (Все время суетятся возле наших границ!) …Снимок – манифестация в Риме. Мимо Муссолини маршируют священники в рясах и монахини в причудливых накрахмаленных чепцах. Чеканят шаг, руки подняты в фашистском приветствии, судя по широко разверстым ртам, что-то орут. (Но ведь не в «своих тихих кельях они научились маршировать и орать?!) Он сидел в сквере возле оперного театра «Карло Феличе» и предавался тревожным размышлениям. Еще летом он узнал, что Старик воюет в Испании и взял туда группу помощников. Точно ли товарищи, оставшиеся в Центре, представляют себе обстановку, в которой Этьен находится? «Где сейчас Оскар? С сентября жду обещанного наследника. Может, последняя шифровка попала к равнодушному человеку, а бумага, как известно, молчит, места ей в столе требуется не много. Так или иначе, замены нет, и я вынужден играть с огнем, поскольку игра стоит свеч». Этьен был убежден: если бы Старик оставался на месте, к сигналам и просьбам о замене отнеслись бы внимательней. Этьен встревожился, еще когда узнал, что Старика перевели в Особую Дальневосточную армию, заместителем к Блюхеру. Место Старика в Центре занял комкор Урицкий, судя по письмам и телеграммам, дельный человек. Этьен знал, что это – племянник того Урицкого, который играл видную роль в октябрьском перевороте и был убит эсерами. Но все-таки какие обстоятельства вызвали смену руководства? Ухудшение наших отношений с японцами и необходимость укрепить ОКДВА? Удалось ли найти равноценную замену Старику? Только подумать, сколько ниточек тянулось к нему со всех концов! В чьи руки попадают теперь эти тонкие ниточки? Для подготовки командира дивизии требуется не менее восьми – десяти лет. А сколько лет требуется для подготовки командующего разведкой? Чтобы работать в полную силу, разведчик должен иногда в течение длинного ряда лет тщательно накапливать разведданные в их логической последовательности и причинной связи. Смена руководства в разведке – дело не простое. Речь не о том, что придут более слабые работники. Но новые работники – каковы бы они ни были – легче могут стать жертвой дезинформации, им труднее сопоставить «вчера» и «сегодня», они не знают повадок, привычек, приемов, манер тех противников, с которыми их предшественники незримо воевали в течение долгих, долгих лет. По всем правилам, каким подчиняется его дело, никак нельзя было Этьену приезжать в Геную. Но риск оправдывается необычайной важностью поездки. Он не имеет права держать втуне столь ценные материалы, он обязан передать их в Центр. Это, так сказать, генеральная задача. А в ближайший час ему нужно решить локальную, маленькую, но в то же время сложную задачу – устроиться в отеле, остаться в Генуе незамеченным. Как приезжему явиться в отель налегке, абсолютно без багажа, и не обратить на себя внимания? Он терпеливо дождался, когда откроется универсальный магазин «Ринашенте», и купил чемодан желтой кожи. Вообще-то говоря, он умеет носить пустой чемодан, чтобы тот выглядел увесистым. Но коридорный в отеле сразу выхватит чемодан и потащит в номер… Нет, пустой чемодан его не выручит. Он накупил в «Ринашенте» всякой всячины и кое-что из одежды. Сорвал этикетки с пижамы, носков, новых рубашек, чтобы все это не выглядело как только что приобретенное, купил и надел новую шляпу борсалино, обулся в новые туфли, не снял с себя после примерки новый костюм, а все ношеное тоже уложил в чемодан. Теперь он может себе позволить стать постояльцем респектабельного отеля. Он спустился в ресторан при гостинице, уселся за дальний столик, но уже через несколько минут перед Этьеном вновь мелькнули короткие и широкие, почти квадратные усики. «Усики» уселись за выступом стены, а увидел его Этьен потому, что напротив висело зеркало под углом. Шляпа, обычно надвинутая на глаза, лежала рядом на стуле. «Нужно уйти быстро, но не торопясь». Он еще раз глянул в зеркало напротив и увидел отраженный зеркалом взгляд, устремленный на него в упор. С какого времени, с какого пункта неразлучен с Этьеном его назойливый спутник – с вокзала в Болонье или еще раньше? Ничем не выдавая своей наблюдательности, Этьен не спеша допил кофе, оставил на столике сколько-то там лир и устало поднялся. Да, никуда не торопится. Да, остановился в этом отеле. Ключ от номера на деревянной груше он держал в руке и позвякивал им. Однако в номер он не вернулся, а вышел на улицу, сунул деревянную грушу в карман и вскочил в проходящий мимо автобус, идущий в сторону порта. Он вышел из автобуса возле мола Веккиа и зашагал через торговый пассаж, который коридором вытянулся на весь квартал под вторыми этажами жилых домов. Напротив часовой мастерской – прилавок, заваленный книгами. Как же пройти мимо старого букиниста и его такой же старенькой помощницы, если можно порыться в книгах и израсходовать еще десяток никчемных, бросовых минут? Сейчас он с удовольствием ворошил, перебирал книги на развале. Ко всякого рода приключениям он относился без особого интереса, но огорчался, держа в руках стоящие книги, которые ему по нехватке времени не суждено прочесть. Маленькая книжечка в обтрепанной голубой обложке. Записки американского летчика-испытателя Джимми Коллинза. На английском языке. Он слышал об этой книжке уже давно. Но на итальянском языке книжка еще не вышла. Развернул, прочел несколько фраз, торопливо и щедро уплатил букинисту. Так хотелось скорее дойти до скамейки на бульваре, углубиться в чтение, что он даже ускорил шаг. Вскоре он уже подходил к порту – за крышами домов виднелись мачты, снасти, трубы пароходов. До него доносился шум работающего порта – гудки буксиров, звонки подъемных кранов. Он обошел несколько причалов, поглазел на пароход, название которого нельзя было издали разобрать, а подойти ближе не разрешил карабинер. Пароход стоял под погрузкой. С причала доносился прилежный скрип такелажа, без устали работали подъемные краны. Какие-то исполинские ящики совершали путешествие в воздухе, прежде чем скрыться в трюме. Чтобы не привлекать к себе внимание карабинера, Этьен зашагал дальше, прошел мимо портового управления и среди прочих увидел вывеску «Нотариальная контора». Вот и хорошо, не придется искать контору в центре города. В такой конторе бывает немало клиентов, которые делают в Генуе пересадку с поезда на пароход, с парохода на поезд, с парохода на пароход. В порту не так должен обращать на себя внимание транзитный пассажир, иностранец, оформляющий доверенность на имя какой-то женщины – право распоряжаться его текущим счетом в швейцарском банке. А чувствовал он себя в нотариальной конторе, насквозь пропахшей сургучом, в полной безопасности. Ни одному сыщику не придет в голову искать его в таком укромном, тихом помещении. С новоиспеченной нотариальной доверенностью в кармане он шагал по оживленной улице. Как во всех южных городах, рыбные магазины, фруктовые лавки и цветочные магазины располагались только на теневой стороне улицы. Никакие тенты не могли бы спасти скоропортящийся товар от солнца. В рыбном магазине стеклянной витрины нет, и Этьена обдали острые запахи. В корзинах, выстланных листьями папоротника, в стеклянных ящиках, питаемых проточной водой, можно найти все дары Лигурийского моря. Осьминоги, лангусты, крабы, устрицы, мидии, кальмары, креветки, рыба-меч, нарезанная большими кусками, и – как приправа к будущим рыбным блюдам – шампиньоны в плетеных корзинках. Цветочный магазин с густым букетом запахов и яркой палитрой. Фруктовая лавка со своим пиршеством красок и ароматом, вобравшим в себя всю свежесть садов, плантаций и фруктовых рощ. По-видимому, Этьен позавтракал второпях, потому что решил зайти во фруктовую лавку поблизости от причала Сомали. Он незаметно и зорко огляделся перед тем, как переступить порог лавки. 22 Ящик, похожий на дощатый домик. Подъемный кран снял с платформы, на борту которой эмблема германских железных дорог, этот ящик и понес его к краю пристани. Грузчик отцепил стропы и накинул их на крюк другого крана, который приводила в действие корабельная лебедка. Погрузкой командовал стивидор Маурицио, мужчина атлетического сложения. За его выразительными жестами следили и крановщик, и лебедчик, и все грузчики. С палубы на пристань кто-то крикнул по-немецки: – Предупредите их, лейтенант Хюбнер: если погрузят до обеда – получат премию! Баронтини подмигнул крановщику, и тот понимающе кивнул ему. Поднося ящик к проему трюма, крановщик резко бросил его вниз, на палубу. Ящик разбился, из-под дощатой обшивки показалось нечто не сельскохозяйственное – башни легкого танка с дулом орудия. Ругань, крики, визг лебедки. – Немедленно вызвать капитана! – закричал по-немецки тот, кто отдавал приказы лейтенанту Хюбнеру. Баронтини стремглав понесся к трапу и ворвался в каюту к капитану: – Вас требуют немцы! – Что случилось? – Ящик разбили. Капитан выбежал из каюты и захлопнул дверь. Слышно было, как он стремительно поднялся по железному трапу. Баронтини подождал, своим ключом открыл дверь в каюту и вошел в нее… Грузчики уже накрывали разбитый ящик брезентом. – Это саботаж! – кричал капитан на Маурицио. – Вас всех будет судить военный трибунал! Крановщик кричал лейтенанту Хюбнеру: – А что указано в вашей накладной? Фальшивый вес! Баронтини, который успел отдышаться после беготни по трапу, стоял на палубе и показывал капитану накладную: – Груз-то весит шесть тонн! При чем здесь стивидор, крановщик? Мы составим акт. Капитан протянул накладную немцу, тот что-то сказал вполголоса и махнул рукой, подавая команду к дальнейшей погрузке… «Патрию» погрузили до срока, и как можно было разойтись, не посидев своей компанией, не спрыснув премию, выданную немцами? Лампа освещает комнату на задах фруктовой лавки, все заставлено ящиками, корзинами, лукошками с фруктами. На стене, по обеим сторонам олеографии, изображающей апельсиновую рощу, висят гитара и мандолина. За столом Маурицио и его гости: помощник капитана «Патрии» Атэо Баронтини, по прозвищу Блудный Сын, крановщик, два докера – долговязый и одноглазый. Из лавки, освещенной ярким дневным светом, вошла Эрминия; она принесла корзинку с фруктами и подсела к столу. – Эта граппа покрепче виски, – похвалил крановщик. – За вас, синьора! Эрминия выхватила у Маурицио, стакан, до краев налитый виноградной водкой, торопливо перекрестилась, выпила одним духом и звонко рассмеялась. Маурицио потянулся к мандолине, долговязый докер взял гитару и принялся ее настраивать. Маурицио затянул песню «Голубка то сядет, то взлетит». Он пел, прижимая ручищи к груди, отчаянно жестикулируя, пел высоким проникновенным тенором, хотя к его внешности больше подошел бы бас. Он смотрел на Эрминию влюбленными глазами, а говорил заискивающим тоном: – Эрминия, сегодня же необычный день! У нас новый гость. И какой! Если бы он только захотел… Он мог быть не помощником капитана, а капитаном. И не на вонючей «Патрии», а на… «Куин Элизабет»!!! Да что там «Куин Элизабет»… Он мог бы командовать всем итальянским флотом… – Эрминия выразительно поглядела на Маурицио, тот умолк на полуслове, но быстро вернул себе словоохотливость. – Знаешь, кто его отец? Ты слышала про верфи, пристани, суда Баронтини? Вот он чей сын! – Блудный сын, – поправил Баронтини. – А он плюнул на все верфи и плавает на «Патрии», потому что он настоящий моряк! – Без него мы бы сегодня с молотилками не управились, – сказал одноглазый, потирая руки. – Думаете, не знаю, что в этих ящиках? – Эрминия рассмеялась. – Остается только удивляться, – подал голос Баронтини, – как испанские крестьяне ухитрялись раньше убирать свой урожай без этих машин?! – Лучше бы вы Франко большой гроб послали, – сказала Эрминия. Компания рассмеялась, а Маурицио вновь заискивающе посмотрел на Эрминию: – Ради твоего знакомства с синьором Баронтини! Эрминия отрицательно покачала головой. Маурицио оглянулся, ища сочувствия у собутыльников, и сказал: – В такие минуты я жалею, что не принял приглашения генерала Нобиле и не улетел с ним на Северный полюс. – Очень нужен белым медведям захудалый лейтенант пехоты, – прыснула Эрминия. – Если бы я поддакивал фашистам, меня давно бы сделали капитаном… – А я удивлена, как тебе удалось с таким длинным языком и с такими легкими мыслями дослужиться до лейтенанта… – Эрминия, можешь меня разжаловать в рядовые, но сжалься над гостями! Эрминия погрозила Маурицио пальцем и достала бутыль. Маурицио разлил граппу, порылся в бумажнике, достал фотографию и протянул ее Баронтини: – Синьор, если у «Патрии» будет стоянка в Альмерии, разыщите там стариков Амансио, привезите мальчишку. Маурицио не заметил, как вошла Эрминия. Она слышала последние слова Маурицио и с нежностью смотрела на него. Новый звонок вызвал ее в лавку… На звонок Этьена вышла полнотелая, веселоглазая, миловидная женщина. На щеках у нее нежный пушок, как на персиках, которыми она торгует; пухлые губы, казалось, подкрашены гранатовым соком; глаза походят на две большие иссиня-черные виноградины. 
Лавочница приветливо улыбнулась и спросила с дежурной вежливостью: – Чем могу служить почтенному синьору? Он с удовольствием посмотрел на Эрминию и приветливо кивнул. Его появление – полная для нее неожиданность. И такое самообладание, такая естественность тона! Дверь в заднюю комнату за прилавком приоткрыта, оттуда доносятся мужские голоса, табачный дым пробивается сквозь сгущенный аромат плодов. Позванивают стаканы, слышатся отголоски жаркого спора. Легко догадаться, что там угощаются на славу. «Вот не повезло!..» Только он собрался что-то сказать Эрминии под шум, доносящийся из-за загородки, как там все стихло. Теперь следовало выждать, когда там снова начнется галдеж. А пока он спросил: – Самый хороший виноград? – Рекомендую «слезы мадонны». Только вчера привезли. Более сочный виноград под небом Италии еще не родился. Эрминия говорит сущую правду: овальные розовые виноградины налиты густым сладким соком. Но Этьен выжидает, когда можно будет начать деловой разговор, а потому капризничает: – Кисти какие-то жидкие… А в том ящике? – «Голова негра». Только полюбуйтесь! Каждая ягода – величиной с мелкую сливу. Эрминия снова говорит правду: бронзовые и темно-фиолетовые ягоды на редкость крупны. – А что у вас в крайнем ящике? «Золотая самандра»? – Да, синьор, этот самый сорт… «Этот самый сорт у нас в Средней Азии называют «дамские пальчики», – вспомнил Этьен, а вслух сказал; – Смешайте все три сорта. Килограмма полтора. Она взвесила кулек, получила деньги, лукаво улыбнулась, отсчитывая сдачу, и пригласила покупателя заходить. – Благодарю, синьора. Я помню дорогу в вашу лавку. Как-нибудь загляну еще. – Он нагнулся к весам и, так как в задней комнате снова загалдели, спросил шепотом: – Сегодня? – Сегодня после четырех. Будет свежий товар. Он поспешил ретироваться, пока его не увидел никто из сидевших за перегородкой. 23 Этьен свернул на приморский бульвар, прошел мимо маяка до причала Пароди, сел на скамейку под платаном и раскрыл книжку, а ненужный кулек с виноградом положил рядом на скамью. Этьен знал, что Гитлер тайно посылает войска к Франко кружным путем, через Мюнхен, Геную, через порты Сеуту и Мелилью в испанском Марокко. Но как узнать подробности? Даже невооруженным глазом видно, что в порту идет погрузка оружия и военных материалов. Все пути товарной станции забиты не только итальянскими, но и немецкими вагонами. Нетрудно догадаться, что грузы направляются в порты Франко, в обход решений Международного комитета по невмешательству. Но что именно упрятано в эти громоздкие ящики, сколько солдат посылают в Испанию, много ли военных грузов идет из Германии транзитом через Геную – все это он узнает сегодня после обеденного перерыва. Важно переговорить сегодня без свидетелей с Эрминией и предупредить, что временно рвет с ней всякую связь. Он не имеет права подвергать ее опасности. Сегодня же нужно снабдить ее шифром и сообщить почтовый адрес в Турине, далекий от подозрений тайной полиции. Анка будет получать ерундовские, болтливые бабьи письма и переправлять их дальше Ингрид. Познакомился он с Эрминией полгода назад, на палубе парохода, которым возвращался из Барселоны. По произношению он тотчас узнал, что миловидная пассажирка второго класса родом из Генуи: у жителей Генуи произношение одновременно и певучее и гортанное. Как молодая генуэзка очутилась в Барселоне? Она тут же поправила Кертнера: правда, ей удается молодо выглядеть, но разве она смеет называть себя молодой, если уже больше года, как овдовела? Она ждала, что интересный пассажир, черноволосый и широкоплечий, с серо-зелеными глазами, станет горячо возражать и наговорит ей комплиментов. Он промолчал, а она позабыла, как только что кокетничала, и с искренними слезами на глазах начала рассказывать о своей жизни. Вышла замуж за шахтера Хосе Амансио, он тогда работал докером у них в Генуе, потому что не мог найти работу у себя в Испании. После забастовки докеров, которая окончилась поражением, Хосе вернулся в Астурию и с трудом устроился на шахте. Умелый забойщик, он был доволен, что работает на откатке пустой породы. В октябре 1934 года фалангисты утопили в крови восстание шахтеров. Овдовев, она переехала в Барселону и, как истая генуэзка, начала торговать. Открыла маленькую фруктовую лавочку, но дела шли все хуже и хуже, лавочку пришлось прикрыть. Мальчика своего она отправила к родителям мужа, в Альмерию, сама с трудом собрала деньги на билет второго класса и возвращается в Геную. Может, кто-нибудь из родных поможет ей стать на ноги. Этьен доверился первому впечатлению о спутнице. Он опирался и на свою интуицию, и на ее рассудительность и ответил доверием на откровенность молодой вдовы шахтера Хосе, расстрелянного фашистами. Он сказал, что сам пострадал от фашистов и уже не первый год борется с ними. Он искренне сочувствует своей новой знакомой. Он обещает помочь ей в обзаведении на новом месте, если она займется в Генуе торговлей фруктами. В их общих интересах открыть небольшую фруктовую лавку где-нибудь в районе порта. Конечно, лавка, где так аппетитно смешивались ароматы плодов из итальянских, испанских провинций и с африканского побережья, не зарегистрирована в Торговой палате Милана как филиал фирмы «Эврика». Тем не менее фруктовая лавка Эрминии имеет к «Эврике» и к ее совладельцу Кертнеру самое непосредственнее отношение. И после всего пережитого молодая вдовушка не потеряла вкуса к жизни, она любила посмеяться, повеселиться. Скоро у нее в Генуе появился друг весьма привлекательной внешности. Появление его было для Этьена неожиданностью и нельзя сказать – приятной. Может ли он теперь доверять Эрминии, как прежде? Эрминия познакомилась с Маурицио, когда он еще ходил в военной форме, только что уволился из армии, где служил пехотным лейтенантом. Маурицио вернулся из армии недовольный и не собирался скрывать недовольства. Он был напичкан идеями мелкобуржуазного анархизма, хотя горячо уверял Эрминию, что является убежденным последователем Грамши, Террачини и Тольятти. Несмотря на три ранения, его наградили скупее, чем других, и отпустили из армии, так и не присвоив чина капитана, который он, если ему верить, давным-давно заслужил. А все потому, что Маурицио отказывался хвалить фашистов, чаще ругал их. Маурицио работал в генуэзском порту стивидором, то есть ответственным за укладку грузов. Он распоряжался на причале, зычным командирским голосом подавал команды крановщикам и всем, кто попал под его начало. Он единолично решал, какой груз, в какой трюм и в какой очередности загружать. О, это большое искусство! Стивидор должен учитывать и тоннаж, и тару, и габариты, и характер груза. Он не смеет забывать об остойчивости судна. А если не весь груз следует в конечный порт, будет партиями разгружаться по пути следования? И это должен предусмотреть стивидор, он отвечает за то, чтобы центр тяжести судна опасно не сместился. Он обязан предвидеть, как грузы будут вести себя при самом сильном шторме, при боковой и килевой качке. Стивидор – единственный человек, который, помимо капитана и его первого помощника, досконально знает содержимое трюмов, знает, какой именно груз, укрытый непромокаемым брезентом и привязанный, находится на палубе. Маурицио был недоволен тем, что Эрминия оставила мальчика у стариков. Она оправдывалась: кто же знал, что кровавый карлик Франко подымет мятеж и что мальчонка останется у него в заложниках? Маурицио поставил фотографию Гарсиа на полочку у зеркала, перед которым брился, причесывался. Маурицио твердо решил, что поедет за мальчиком в Альмерию. К тому же у него бесплатный билет туда и обратно на любой пароход, совершающий навигацию в порты Испании. Гарсиа пора учиться итальянскому, даже азбуки не нюхал, как же он поступит в генуэзскую школу?! Этьен знал со слов Эрминии, что Маурицио в мыслях и чувствах сильно привязан к Гарсиа, она бесконечно благодарна Маурицио и готова простить ему за это и некоторое легкомыслие, и компанию портовых дружков, сидящих под винными парами, и бахвальство. При первом знакомстве Маурицио не понравился Этьену. Больше всего он боялся, что бывший лейтенант станет болтать лишнее собутыльникам. Но Эрминия божилась и клялась, что ему особенно и болтать-то не о чем. Конечно же, он может что-нибудь насочинить, расхвастаться – не случайно он любит читать книжки, где полно вранья. Послушать Маурицио, когда он размахивает своими ручищами и фантазирует, так он вот-вот слетает на Луну, а потом поселится на Северном полюсе с Нобиле и с белыми медведями. Но что касается дела… О содержании трюмов и о грузах на палубе, тщательно укрытых брезентом, он говорит только ей, Эрминии, и не знает, кому она передает все эти сведения. – Пусть меня Иисус с пресвятой матерью лишат благословения, если я расскажу ему, кто вы и откуда. – Ну, а если, не дай бог, его схватят черные рубашки? – Лучше бы этого не случилось, – глубоко вздохнула она. – Характер у моего жениха, скажу откровенно, мягче, чем каррарский мрамор. В крайнем случае пострадаю сама. А у меня характера хватит на обоих… В порту по-прежнему деловая сутолока и толчея. А Этьен смотрел на ближний причал, на товарную станцию, на другие пристани. «В сущности говоря, здесь проходит сейчас линия фронта, хотя не слыхать ни перестрелки, ни канонады. Сижу на самом что ни на есть переднем крае. А лавка Эрминии – не что иное, как хорошо замаскированный наблюдательный пункт», – подумал Этьен и тут же снова углубился в записки летчика-испытателя, которые не выпускал из рук. Он так увлекся книгой, что потерял точное представление о времени. Но нельзя сидеть здесь весь день с книгой в руках и с кульком винограда, не привлекая к себе ничьего внимания! Он слишком хорошо одет для того, чтобы так долго торчать без дела возле причалов. С набережной пора ретироваться, он уже поймал на себе несколько излишне любопытных взглядов. Этьен отдал кулек с виноградом маленьким голодранцам, которые бегали взапуски между платанами, и зашагал прочь. 24 Этьен решил поискать приют в дешевом отеле. Может, там нет слежки. Он предусмотрительно нанял таксомотор; не потому, что отели далеко от порта – они совсем рядом, – а для того, чтобы в случае надобности сразу уехать. Он изрядно поколесил по городу, прежде чем остановился у плохонького отеля «Аурелио». Портье встретил его с приторной любезностью, как это и полагается портье пустующей гостиницы, заинтересованной в хорошем постояльце. Но смотрел портье на Этьена не только предупредительно-вежливо, но откровенно изучающим взглядом. Такое выражение лица бывает, когда с трудом узнают старого знакомого. Этьен догадался – сличает его внешность с уже виденной фотографией или перебирает в памяти загодя сообщенные ему приметы. – Синьор хочет принять ванну? Приготовят быстро. Ванна рядом с вашим номером, в коридоре. – Разве я так грязен, что мне нужно срочно выкупаться? Портье смутился и тут же пригласил пообедать в ресторанчике при отеле. Но время-то еще не обеденное. «Старается задержать меня в гостинице». – А телефоны в номерах есть? – спросил Этьен, уверенный, что в захудалом «Аурелио» телефонов нету. – Только здесь, внизу… Этьен сокрушенно развел руками: – Вынужден отказаться от ваших услуг. Мне нужно звонить ночью в несколько городов… Он вышел из «Аурелио» и сел в таксомотор, который его поджидал. Портье выбежал следом, и Этьен увидел в зеркальце – тот стоит на тротуаре, всматривается в номер автомобиля и шевелит губами, отпечатывая на них цифры. Этьен отпустил автомобиль на другом конце города и просидел часа полтора в пустынном сквере все с той же книжкой в руках, прежде чем решился пойти назад, в сторону порта. Траттории напоминали о себе дразнящими аппетитными, сытными запахами. В обеденный час запахи еды всегда сопровождают прохожих в южном городе. Этьен отказался от несвоевременного обеда, которым его пытался накормить портье в «Аурелио», но теперь изрядно проголодался. Он прошагал по знакомой галерее и снова увидел старичков букинистов. Они сидели у своего лотка с книгами и аппетитно обедали: спагетти, сыр, лук финоккио, бутылочка кьянти. Чувствовалось, живут старички душа в душу – в каждом жесте сквозила взаимная предупредительность. Или старички показались Этьену симпатичными потому, что снабдили его такой желанной книгой? В скромной портовой траттории обедали докеры, матросы, лодочники, носильщики, крановщики, ломовые извозчики, припортовый люд, сновавший в поисках работы. Он уселся в дальнем углу у окна и поглядывал на улицу. Прошла мимо компания грузчиков, видимо, они тоже спешили в тратторию. Все одеты в робы из мешковины, но не одежда делала их похожими друг на друга – было что-то неуловимо схожее в их походке. Они шли сутулясь и в то же время наклонившись вперед, как бы противостоя невидимой тяжести, оттягивающей назад их могучие плечи и жилистые шеи. Походка людей, чьи спины так часто сгибаются под тяжелой кладью. По-русски – грузчик, по-грузински – муша, по-итальянски – факкино, по-тюркски – амбал, по-немецки – аусладер, по-китайски – кули. И в каком бы порту они ни трудились – пусть одни из них едят на обед спагетти, другие – луковый суп, третьи – щи да кашу, четвертые – харчо, пятые – рис, – их прежде всего роднит специфическая походка. Кто подсчитает, сколько ящиков, мешков, тюков, кулей, бочек, корзин перетаскал каждый из шагающих мимо портовых грузчиков за жизнь на своем горбу? Ни один океанский пароход не увезет такой груз. Этьен помнит портовых грузчиков с юных лет, в самые первые дни Советской власти в Баку. Девятнадцатилетний Маневич стал тогда бойцом Первого интернационального полка и воевал в отряде Мешади Азизбекова. К ним в отряд пришел молодой амбал в рубище. Он работал на нефтяной пристани, и отрепья его были насквозь пропитаны керосином, мазутом и маслом. А его рубаха из мешковины, грязная до потери естественного цвета, была настолько пропитана потом, что на спине мельчайшими крупинками выступала соль. Когда молодому амбалу выдали красноармейское обмундирование, его отрепья торжественно сожгли, и они горели, как факел… Не потому ли Этьен вспомнил того молодого амбала, что увидел крупинки соли на рубахах грузчиков, сидевших за соседним столиком? Этьен заказал себе рыбный суп. Он прилежно вылавливал ложкой всякую морскую мелюзгу, начиная с креветок, мидий и кончая кальмаром, нарезанным кружочками. Трехчасовой дневной перерыв в магазинах подошел к концу, когда Этьен вновь добрался до той улицы, где держала лавку Эрминия. Огляделся, перешел на теневую сторону. Дверь распахнута настежь. – Ну, как поживаете, Эрминия? – Как горох при дороге. Она ничем не выдала своего удивления и вела себя так, словно они условились с синьором Кертнером о свидании, словно они расстались вчера, хотя на самом деле виделись в последний раз месяца полтора назад, перед тем как синьор отправился в Испанию. Эрминия сделала Кертнеру комплимент – синьор прекрасно выглядит, исчезли все его морщины и седины. В самом деле, плаванье на «Патрии» и жизнь под испанским небом пошли на пользу; он прокоптился не по сезону до черноты, волосы же слегка порыжели, густые брови и вовсе выцвели, а глаза, казалось, поголубели. Ни покупателей, ни гостей. Только что закончился дневной перерыв, и не торопясь могли они поговорить наедине обо всем, что их интересовало. Не теряя времени, Эрминия достала из-под корзины с виноградом сверток с бумагами, завернутый в листья папоротника. Если судить по тому, как Эрминия бросила на прилавок сверток, тот был не ценнее куска обоев. – Синьор Мессершмитт «потерял», – сказала чуть слышно Эрминия и показала подбородком на сверток, – эти чертежи. А Блудный Сын, – она подмигнула, – «нашел». В каюте капитана… Этьен молча кивнул. Эрминия отодвинула ящик с инжиром, нашла какие-то листки и протянула их Кертнеру. Листки были сплошь исписаны цифрами. Он бегло взглянул на листки и торопливо сунул их в карман. – А я все считаю, синьор Кертнер, сбиваюсь со счета, снова считаю, пересчитываю. У меня в лавке бухгалтерия намного проще. Знать бы только, что от моей портовой арифметики будет толк… – А вы знаете, как добывается один грамм розового масла? Мне рассказывал французский парфюмер из Драгиньяна: чтобы получить этот грамм, нужен букет из двух тысяч роз. – Вот это букет! Не пожалела бы на гроб каудильо! Этьен усмехнулся и отрицательно покачал головой: несущественно, как именно будет украшен гроб Франко. Важнее нанести ему поражение и устроить пышные политические похороны, а для этого каждому предстоит еще сделать очень много. Он начал инструктировать Эрминию. Сейчас выяснится, в каких она взаимоотношениях с арифметикой. Шифр-то двойной, к одному хитрому секрету добавляется второй, а ключом служат шесть букв, составляющих слово «Франко». Нет, Эрминию не смутили ни четыре действия арифметики, ни шесть букв-отмычек. Время от времени ее ненадолго отвлекали покупатели, а часа через полтора в лавку с шумным оживлением ввалился Маурицио. Мужчины вежливо и даже чуть-чуть церемонно поздоровались. Ну и ручища у Маурицио! Удержит три бильярдных шара. Не хотел, ох как не хотел Этьен сегодня этой встречи! Но он умело скрыл досаду, какую вызвал несвоевременный приход Маурицио. Но раз уж это произошло, было бы глупо, бестактно не ответить приветливой улыбкой и вымученной любезностью на его любезность. Маурицио был весь – душа нараспашку и, как показалось Этьену, искренне обрадован встречей. Разве можно отпустить такого гостя без того, чтобы не посидеть а ним в задней комнатке за бутылкой? Кем был Кертнер для Маурицио? Дельцом с приятной внешностью, не слишком разборчивым в своих коммерческих занятиях, знакомым Эрминии еще по Барселоне. Когда-то богатый синьор дал взаймы деньги на покупку этой лавки, причем, по словам Эрминии, на весьма божеских процентах. Маурицио недавно с работы, раньше срока закончили погрузку парохода «Патриа», Докерам, крановщикам и самому стивидору досталась солидная премия, ради такой премии стоило попотеть. Крановщикам сегодня пришлось особенно тяжело: огромные деревянные ящики не пролезали в трюмные люки, и их устанавливали на палубе. Эрминия звонко рассмеялась – нашел чем бахвалиться! Сократили стоянку судна, которое везет фашистам вооружение! – Машины для сельского хозяйства, – рассмеялся Маурицио и взял стакан, который показался хрупким в его руке. Он долго и широко рубил воздух ребром ладони, чтобы собеседники могли представить себе объем ящиков. Даже если мерить итальянской меркой, Маурицио жестикулировал много и размашисто. Уж не профессиональное ли это у него? Стивидор весь день обменивается жестами с крановщиками, как глухонемой. Может, от этих постоянных движении и руки у него стали такие большие? В судовом журнале записано, что «Патриа» везет сложные молотилки, косилки, лобогрейки, сеялки и всякую такую сельскохозяйственную всячину. «Может, на этой самой «Патрии» уйдет в очередной рейс Паскуале?» – неожиданно подумал Этьен. Для него не было секретом, что молотилки и комбайны в громоздких ящиках, не влезающих в трюмы, изготовлены на заводах «Мессершмитт», «Капрони», «Изотта-Фраскини». Сложные молотилки умеют летать со скоростью до четырехсот километров в час, сложнее некуда… Эрминия разговаривала с Маурицио тоном полного послушания и покорности, нежно называла его своим муженьком, но ей всегда удавалось при этом, без властных интонаций, щадя его самолюбие, настоять на своем. Нежный тон, не допускающий, однако, никаких возражений, быстро усмирял строптивого Маурицио. Только, например, Маурицио пытался по какому-нибудь поводу прихвастнуть, как следовал выразительный взгляд Эрминии, и тот умолкал на полуслове. Маурицио отхлебнул еще граппы, а сделал это с таким видом, будто Эрминия попросила его срочно освободить посуду. Но едва Маурицио отнял стакан ото рта, как вновь наполнил; стакана в его пятерне и не видно. Он вдруг затянул во весь голос любимую песню «Голубка то сядет, то взлетит». Вот не думал Этьен, что с таким удовольствием проведет время с Маурицио и Эрминией! Или хорошее настроение объясняется тем, что он чувствует себя тут в безопасности? Полному спокойствию мешала лишь мысль, что оно вот-вот кончится, что ему нужно отсюда уйти и вновь искать приюта. Конечно, доверяй он Маурицио так же, как Эрминии, – взял бы да попросил у них убежища, пусть его до утра запрут в лавке заодно с фруктами. Но признаться Маурицио, что он от кого-то прячется, что его кто-то преследует, значит саморазоблачиться, испортить репутацию синьору Кертнеру, лишить его «легенды»… Минут за двадцать до закрытия лавки Эрминия и Маурицио принялись втаскивать с тротуара выставленные туда корзины, ящики и плетеные лукошки. Дольше оставаться неприлично, невозможно. Этьен с деланной бодростью поднялся, взял на прилавке свой сверток и книжку «Летчик-испытатель». Мелодичная «Голубка то сядет, то взлетит» проводила Этьена до дверей. 25 Он вышел из фруктовой лавки, памятуя, что должен быть сейчас очень осторожен, намного осторожнее, нежели утром, – право же, у Этьена были для того основания. Обжигал руки сверток, взятый у Эрминии, и жгла карман нотариальная доверенность, дающая Анне Скарбек право распоряжаться всеми его деньгами в швейцарском банке – и теми, которые лежат на текущем счету, и теми, которые могут быть переведены из Италии. На вокзале появляться сейчас более чем рискованно. На пристанях, от которых отходят пароходы, тоже лучше не показываться. Переночевать бы в укромном местечке, утром уехать автобусом в пригород, нырнуть там в рабочий поезд, а через одну-две станции пересесть на поезд Генуя – Турин. Он обязательно должен возвратиться в Милан не прямым поездом, а через Турин. Он сидел на берегу Лигурийского моря, а вспоминал Каспий, где о грязные камни бьется мутная, в нефтяных пятнах, почти черная вода. Столько лет уже прошло, столько тысяч километров отделяет Баку от Генуи, но так же пахнет подгнивающими сваями, так же несет смолой от баркасов, сохнущих на сухопутье, обративших к солнцу свои черные днища. Правда, в бакинском порту все заглушал запах нефти, и на воде, где стояли под погрузкой наливные суда, отсвечивали огромные пятна нефти, они были как перламутровые помои. Но точно так же, как некогда в Баку, в здешнем порту околачивается портовый люд, который предлагает свои мозолистые руки и не умеет ничего, кроме как переносить, подымать и опускать тяжести. Стоило отвернуться от пристани, от портовой набережной и обратить взгляд на город, как сходство между Баку и Генуей сразу улетучивалось. В Баку их казарма находилась в Черном городе, там при малейшем ветре подымаются пыльные бури, пропахшие нефтью, а сама пыль смешана е копотью, и потому листва редких худосочных деревьев черная. А Генуя лежит на ярко-зеленых холмах, дома весело раскрашены, и издали может показаться, что город сплошь населен беззаботными курортниками. День выдался не по-ноябрьски теплый. Солнце успело прогреть камни города. Ни дуновения ветерка, – если не смотреть на море, то и не догадаешься, что стоишь на берегу. Вода в гавани как голубое зеркало. Застыли, как неживые, веерные пальмы на бульваре. Брезентовые тенты над витринами магазинов не шелохнутся. Недвижимы цветастые полотняные зонтики над столиками уличного кафе. Воздух не в силах покачивать синие очки у дверей «Оптики», шевелить золотой крендель у кондитерской. Он шел неторопливым шагом человека, который не знает, когда ему удастся отдохнуть и где именно. В торговой галерее, куда вновь привела его дорога, закрывались магазины. Без нескольких минут семь. Приказчики, лавочники вооружились длинными шестами с крючком на конце. Снимали, уносили товары, выставленные снаружи. Железным грохотом провожала и оглушала Этьена торговая Генуя, заработавшая себе ночной покой. Цепляли наверху баграми железные гофрированные шторы, и они громоподобно низвергались, закрывая стеклянные витрины. Иные шторы опускались до самого тротуара, а легшие на землю замки принимались стеречь опустевшие притихшие магазины. В других местах железные шторы были приспущены не до самого низа, в щели еще пробивался яркий свет, но увидеть Этьен мог только ноги лавочников. Старички букинисты складывали в пакеты и перевязывали бечевками свою обтрепанную, зачитанную, кочевую библиотечку. Рядом стояла тележка, на которую они грузили книги. Каждый вечер старички увозили библиотечку на ночлег, чтобы утром впрячься в тяжелую тележку снова, снова распаковывать и раскладывать еще более постаревшие книги. И так каждый день, каждый день, кто знает, сколько лет подряд… Узенькая улочка св. Луки пересекает старый город, она тянется параллельно набережной. Высоко над головами прохожих сохнет разноцветное белье. Улочка сдавлена высокими домами, и каменные плиты, которыми она выстлана, не видят солнечных лучей. Улочка вымощена так, что желобки для стока воды тянутся вдоль стен, а мостовая посередке, она же тротуар, чуть почище и посуше. Но нет такого ливня, который мог бы дочиста промыть улицу и унести все нечистоты, все помои, всю вонь, всю грязь, все миазмы. «Хоть какую-нибудь комнатенку! Но для меня даже в самую захудалую гостиницу, вроде «Аурелио», дверь закрыта». Горланят продавцы контрабандных сигарет, сигар, табака. Из-под полы продают часы, бритвы и бритвенные лезвия «жиллет», продают все. Где-то играет шарманка, в дверях винного погребка и на подоконнике второго этажа наперегонки шипят-хрипят граммофоны, а сквозь шипение-хрип откуда-то из-за гирлянд сохнущего белья, чуть ли не с неба, доносятся звуки печальной мандолины. Колокол старинной церкви, грубо зажатой домами, зовет на вечернюю молитву. Однако, как ни многолюдно и толкотно на улице св. Луки и как ни мало опасение, что его станут здесь разыскивать, Этьен уже начал обращать на себя внимание костюмом с иголочки, шляпой, габардиновым плащом на руке, внешностью. Он разумно не показывался в центре города, а тем более на пристанях, откуда пароходы отчаливают. Но одежда у него совсем не подходящая для улицы св. Луки. Сколько можно фланировать по улице из конца в конец? Никто так не настораживает праздношатающегося, как другой уличный бездельник. Сколько он уже снует в толпе? Посмотрел вверх – узкая полоска неба между домами потемнела. Сохнущее белье сделалось серым, почти черным, а лампы, светящиеся в окнах, становились все ярче. 26 Ему пришла в голову неплохая мысль: отправиться в справочное бюро порта и узнать, какие пароходы ожидаются сегодня ночью. Там висит грифельная доска, похожая на школьную, и мелом пишут – когда, какой пароход, откуда прибывает. Прикинуться встречающим легче легкого. А в минуту, когда пароход пришвартуется и первые пассажиры сойдут с трапа, выдать себя за пассажира, который только что приплыл. «Усики» понимают, что Кертнеру опасно оставаться в Генуе, когда все гостиницы перестали для него существовать. Значит, Кертнер обязательно попытается поскорее уехать. Скрыться за границу он не может, тайная полиция знает, что визы он не получал. Значит, «усики» взяли под наблюдение вокзалы, дальние поезда, а также пристани, откуда отплывают пароходы в другие порть! Италии. Но его не станут искать на пристанях, когда пароходы встречают. В этом Этьен был твердо убежден… Он позвонил в гостиницу, где оставил вещи, из телефона-автомата на набережной, сообщил, что говорит с вокзала, неожиданно уезжает, просит выслать в его контору чемодан, а также счет для оплаты номера и других расходов… На все утренние покупки в «Ринашенте» наплевать, но брошенный в номере новехонький чемодан с вещами вызвал бы кривотолки в гостинице, дал пищу для подозрений… Пароход из Марселя «Жанна д'Арк» опаздывал на полтора часа. Из осторожности Этьен обошел стороной зал ожидания, зашел в таможню, в пустующую, но хорошо освещенную комнату для осмотра багажа, уселся на скамью и раскрыл записки Коллинза. «Спасибо старичкам букинистам, желаю им отпраздновать золотую свадьбу, припасли для меня такую книжку!» Все-все бесконечно интересно – каждый испытательный полет Коллинза, все, что относится к поведению и самочувствию летчика при исполнении фигур высшего пилотажа. Этьен настороженно вчитывался в строчки, где упоминался Чарлз Линдберг. Тот был когда-то кумиром Этьена, а сейчас Этьен относился к нему с брезгливым недоумением. Как же такой выдающийся человек мог стать фашистом? Или человек он заурядный, а только летчик выдающийся? Загадка, которую Этьен тщился разгадать… На грифельной доске появилась поправка: «Жанна д'Арк» опаздывает дополнительно на сорок минут. Ну и пусть, Этьен даже рад провести еще сорок минут в обществе летчиков-испытателей. Особенно сильное впечатление произвело на него завещание Джимми Коллинза. Тот отправился в Буффало испытывать для военно-воздушного флота бомбардировщик Кертиса. А перед отъездом Коллинз пообедал со своим старым другом Арчером Уинстеном, который вел в газете «Пост» колонку «Новости дня». Уинстен просил Коллинза рассказать об испытаниях в Буффало после возвращения оттуда. Коллинз заявил, что эти испытания – последние, он согласился только ради того, чтобы обеспечить семью. А после полетов в Буффало Коллинз намеревается всецело посвятить себя литературной деятельности. Уже после обеда с Арчером Уинстеном он написал сестре: «Мне пришло в голову, что я могу и не вернуться, работа ведь опасная, – и тогда бедный Арчи останется без заметки… На всякий случай я, шутки ради, написал заметку о том, как я разбился. Предусмотрительно с моей стороны, не так ли?.. Я никогда еще не разбивался. И напрасно, потому что Арчи отлично бы на этом заработал…» В конце книжки Этьен прочитал эту заметку-завещание, которая называется «Я мертв». Джимми Коллинз описал гибель летчика-испытателя с подробностями, трагически похожими на те, при которых вскоре сам погиб… Помимо знакомых и близких, прибытия «Жанны д'Арк» ждала суетливая толпа агентов из городских отелей, а также из окрестных курортных местечек, где полным-полно пансионов и санаториев. Агенты, комиссионеры соревновались между собой в яркости формы, в количестве галунов и золотых пуговиц, в величине козырьков у цветных фуражек с названиями отелей, санаториев на околышах. Ничего не поделаешь, конкуренция! Агент того отеля, в котором Этьен бросил утром свой чемодан, был даже с аксельбантами, лампасами и очень походил то ли на брандмайора, то ли на генерала игрушечной армии. Этьен смешался с толпой вновь прибывших пассажиров, только что сошедших с палубы «Жанны д'Арк». Жаль, ему пришлось расстаться утром с чемоданом желтой кожи. Не очень-то солидно выглядит пассажир с бумажным свертком в руке. Он выбрал дорогой пансион в предместье Генуи, близ железнодорожной станции на ветке Генуя – Турин, это вторая или третья остановка от города. Ему еще раз удалось сбить со следа ищейку с усиками, взятыми напрокат у Гитлера, и в шляпе, надвинутой на самые глаза. «А еще подался, олух, в сыскные агенты! Как же этот шустрый дурачок, который так ловко прыгает на ходу в поезд, не понимает, что его короткие, почти квадратные усики бросаются в глаза, потому что сразу приходит на память физиономия Гитлера?! А сыскному агенту необходимо бывает затеряться в толпе еще более умело, чем тому, кого сыщик разыскивает. Вот для этого и нужно отказываться от всех крикливых примет… – рассуждал Этьен, глядя в черное окно и ничего не видя там, кроме отражения нутра самого автобуса. – Я, кажется, перебрал в строгости. Раздражение против «усиков» мешает мне рассуждать объективно. Олух, олух, а догадался искать меня – и нашел! – в самом дорогом отеле города. Если бы я туда сдуру не сунулся, а сразу подался в гостиничку третьего разряда, может, и не устроили бы на меня облаву, не объявили бы аларм во всех отелях, не разослали бы всем портье в Генуе мою фотографию, не подстерегали бы всюду, в том числе и в «Аурелио»… Так что неизвестно, кто из нас двоих олух». Спустя полчаса маленький юркий автобус подвез его к пансионату. Достаточно было войти в вестибюль, чтобы убедиться: пансионат поставлен на солидную ногу. Этьен попросил комнату с ванной, а хозяин, слегка обидевшись, ответил, что в его пансионате вообще нет комнат без ванных. Этьен предупредил хозяина, что багаж придет попозже, уплатил вперед за трое суток полного пансиона, попросил прислать ему пижаму и прошел к себе в комнату. Вот когда он с удовольствием принял ванну, от которой отказался в «Аурелио», вот когда с наслаждением лег в постель! Можно утонуть в необъятной перине. Он так измучился, будто его в самом деле мотало по штормовому морю много суток подряд, будто он и в самом деле только недавно ступил с шаткой палубы «Жанны д'Арк» на твердую землю. Он был уверен: едва коснется головой подушки, сразу заснет сном человека, принявшего тройную дозу снотворного. Вот не думал, что к нему привяжется бессонница, да еще такая неотвязная! Летчик-испытатель смог точно предугадать все обстоятельства своей гибели, мог, хотя бы послед смерти, рассказать об опасностях своей профессии. Этьен отлично знает, что перегрузку, действующую на самолет при выходе из пике, показывает акселерометр; перегрузка эта выражается в единицах тяжести. Коллинз шел на такие испытания, что его при выходе из пике прижимало к сиденью в девять раз сильнее нормального. Значит, центробежная сила в девять раз превышала силу тяжести! И когда Коллинз брал ручку на себя, то громко кричал, напрягал мускулы живота и шеи, это помогало сохранять сознание. У Этьена возникло ощущение, что ему тоже пришлось сегодня выходить из смертельного пике, что он тоже испытал многократную перегрузку, его тоже прижимало к сиденью с невероятной силой. У летчиков есть акселерометр, они имеют возможность все точно подсчитать с помощью «g» – единицы силы тяжести. А какова единица измерений тех перегрузок, которые несет разведчик? Да, Коллинзу удалось рассказать об опасностях своей профессии. Но это никак не разрешается военному разведчику, потому что все его находки, открытия, так же как ошибки, просчеты, оплошности, промахи, провалы, – все секреты работы должны умереть вместе с ним, секреты не должны его пережить, нет у него такого права и такой возможности… «Я мертв!..» И вот уже не на «Жанне д'Арк» приплыл Этьен сегодня на ночь глядя в этот пансионат, а только что прилетел из заокеанского Лонг-Айленда, потрясенный авиационной катастрофой. Он сам, сам, сам был ее очевидцем. Бомбардировщик Кертиса падал с десяти тысяч метров, а когда Этьен подбежал к обломкам, Джимми Коллинз был мертв, тело скрючено, исковеркано, изуродовано. «А поскольку мое завещание не для публикации, лучше с ним вообще не торопиться, – усмехнулся Этьен. – Для дела, во всяком случае, будет намного полезнее». И сказал себе вполголоса: – Я жив… Он еще раз взглянул на ночной столик, где вместе с книжкой Джимми Коллинза лежал сверток, похожий на рулон обоев, дотянулся до ночника и потушил его. 27 Судя по осадке, погрузка «Патрии» была закончена. Вся палуба заставлена огромными ящиками. Корабельный прожектор освещал трап, по которому поднимались итальянские солдаты. Может, пополнение для экспедиционного корпуса? Тщедушный солдатик с трудом вырвался из объятий могучей синьоры и побежал к трапу, но синьора догнала его на полдороге – новая остановка по требованию. – Скорей, скорей! – покрикивал капрал. – Осталось пять минут. – Он увидел солдатика в объятиях любвеобильной синьоры и крикнул: – Благородная синьора! Вы рискуете стать женой дезертира! Солдатик воспользовался заминкой, ловко вывернулся из объятий и помчался к трапу, придерживая одной рукой заплечный мешок, а другой прижимая к груди карабин. Отгрохотала лебедка, подняв последние звенья якорной цепи. К трапу подошел запыхавшийся Паскуале. В руках у него портфель и чемодан. Он предъявил вахтенному документы. Рядом с вахтенным стоял молодой человек с усиками. – Синьор Эспозито? – обратились к Паскуале «усики». – Прошу пройти со мной в таможню. – Но «Патриа» сейчас отплывает, – заволновался Паскуале. – Успеете. – Только оставлю вещи в каюте. – Они вам понадобятся в таможне. Если тяжело нести, я помогу. Паскуале и «усики» пересекли железнодорожные пути, идущие вдоль причала, и товарный состав скрыл от них корпус «Патрии», видна была только труба и султан черного дыма над ней, а также палубные надстройки. Прощальный гудок. Товарный состав остался позади, и Паскуале увидел – с кнехтов сбросили канаты, трап отделился от набережной и стал медленно подыматься вверх. – «Патриа» уходит! – рванулся через рельсы Паскуале. – Вам некуда торопиться, – сказал человек с усиками и быстро надел наручник на руку, которой Паскуале держал чемодан. 28 Время от времени Анка получала из Милана открытку с каким-нибудь видом города. Открытка не содержала ничего, кроме привета, нескольких слов по-польски, заготовленных впрок самой Анкой и подписанных именем несуществующей Терезы. В Милане много достопримечательностей, и туристам продают множество видовых открыток. При желании можно составить богатую коллекцию. Место очередного ожидания подсказывала сама видовая открытка. Свидание назначалось на третий день, не считая даты на почтовом штемпеле. Час встречи также был оговорен заранее – середина обеденного перерыва для банковских служащих, когда на улицах Милана очень оживленно, когда все озабоченно спешат в кафе, в траттории, остерии, пиццерии и назначают друг другу свидания. Ко дню свидания с Тамарой приурочивала Анка все дела, в частности, покупала в Милане всевозможные фотоматериалы для ателье. Совсем не такие утомительные поездки: от Турина до Милана полторы сотни километров, не больше. В исключительных случаях они встречались не в Милане, а на узловой железнодорожной станции близ Турина, в два часа с минутами, перед отходом поезда на Милан. Скользящие встречи были умело обставлены вешками секретности и безопасности. Мало кто мог сравниться со Скарбеком в конспирации. Никто из помощников Этьена, кроме Тамары, жены Гри-Гри, не знал о существовании фотоателье «Моменто» и уж, во всяком случае, не имел с ним никаких контактов. Предстоящее свидание Этьена с Анкой – вынужденное и небезопасное исключение из правила, и лишь чрезвычайные обстоятельства оправдывали это свидание. Анка и не подозревала, что вместо Тамары увидит сегодня в необычной роли связного самого Этьена. Не только сверток, вынесенный из фруктовой лавки, не только листки, испещренные цифрами, беспокоили Этьена. Он все время помнил о доверенности, которую оформил в нотариальной конторе. У Этьена в «Банко Санто Спирито» есть два текущих счета: обыкновенный счет в лирах и счет в иностранной валюте. На второй счет может быть зачислена только валюта, зарегистрированная в таможне при переезде через границу. Ввоз и вывоз валюты регламентирован еще до начала войны в Испании: предупредительная мера против падения лиры. Сейчас, когда Этьен убедился, что итальянская контрразведка ведет на него облаву и признаков опасности все больше, он предусмотрительно решил перевести всю валюту, до последнего пенса, сантима, цента, в Швейцарский кредитный банк и одновременно оформил нотариальную доверенность на имя Анки. В станционном буфете многолюдно, хотя время не сезонное, в дачных пригородах затишье. Этьен уже доедал свой завтрак, перед ним стоял недопитый стакан вина, когда в буфете появилась Анка с мальчиком. В ответ на ее вопрос: «Свободны ли места?» – Этьен безмолвно кивнул. Они втроем посидели за столиком, не заговаривая. Подошел поезд в сторону Милана, буфет опустел, всех как ветром выдуло на платформу. Перед тем как встать, Этьен бросил на стол бумагу, бросил небрежно, как старый ресторанный счет, который случайно завалялся у него в кармане. А после этого торопливо, не оборачиваясь, вышел на платформу. На четвертом стуле, задвинутом под столик, лежали сверток и фотоаппарат. Анка, оглядевшись, взяла сверток, а «лейку» надела мальчику на шею. Затем Анка расторопно сунула к себе в сумку бумагу, скользнув по ней беглым взглядом. По лицу ее прошла тень тревоги. Анка знала, что получит эту доверенность только в самом крайнем случае, если опасность для Этьена станет реальной. Анка отлично понимала, что Этьен ни в коем случае не явился бы на свидание с нею, а тем более ничего бы не стал ей передавать, если бы за ним тянулся «хвост». Так что само по себе свидание в станционном буфете ее не очень встревожило. Но вот то, что Этьену пришлось взять на себя функции курьера и он явился сюда вместо Тамары… 29 Этьен вышел из вагона, прогулялся по перрону миланского вокзала, подождал, пока схлынет поток пассажиров, и лишь после этого направился к выходу в город. Медлительность его и осторожность были вовсе не лишними. На перроне околачивался синьор неопределенного возраста, без особых примет, в новеньком канотье. Этьен почувствовал на себе его пристальный, изучающий взгляд. Было что-то неуловимо знакомое в синьоре без особых примет; чутье подсказало Этьену, что за ним следят. Это весьма тревожно; Кертнера логично было бы поджидать и ловить на генуэзском вокзале, а он вернулся через Турин и прибыл на другой вокзал. Слежка вдвойне опасна, потому что Тамара, освобожденная от свидания в буфете на станции близ Турина, сама решила встретить этот поезд – на тот случай, если Кертнеру нужно будет передать ей какие-нибудь материалы, которые ему небезопасно носить при себе, а тем более держать в конторе или дома. Ведь Тамара не знала – увиделся он вместо нее с Анкой или нет. К тому же он передал бы только материалы, которые нуждаются в фотообработке, которым еще предстояло купаться в ванночках с проявителями-закрепителями, а иным еще и лечь под свет увеличителя… «Однако где и когда уже мельтешило перед моими глазами это канотье? Да при чем здесь канотье?! Никакого канотье не было и в помине, – размышлял Этьен, шагая по площади. -Синьор без особых примет и в дождливую погоду ходил с непокрытой головой. Канотье у него новенькое. Плетеная соломка блестит, будто смазанная бриллиантином. Но вот серые брюки обтрепались…» Тамара уже не раз встречала здесь Кертнера – ему лишь нужно пересечь привокзальную площадь, повернуть направо на виа Боккаччо и пойти по четной стороне улицы до часовни на перекрестке. Он увидел Тамару за полквартала. Замедлил шаг, приостановился у витрины обувного магазинчика, затем неторопливо двинулся дальше, рассеянно посматривая на противоположную сторону улицы. Сейчас им нужно притвориться незнакомыми! Он не хотел оборачиваться назад, но физически ощущал на своей спине взгляд синьора в новеньком канотье. Этьен не смотрел на Тамару и все же каким-то боковым зрением успел увидеть, что ее голубой плащ застегнут на все пуговицы и не скрадывает, а подчеркивает ее статную, спортивную фигуру. Идет она, высоко подняв голову, губы решительно сжаты. Тамара догадалась, что за Кертнером следят, если он ведет себя подобным образом. Тем более ему опасно тогда являться к себе домой или в контору. А Этьен понимал: если Тамара вышла к этому поезду, значит, за его домом и за конторой следят. Нужно во что бы то ни стало улизнуть от охотника, который считает, что держит дичь на прицеле, нужно затеряться в городе, сделать все, что можно успеть, из тех самых важных дел, какие накопились. И только к концу делового дня, не прежде, чем избавится от секретного багажа, он смеет появиться в конторе «Эврика» или дома. Он поравнялся с будкой телефона-автомата, ему хотелось позвонить Джаннине, узнать, вернулся ли компаньон Паганьоло, узнать, что нового в «Эврике». Но он проследовал мимо будки. Он шагал по улице, обсаженной толстыми буками. Когда его стал нагонять трамвай, Этьен резко обернулся, якобы привлеченный грохотом трамвая, а на самом деле – чтобы проверить: шпионит ли за ним канотье? Он успел заметить – кто-то спрятался за могучий ствол бука. 
На пьяцца Пьемонте стояли извозчики и тут же рядом – таксомоторы. Он остановил таксомотор на подходе к стоянке, торопливо сел и попросил шофера как можно быстрее доставить его на стационе Централе, это на другом конце города. Когда просишь ехать быстро, как можно быстрее, лучше всего называть вокзал или пристань. Этьен заглядывал в зеркальце к шоферу и все отлично видел через заднее стекло – канотье преследует его по пятам в автомобиле серого цвета. Проезжая мимо парка, Этьен неожиданно попросил шофера: – Стойте, я забыл купить сигареты. Шофер резко затормозил, их таксомотор как вкопанный остановился возле табачного киоска, а позади с натужным скрипом тормозов, едва не врезавшись в зад таксомотора, остановился серый «опель». Этьен невозмутимо купил сигареты и вновь сел в таксомотор. Он изменил первоначальный маршрут и, не доезжая до вокзала, сошел на виа Москова. «Поскольку они считают, что я у них в руках и никуда скрыться не могу, им нет смысла задерживать меня на улице, – рассудил Этьен. – Наверное, им приказали только не терять меня из поля зрения…» Улица Москова названа, чтобы отметить победу Наполеона. Именно так французы и вся Европа расценивали когда-то его вступление в Москву. Этьен вспомнил, что и на Триумфальной арке в Париже значится поверженная Москва. Конечно, поскольку Бородинское поле осталось за французами, а русские отступили и сдали Москву, Бородино можно было рассматривать как победу Наполеона. Однако история показала, кто на Бородинском поле стоял ближе к победе – Наполеон или Кутузов. И так же трудно сейчас сказать, кто ближе к конечной победе – защитники Мадрида или франкисты, которые наступают на Мадрид. А пока он обязан вести себя на этой тихой виа Москова так же смело и решительно, как вел бы себя сейчас в Университетском городке Мадрида, залитого кровью республиканцев. Сейчас он обязан предпочесть риск всяческой предосторожности. Конечно, риск должен быть не безрассудным, а осмотрительным и умным. Он всегда придерживался строгих правил конспирации, но бывает такое стечение обстоятельств… Он вышел из таксомотора и пошел вдоль трамвайной линии. Он так рассчитал шаг, чтобы поравняться с остановкой в момент, когда отходил трамвай, и вскочил во второй вагон. Задняя площадка была отличным пунктом для наблюдения. Пассажир в сером «оппеле» тоже понял это и прекратил откровенную погоню за трамваем. Так как трамвай шел по направлению к конторе «Эврика», в сером «оппеле», по-видимому, решили, что Кертнер направляется к себе. . Однако он сошел, не доезжая одной остановки до конторы, шмыгнул в боковую улочку, вышел проходным двором на бульвар, вскочил в другой трамвай и поехал в центр. Ему обязательно нужно было наведаться в «Банко ди Рома», и не в зал банковских операций, а в подвальную кладовую, где под защитой стали и бетона стоят сейфы, а в их ряду – сейф «Эврики». Вкладчик не может ни закрыть, ни открыть свой сейф без банковского ключника, а тот, в свою очередь, лишен возможности открыть-закрыть сейф без вкладчика. Но как только ключник вслед за вкладчиком производил свои секретные манипуляции и замок с секретари наконец открывался, ключник тут же отходил в сторону. В «Банко ди Рома» строго сохранялась тайна вкладов, и никто не подглядывал за тем, кто что кладет в свой сейф или вынимает оттуда. Сегодня Кертнер ничего не намеревался прятать, он пришел для того, чтобы изъять из сейфа некоторые бумаги, – осторожность совсем не лишняя при сложившихся обстоятельствах, хотя речь идет о зашифрованных материалах, которые притворялись безобидными коммерческими письмами. Но сейчас лучше, чтобы эта коммерческая корреспонденция была сдана на почту и пошла по своему адресу. Он вышел из банка, завернул по дороге к почтовому ящику и пригородным трамваем поехал по направлению к Галларате. Настолько важно передать сегодня радиограмму, что он в первый и, наверное, в последний раз решился взять на себя функции связного с Ингрид. Почему нужно послать радиограмму сегодня? Дело в том, что радиокод менялся в зависимости от того, в какой день недели шла передача. Сегодня на рассвете в тихом пансионе под Генуей Этьен зашифровал донесение Эрминии об отправке войск и вооружения через генуэзский порт, а также подробное письмо товарищу, который замещал Старика, в расчете на то, что радиограмма будет передана именно сегодня, во вторник. Иначе ее пришлось бы заново шифровать… Перед тем, как войти в парадный подъезд, Этьен осмотрелся. Он поднялся на последний этаж, поглядел с лестничной площадки в окно, выходящее на улицу, – ничего подозрительного. Прислушался к двери в квартиру, позвонил. Дверь открыла пожилая благообразная синьора. – Добрый день, джентилиссима синьора. Здесь живет фрейлейн Ингрид? – Проходите, пожалуйста. – Хозяйка постучала в дверь. – Синьорина, к вам. – Вы легко меня нашли? – Ингрид удалось скрыть крайнее удивление, даже растерянность. – Познакомьтесь. Синьора Гуттузо, моя добрая покровительница, Конрад Кертнер, друг моего отца, коммерсант, тоже из Вены. Она пригласила гостя к себе, он вошел, оглядел богато обставленную комнату, прежде всего непроизвольно бросив взгляд на рояль и на радиолу, затем подошел к окну. – Какой прекрасный вид! И озеро совсем близко. Полагалось поздравить тебя с очередным новосельем, но я безнадежно опоздал… – И не дождались моего звонка? – спросила Ингрид с тревогой. – Захотелось послушать хорошую музыку. – Этьен устало сел в вольтеровское кресло. – Ты, кажется, купила последние пластинки Тоти дель Монте? Вскоре Ингрид и в самом деле завела радиолу, и весь дальнейший разговор шел под аккомпанемент арии Амелии из «Бала-маскарада». – За одни сутки три свидания с тремя женщинами в трех городах… Помнишь, у вашего Генриха Гейне? «Блаженства человек исполнен, но очень человек слабеет, когда, имея трех любовниц, он только две ноги имеет…» – Этьен грустно улыбнулся. -Трижды за эти сутки я нарушил конспирацию. И каждый раз это было необходимо. Понимаешь, Ингрид? Иногда высший закон конспирации заключается как раз в том, чтобы его умело нарушить… – Что произошло? – спросила она, понизив голос. – Без риска в нашем деле нельзя. Но риск должен быть обеспеченный и умный!.. И поэтому сегодня вечером «Травиата» выйдет на связь в последний раз. – Этьен достал из кармана бумагу, сложенную вчетверо. – Давно знаю, что я для вас не Ингрид, а только «Травиата», – сказала Ингрид обиженным тоном. – А еще передай в Центр, я не успел зашифровать: мною точно установлено, что контрразведки Франко, Муссолини и адмирал Канарис держат между собой тесную оперативную связь. Она торопливо зашифровала последнюю фразу, а Этьен сказал вполголоса: – Тебе нужно срочно ехать в Швейцарию. Завтра же. Комнату оставь за собой. Передатчик разбери. Сама знаешь, куда его девать… Озеро рядом. – А как моя встреча с Анкой в среду? – Я уже вызвал Анку на свиданье из Генуи и съездил вместо тебя. – И я не услышу больше голос моего хозяина? – Во всяком случае – в ближайший месяц. – А разве вы не уезжаете? – Я уехал бы, срочно уехал, если бы не война в Испании. Но во время боев такой наблюдательный пункт не оставляют. Не дай бог, пропадут все наши труды и кому-нибудь придется начинать все сначала. – Вам здесь опасней оставаться, чем мне… – Да что ты меня хоронишь! Если бы они хотели меня арестовать… – Он махнул рукой. – Им нужны мои связи, нужна «Травиата». – Этьен поднялся, мимолетно прислушался к пластинке и сказал громко, подойдя к самой двери: – Какой тембр! Какое дыхание! Есть у кого учиться… Музыку не бросай, тебе еще поступать в консерваторию… Ауфвидерзеен, ауфвидерхорен, моя милая Травиата! – Он поцеловал ее в лоб. – Сердечный привет Фридриху Великому… А сейчас, – он взглянул на часы, нахмурился, – угости меня еще какой-нибудь арией из своего будущего репертуара… Он вдоволь наслушался патефонных пластинок и вокальных экзерсисов Ингрид, прежде чем вышел от нее и, соблюдая все мыслимые предосторожности, подался в обратный путь. Он шел, ехал и снова шел с чувством всеохватывающего облегчения – не только потому, что в случае ареста и обыска лишал своих преследователей каких бы то ни было улик и вещественных доказательств, но прежде всего потому, что, независимо от исхода событий, выполнил свой долг… 30 Кертнер застал Джаннину за машинкой. По обыкновению, она мурлыкала себе под нос что-то легкомысленное и при этом перепечатывала копии банковских счетов. Вручила почту за эти дни, доложила, что вчера прислали заказанные шефом новые визитные карточки; карточки лежат наверху в его кабинете, на письменном столе. А еще Джаннина сообщила, кто звонил по телефону. Кертнер рассеянно поблагодарил и спросил: – А совсем недавно, за последний час, кто-нибудь звонил в контору? – По делу? Никто. Впрочем, один звонок был. Женский голос. Просили позвать синьору Анжелу. Очередная ошибка. Какая-то рассеянная особа не умеет правильно набрать пять цифр. Вздох облегчения. Значит, Ингрид передала материал без помех. Джаннина не обратила внимания на то, что при ошибочных вызовах по телефону всегда называли синьора или синьорину, чье имя начинается с гласной буквы. Этьен был так измучен, что с трудом скрывал это от Джаннины. Он давно уже решил уйти из конторы и отдохнуть дома, но продолжал сидеть в кресле, бессильно опустив руки, склонив голову. – Жаль, – сказал он наконец после долгого молчания. – Жаль… – О чем вы, шеф? Он сокрушенно махнул рукой: – Понимаете, Джаннина, иногда мы делаем в жизни ошибки, совершенно одинаковые по масштабу… Но некоторые ошибки можно легко исправить, а другие, такие же, – невозможно. Как на пишущей машинке. Легко переправить ошибочную точку на запятую или букву «с» на «о». Никто и не заметит. А вот когда нужно переправить «о» на «с» или вместо запятой поставить точку – ничего не получается. Джаннина ждала, что шеф скажет что-нибудь еще, но он сосредоточенно и угрюмо молчал, а мешать его молчанию она не хотела. Она хмурила красивые брови, но лоб при этом оставался чистым, без единой морщинки. Перед уходом из конторы, уже стоя в дверях, он попросил Джаннину позвонить из телефона-автомата в учреждение, где служит русская по имени Тамара, срочно повидаться с ней, соблюдая обычные предосторожности, и передать его просьбу: если она может, пусть придет завтра к нему на свидание. Джаннина понимающе кивнула. Она никогда не задавала своему шефу лишних вопросов, касающихся его работы в антифашистском подполье. А он по молчаливому уговору ничего не объяснял, уверенный в ее понятливости, в ее преданности и в том, что она заслуживает его доверия… Дома он еще раз пересмотрел все свои бумаги, книги – ничего компрометирующего. «Почему меня не арестовали сегодня? Преследуют по пятам не первый день. Значит, решили собрать против меня побольше улик. Значит, таких улик не должно быть вовсе». Под диваном лежал свиток чертежей и технических документов, касающихся самолетов русского происхождения. Чертежи и документы предельно безобидные, но на них стоят русские штампы «Совершенно секретно». Этьен держал свиток у себя дома неспроста – русские «совершенно секретные» чертежи могут помочь ему в случае надобности. Единственное, что он забыл уничтожить, – русский журнал «Техника – молодежи» № 2-3 за 1936 год, он берег журнал из-за письма академика Ивана Павлова к молодежи. «Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь – что «мое», а что «твое», но от этого наше общее дело только выигрывает», – наскоро перечитал сейчас Этьен. Будто не про свою физиологию пишет Павлов, не про обезьян Розу и Рафаэля, но о военной разведке! Еще много ценных мыслей было в письме – и насчет последовательности, и насчет того, что нужно всегда иметь мужество сказать себе – «я невежда», и насчет страстности в работе… Перед тем как сжечь журнал в камине, Этьен еще раз пробежал глазами письмо Павлова, стараясь запомнить как можно больше. – Жаль, до слез жаль, – сказал Этьен самому себе по-русски. – Все рушится, и ваши старания, уважаемый герр Кертнер, больше ни к чему… Он потерянно повертел в руке свою визитную карточку, вынутую из коробки, и машинально положил ее в бумажник. Перед тем как лечь, он не забыл закрыть жалюзи на окнах, выходящих на площадь, чтобы это не пришлось делать рано утром. Очень удобно наблюдать сквозь жалюзи, когда тебя самого никто не видит. 31 Он внимательно посмотрел в сторону трамвайной остановки, на асфальтовый островок, и уже не прекращал наблюдения. Прошел трамвай, второй, третий… Входили и выходили пассажиры, а на остановке продолжал торчать тот самый синьор неопределенного возраста, без особых примет, в новеньком канотье. Он вновь притворялся пассажиром, ожидающим трамвая, а на самом деле поглядывал наверх, на окна «Эврики» и квартиры Кертнера. В то утро Этьен был озабочен предстоящим, вне графика, свиданием с Тамарой. Их свидания обычно происходили вечером в парке, но только при одном условии – если она в тот день не заглядывала в обеденный перерыв в кафе «Мандзони», где Кертнер в это время завтракал. Если он хотя бы мельком через окно или раскрытую дверь видел Тамару – вечернее свидание отменялось. Значит, или не пришла свежая почта, или были другие обстоятельства, делающие свидание в парке, в заранее назначенной аллее, невозможным или ненужным. В контору он наутро не спустился. К тому же компаньон должен приехать только днем, особо срочных дел нет. На телефонные звонки не отвечал. Трамвайная остановка несколько правее его окон, а слева – стоянка таксомоторов. Выходить на площадь, когда там торчит агент, а на стоянке поджидают таксомоторы, никак нельзя. Но к полудню уличное движение оживленнее, и все автомобили разъезжаются. Этьен решил дождаться такой ситуации, при которой агент, дежуривший без авто, был бы лишен возможности отправиться за ним в погоню. Он дождался, когда на стоянке остался только один таксомотор, стремглав сбежал по лестнице, вскочил в него и уехал. Уезжая, он успел заметить, что растерявшийся агент побежал к телефону-автомату. Небольшое кафе при «Гранд-отеле». Мемориальная доска напоминает о том, что в «Гранд-отеле» умер Джузеппе Верди. Кертнер сидел в кафе и все поглядывал, по обыкновению, на раскрытую дверь и на окна. На всякий случай он вышел к газетному киоску на углу, купил свою всегдашнюю «Нойе Цюрхер цейтунг», вернулся к столику – Тамара не появлялась. Значит, все благополучно и вечернее рандеву состоится. Не хотелось звонить в контору утром из квартиры, а сейчас, когда отсутствие Тамары успокоило его, важно было знать – приехал ли компаньон. Он позвонил в контору, но не успел отойти далеко от стойки бара и опуститься на стул, как в кафе раздался звонок. К телефону подошла буфетчица. Держа трубку, она, по своей неопытности, не удержалась от подозрительного взгляда в его сторону. Этьен понял: осведомляются о человеке, который только что набирал телефонный номер «Эврики». Он быстро расплатился, вышел из кафе и повернул по тротуару налево, подошел к «Ла Скала»; вот трамвайная остановка, до которой он обычно провожал Ингрид. Куда уехать? Трамвай уже отходил, а он еще не решил, где проведет время, оставшееся до вечернего свидания с Тамарой. И тут он подумал неожиданно, что вряд ли кому-нибудь из агентов придет в голову мысль искать его в Дуомо. Он решил зайти в собор и побыть там до вечера среди молящихся. Этьену повезло. В соборе торжественная месса, служит кардинал. Столько народу, с трудом нашлось место вблизи алтаря. И, в меру тяготясь, Этьен провел в Дуомо около трех часов, внимая богослужению, которое украшал превосходный хор. 
Цветные витражи собора теряли с приближением вечера свою яркость. А когда он вышел на паперть, уже подоспел ранний вечер, вот-вот зажгут фонари на площади. В тот вечер он в полной мере оценил удобства своих свиданий с Тамарой в городском парке. Там на скамейках сидят или гуляют в глухих аллеях парочки, ищущие уединения. Вот такое же удобное место для конспиративных свиданий в Париже, в Люксембургском саду, около фонтана Медичи. Там всегда встречаются студенты, молодые влюбленные. Этьен с горькой усмешкой подумал, что когда-то, лет десять назад, ему легче было притворяться влюбленным, пришедшим на свидание, чем теперь. А придет время, когда подобная маскировка будет совсем не к лицу. «Ну что же, стану тогда завсегдатаем пивной или любителем карточной игры». С утра стояла, как говорил Этьен, «промокательная погода», а после мессы в соборе выдался погожий вечер. Луна сегодня приторно-желтая, неправдоподобная, театральная. В парке околачивалось столько парочек, что трудно было найти свободную скамейку. Он шагал по темным аллеям парка, невольно мешая кому-то, спугивая кого-то, подсматривая за кем-то. Тамара принесла депешу, полученную на имя Этьена. Его подгоняло нетерпение, захотелось тут же эту депешу прочесть, и они пересели на скамейку, стоявшую под фонарем. Тамара всегда удивлялась умению Этьена расшифровывать письма, лишь изредка прибегая к карандашу и бумаге. Для этого надо обладать феноменальной памятью. А Этьен считал, что ничего особенного в этом нет. Постоянная тренировка, мозговая акробатика – вот и весь секрет. Есть шахматисты, которые любят играть вслепую, то, что французы называют «a l'aveugle», не глядя на доску, но это вовсе не значит, что те шахматисты – самые сильные. Этьен рассказал Тамаре о том, как настойчиво за ним охотятся. Он не сомневается в том, что нити тянутся из Испании. За ним охотились там немецкие тайные сыщики. Он уверен, что за ним шпионили также агенты Франко, и его тревожит, что они остались неузнанными. От испанской контрразведки он ускользнул, но его передали итальянской. – Ты видишь? – Этьен показал на свою тень, отброшенную фонарем на песчаную аллею. – Это только одна моя тень. Вчера на улице Боккаччо ты видела мою вторую тень. Она гуляла в новеньком канотье… – Но ведь ты был в Генуе, – перебила Тамара с тревогой, – а я на всякий случай встречала туринский поезд. Как ты в него попал? – Это я путешествовал вместо тебя. Видел проездом Анку. Крайние обстоятельства заставили пойти на крайний риск. Этьен заговорил о своем плохом предчувствии, что было совсем на него не похоже. Тамара не помнит случая, чтобы Этьен ударился в панику. – Впрочем, это не предчувствие, – вздохнул Этьен, – а чувство самосохранения. Все время слышу за своей спиной топот погони. – И сегодня? – Я три часа молился в Дуомо, чтобы не сорвалось наше свидание. – Этьен не улыбнулся своей шутке и мрачно добавил: – Кажется, это наше последнее свидание. И моя завтрашняя встреча со связным – мы должны были встретиться в «Банко ди Рома», в подвале, где сейфы, – тоже отменяется… Жаль, очень жаль… Пока идет война в Испании, каждый день бесконечно дорог. На случай катастрофы Гри-Гри должен заблаговременно выработать план действий, чтобы из конспиративной цепи не выпали отдельные звенья. Как хорошо, что между Гри-Гри и Кертнером давно нет никаких личных контактов! Их последние свидания состоялись еще в прошлом году, они проходили по самым строгим законам конспирации. Встречались они в разных городах, в дни, которые упоминались как бы невзначай в каких-то деловых корреспонденциях. При том коде город и день встречи были величинами переменными, а постоянной величиной было место свидания и время дня – всегда в час дня, всегда в зале ожидания первого класса главного вокзала. Перед тем как расстаться с Тамарой, Этьен еще раз напомнил: Скарбек должен в самые ближайшие дни выехать за рубеж со всеми материалами, которые ему передала Анка. Ради этих драгоценных материалов Этьен ездил в Испанию. Ради них пил за здоровье фалангистов, подкармливал фашистские газеты, давал деловые советы Хуану-Гансу Гунцу, аплодировал фильму «Триумф воли», чинил шасси «бреге», играл в кошки-мышки с гестаповцами из «портовой службы», состоял в адъютантах у святой девы Марии. 32 Он еще раз взглянул на запыленное зеркало, в котором отражались часы. Судя по тому, что стрелки часов показывают в зеркале десять минут восьмого, сейчас без десяти пять. Паскуале опаздывал уже на двадцать минут. Странно, потому что прежде он всегда являлся минута в минуту – лишь бы поскорее отделаться от свидания. А сидя за столиком, Паскуале нетерпеливо поглядывал на часы, он всеми силами старался сократить пребывание в обществе Кертнера на виду у посетителей траттории. По-видимому, он задержался в Испании дольше, чем предполагал. Последние три недели от Паскуале не было ни слуху ни духу. Это тем более странно, что они с Блудным Сыном ушли в рейс на одном пароходе, а тот уже вернулся. Кертнер не был похож на человека, который заглянул в тратторию, чтобы впопыхах перекусить. Хозяин бросил оценивающий взгляд – этот посетитель уже не впервые наведывается сюда. Он хорошо одет, в руках немецкая газета. Этьен сегодня надел новый английский костюм – черный в белую узкую полоску, – в котором ходил накануне в «Ла Скала».. В свое время осторожный Паскуале отказывался являться на встречи по вызовам Кертнера и поставил условие: он сам, когда ему удобно, необходимо и он уверен в полной своей безопасности, назначает встречи, вызывая Кертнера условной открыткой. Постоянными величинами в этом условии были время дня, место и день недели. Было еще условие, на котором настоял сверхосторожный Паскуале: они сидели за столиком в углу зала как чужие, не заговаривали друг с другом. Но кто позволит себе подсесть к незнакомому посетителю при обилии пустующих столиков? Вот первая причина, почему встречи происходили после работы. А вторая причина – час «пик», можно затеряться в уличной толпе, в трамваях давка; легче приехать, уехать незамеченным и тому и другому. Этьен был уверен, что Паскуале при его осмотрительности не явится в тратторию с «хвостом», так что с этой стороны безопасность встречи гарантирована. Что же касается самого Этьена, то вот уже одиннадцатый день, как агенты оставили Этьена в покое, он вновь свободно передвигается по городу и ведет размеренную жизнь делового человека, пытающегося забыть о полицейских передрягах. Сколько он ни посматривает по утрам на улицу сквозь закрытые жалюзи – не видать больше агента на трамвайной остановке. Каждое утро Этьен отправляется к газетному киоску за своей «Нойе Цюрхер цейтунг» и ни разу не заметил ничего подозрительного. Одним словом – отвязался от второй тени. «Удалось сбить легавых со следа? – гадал Этьен. – А может, я был все те дни попросту напуган собственным страхом?» Компаньон знал о давнем пристрастии Кертнера к опере. И от избытка чувств пригласил его вчера вечером в «Ла Скала»: давали «Аиду» с участием Беньямино Джильи. «Браво, брависсимо, Беньяминелло!» – весь вечер исступленно и ласково орали поклонники певца. Этьен и сегодня оставался под впечатлением вчерашнего спектакля. Может быть, впервые за последние годы он пошел в «Ла Скала» просто так, ради удовольствия, а не потому, что у него была явка в шестом ряду партера, второе кресло от прохода слева, если идти к оркестру. Совсем иначе слушаешь музыку, когда ты не озабочен тем, чтобы незаметно передать что-то Ингрид или получить нечто от нее. Ему не нужно было пробираться в последнем антракте в театральный музей и слоняться там по пустынным комнатам, выжидать, когда они останутся в одиночестве и Ингрид раскроет свою нотную папку. Он вышел в первом же антракте на балкон, в ненастный ветреный вечер. Этьен ежился от холода, но с балкона не уходил и с удовольствием всматривался в черное декабрьское небо, которое так редко показывает миланцам звезды, и с чувством той же невыразимой душевной свободы поспешил обратно в зал, навстречу шумным восторгам. Все это было вчера вечером, а сегодня утром его ждала новая радость: в почтовом ящике № 172 на главном почтамте лежала долгожданная открытка, адресованная Джаннине, но написанная вовсе не для ее сведения. Паскуале благополучно вернулся из плавания, но дела не позволяют ему выехать из Турина и повидаться с падчерицей, по которой он сильно соскучился. Значит, Паскуале в пятницу, то есть сегодня, будет в условленном месте, в условленный час, там и тогда, где и когда они встречались прежде. Одновременно из Генуи прислали чемодан с пожитками. Само собой разумеется, в тамошний отель был отправлен ключ на деревянной груше, а все расходы оплатили с лихвой… Хотя миновало уже десять спокойных дней, Этьен был далек от благодушия. Все-таки сам он после недавней слежки не назначил бы Паскуале свидания, вот так же он временно прервал всякую связь с Ингрид. Но и отказываться от свидания, при соблюдении всех мер предосторожности, оснований не было. Нельзя ни на минуту забывать, что идет война в Испании и материалы Паскуале могут представлять большую оперативную ценность. Он многого ждал от предстоящей встречи с Паскуале. Отправляясь на свидание, Этьен особенно прилежно осматривался – нет ли второй тени? Он добрался до фабрики «Мотта» кружным путем, сделав несколько пересадок. Если бы Паскуале знал, что еще недавно за Кертнером велась слежка, он и не заикнулся бы о свидании, струсил бы. Траттория, где они уже несколько раз виделись, находилась вблизи ворот фабрики кондитерских изделий «Мотта». На улице, застроенной фабричными корпусами, всегда жили кондитерские запахи. «Кто знает, – улыбнулся про себя Этьен, – может, у кого-нибудь эти запахи и отбивают аппетит, да только не у меня…» По своему обыкновению, он расположился в углу второй комнаты, где было и вовсе шумно, многолюдно. Небольшой пакет, который Этьен принес с собой, он рассеянно положил на стул, в углу за скатертью виднелась лишь спинка стула. Он заказал ризотто миланезе, цыпленка «по-дьявольски», то, что грузины называют «табака», взял бутылочку кьянти. Он успел съесть свой рис и доедал цыпленка, когда в зале появился Паскуале. Нерешительно и медленно подошел к столику в углу, попросил у Кертнера разрешения сесть на свободное место и плюхнулся на стул до того, как получил разрешение. Кертнер знал, что Паскуале – не из храброго десятка. Но чтобы перетрусить до такой степени… Паскуале принес с собой точно такой же небольшой пакет в серой оберточной бумаге, перевязанной крест-накрест шпагатом, какой уже лежал на невидимом сиденье. Паскуале положил свой пакет на тот же стул в углу, Этьен заметил, что руки его в этот момент дрожали. Вскоре в комнатке стало еще более шумно и оживленно. Едва освободился один из столиков, как ввалилась компания из четырех мужчин; они расселись за этим столиком у двери. Паскуале заказал только чашку кофе с печеньем «Мотта», сидел и нервно облизывал губы, пока кофе не подали. Пил, обжигаясь и не подымая глаз. Этьен обратил внимание на то, что лицо у Паскуале помятое, так же как и его костюм. На лице нездоровая бледность, и чувствовалось по всему, что встреча потребовала от него всех душевных сил без остатка. А может, он так плохо выглядит потому, что плавал в жестокие штормы и его мотало-качало все последние дни? Паскуале сильно страдает от морской болезни. Он торопливо доглотал горячий кофе, сунул руку под скатерть, взял со стула один из пакетов-близнецов, облизнул губы и направился к буфетной стойке. Он не стал дожидаться, когда подойдет официант, и хотел поскорее расплатиться. Хозяин был занят приготовлением коктейля. Кертнер краем глаза видел, как Паскуале отсчитывал деньги, путаясь в монетах. Паскуале вышел из комнаты какой-то неверной, заплетающейся походкой, – можно подумать, что он выпил не одну чашку кофе, а два стакана граппы. И чувствовалось – он присуждает себя идти медленно, а на самом деле готов бежать опрометью подальше от Кертнера, из постылой траттории. Конечно, можно осуждать Паскуале за робость, за неумение владеть собой. Но, может быть, человек достоин уважения именно за то, что совершает подчас поступки вопреки своей бесхарактерности и заставляет себя, как ни мучительно, выполнять свой долг. Кертнер с аппетитам доел цыпленка, выпил еще винца, закусил сыром пармиджане, затем расплатился, щедро отсчитав чаевые, достал бумажный пакет, лежавший на укромном сиденье, и неторопливо направился к выходу. Едва за ним, дребезжа, закрылась стеклянная дверь траттории и он вышел на улицу, к нему вплотную приблизились двое рослых мужчин. Оба, как сговорившись, держали правую руку в оттопыренных карманах пальто, а пальто казались скроенными в одной мастерской. Они могли бы и не представляться Кертнеру. Один из двоих хотел показать свой значок на изнанке лацкана, другой грубо его одернул, – ясно, кто такие. Но и в этот момент Кертнер не испугался до потери контроля над собой. Он уже понял – безопасность последних одиннадцати дней была мнимой, его пытались обмануть и обманули… – Вы арестованы, – донеслось до него издалека, хотя прозвучало рядом. – В ваших интересах не поднимать здесь шум. Кертнер с удивлением оглядел пакет, который держал. – Чужой пакет! Только сейчас заметил. А где же мой? Он сделал шаг назад и уже взялся за ручку стеклянной двери, но его оттянули, и дверь в тратторию дребезжа закрылась. – Это провокация! Мне подбросили чужой пакет! Кертнер бросил пакет на тротуар, но агент заботливо поднял его. – Зачем же сорить на улице? Вы специально за этим пакетом приехали. Кертнер собрался что-то ответить, но не успел. Подкатил полицейский автомобиль, распахнулась дверца. Он почувствовал грубый толчок в спину, и одновременно чьи-то цепкие железные руки, протянутые из автомобиля, схватили его и втащили внутрь. – Так можно смять галстук и рубашку,– сказал Кертнер тоном, каким делают выговор плохому лакею. И еще до того, как захлопнулась дверца и автомобиль тронулся, он принялся тщательно и неторопливо поправлять свой галстук. ЧАСТЬ ВТОРАЯ  33 Паскуале Эспозито успел сделать на «Патрии» три рейса в Испанию. Конец лета и всю осень он был занят доставкой самолетов и сборкой их в портах Франко, преимущественно в Альхесирасе. Обычно такой рейс длился недели три или четыре. Вернувшись из плавания, Паскуале отправлял из Турина открытку Джаннине на почтовый ящик конторы «Эврика» и извещал, что пока хлопоты не позволяют приехать к ней. А это означало, что, в соответствии с конспиративным регламентом, Паскуале в ближайшую пятницу приедет в Милан и встретится с Кертнером в траттории близ виале Корсика. Приезды Паскуале в конце концов не могли вызвать ни у кого подозрений – отчим хочет повидаться с падчерицей, успел соскучиться. Кертнер познакомился с Паскуале вскоре после того, как Джаннину приняли в контору. Завод «Капрони» выполнял тогда большой заказ для Советской России. Оказалось, у нескольких самолетов моторы с дефектами, хотя и хорошо скрытыми. Русские приемщики забраковали моторы. Дирекция фирмы «Капрони» решила, что это происки заводских коммунистов. На заводе прошли аресты. Паскуале тоже арестовали, но вскоре, убедившись в ошибке, освободили, и фирма даже командировала его в Ленинград, где он учил русских собирать эти самолеты. По возвращении из России Паскуале с возмущением узнал, что фирма получала за него по договору двести лир в день, а ему выплачивали из них всего тридцать. Ну не грабеж ли? Но когда дело касалось Джаннины, он денег не жалел. Какое купил ко дню ангела батистовое белье с кружевами, да еще сразу полдюжины! И если жена упрекала его в скупости, он оправдывался, что хочется сколотить денег на приданое Джаннине. Сыновья-близнецы были совсем взрослыми, когда Паскуале женился во второй раз. А через год после свадьбы потерял обоих сыновей. Он помнит, как Фабрицио молодцевато приколол к отвороту пиджака красную повестку рекрута, а рядом понуро стоял Бартоломео с такой же повесткой; красными бумажками была расцвечена вся толпа новобранцев. Нельзя сказать, чтобы Паскуале стал примерным мужем. Но он полюбил падчерицу, обратил к ней отцовскую любовь, которой ему в прошлом так не хватало на сыновей. Паскуале не отличался твердым характером или твердостью убеждений. Когда-то, еще в молодости, он бывал в Турине на улице Арчивесковадо, где в старинном доме работал Грамши, а позже Тольятти, где помещалась редакция «Ордине Нуово» – первой ежедневной газеты коммунистической партии. Но после разгула реакции Паскуале отошел от коммунистов. Он стал аполитичным и, хотя часто склонял революционные фразы, по существу примиренчески отнесся к рождению фашистского режима. Позже, будучи в армии, он присоединился ненадолго к анархистам, потом отошел и от них и лишь после трагедии с сыновьями снова сделался врагом Муссолини. Но и теперь иные его поступки, убеждения были половинчатыми. Робость мешала его активной деятельности. Он проработал в фирме «Капрони» без малого тридцать лет и вот-вот должен был выйти на пенсию. Он скопил кругленькую сумму на домик в родной деревне, он давно мечтал о домике с садом и виноградником. Джаннина знала, где находится тайник с накопленными деньгами, – между двойными стенками ночного столика у кровати родителей… Кертнер полагал, что Паскуале вновь уплыл вместе с Блудным Сыном в Испанию, а Паскуале уже находился в руках тайной полиции, его терзали ежедневными допросами… Свет померк для Паскуале, когда следователь сообщил, что Джаннина тоже арестована. – Видимо, вы очень плохо ее воспитали, – ухмыльнулся следователь. – Упрямая девчонка! Конечно, вы – не родной отец, с вас спрос меньше. Но могли бы все-таки воспитать своего звереныша построже и в большем уважении к дуче и королю. Даже непонятно, как молодая набожная итальянка может так непочтительно отзываться о короле, в котором ведь тоже есть божественное начало! Но нам некогда играть с капризной синьориной в фанты. Поскольку она столь неразговорчива и не захотела быть искренней, как на исповеди, пришлось проверить – не боится ли она щекотки. Следователь с удовольствием потер руки, будто именно он щекотал Джаннину, и встал на цыпочки во весь свой карликовый рост. Он прошелся по кабинету, заложив руку в карман, подбоченясь, выставив вперед плечо, стараясь принять вид победителя. Паскуале смертельно побледнел и опустился на табуретку. На следующий день следователь снова вызвал Паскуале на допрос и снова потребовал от него помощи в поимке с поличным важного государственного преступника, врага благородных идеалов фашизма. Все, что от него, Паскуале Эспозито, требуется, – явиться на свидание с Конрадом Кертнером и передать ему сверток чертежей, тех самых, которыми австриец интересовался в последний раз. – В последний раз Кертнер интересовался чертежами спортивного самолета, они вовсе не являются секретными, – возразил Паскуале неуверенно. – Вот эти самые чертежи и передайте ему в траттории, которая вам знакома по предыдущим встречам. Паскуале долго молчал, понурив голову, беззвучно шевеля сухими губами, и наконец ответил еле слышно: – Я отказываюсь от такого поручения. – Значит, вы не патриот Италии. – Я патриот Италии, но не считаю Кертнера врагом итальянского народа. – Вы говорите не подумав. А ведь у вас было время поразмыслить на досуге. Или кто-нибудь мешает вам в камере сосредоточиться? Если вы не хотите подумать о своем будущем, то, может быть, вас обеспокоит будущее вашей дочери? Правда, она не родная дочь, однако… На следующий день Паскуале снова вызвали на допрос. Он сидел, облизывая сухие губы, в горле першило, но сглотнуть было нечего – ни капли слюны во рту. А в конце допроса следователь открыл ящик своего стола, достал сверток, выложил его на стол, неторопливо развернул. – Узнаете? Какая-то тонкая голубая материя в бурых пятнах. – Нет. – Паскуале отвернулся, он инстинктивно не хотел вглядываться. – Я сам не поклонник такого рода интимных бесед с молодыми, тем более интересными женщинами. Но когда речь идет о безопасности государства… Синьорина Джаннина слегка наказана за излишнее упрямство. Паскуале никак не мог отдать себе отчет в том, что произошло и о чем идет речь. Да, Джаннина иногда любит поупрямиться, но какое все это имеет отношение к делу?.. И вдруг его будто ударили по глазам – он узнал окровавленную рубашку, одну из полдюжины батистовых рубашек, какие купил Джаннине в день ангела. Паскуале оттолкнулся обеими руками от стола, на котором лежал сверток. Ни кровинки в потерянном лице. Нетвердыми шагами направился он к двери. – Проводите его в камеру, – жестко распорядился следователь, вставая из-за стола. Он побоялся, что подследственный рухнет сейчас у него в кабинете без чувств, не хотел с ним возиться, отпаивать водой, давать ему нюхать нашатырь и потому прервал допрос. На третий день сцена в кабинете следователя повторилась, только на этот раз окровавленная рубашка, лежавшая в свертке, была не голубая, а кремовая. Паскуале вошел с обмирающим сердцем, узнал свой подарок и снова вышел после допроса, после уговоров следователя пошатываясь, простерши руки впереди себя, как слепой. На четвертый день перед Паскуале лежал новый сверток. – Все-таки отчим не чета родному отцу, – театрально вздохнул следователь. – Разве родной отец стал бы подвергать мучениям свою дочь? Вы ведете себя так, будто речь идет только о вашей судьбе. Решается судьба синьорины Джаннины, вашей падчерицы. Своими легкомысленными поступками, недостойными патриота фашистской империи, вы превратили падчерицу в узницу тюрьмы, и она выйдет оттуда наказанной по всей строгости. Если не искалеченной… Между прочим, девичья кожа намного тоньше и нежнее вашей. В том, что вы человек толстокожий и плохой отец, я уже имел неприятную возможность убедиться. Накануне пятого допроса Паскуале услышал во время прогулки по тюремному двору о подобной же истории. Сперва одному парню пригрозили: «Если ты не назовешь своих коммунистических сообщников, мы привезем в тюрьму твою мать, разденем ее донага и будем пытать при тебе». Парень не допускал мысли, что чернорубашечники могут выполнить свою угрозу. Но в момент, когда в камеру втащили за волосы его мать и начали ее раздевать, парень не выдержал и во всем признался. На пятый день, как только Паскуале ввели в кабинет, он бросил взгляд на зловещий стол следователя – свертка не было. – Четыре дня подряд я добивался от вас согласия выполнить патриотический долг, загладить вину и дать основание досточтимому синьору прокурору Особого трибунала просить для вас снисхождения или даже прощения. Но сегодня в моей просьбе уже нет такой необходимости. Ваша дочь во всем созналась. Она согласилась выполнить то самое задание, которое вы считаете для себя неприемлемым. Она сама явится туда, где вы встречались с австрийцем. – Нет! Нет! Нет! – Во рту у Паскуале пересохло, он тщетно пытался сглотнуть. – Нет! Дочь должна забыть о своем согласии. Пусть ее совесть останется чистой, без единого пятнышка. И если кому-то из нас суждено… Я выполню поручение вместо нее… – А я вам в свою очередь, – торопливо, скрывая свое торжество, прервал следователь, – даю честное офицерское слово, что о вашем свидании с Кертнером мы ничего синьорине не скажем… – Да, да, она не должна этого знать… Последнее, что Паскуале услышал, когда выходил из кабинета: – Завтра ваша дочь будет дома. 34 Сразу же после обыска составили опись вещей арестованного. Для этого пишущую машинку перенесли из конторы в квартиру Кертнера, этажом выше. Полицейский комиссар сам принялся медленно и неуклюже тыкать толстым пальцем в клавиши. – Синьор комиссар не обидится на меня, если я скажу, что он печатает не слишком хорошо? – усмехнулась Джаннина. – Синьорина права. Есть много других дел, которые я делаю значительно лучше. – Полицейский расхохотался. – В помощницы к вам не набиваюсь. Но чтобы ускорить ужасную процедуру и чтобы я смогла завтра утром уехать в Турин, повидаться со своими, – сама напечатаю. Полицейский комиссар охотно уступил место за машинкой, и Джаннина напечатала опись. Она сознательно оставила между последней строкой описи и местом, уготованным для подписей, полоску чистой бумаги. На всякий случай. Комиссар не включил в опись саму машинку, он полагал, что это инвентарь конторы «Эврика». Джаннина подсказала, что машинка – личная собственность шефа и только временно стояла в. конторе. – Синьор комиссар, вы могли меня подвести. Ведь я работала на этой машинке. Когда недоразумение выяснится и шеф вернется, он заподозрит меня в том, что я утаила его ундервуд. – «Вернется»… Святая наивность! Твой шеф – опасный государственный преступник. – Синьор комиссар, наверное, хотел сказать, что моего шефа подозревают в государственном преступлении. Разве кто-нибудь имеет право выносить приговор раньше суда? – Синьорина очень охотно рассуждает о правах. И забыла о своих патриотических обязанностях. Не пора ли строго напомнить тебе о них? – Свои конторские обязанности я выполняю добросовестно. Спросите хотя бы синьора Паганьола, компаньона фирмы. В церковь хожу часто. Исповедуюсь у падре Лучано каждый месяц. На какие другие обязанности намекает синьор комиссар? Может, он считает, что я должна была отбивать хлеб у него, у его агентов и доносить на австрийца? Этому меня на курсах машинописи и стенографии не обучили. Тем более если донос нужно высасывать из своего мизинца… – Я знал синьорину, которой дверью прищемили пальчики за то, что она не хотела ими указывать на наших врагов… Угроза полицейского комиссара подсказала Джаннине, что нужно быть осторожнее и даже покладистее, если ты не хочешь ничего менять в своем поведении. Полицейские составили длинную опись личных вещей Кертнера, включили разные мелочи. Джаннина правильно рассудила: если имущество будет конфисковано по суду, никакого ущерба шефу эта дотошная, мелочная опись не принесет, все равно отсылать, дарить вещи или передавать по наследству некому. А если конфискации не последует, шефу даже выгоднее, чтобы опись была подробнее. Джаннина вручила полицейскому комиссару расписку в том, что ей передана опись личных вещей Конрада Кертнера. Опись она сознательно напечатала в одном экземпляре, а полицейский комиссар про копию и не вспомнил. Не его обязанность возиться с чужим барахлом, во сколько бы его потом ни оценили. Он и так проторчал в конторе и на квартире этого фальшивого австрийца чуть ли не до самого рассвета. Ночь напролет перелистывать книги и бумаги, выпотрошить матрац, подушки, перину, обшарить все костюмы, висящие в шкафу, вспороть обивку на креслах – хлопот не оберешься… 35 Джаннина не уехала в Турин утренним поездом, да и не собиралась этого делать. Сперва нужно поставить в известность обо всем, что случилось, синьору Тамару. Кто знает, какие дополнительные беды могут нагрянуть? Джаннина отправилась на Корсо Семпионе, на трамвайную остановку возле дома, где живет синьора Тамара и откуда она ездит на работу… Наконец синьора Тамара выбежала из подъезда. Судя по тому, как нетерпеливо посматривала на рельсы вдали, как ждала появления трамвая, она опаздывала. Синьора Тамара вошла в трамвай, заняла место, тут же увидела Джаннину, вошедшую следом, и уже не спускала с нее глаз. Джаннина ощутила на себе внимательный взгляд и двинулась по вагону вперед. Проходя мимо, она повернулась к синьоре Тамаре и, как бы невзначай, разорвала свой трамвайный билет вдоль на две половинки и сложила половинки крестом. Уже само появление Джаннины в трамвае насторожило Тамару. А увидев в ее руках символически сложенные половинки билета, она поняла, что Джаннина изобразила решетку. 36 – Довольно дурацких фантазий! Я не позволю водить себя за нос! – вскричал тот, кого называли доктором. – Пора перейти к фактам! Он подскочил к Кертнеру и ударил его по лицу. – Я полагал, что нахожусь в руках прославленного римского правосудия. – Кертнер отнял ото рта платок, окрашенный кровью. – И вас называют доктором юриспруденции! А деретесь как первобытный дикарь. Я не знал, что правосудие основано теперь на рукоприкладстве… Тот, кого называли доктором, что-то истерически выкрикнул, затрясся от злобы и, не взглянув на допрашиваемого, вышел из комнаты. Допрос продолжал следователь, похожий одновременно и на поросенка и на хищную птицу. Кертнер вглядывался и все не мог решить – на кого похож больше? Он маленького росточка и все время одергивал мундир, который топорщился и был явно не в ладах с фигурой своего хозяина. А тот выпячивал куриную грудь и, когда стоял позади стола, поднимался на цыпочки, хотя и без того носил сапоги на высоких каблуках. Чтобы затруднить следствие и позлить Коротышку, Кертнер решил разговаривать на плохом итальянском языке, отвечать на вопросы следователя неторопливо. Тогда он сможет выгадать секунды и доли секунд на раздумья. Запинался, подбирал ускользающие из памяти слова весьма естественно, хотя это очень трудно – притворяться полузнайкой, когда на самом деле безупречно говоришь по-итальянски. И он подумал вдруг, что лишь очень опытному летчику под силу имитировать полет новичка. Коротышка начал допрос со стандартного вопроса об имени и фамилии арестованного, но записал их с орфографическими ошибками, и Кертнер с утрированной вежливостью протянул свою визитную карточку, чем уже вызвал раздражение следователя. На столе у следователя уже лежало все, что отобрали при первом обыске, – документы, записная книжка, чековая книжка, какие-то бумажки, а также деньги. Зазвонил телефон. По-видимому, Коротышка разговаривал с каким-то большим начальником, потому что, держа трубку, благоговейно кланялся телефонному аппарату, а вся невзрачная фигура его изображала угодливость. Затем он с новой энергией сдал изучать отобранные при обыске бумаги Кертнера, ничего в них не обнаружил, разозлился и, теряя самообладание, он начал кричать: – Вы, может быть, думаете, что я родился в воскресенье?! На русский это можно перевести: «упал на голову» или «прихлопнули пыльным мешком из-за угла». Так же безуспешно пытался Коротышка усмотреть чуть ли не диверсию в том, что Кертнер бросил свой чемодан в генуэзской гостинице, а затем попросил его выслать в Милан. Когда речь зашла об отобранных деньгах, Коротышка с удовольствием установил, что Кертнер не обедал двое суток. Между тем, достаточно сознаться в своих преступлениях, и ему будет разрешено тратить деньги на все необходимое в предварительном заключении – начиная с отдельной комнаты и кончая обедами по заказу. Кстати, из соседней траттории арестованным носят очень вкусные обеды. При допросе Кертнер то умело помалкивал, то делался словоохотлив, даже болтлив, – когда хотел отвлечь внимание Коротышки от главного, затруднить ему правильную разгадку. Коротышка и сам не заметил, как поддался Кертнеру, позволил вовлечь себя в такого рода беседу. Итальянцы вообще любят поговорить, это распространяется и на следователей и на сыскных агентов. А допрашиваемый вел разговор так умно, что использовал многословие собеседника и выяснил для себя, до какой степени ОВРА осведомлена – что им уже известно о Кертнере и что они пытаются узнать. Но все-таки к концу допроса Коротышка начал понимать, что допрашиваемый ничего не сообщил нового, отмолчался, открутился, отбрехался. А Коротышке при этом никак не удавалось сохранять начальственный тон, он всеми фибрами своей следовательской души ощущал неуважительное отношение к себе со стороны арестованного, который не хотел признать его умственное превосходство. Коротышка обиделся – он вообще был болезненно обидчив, как многие мужчины, заказывающие себе ботинки на высоких каблуках. К концу допроса Коротышка все хуже скрывал свое раздражение, все больше походил на хищную птицу и все меньше – на поросенка. Тут он задал, как ему казалось, очень коварный вопрос о сейфе: – Куда вы спрятали ключ от своего сейфа в «Банко ди Рома»? – Скорее всего, он выпал из кармана, когда меня грубо втолкнули в автомобиль. – При этом Кертнер выразительно посмотрел в сторону агента, сидящего у двери. – Отдайте ключ, а то мы сами вскроем сейф. – Вскрывайте, если хотите еще раз нарушить законы. И тут Коротышка потерял контроль над собой. Он вскочил с кресла и, тщетно пытаясь сохранить начальственную осанку, принялся стучать маленьким кулаком по столу и орать: – Я заставлю вас сменить лживую визитную карточку! Вы меня запомните! Прекращаю допрос! Вывести его отсюда! Проучить его! Пусть теперь с ним поговорят иначе! Вон!!! До этого времени агенты, которые задержали Кертнера, вели себя более или менее благопристойно, если не считать типа, который надевал наручники. А сейчас его грубо вытолкали из кабинета Коротышки, еще грубее втолкнули в маленькую комнатку без окон. Кертнер начал протестовать против произвола, грозил пожаловаться в австрийское посольство, назвал Коротышку провокатором. И тогда в комнату ввалились два дюжих молодца; среди итальянцев не часто встретишь таких геркулесов. Они зловеще вплотную подошли к Кертнеру, каждый наступил ему на ступню, и он не мог откачнуться, отступить, сойти с места, когда его принялись избивать. – Христиане, что вы делаете? – спросил кто-то с напускным возмущением, приоткрыв дверь в глухую комнатку. – Убирайся и закрой дверь. Не твое дело. Кертнер не издал стона, на вопросы по-прежнему отвечал: «Ничего не знаю» или: «Никого не знаю»… Остаток дня он пролежал, отказавшись от еды, – разбит рот, под глазом кровоподтек, из уха сочится кровь, бровь рассечена. Он лежал на койке, закрыв лицо мокрым полотенцем. К физической боли прибавилась душевная. Итальянские нравы? Нет, это сюда донесся зловонный ветерок гестапо. Ну, а кроме того, не нужно забывать, что в чернорубашечники, в сыскные агенты прутся разные подонки… Да, не ко времени тайная полиция устроила ему каникулы – одиннадцать дней. За ним прекратили всякую слежку. А он-то обрадовался! Так хотелось думать, что обдурил сыщиков, оказался умнее всех. Почему же такой умник попался? С чего начался его провал? Когда началось его знакомство с «усиками», «серыми брюками» и «новеньким канотье», с теми их коллегами, которых он не углядел? Хорошо хоть, за эти одиннадцать дней он ни разу не виделся с Ингрид. Может, к его аресту приложили руку молодчики из «Люфтганзы», которых он успел причислить к придурковатым солдафонам? Может, фотография Кертнера давно лежала в картотеке у генерала Вигона, а недавно испанцы передали ее своим итальянским союзникам? Может, Старика или Оскара насторожила бы легкость, с какой франкисты выдали Кертнеру визу на въезд в Испанию? Пароход «Патриа»? Но ведь никто, кроме Блудного Сына и Паскуале, к нему в каюту, по всем секретным приметам, не заглядывал. Разве кто-нибудь мог подсмотреть, когда Блудный Сын выносил чертежи из каюты? Правда, их не сразу удалось положить обратно в сейф, спрятали в трюме, чего лучше было бы избежать. Французский агент? Но он, судя по всему, появился только в Марселе. «Что я упустил, запамятовал, не заметил? – снова и снова допытывался у себя Этьен. – По-видимому, именно в том, что я упустил, позабыл, и скрывался выход из трудного положения». С помощью потайной кнопки в «лейке» он мог, в случае крайней необходимости, засветить снятые им кадры фотопленки. Но, увы, нет такой волшебной кнопки, которая могла бы вернуть в небытие ошибки, промахи и оплошности… Этьен не притрагивался к хлебу, брезгливо отказался от дурно пахнущей тюремной похлебки. В камеру уже являлся буфетчик, он вызвался принести обед из соседней траттории, но Кертнер отказался от его услуг. На прогулку также не пошел. После бессонной ночи почувствовал себя совсем разбитым, ослабел. Мучительно мешал свет: лампа без абажура, и некуда спрятать глаза от ее пронизывающего, всепроникающего света. Следующие сутки прошли так же: днем голодная диета, ночью не смыкал глаз. У изголовья сидела неотлучная сиделка – бессонница. «О, дружок, – сделал себе выговор Этьен, – так ты и до суда не дотянешь. Возьми себя в руки!» После ночи без сна он сделал холодное обтирание, заставил себя заняться гимнастикой, ходил по камере из угла в угол строевым шагом, ходил так долго, что даже запыхался, затем попросил кувшин с холодной водой и протер тело грубым полотенцем. Он заставил себя взять ложку и миску с тюремной похлебкой. С голодухи иногда начинают бредить, а в бреду можно заговорить и по-русски… 37 Джаннину ошеломило официальное извещение из туринской тюрьмы: ей разрешено свидание с гражданином Паскуале Эспозито. Она не знала, при каких обстоятельствах арестован Кертнер, и понятия не имела о том, что арестован отчим. И она и мать были уверены, что Паскуале находится в плавании или еще собирает самолеты на испанском аэродроме. Паскуале сидел как на иголках и ждал свидания с дочерью. Ему обещали свидание в воскресенье. Его привели в комнату свиданий, посадили на табуретку. Он ждал, ждал, ждал, сидя у решетки, а дочь не пришла. – Вы обещали выпустить ее из тюрьмы! – кричал Паскуале в кабинете низенького следователя. – Меня обманули. Какая подлость! – Ваша дочь на свободе. Даю честное слово офицера! – Значит, ее так мучили, что она не смогла дойти до комнаты свиданий. Или не хотела огорчать меня своим видом. Может, она стала калекой? Вы, только вы виноваты! – Ваша дочь совершенно здорова. И отлично выглядит. – Почему же она не пришла на свидание? Следователь пожал хилыми плечами: – Пошлем новую повестку. На будущее воскресенье… В будущее воскресенье Джаннина робко вошла в комнату свиданий. Комната перегорожена двумя решетками; они образуют коридор, по которому взад-вперед ходит надзиратель. Коридор узкий, но достаточно широк для того, чтобы руки, протянутые сквозь решетки, не дотянулись одна до другой. Впервые в жизни Джаннина переступила порог тюрьмы, впервые оказалась в комнате свиданий. То ли ее пустили раньше времени, то ли с опозданием приведут Паскуале? Пока же она сидела на скамейке, оглушенная всем, что здесь слышала. Она ощущала и свой и чужой страх, ей стало страшно от чужих слез, криков чужих женщин, кричащих каждая свое и перекрикивающих друг друга. Комната без окон. Под потолком висит яркая лампа без абажура. Лампа отбрасывает на стены резкие тени от решеток, и потому вся комната – как большая клетка. Посредине комнаты, в узком простенке между двумя стенами-решетками, висит портрет Муссолини в золоченой раме. Портрет привлекает к себе внимание еще и потому, что непомерно велик для комнаты-клетки. Отсутствующим взглядом смотрит дуче на людей, разлученных между собой его режимом, его диктатурой. Джаннине показалось, что не один тюремщик, шагающий по узкому коридору, подслушивает обрывки разговоров, цепким взглядом ощупывает арестантов и их близких. Ее не покидало ощущение, что тюремщиков в комнате двое, а шагающий между решетками только состоит подручным у дуче… У пожилой женщины истекло время свидания, надзиратель подталкивал ее к выходу, а она делалась все сварливее и крикливее: – Повесили фальшивые часы! Не могло так быстро пройти пятнадцать минут! Полгода не виделись! Чтоб тебе самому никогда не увидеть своих детей! Молодая женщина безмолвно смотрела через две решетки на любимого. И тот не отрывался от нее взглядом. Не было бы двух решеток и свидетелей, любящие молодые люди, наверное, устали бы от поцелуев, ласк, объятий. Без решеток и свидетелей им не наговориться было бы ни за день, ни за неделю. Эта пара вела себя на свидании непринужденно. Им не нужно было делать вид, что они не замечают надзирателя, тот на самом деле был им глубоко безразличен. Джаннина полюбовалась и красивой беременной женщиной. Казалось, той к лицу беременность, ее украшают большой живот и налитые груди. Все обращали на нее внимание, а тюремщики относились к беременной с подчеркнутым уважением. Монотонным голосом надзиратель напоминал время от времени, что свидания длятся пятнадцать минут и что запрещены всякие тайные переговоры, как словесные, так и с помощью жестов. И этого самого надзирателя молодая мать упросила пустить мальчика в коридор между решетками. Мальчик вошел в коридор и бросился к отцу. Отец протянул сквозь решетку обе руки, обнял малыша, и тот судорожно, между прутьев, целовал отца в жесткую щетину. «Страшно мальчику смотреть на отца сквозь решетку. Но еще мучительнее такое свидание для отца – не взять сына на руки, не приласкать по-настоящему…» И Джаннина с острой жалостью подумала о Паскуале, которого сейчас приведут. Им не разрешат поцеловаться даже через решетку, она не маленькая девочка, на такое послабление могут рассчитывать только дети, когда дежурит сердобольный надзиратель. Глядела во все глаза, поджидая, когда же появится отчим, и все-таки не заметила, как он вошел в противоположную дверь за двумя решетками. – Я тебя, доченька, ждал еще в прошлое воскресенье… – Слишком поздно увидела письмо из тюрьмы. Сперва уехала на два дня домой, в Турин. А когда вернулась в Милан, ночевала в конторе, на диване. После обыска был страшный разгром! Убирали два дня подряд… А Паскуале невпопад говорил ей всякие нежности, вглядывался с любовью. Как мужественно она держится! Хорошо хоть, палачи не попортили ей лицо. Но куда же в таком случае нанесены побои? Сам видел кровавые следы… Он все не решался спросить, только кривил пересохшие губы. А Джаннина, пользуясь тем, что надзиратель отошел в дальний конец решетчатого коридора и уселся там на скамейку, принялась со всеми подробностями рассказывать о невеселых новостях, которые обрушились на нее дома. Отец, конечно, помнит, что в их доме, на той же лестнице, этажом ниже, еще в начале лета поселился вертлявый субъект, контролер трамвайного парка. Он часто бывал в подпитии, часто стучался к матери, прося в долг то бутылочку кьянти, то несколько сигарет, то сковородку, то соус «магги» для пасташютта, то горсть оливок. Был он назойлив, болтлив и неприлично любопытен. Потом сосед надолго исчез, а недавно снова объявился. Постучал в дверь, передал матери привет от Паскуале («Чтоб я такому негодяю доверил свой привет? Ах, падаль!»), сказал, что работает теперь в Генуе контролером в портовой таможне, часто встречает Паскуале на пристани, при погрузке. Паскуале просил привезти ему из дому свитер, задули холодные ветры («Чтоб негодяю продуло печенки и мозг в костях!»). Мать послала свитер и шерстяные носки, а в придачу – сладких пирожков («Чтоб негодяй ими подавился!»). В тот самый вечер, когда в Милане был арестован шеф, у них дома, в Турине, устроили обыск. И кто же верховодил во время обыска, покрикивая на двух чернорубашечников и даже на младшего полицейского офицера? Тот самый контролер из трамвайного парка или из портовой таможни, который жил на их лестнице, этажом ниже. Только во время обыска мать сообразила: какой же он трамвайный контролер, если никто ни разу в трамвае его не видел? Как только Джаннина приехала домой в Турин, ее вызвали в тайную полицию, вернее сказать, за ней прислали полицейский автомобиль. Самая большая неожиданность – и в участке торчал их вертлявый сосед. Именно он и принялся допрашивать. Джаннина поклялась головой матери и ранами Иисуса Христа, что ничего о работе отчима сказать не может, и ее в конце концов отпустили. Черные рубашки в Турине знают, кто ее жених, и, может быть, это сыграло свою роль. Зачем огорчать уважаемую, богатую семью? Старший их сын, брат Тоскано, – заслуженный участник похода на Рим. В отеле, принадлежащем будущему свекру Джаннины, в каждом номере висит портрет Муссолини. А после допроса вертлявый субъект, кривляясь и цинично хохоча, протянул Джаннине бумажку. – Что это? – спросила Джаннина. – Расписка, ее нужно подписать. Вот тебе ручка, а вот держи деньги. – Деньги? За что? Вертлявый объяснил, что это компенсация за ее белье, которое было реквизировано для нужд фашистской империи. – Нам потребовалось батистовое кружевное белье, которое отчим подарил тебе в день ангела. – Вы реквизировали белье? Почему же ни я, ни мать не знали? Выяснилось, что Вертлявый запасся ключом от их квартиры и выкрал из комода коробку с кружевным бельем. Наверное, мать проговорилась про подарок, а он утащил белье, когда матери не было дома. Джаннина с возмущением швырнула лиры на стол, а Вертлявый сказал: – Напрасно швыряешься, синьорина. Ты ведь только невеста, а не жена богача Тоскано. В конверте, кстати сказать, четыреста пятьдесят лир, вдвое больше, чем стоят твои прозрачные сорочки. Джаннина долго бушевала и ругательски ругала Вертлявого, ругала темпераментно, натурально, но не слишком искренне. Ее не так огорчила пропажа белья, тем более что за 450 лир можно купить не полдюжины, а дюжину батистовых сорочек. Но после всего, что произошло в конторе, дома и в тайной полиции, – чем еще она могла защитить себя, кроме бабьей сварливости? Она увлеченно, совсем по-девчоночьи, пересказывала сейчас, как отругала Вертлявого, но при этом была недостаточно внимательна к отчиму. Как только зашла речь о рубашках, Паскуале подавленно замолчал, угнетенный смутной тревогой, подступившей к самому сердцу. – Ты меня простила? – За что, отец? – Из-за меня, из-за меня ты пострадала. – Я каждый день молюсь богу и прошу его, чтобы это недоразумение с тобой и моим шефом поскорее выяснилось. – Ты лишилась работы? – Пока синьор Паганьоло меня не уволил. Конечно, конторскую работу в Милане найти нелегко. Найти работу труднее, чем ее потерять. Лишь бы не потерять свое доброе имя! – Поверь, я это сделал только ради тебя. Когда я узнал, что тебя схватили черные рубашки и жестоко пытают… Джаннина от удивления даже отступила на шаг, затем снова прильнула к решетке и крикнула так, что соседи встрепенулись, а тюремщик вскочил со скамейки. – Кто тебе сказал? – Разве неправда? – Подлая ложь. – А твое окровавленное белье? – Зачем они тебя обманывали? – ответила она в тревожном недоумении вопросом на вопрос. Паскуале, потрясенный новостью, онемел. Новость была бы радостной, если бы он уже не понял, что стал жертвой провокации. – Что им нужно было от тебя, отец? – все громче кричала Джаннина. – Чего они Домогались? Надеюсь, ты не поддался? Не запятнал своей чести? Я могу гордиться тобой, как прежде? Он двумя руками судорожно ухватился за прутья решетки так высоко, как только мог дотянуться, и поник головой. – Ты ничего не сказал лишнего? С большим трудом поднял он голову, уткнулся лицом в вытянутые руки. В эту страшную минуту он хотел, чтобы решетки между ним и Джанниной были гуще, чтобы можно было спрятать лицо. Но все равно ему некуда было спрятаться, укрыться от вопроса: – Значит, это ты? Он и сейчас не мог собраться с силами, поднять веки и посмотреть на дочь. Только поэтому он не увидел, как сильно она изменилась в лице – ни кровинки. Он ждал от нее слез, которые облегчили бы его совесть, но не дождался этих слез. Она повернулась и пошла к двери, опустив голову. 
– Джаннина, девочка моя! – закричал он вслед, но она не обернулась на крик, от которого вздрогнул тюремщик. А больше никого крик не всполошил. Мрачная комната, перегороженная двумя решетками, – эти решетки не раз были смочены слезами и слышали всякое, в том числе и крики вдогонку в самые трагические, последние мгновения, когда кончается свидание и начинается разлука – иногда короткая, иногда многолетняя, а иногда вечная… Джаннина отвратила от Паскуале свой взгляд, свой слух и свое сердце. 38 Через три дня Кертнера вновь вызвали на допрос. За столом сидел новый следователь, а в кресле возле стола Кертнер увидел знакомого доктора юриспруденции. В петличке у него фашистский значок. Когда конвойные вышли, доктор отвел глаза и сказал: – Я сожалею о случившемся. Больше такое не повторится. Доктор подошел, протянул руку Кертнеру и попросил извинить за несдержанность. – Нет. – Кертнер отступил на шаг и заговорил по-немецки: – Мы не в равных условиях, и подать вам руку не могу. Я мог бы простить неграмотного карабинера, но не доктора юриспруденции. Это вы преподали урок римского права своим боксерам тяжелого веса. – Кертнер сплюнул кровь. Доктор торопливо вышел из комнаты, а Кертнер успел заметить пренебрежительную улыбку, которой его проводил новый следователь. К чему относилась улыбка – к опрометчивой злобе начальника или к его скоропостижному раскаянию? Следователь заговорил по-французски. Кертнер отрицательно покачал головой. Следователь перешел на английский – безуспешно. Неожиданно прозвучал какой-то вопрос на ломаном русском языке, но Кертнер пожал плечами – не понимает. Пришлось следователю поневоле вернуться к немецкому, который он, по-видимому, знал слабо и старался его избежать. А Кертнер нарочно заговорил по-немецки сложными витиеватыми фразами и очень быстро. Следователь вспотел, лицо его было в испарине, он мучительно подбирал немецкие слова, а Кертнер при этом подавлял в себе желание подсказывать ему. И лишь после этого Кертнер с безупречного немецкого перешел на плохой итальянский. Новый следователь также начал с вопроса о ключах от сейфа «Банко ди Рома», но весьма спокойным тоном. Может, просто хотел продолжить допрос с того пункта, каким он закончился позавчера? Кертнер упрямо и зло повторил то, что сказал Коротышке, а новый следователь в ответ спокойно закурил сигарету, протянул пачку Кертнеру, тот отказался. Следователь начал рассказывать о дьявольски сложных замках в банковских сейфах Милана и вдруг спросил: – Хотите знать, как взломщика сейфов называют русские? – Интересно, как? – Укротитель медведей. – Для русских это даже остроумно! – рассмеялся Кертнер. В самом деле смешно: весьма вольный перевод русского слова «медвежатник»! Трехдневный перерыв в допросах был вызван тем, что вскрывали сейф в «Банко ди Рома». Второй следователь, в отличие от первого, понимал: Кертнер не стал бы по-мальчишески прятать ключи, если бы в сейфе на самом деле хранилось что-то секретное; всякий сейф можно в конце концов открыть. На этот раз пришлось, автогеном вырезать замок в бронированной дверце, что удалось сделать только на третий день. Новый следователь ничуть не удивился, когда узнал, что в сейфе пусто. Кертнер уже понял, что у нового следователя совсем другой уровень мышления, нежели у тщедушного коллеги, никудышного психолога. Новый следователь дотошнее, догадливее, умнее предшественника, и разговаривать с ним будет нелегко. Коротышка не спускал с Кертнера колючего взгляда, а новый следователь, наоборот, прятал глаза за дымчатыми стеклами. Не про таких ли людей Достоевский где-то сказал: «С морозом в физиономии»? У нового следователя аккуратная, круглая, похожая на тонзуру, лысина, окаймленная густыми, уже седеющими волосами – будто темя его выбрито, будто он священнослужитель и лишь перед допросом снял сутану, а мундир его – не более чем маскарад. На толстом пальце перстень с крошечным черепом, и новый следователь играет своим перстнем, внимательно его разглядывает, будто видит череп впервые. – А куда делся скафандр, который вам продали в Монтечелио весной этого года? – неожиданно спросил следователь. Кертнер оценил опасность вопроса и ответил без запинки: – Чемодан со всеми кислородными доспехами лежал на моем шкафу. Я давно не пользовался герметической маской. – Никакого чемодана на шкафу не было. – Значит, его унесли ваши сотрудники при обыске. – Для чего? – Для того, чтобы вы могли утверждать – чемодана не было… Я уже имел честь поставить вас в известность о том, что ни за одну вещь, «найденную» вашими полицейскими при обыске в мое отсутствие, и ни за какую пропажу я отвечать не намерен. Пользуясь моим арестом, натаскали в дом и включили в опись какие-то чужие чертежи, бумаги, черт знает что. Уже сам обыск в отсутствие хозяина – провокация. Убежден, что если бы вы, синьор комиссар, занимались моим делом с самого начала, вы не допустили бы такого беззакония и не поставили бы себя тем самым в затруднительное положение. Следователь и так раздражен топорной работой сыщиков, а Кертнер умело использовал для своей защиты все нарушения закона при аресте и обыске. Не было ничего особенно подозрительного в том, что Кертнер отправился весной нынешнего года на опытный авиазавод и заказал себе скафандр для высотных полетов. Большинство самолетов не имеет герметичных кабин, а без кислородной маски высоко летать нельзя. В самом скафандре ничего особо секретного нет, в специальных журналах уже появились подробные технические описания, фотографии, чертежи. Но для решения задачи, которая стояла перед Кертнером, нужен был образец. Этот кислородно-дыхательный прибор с герметичной маской уже несколько лет применялся в Италии при высотных полетах. Не раз и не два он сам подымался на высоту. Но затем он счел, что кислородная маска еще нужнее Старику, переправил ее с оказией в Центр. «Лысый видит меня насквозь, – отметил про себя Этьен. – И понимает, что я точно так же вижу насквозь его. Хотя я очень стараюсь скрыть это…» И чем очевиднее становилось, что новый следователь – дока, тем Кертнер становился спокойнее. Он принял непринужденный вид, – наконец-то ему представилась счастливая и такая редкая для коммерсанта возможность откровенно поговорить с умным человеком о своем деле. Великая наука самообладания! Следователь начал выяснять обстоятельства последней поездки Кертнера в Испанию: – Вы же могли поехать туда скорым поездом через Ниццу и Марсель. Зачем вам нужно было ехать пароходом через Специю да еще двое суток ждать в порту парохода «Патриа»? – Разве вы не знаете, что пароходом, если даже купить билет первого класса, проезд в три раза дешевле, чем скорым поездом? Я не жалуюсь на бедность, но привык считать ваши лиры, как бы они ни стали легковесны. Еще отец приучил меня считать каждый шиллинг… Иногда выгоднее сыграть роль богача, который сорит деньгами, а иногда – притвориться прижимистым, скуповатым… Да, он много лет занимается чертежами разных моделей самолетов. Как он может не интересоваться авиационной техникой, если сам занят усовершенствованием авиационных приборов, имеет в этой области несколько изобретений и его авторство удостоверяется международными патентами? Да, он иногда проявляет любопытство, которое могут счесть нездоровым те фирмы, которые скрытничают и секретничают, что называется, на пустом месте. Он исповедует ту точку зрения, что ради общего прогресса авиации не грешно подобрать и то, что плохо лежит, то есть лежит без движения. Следователю хочется назвать это техническим плагиатом? Кертнер предпочел бы называть такой повышенный интерес к чужим чертежам творческим заимствованием новинок. Но дело, в конце концов, не в формулировках. Да, патентами Кертнера не раз интересовались в военных министерствах его родной Австрии, Японии, Греции, Испании. Он не усматривает в этом ничего враждебного для Италии. Советское посольство? Нет, с советскими он пока дела не имел. Если бы Кертнер действовал по заданию России, работал для нее, как пытался его уверить следователь маленького роста на высоких каблуках, – ну зачем бы он стал хранить у себя дома чертежи русских самолетов с грифом «Совершенно секретно»?! Бессмыслица, нелепая бессмыслица! Русские чертежи не хуже других. У русских тоже можно кое-что позаимствовать! «Пожалуй, не нужно было мне сейчас напоминать, да еще так назойливо, об этих чертежах. История с русскими «совершенно секретными» чертежами сгодилась бы для первого следователя, а этого на «совершенно секретной» мякине не проведешь…» Выслушав последний довод, следователь молчал, потирал свою круглую лысину и продолжал изучать чертежи. – Даже наиболее вероятная, с вашей точки зрения, версия – это ведь еще не доказательство, – продолжал Кертнер. – Вот, например, в Париже, в Лувре, я видел статую Венеры Милосской. Есть версия, по которой правой рукой Венера когда-то поддерживала покрывало, а в левой держала яблоко. Об этом написано в сотне книг, но это только версия. Робкая полуулыбка на мраморном лице Венеры ничего подсказать не может. – Не очень-то вы уверенно себя чувствуете, – усмехнулся следователь, – если призываете себе на помощь Венеру, да еще без обеих рук! Он курил, пуская кольца табачного дыма так ловко, что одно кольцо проходило сквозь другое, более широкое. Он вторично предложил сигарету Кертнеру, но тот вновь отказался, показав на свои разбитые губы. Следователь сделал свои глаза непроницаемыми. Так или иначе, Кертнер не мог обвинить его в бестактности или отсутствии ума, а следователь, видимо, отдавал должное своему противнику, и потому допрос, как он ни был далек от откровенности, проходил в духе взаимного понимания. Во всяком случае, это была дуэль сильных противников. Бывало так, что следователь только успевал о чем-нибудь подумать, как Этьен угадывал его мысль и отвечал на еще не прозвучавший вопрос. И точно так же случалось следователю предугадывать не произнесенные вслух ответы Кертнера. Неожиданно следователь протянул Кертнеру пачку «Нойе Цюрхер цейтунг» за последние дни. Газеты разрешено передать Кертнеру: распорядился доктор юриспруденции. Кертнер развернул газету и тотчас же уткнулся в биржевой бюллетень, будто для него на свете не существовало ничего более интересного, чем курс акций за последнюю неделю. Следователь все больше склонялся к мысли, что перед ним нечистоплотный делец, который промышляет тем, что поставляет разным посольствам чертежи, патенты и при этом не брезгует секретными материалами. А в конце допроса следователь, не ожидая просьбы Кертнера, сообщил, что все деньги, изъятые при аресте, будут ему сегодня возвращены. Пока ведут следствие, он имеет право тратить деньги по своему усмотрению. 39 Скарбек отправился на вокзал заблаговременно: его беспокоил большой багаж. Два носильщика потащили в багажное отделение кофр, два чемодана, круглую шляпную коробку и ящик с крокетом. 
Анка и сын остались в вагоне, а Скарбек вышел на перрон. К нему подошел встревоженный носильщик и сказал: – Вас вызывают в багажную кассу. Что-то неблагополучно с багажом. Скарбек обменялся мимолетным, но весьма красноречивым взглядом с Анкой, стоявшей на площадке вагона, и направился за носильщиком. Анка смотрела ему вслед, слегка побледнев. Багажный приемщик встретил пассажира очень строго: – Это ваш багаж? Он весит больше положенного. Вам необходимо доплатить девяносто четыре шиллинга. Скарбек шумно перевел дух, вынимая бумажник. Багажный приемщик подумал, что пассажир шел очень быстро и потому запыхался. Приемщик выразил удивление по поводу того, что господин везет с собой ящик с крокетом. Дешевле купить новый крокет, чем платить такие деньги за багаж. – Вы, наверное, правы, – согласился Скарбек. – Но мы уже привыкли к своим шарам и молоткам… Теперь крокет снова входит в моду. На прощанье, уже после третьего звонка, Скарбек угостил приемщика гаванской сигарой, а сам небрежно бросил недокуренную сигару, источающую тонкий аромат, под колеса тронувшегося вагона. Это может позволить себе лишь очень богатый курильщик. Когда поезд отошел от платформы венского вокзала, Скарбек вытер лицо и сказал со вздохом облегчения: – Ты знаешь, Анка, мне сегодня так повезло, будто у меня было рекомендательное письмо к самому господу богу!.. 40 После очередного допроса Кертнер лежал в полузабытьи в своей камере, выходящей на солнечную сторону, как вдруг с грохотом отворилась дверь и вошел охранник. Кертнеру приказали быстро одеться. – Скорей, скорей! – торопили его, когда он шел по двору к черному закрытому автомобилю. – Бегом! Его так скоропалительно погрузили в автомобиль и повезли, что он не успел даже зашнуровать ботинки и повязать галстук. Пришлось проделать все это на ходу. Его доставили на вокзал, откуда отправляются поезда на Турин. По платформе они втроем бежали во весь дух. И едва вошли в вагон, поезд тронулся. Кертнеру и его провожатым было оставлено отдельное купе. Из-за них на несколько минут задержали поезд Милан – Турин. Сидя у окна вагона, Этьен вспоминал все, что ему в те дни необходимо было помнить. Перед его закрытыми глазами проходили вереницей все, с кем он сотрудничал в последние месяцы. Ему еще предстоит очная ставка с тем, кто предал. Не хотелось думать, что его выдал Паскуале, – скорей всего, Паскуале сам стал жертвой чьего-то предательства. Может быть, Блудный Сын? О нем тоже не хотелось думать плохо, хотя его биография давала некоторые основания для тревоги. Отец – крупный судовладелец, у него свои верфи в Специи и в Генуе. Может, Блудный Сын не выдержал допросов, пыток и выдал товарищей, рассчитывая на то, что отец поможет освободиться своему раскаявшемуся отпрыску, разыгравшему «Возвращение блудного сына»? У отца огромные связи, огромные деньги, он много сделал для итальянского военного флота, может рассчитывать на заступничество самого дуче. Но еще больше подозрений вызывал у Этьена муж Эрминии. Все-таки не случайно Этьен так встревожился, когда его застал в фруктовой лавке Маурицио! Красивый парень с характером, который можно определить словами «бери от жизни все». В подпольной борьбе самое опасное – когда человек любит прихвастнуть, а кроме того, часто наступает на пробку. Хвастун может легко проболтаться в компании приятелей, перед которыми ему захочется побахвалиться. Хвастовство – самый опасный порок у того, кто обязан держать язык за зубами и строго придерживаться правил конспирации. Маурицио во власти оскорбленного тщеславия, он любит вспоминать, как его в армии обошли чинами, наградами, и начинает объяснять случайному собеседнику, почему обошли – из-за симпатии к антифашистам. А долго ли проболтаться, когда бутылка виноградной водки – граппы – уже распита? В день прибытия Кертнера в Турин ему устроили несколько очных ставок. Он отказался признать, что знаком с другими арестованными, за исключением авиатора Лионелло, своего летного инструктора. Первая очная ставка состоялась с Блудным Сыном, тот держался отлично. – Вы когда-нибудь видели этого человека? – следователь кивнул на Кертнера, которого ввели в комнату. Вот не рассчитывал Кертнер увидеть в Турине того самого следователя в дымчатых очках и с лысиной-тонзурой, который допрашивал его последние дни в Милане. – Уверенно сказать не могу… – неуверенно произнес Блудный Сын. – Может быть, видел, а может быть, и не видел. Этот синьор не врач? Кажется, я встретил его в местной больнице, когда пришел туда проведать одну знакомую. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. В тот же день состоялась очная ставка с Паскуале Эспозито. Кертнер отказался признать в нем знакомого. Кажется, он мельком видел синьора на палубе парохода «Патриа», а затем этот синьор почему-то оказался его соседом по столику в траттории у фабричных ворот «Мотта». Кертнер несколько раз заставил Паскуале назвать свое имя и свою фамилию, недоуменно пожимал плечами и наконец сказал: – Не обижайтесь, пожалуйста, но ваше имя мне ничего не говорит. Однако для точности мне надо было бы навести справки у компаньона. Может, вы имели дело с синьором Паганьола, а не со мной? Паскуале Эспозито не понимал, что Кертнер отрекается от него ради облегчения его участи, пытается выгородить его из этого дела, и разобиделся – Кертнер сторонился его, как прокаженного! Паскуале дрожал от нервного озноба, плакал от обиды, от стыда, от отвращения к самому себе, а Кертнер наивно полагал, что Паскуале одержим только страхом. И в минуты очной ставки Кертнер не хотел думать, что Паскуале привезли к воротам фабрики «Мотта» в полицейском автомобиле, что он явился в тратторию в роли провокатора. После того как Кертнеру было предъявлено следственное заключение, он должен был подписью своей подтвердить, что ознакомился с ним. Но, возвращая заключение, он выразил письменный протест: суду пытаются подсунуть документы, чертежи, к которым он, Кертнер, не имеет отношения, которых ни в конторе «Эврика», ни у него дома не было и которые подброшены агентами ОВРА при обыске в его отсутствие. 41 Как только поезд отошел от венского вокзала, к Скарбеку вернулось умение хорошо разговаривать по-немецки. Но от него не ускользнуло, что тучный-лысый ехал до чешской границы. А после границы, когда тучный-лысый сошел с поезда, Скарбек завел разговор со старшим кондуктором. Уже в пути они решили ехать в Гамбург всей семьей, чтобы вместе провести рождественские праздники. Можно ли будет купить билеты для жены и мальчика от Праги до Гамбурга? Не могут ли возникнуть осложнения при переезде семьи через германскую границу? Старший кондуктор полистал паспорт Скарбека и сказал: жена с сыном вписаны в паспорт, виза автоматически распространяется на них, если переезд через границу одновременный. А что касается отдельного купе от Праги, то он берет все заботы на себя. Скарбек дал старшему кондуктору деньги на два билета до Гамбурга, щедро поблагодарил его за предстоящие хлопоты и попросил лично проследить, чтобы часть багажа не была, упаси боже, выгружена в Праге. По гамбургскому билету отправлены черный чемодан и ящик с крокетом, а по билетам до Праги – серый чемодан, кофр и коробка для шляп. Во время стоянки поезда в Праге старший кондуктор проделал все, что нужно. Но пассажир из вагона «люкс» был из тех, кому всюду мерещатся воры или недобросовестные сотрудники. Он несколько раз подходил к багажному вагону, все тревожился, все боялся, что его багаж по ошибке выгрузят в Праге. Скарбек не был бы Скарбеком, если бы, после визита агента, после того, как им заинтересовалась политическая полиция, не сменил бы станцию назначения и поехал туда, куда взяты билеты. А если гестаповцы уже приготовились встретить его в Гамбурге и опекать там? Он решил сойти в Берлине, но со старшим кондуктором об этом не заговаривал. По приезде на берлинский вокзал Скарбек направился к багажному вагону, дал кладовщику хорошие чаевые и сказал, что дела вынуждают его сделать остановку на несколько дней в Берлине. Пассажир из вагона «люкс» ушел с перрона, только когда тележка с его багажом проследовала в багажное отделение. Позже, не доверяя агенту отделения, пассажир из вагона «люкс» сам явился туда с двумя носильщиками. Его просили не беспокоиться, обещали прислать багаж по любому берлинскому адресу в течение часа. Но суматошный и недоверчивый пассажир предпочел, чтобы все вещи погрузили в таксомотор, которым он едет в отель на Курфюрстендамм. Оба чемодана, кофр и ящик с крокетом водрузили на решетчатый багажник, прикрепленный к крыше. Приезжий показался шоферу «оппеля» весьма щедрым, но суетливым, недоверчивым господином. В последнюю минуту он попросил покрепче привязать багаж к решетке наверху. Будто «опель» могло так тряхнуть на безукоризненном берлинском асфальте, что багаж посыплется с крыши. Однако в Берлине, в отеле на Курфюрстендамм, Скарбек задержался ненадолго. Уже следующим вечером швейцар гостиницы «Полония» на Аллеях Ерузалимских в Варшаве грузил в лифт его багаж. Портье приветливо встретил Скарбека и сказал, протягивая ключ: – Пану приготовлен тот самый номер, где пан останавливался в августе. – Вежливо благодарю пана. – Сановный пан надолго к нам? – Хочу провести рождество в родном городе. – Скарбек заторопился к лифту, а перед тем как войти в него, спросил у портье: – Можете прислать мне утром портного? – Конечно, пан. – Насколько помню, в «Полонии» меня обслуживал очень симпатичный пан… – Пан Збышек? – Кажется, так. – Я пришлю его… После завтрака Скарбек запер дверь за вошедшим в номер портным; на шее у того сантиметр, лацканы утыканы булавками. – Пан Збышек, рад вас видеть в добром здравии. – Скарбек принялся распаковывать ящик с крокетом. – Я еще ношу пиджак, на котором вы переставили пуговицы. С того дня – ни морщинки! Скарбек стал отвинчивать ручки у крокетных молотков, тряся их над столом. Из полых, искусно выточенных ручек посыпались кассеты с микрофильмами. Скарбек свинтил молотки, уложил их обратно в ящик, спрятал пленки во внутренний карман пиджака, застегнул его на пуговицу, снял с себя пиджак и протянул его пану Збышку: – Прошу вычистить и выгладить, как пан это умеет делать. Пан Збышек вышел из номера, осторожно неся пиджак на плечиках. В карманах пиджака лежали фотокопии чертежей, отправленных нынешним летом с заводов «Мессершмитт», «Фокке-Вульф» и «Хейнкель» в Италию и в Испанию. Фотокопии чертежей возвратились в Германию, чтобы через несколько дней совершить новое и последнее свое путешествие – на восток. 42 Рыжий карабинер сидел в купе напротив Кертнера и, пока поезд не тронулся, держал цепь от наручников. Никто не отважится убежать в наручниках. Но таков закон караульной службы – пусть арестант все время чувствует, что находится под строгим конвоем. Капрал, начальник конвоя, который сопровождал большую партию арестованных, оказался симпатичным, вежливым молодым человеком. Проехали всего несколько станций, а он уже разговорился с арестантом, сообщил, что фамилия его Чеккини, и признался с внезапной откровенностью, что его сильно тяготит служба. Два брата работают на шахте в Сицилии, сестра белошвейка, отец всю жизнь рыбачит. Дома твердят, что он, капрал, выбился в люди, но сам он считает себя неудачником. Черт его дернул учиться в военной школе, получить в проклятой Абиссинии пулю в бедро, а затем поступить в карабинеры! Это правда, что тюремщиками или полицейскими чаще всего служат уроженцы Сицилии, Сардинии или Калабрии. Но не потому, что люди там хуже, а им просто некуда больше деться, у них нет другого спасения от безработицы, они поневоле менее разборчивы. Когда рыжий карабинер вышел из купе, капрал рассказал и про него. Родом он из Рима, столяр, остался без работы. А как прокормить себя, мать и сестренку? Капрал перешел на шепот и сообщил, что товарищ тоже тяготится своими обязанностями. Но что делать – оба они приняли военную присягу. – Форма вам очень идет, – сказал Кертнер простодушно и искренне. – На платформе все женщины оборачивались. Высокий, статный Чеккини очень хорош в форме карабинера – пилотка надета чуть набок, на одну бровь; белый лакированный ремень продернут под левым погоном; красные лампасы на брюках кажутся очень яркими, может быть, потому, что вшиты в черное сукно. И хотя шпоры, вделанные в каблуки, не всамделишные, фальшивые, у Чеккини такой вид, словно он еще сегодня гарцевал на лихом коне, а спешился только перед отходом поезда. Позже карабинеры собрались поужинать и пригласили в компанию австрийца. Тому сильно досаждали наручники, и Чеккини разрешил их снять на время ужина. Назавтра Кертнер попросил симпатичного капрала – согласно правилам, у него хранились деньги арестанта, – чтобы рыжий карабинер купил на ближайшей станции три обеда, стандартные, но дорогие обеды по десять лир. Карабинерам такие обеды не по карману. В каждом пакете булочки с ветчиной, четверть цыпленка с картофелем, пасташютта в пергаментном кульке, бутылочка фраскатти, мягкий сырок, несколько груш. К каждому пакету приложена жестяная ложечка и вилка. Помимо трех обедов, Кертнер поручил рыжему карабинеру купить апельсины в плетеной корзинке и три пачки лучших сигарет. Рыжий карабинер вышел в коридор, а капрал ушел в соседний вагон, где также везли арестованных. И Этьен остался в купе наедине со своими тревогами и заботами. Он пытался заснуть, притулившись к стенке у окна. Бесконечной шеренгой убегали назад телеграфные столбы. Генуя осталась позади. Поначалу Этьен думал, что суд устроят там, но его везут в Рим, это пахнет Особым трибуналом и тюрьмой «Реджина чели», ее название можно, пожалуй, перевести как «Царица небесная»… «Где ошибка? Какой из советов Старика мною забыт? Каким наказом я пренебрег?» Он перебирал в своей встревоженной памяти десятки советов Старика, какие получал на протяжении всей своей конспиративной жизни. Подследственный снова и снова становился дотошным, проницательным следователем по своему делу. В поисках оплошностей, промахов, упущений он снова сопоставлял две свои жизни – коммерсанта и разведчика. Все последние дни он очень нуждался в советах Старика, но тот далеко-далеко, в Испании… «В том-то и особенность нашей профессии – мы чаще, чем кто-нибудь, остаемся в полном одиночестве, такая у нас судьба… Не с кем посоветоваться, все нужно решать самому. Притом решать молниеносно, иногда в те доли секунды, какие предоставляет тебе противник». Вагонное окно наполовину открыто. Над головой, на верхней сетке, лежит маленький саквояж Этьена. Наручники сняты. Рыжий карабинер дремлет. Этьен инстинктивно скользнул взглядом по кобуре с пистолетом и подсумку, висящим на белом лакированном ремне. «Ну, предположим, сбегу на ближайшей станции. А куда денусь? Где скроюсь от черных рубашек? Беспаспортный бродяга, без крыши, сразу поймают…» В купе вошел капрал, увидел, что рыжий карабинер спит, а арестант сидит напротив, не смыкая глаз. Капрал, тормоша рыжего, спросил без тени испуга: – Добрый христианин, как тебе спится? – Пусть немного поспит, – сказал австриец вполголоса. -Я не доставлю вам служебных неприятностей. 43 Тюремщик положил руку на опущенное плечо. – Зачем вы нам мешаете? – взорвался Паскуале. – Разве срок свидания уже кончился? – Не кончился. Но синьорина ушла… Тюремщик предложил Паскуале пройти в камеру, а тот по-прежнему стоял и держался за решетку – пальцы даже побелели – и с кривой усмешкой, не очень осмысленно повторял: – Ушла, синьорина ушла… Тюремщик подал кружку с водой. Наконец-то Паскуале оторвал руки от решетки. Зубы застучали о кружку, он выпил всю воду, но во рту так же сухо. Он заплакал, тут же гулко, на всю комнату, рассмеялся, а когда выходил из комнаты свиданий, сильно ударился плечом о косяк двери-решетки… Паскуале написал Джаннине письмо, ответа не было. Он решил, что письмо затерялось в тюремной канцелярии, поскандалил с надзирателем и потребовал, чтобы к нему в камеру явился начальник охраны – капо гвардиа. Тот заверил, что тюремная администрация в данном случае ни при чем. Подследственному Эспозито в виде исключения разрешена переписка до окончания следствия. Капо гвардиа сообщил, что деньги Паскуале получит завтра утром. А что касается письма, то когда дочь в тюремной канцелярии оставляла деньги, она сказала капо гвардиа: пусть синьор Эспозито писем от нее не ждет. Паскуале отправил второе письмо, подробно написал о том, что именно с ним произошло, и в конце вопрошал: «Почему ты мне не отвечаешь? Ты же слышишь мои рыданья?» Он ждал, нетерпеливо ждал, а ответа все не было. Тогда он понял, что Джаннина никогда его не простит, отреклась от него. А на суде станет ясно, что он предатель. Все на него станут оборачиваться и смотреть с жалостью, с презрением, с ненавистью, и никто – с сочувствием, даже Джаннина. Он попросил молитвенник, тюремщик принес. Тайком от надзирателя он начал распускать присланные ему носки домашней вязки, Нитки были грубой шерсти, крепкие. Паскуале сматывал их в клубочек и думал: «Эти самые нитки разматывались при вязании в быстрых руках матери. А до того мать сама их пряла. А до того сама сучила шерсть. И овец тоже стригла сама. А еще раньше мать, страдая от одышки, карабкалась по каменным кручам, с трудом поспешая за овцами». Жаль, очень жаль, что носки не куплены в каком-нибудь галантерейном магазине. Ему было бы легче, если бы их не связала мать. Вот он остался в одном носке, а еще через день обувал оба башмака на босые ноги. Зябко зимой в башмаках без носков! «Так и ревматизм недолго нажить, – встревожился он и тут же горько вздохнул: – Пожалуй, не поспеет ко мне ревматизм…» Вечером следующего дня, когда в тюремном коридоре зажегся тусклый фонарь, надзиратель вошел в камеру к Паскуале, принес кувшин с водой. Заключенный стоял под оконной решеткой, стоял на цыпочках, прислонившись к стене, с бурым, набрякшим лицом, а голова его неестественно склонилась на плечо. В сумерках надзиратель не сразу увидел серый крученый шнурок, который тянулся от решетки к шее. С криком: «Нож, скорее нож!» – надзиратель выбежал в коридор, тут же вернулся в камеру, перерезал шнурок, и тело Паскуале безжизненно осело. Надзиратель с трудом поднял его, уложил на койку, – не думал, что щуплый человек окажется таким тяжелым! Прибежали тюремный врач, начальник тюрьмы, но все попытки вернуть к жизни подследственного Эспозито были безуспешны. И тогда позвали священника. Предсмертная записка Паскуале: «Не прошу у тебя прощения. Знаю, прощения не заслуживаю. Стыдно дожить до седых волос и не научиться держать язык за зубами. Наложить на себя руки – большой грех, а больше всего, я виноват перед твоей матерью, перед тобой, Джаннина, и перед твоим патроном. Трудно умереть, когда хочется жить. А я дожил до того, что хочется умереть, и этот грех еще больше, чем первый…» Паскуале сам осудил себя и сам привел приговор в исполнение. 44 Сперва Кертнер хотел отказаться от адвоката, который ему назначен Миланской коллегией адвокатов, но затем рассудил, что отказ будет выглядеть подозрительно. Адвокат Фаббрини – тучный, но подвижный, с лоснящимся от пота лицом. Он уже при первом знакомстве заявил, что одобряет линию поведения своего подзащитного. Однако вскоре Кертнер убедился, что Фаббрини изучил дело поверхностно и не придавал значения многим подробностям и деталям, которые Кертнеру представлялись весьма важными. Первое разногласие возникло перед самым судебным заседанием, когда Кертнер узнал, что его собираются возить в суд в наручниках. Фаббрини уверил – это в порядке вещей, закон есть закон. Кертнер настаивал на том, чтобы адвокат передал дирекции тюрьмы его протест. Достаточно того, что скамья подсудимых установлена в железной клетке. Во время спора о наручниках Фаббрини не раз бросало в пот, он вытирал лицо кругообразным жестом, в руке его зажат необъятный платок. Кертнер с раздражением глядел на его круглый, девический ротик, утонувший в толстом, круглом подбородке, на круглые уши – все линии лица у него закругленные. А жирная шея без складок, – как опухоль, подпертая воротничком. И все-таки Кертнер настоял на своем: он сам, помимо адвоката, вызвал капо гвардиа и категорически предупредил – никаких наручников. Иначе он будет скандалить и карабинеры в здание суда его не поведут, а понесут. В камеру явился директор тюрьмы, он тоже отклонил просьбу, в итальянском суде наручники надевают даже на несовершеннолетних… – Если на меня наденут наручники, я не сделаю ни одного – слышите? – ни одного шага! У нас в Австрии на политических наручники не надевают. И тюремщики вынуждены были уступить, они поняли, что скандал неминуем. Кертнеру показалось даже, что Фаббрини не очень этим доволен. И все три дня, пока шел судебный процесс, Кертнера возили из тюрьмы в здание суда и обратно без наручников, с двумя конвойными. С радостью увидел Кертнер, что авиатор Лионелло освобожден из-под стражи и должен выступить на суде в качестве свидетеля. Он вежливо, будто их не разделяла железная клетка, поздоровался со своим бывшим учеником и проследовал мимо с кожаным хрустом – высокие, почти до колен, ботинки на шнурках, кожаные брюки и куртка, кожаная кепка с очками над козырьком. Кертнеру нравилось, как держался на суде Блудный Сын – независимо и отчаянно. Видимо, в ходе следствия ему основательно досталось на допросах, и он сделал какое-то признание, а на суде от него отказался. – Сейчас вы все отрицаете. Почему же вы подписали протокол допроса? – А разве синьору прокурору не известно, что все следствие в Особом трибунале основано на особых средствах воздействия? – Баронтини кулаком ударил себя по скуле. – Пусть я умру без исповеди, если это неправда, пусть мой рот будет жрать дерьмо, если я вру! Да если бы мне тот карлик в мундире приказал сознаться, что это моя подпись стоит на казначейских билетах, – я и под этим подписался бы… Как говорил Фигаро в комедии Бомарше: я надеюсь на вашу справедливость, синьор судья, хотя вы и служитель правосудия… Больше прокурор за все время процесса вопросов Блудному Сыну не задавал. Немало времени посвятил суд поездкам Кертнера на аэродром под Миланом и фотоснимкам, сделанным на этом аэродроме. – Вы летчик? – Да, я летаю. Заслуженный авиатор Лионелло подтвердил, что он давал уроки подзащитному почти год. Кертнер при полетах делал немало ошибок, но в его поведении на земле ничего предосудительного не было. Лионелло с достоинством направился к своему месту, нещадно скрипя кожаными доспехами авиатора. – За несколько лет жизни в гостеприимной Италии, – сказал по этому же поводу Кертнер, – меня только однажды предупредили, что снимать запрещено. – Где же? – насторожился прокурор. – А вы разве не знаете? В музее Ватикана. Там не разрешают брать с собой фотоаппарат. А кроме того, запрещено входить с обнаженными плечами. По залу прошел смешок. На следствии и все три дня, пока шел суд, Кертнер выгораживал других обвиняемых, тем самым взваливая еще больший груз на свои широкие, чуть сутулые плечи. А чтобы это выглядело естественно и не вызывало подозрений, Кертнер не гнушался, когда нужно было, выставлять в непривлекательном виде тех, кого прокурор называл соучастниками. Сами посудите, разве опытный делец мог довериться таким несообразительным, бестолковым людям, разве он стал бы делиться своими планами с людьми, которые так плохо разбираются в технических новинках, а еще хуже – в политике, не читают даже «Мессаджеро»? Да никогда! А Блудного Сына подсудимый Кертнер отказался признать своим знакомым, хотя в глубине души считал надежным другом. Да, встречал его на пароходе «Патриа», где тот плавал вторым помощником капитана. Да, несколько раз подымался на капитанский мостик; они обменивались малозначащими фразами о погоде, но деловых разговоров, а тем более секретных, никогда не вели. – У меня такое впечатление, – сказал Кертнер, повертываясь к прокурору, – вы очень сожалеете, что не смогли заставить Атэо Баронтини признаться в поступках, которых он не совершал. Вы обещаете снисхождение и даже безнаказанность всем, кого считаете моими сообщниками, при условии, если они дадут против меня ложные показания. Но разве синьор прокурор не обнаруживает тем самым собственную неуверенность и делает очевидной слабость закона, который взывает о помощи к нарушителю этого закона? И может ли внушать суду доверие тот, кто способен так легко нарушить верность по отношению к своим товарищам, давая ложные показания? 
Кертнер выиграл немало словесных дуэлей с прокурором, со свидетелями обвинения, с председателем суда, но все это были «мелкие стычки с противником», как любили писать в фронтовых сводках еще в первую мировую войну. А генеральное сражение складывалось не в пользу Кертнера – слишком силен удар Паскуале, нанесенный в спину: все понимали – не станет самоубийца лгать на смертном пороге. Больше всего Кертнер встревожился, когда председатель вызвал последнего свидетеля обвинения – французского агента. Тот прошел к судейскому столу, волоча ноги так, будто на ходу терял, находил и вновь терял комнатные туфли. И как француз ловко инсценировал, будто поднялся на борт «Патрии» в Марселе! Выяснилось, что на самом деле он сопровождал Кертнера от Альхесираса, а может быть, еще от Севильи, от Толедо, от подступов к Мадриду, черт его знает откуда!.. Как только ему удалось за время плавания от Альхесираса до Марселя ни разу не показаться на глаза? Наблюдал он и за Кертнером, и за Эспозито, и за Блудным Сыном. А Кертнер еще наивно думал, что поиздевался над агентом, когда прощался с ним на пристани в Специи и утомительно болтал о графе Монте-Кристо. Француз едва начал давать свои показания, как Кертнер понял – сотрудник испанской контрразведки. Ну и дошлый тип! Ему удалось перехитрить Кертнера, правда, при активной помощи капитана «Патрии». Совершенно очевидно, что испанская контрразведка работает в самом тесном контакте с ОБРА. «Скольких агентов я за последние месяцы сумел обезвредить, отшить, оставить в дураках, – сокрушался Этьен, слушая показания этого субъекта, – а такого опасного не заметил. А распознал бы его сам Старик, если бы столько времени подряд жил и работал, преследуемый сворой гончих и сыщиков-охотников? Какая это была по счету западня?..» Суду стало известно, сколько раз на протяжении рейса «Патрии» Эспозито заходил в каюту второго помощника капитана Атэо Баронтини (Блудного Сына) и сколько раз Эспозито, опасливо оглядываясь и полагая, что в коридоре никого нет, успел прошмыгнуть в каюту Кертнера. А позже бретонцу удалось найти секретные чертежи в трюме между бочками с оливковым маслом: чертежи лежали там два дня, прежде чем их удалось подложить обратно в сейф. Вот эти секретные документы передал Эспозито человеку, называющему себя австрийцем, в траттории возле фабрики «Мотта»… Надолго в памяти остался резкий стук одновременно отодвинутых кресел – это когда все судьи встали, удаляясь на совещание. Подсудимые в ожидании приговора писали письма, разрешены были свидания, и лишь Кертнер коротал время в гнетущем одиночестве – кто пожалует к нему в эти часы? 45 Тем большей неожиданностью было известие, что ему разрешено свидание с синьориной Эспозито. Нечего и говорить, мужественный поступок со стороны Джаннины. Не очень охотно знаются с теми, кого Особый трибунал обвиняет в шпионаже. Джаннина получила разрешение на свидание здесь, в Риме, в министерстве юстиции, так как Паганьоло удостоверил, что секретарше «Эврики» дан ряд деловых поручений к его бывшему компаньону, с которым сам он встречаться не желает. Тюремщик, по-видимому, решил, что свидание на романической почве, и предупредительно отвернулся. Джаннина в черном платье, траурная повязка на рукаве жакета. Кертнер выразил ей соболезнование в связи со смертью отчима. Она молча кивнула, но ничего не сказала, и только круги горя под глазами и необычная бледность напоминали о пережитом. Кертнер осведомился о ее матери, и она сказала, что если контора «Эврика» не закроется и синьор Паганьоло оставит ее на работе, она привезет мать к себе в Милан, а в противном случае сама уедет в Турин. Она сделает это неохотно, потому что в Турине живут родители Тоскано. Сам он воюет в Испании с красными. А встречи с его родителями только вызовут лишние объяснения, назойливые попытки ей помочь, поскольку в Турине не так-то легко найти работу. Кертнер пытался ее ободрить – все образуется, жених вернется невредимым. Но Джаннина только покачала головой и призналась, что она и Тоскано перестали понимать друг друга, она к нему совсем равнодушна, ей все труднее называть себя невестой. Она серьезно подумывала о том, чтобы уйти в монастырь, а теперь склоняется к мысли, что лучше ей остаться «дзителлой», то есть старой девой. – Молодая, красивая женщина говорит, что останется старой девой, только тогда, когда твердо уверена, что выйдет замуж, – в первый раз улыбнулся Кертнер. Джаннина стала рассказывать о синьоре Паганьоло. «Напрасно вы так защищаете своего компаньона Кертнера, – убеждал следователь синьора Паганьоло. – Даже Спаситель не мог выбрать себе двенадцать учеников, чтобы среди них не оказался взяточник и предатель. Как же вы можете ручаться за Кертнера?» На это синьор Паганьоло возразил, что дело Особого трибунала – доказать виновность Кертнера, но следователь или прокурор не могут заставить Паганьоло считать своего компаньона иудой. Все это Джаннине рассказал синьор Паганьоло. Поначалу он держал себя независимо, но после судебного заседания, на котором выступил прокурор, Паганьоло даже изменился в лице. По словам Джаннины, никаких деловых претензий к Кертнеру он не имеет, более честного в расчетах компаньона не встречал. Но жаловался, что его обманули, поступили неблагородно, Кертнер не тот, за кого себя выдавал. Еще в первый день судебного разбирательства Паганьоло собирался нанять за свой счет знаменитого адвоката и добиваться пересмотра дела. Но после показаний француза, после речи прокурора он заявил, что помогать бывшему компаньону больше не намерен. Паганьоло встал и демонстративно вышел из зала суда, сказав при этом: «Пойдем, Джаннина, нам тут больше делать нечего». Паганьоло забыл, что Паскуале – ее отчим. Джаннина сослалась на неизлечимое женское любопытство и попросила разрешения остаться: «Интересно, чем дело кончится». Джаннина сообщила, что деньги Кертнера и половина всех денег на счету в «Банко ди Рома» и на других лицевых счетах конфискованы. Остается рассчитывать на те личные вещи, которые попали в опись, сделанную после обыска, и не подлежат конфискации. Уже перед концом свидания Джаннина вспомнила, что со вчерашней почтой на имя герра Кертнера пришла открытка из Берлина: кто-то доволен своим путешествием, если не считать того, что жена слишком часто пилит его. Подпись на открытке неразборчива. Джаннина погрустнела и вдруг заявила с мрачной решимостью: она теперь очень дорожит своей жизнью, она хочет теперь жить как можно дольше, ей никак, ну просто никак нельзя умереть прежде, чем она не отомстит за отца, за мать, за отчима и за себя… – И за вас тоже, – добавила она и произнесла напоследок с внезапным ожесточением, которого сама испугалась: – Боже, если ты есть, спаси наши души, если они есть!.. На прощанье она совсем по-матерински перекрестила Кертнера. Ей так хотелось сказать своему бывшему шефу что-нибудь утешительное! Большой срок не должен его пригнуть к земле, потому что сроки Особый трибунал дает большие, но король и дуче все время заигрывают с народом, хотят прослыть добряками, и потому в Италии часто объявляют амнистии. А Кертнер в том же тоне, желая показать, что он бодр и никакой срок не может вывести его из душевного равновесия, сказал, что любой тюремный срок не так уж велик, если только его соотносить с вечными категориями и мерками. Предположим, его осудят на восемнадцать лет. За этот срок башня в Пизе отклонится всего на восемнадцать миллиметров, поскольку высчитано, что каждый год, вот уже восемь веков подряд, угол наклона увеличивается в таких пределах. Оба невесело улыбнулись, каждый – чтобы подбодрить другого. На самом деле душно в комнате, где Джаннине дали свидание с Кертнером, или это оттого, что разговор у них шел печальный – о самоубийстве Паскуале, о горьком будущем ее шефа, об испорченных отношениях с Тоскано и о реальной угрозе лишиться работы? Она вышла во двор суда, запруженный шумной толпой. Ждали, когда возобновится судебное заседание и будет оглашен приговор. – Самоубийство в тюремной камере! Шпион никого не узнает! – выкрикивал мальчишка-газетчик в фирменном свитере «Мессаджеро»; он сновал в толпе и бойко распродавал свежий выпуск газеты. На ступеньках дежурила группа репортеров и фотографов. Они атаковали вышедшего из здания суда авиатора Лионелло. – Этот австриец Кертнер на самом деле летчик? – Да, он летает. – Вы никогда не подозревали его в шпионаже? – Если бы это было так, я не называл бы его своим учеником. – Зачем же он фотографировал на аэродроме? – Если ваш редактор любит точность, фотографировал не Кертнер, а я. И не военные самолеты, а спортивные. Ученик видит на пленке допущенные им ошибки в пилотировании, особенно при посадке… А теперь, синьоры, можете меня снимать! Делио Лионелло, в кожаных латах, надел шлем с очками, надел перчатки с раструбами и принял выигрышную позу. А выкрики газетчиков терзали уши, Джаннине невыносимо было слушать это, и она заторопилась со двора обратно. Но дорогу ей преградила толпа репортеров и фотографов, все отхлынули от авиатора и оттолкнули Джаннину от дверей. Из суда вышел представительный седой синьор в безукоризненном смокинге, в цилиндре. Это отец подсудимого Баронтини, один из самых богатых и влиятельных людей Ломбардии, владелец верфей и пароходов. Джаннина оказалась рядом с ним, среди репортеров, будто тоже хотела получить у него интервью. – Синьоры, не задавайте мне никаких вопросов. Я знаю их наперед. Могу сказать про сына Атэо одно – он всегда был легкомысленным, ветреным мальчишкой, и печально, что эта детская болезнь еще не прошла. Бьюсь об заклад – один против тысячи! – он и сейчас не знает, где кончается анархизм и начинается марксизм. Если бы я был на месте гранд-уфичиале Сапорити, я бы хорошенько его выпорол. И запишите там себе: в роду Баронтини шпионов не было и нет. Полезнее напомнить читателям вашей газеты, что я был участником похода на Рим и всегда был рядом с дуче!.. Он важно проследовал к своему автомобилю, и Джаннина со ступенек крыльца видела – кто-то из репортеров услужливо раскрыл перед ним дверцу. Не успел шикарный автомобиль Баронтини отъехать, как из окна послышался колокольчик, возвещавший о начале судебного заседания. Свидание с Джанниной длилось недолго, а перерыв в судебном заседании показался вечностью. Час шел за часом, а судьи все не выходили из комнаты, где совещались. Кертнер понимал, что ничего хорошего приговор ему не сулит. «Суд идет!» – провозгласил наконец секретарь, и в зал заседаний, с чувством собственного достоинства, сопровождавшим каждый шаг, вошли судьи. Членов трибунала пятеро, трое – в судейских тогах, а двое – в гражданском платье, с трехцветными повязками через плечо: цвета национального флага. Согласно требованиям римского права, судьями не могут быть люди с физическими изъянами. И в самом деле, будь члены Особого трибунала хоть трижды моральными уродами, среди них не было ни хромого, ни безрукого, ни горбуна, иные выглядели благообразно, даже импозантно. Но Кертнер хорошо помнил, что его судят фашисты. Кертнер забыл, что полагается встать, и карабинер, стоявший возле железной клетки, подтолкнул его в бок. Долго в ушах звучал хрипловатый, глухой голос секретаря суда: «Именем его Величества Виктора-Эммануила III, милостью Божьей и волею нации короля Италии. Особый трибунал по защите фашизма, учрежденный на основе статьи 7 закона 1936 года № 2008, в составе уважаемых господ. …Заслушав обстоятельства дела и прения сторон, выслушав прокурора, защиту и обвиняемых, имеющих первое и последнее слово, трибунал решил в силу имеющихся прав и на основании фактов. …При судебном разбирательстве Конрад Кертнер придерживался политики умалчивания, уже продемонстрированной им на следствии, утверждая, что он австриец, что не знает персонально никого из обвиняемых, за исключением Делио Лионелло. Кроме того, он не признал своими документы, как изъятые при обыске в его миланской конторе, так и отобранные у него при аресте. …Точное установление личности Конрада Кертнера не интересует трибунал. Для Особого трибунала достаточно того факта, что личность, привлеченная к суду, является той самой личностью, которая действовала совместно с другими обвиняемыми. То, что Конрад Кертнер иностранец, – несомненно, а кто он по национальности – не имеет значения при оценке содеянного преступления. Трибунал не входит в обсуждение целей и природы преступного разглашения секретов. Мотивы преступления могут быть различны, так же как и ценность разглашенных сведений. Достаточно того, что преступление установлено, поскольку разглашение секретов равносильно преступлению. Минимальное наказание Конраду Кертнеру предусматривает пятнадцать лет тюремного заключения плюс еще один год, с зачетом срока предварительного заключения. Применение последнего королевского декрета об амнистии и помиловании сокращает срок наказания Конраду Кертнеру на четыре года. Конрад Кертнер по отбытии полного наказания подлежит высылке за пределы государства». Кертнер прослушал приговор, стоя в железной клетке. А после приговора прощально пожал руку стоявшему рядом, по-прежнему неунывающему Блудному Сыну. Того приговорили к пяти годам, а в связи с амнистией по королевскому декрету срок заключения сокращался до трех лет. В таком благоприятном исходе дела для Блудного Сына большая заслуга Кертнера, он выгораживал его и на следствии и на суде, как только мог. Несколькими минутами позже, в той же самой железной клетке, Кертнер выслушал утешения адвоката Фаббрини. Тот обещал добиться пересмотра дела, обещал еще что-то. Но Кертнер не услышал в его словах искреннего сочувствия. Кертнеру даже послышался в словах Фаббрини фальшивый пафос, потому и смысл слов запомнился смутно. Ну, а кроме того, Кертнер не так часто выслушивал подобные приговоры себе, чтобы в такую минуту запомнить болтовню шумного толстяка Фаббрини. Кертнера вывели из здания суда с черного хода, он уже собрался сесть, подталкиваемый конвойным, в черный автомобиль, как вдруг до него донесся знакомый голос. Не ему ли это кричат? Слов не разобрать. Кертнер повернулся на голос и увидел в толпе зевак, собравшихся во дворе суда… Маурицио собственной персоной! Он так отчаянно жестикулировал, будто его должны были увидеть и понять матросы и грузчики в глубоком трюме парохода. Маурицио показал Кертнеру кулак. Со стороны это выглядело так – какой-то моряк возмущенно грозит врагам фашистского режима. Но Кертнер отчетливо видел, как именно Маурицио поднял кулак, – он умудрился послать ему приветствие «Рот фронт!». Обрадованный и в то же время пристыженный, смотрел он на Маурицио. За дни следствия и суда Этьен уже не раз мысленно попросил у дружка Эрминии прощения за то, что плохо о нем думал. Этот симпатичный бахвал и выпивоха небось и не подозревает, как Этьен из-за него мучился угрызениями совести! Кертнер собрался ответно помахать Маурицио. Если бы он не отшвырнул тогда наручники перед первой поездкой в суд – не смог бы сейчас и рукой махнуть Маурицио. «Да, ради одного этого стоило поскандалить с тюремным начальством!» Но слишком много сыщиков шатается в толпе возле тюрьмы. Как бы не навредить Маурицио. И Кертнер не ответил ему приветственным жестом, будто на руках у него и в самом деле были наручники. Он едва заметно кивнул Маурицио, и тут же его поспешно втолкнули в автомобиль. Он ехал в тряской полутьме и размышлял: «Значит, Маурицио специально приехал в Рим, чтобы узнать приговор, и поджидал меня во дворе суда, чтобы подбодрить». Кертнера увезли в трибунал обвиняемым, а вернулся он в тюрьму осужденным. 46 После суда Кертнера перевели в другую камеру. Стены ее стали обстукивать с обеих сторон – появился новый жилец! Но как ответить, не зная условной азбуки? Он старательно повторял чей-то стук, давая понять, что слышит вызовы и готов общаться. Никакого разговора между соседями, конечно, сложиться не могло. Отчаявшись, он подошел к одной стене, затем к другой и принялся громко кричать: – Я не знаю азбуки! Соседи замолкли, но вовсе не потому, что через метровую каменную толщу дошел его голос. Утром наступила долгожданная минута – на прогулку. Он слышал, как с железным лязгом один за другим открывались замки в камерах. Наверное, выходят будущие товарищи по прогулке. Однако его вывели без спутников, он гулял в треугольном отсеке тюремного двора один. Почему же в других отсеках гуляли одновременно по нескольку человек? Может, они приговорены к менее строгому режиму? На тюремном дворике робко зеленела трава, а в каменных щелях росли полевые цветы. Этьен не знал их названия. Может быть, в Белоруссии или в Поволжье они вовсе и не растут. А может, не обращал на них внимания? Цветики были голубые и пахучие. Когда часовой наверху отвернулся, он сорвал пучок голубых цветов, засунул их за пазуху, пронес в камеру, спрятал в подушке, набитой соломой, и потом еще много ночей вдыхал вянущий запах. Или это было уже воспоминание о запахе? Но оттого он наслаждался не меньше. Однажды через каменную стену к нему перебросили спичечный коробок. Не раздумывая, он ловко поддал ногой коробок в сторону – часовой прогуливается по стене, ограждающей двор, и ему сверху видно все, что делается в треугольных закутах. Когда часовой отвернулся, Этьен проворно подобрал коробок; в нем лежала записка. «Сообщи, из какого ты района? Политический? Что нового на воле? Группа коммунистов». Вместе с записочкой лежала спичка, ее черная головка была вылеплена из смолы. Этьен догадался, откуда смола, – прутья решетки в окне камеры, там, где полагается быть подоконнику, залиты смолой. Осторожно нажимая на засмоленную спичку, он написал на обороте записки: «Я не из Рима, не итальянец. Я не коммунист, но ваш большой друг. Телеграфа вашего не знаю. Если можете – сообщите». Он написал записку в несколько приемов. Этьен пользовался тем, что часовой время от времени отворачивался. Кроме того, замедлял шаги в том углу дворика, откуда арестант плохо виден часовому: на какие-то мгновения каменная стена закрывала гуляющего. Он перебросил спичечный коробок с запиской за стену, откуда коробок бросили. И едва успел это сделать, как прогулка окончилась. На следующий день, гуляя в том же дворике, он получил коробок с новой запиской. В камере он тщательно изучил записку. Безвестные товарищи разъясняли, как перестукиваться через стену. Ночь напролет и весь следующий день Этьен заучивал тюремный код, известный под названием «римский телеграф», и практиковался в стуке по тюфяку, набитому кукурузными листьями, по жесткой подушке. Так же, как и во всех тюрьмах, итальянская азбука делилась на шесть строк, по пять букв в строке. Прежде всего нужно запомнить начальные буквы строк, в каком ряду значится каждая буква азбуки. Тюремное эсперанто! При окончании фразы стучат в стену кулаком. Каждый разговор обязательно начинается фразой «Кто вы?». Уже на следующий день Этьен отложил в сторону шпаргалку: несложная задача для его изощренной, натренированной памяти. Когда в «Реджина чели» звучал отбой и в канцелярии считали, что спят все восемь открылков тюрьмы – коридоры расходятся от центра восемью лучами, – начинал работать «римский телеграф». Не без робости вызвал Этьен соседа в первый раз. Но тут же убедился, что его понимают. Разрушено молчание, его понимают! Поначалу Этьен вел передачу медленно, как бы заикаясь. Но перестук все убыстрялся, вскоре отсчет ударов шел уже автоматически, а ухо научилось воспринимать удары, как буквы. Позже Этьен научился перестукиваться и с теми соседями, которые сидели не рядом, в одном с ним коридоре, а этажом выше или ниже. В последнем случае можно стучать в наружную стену, над окном или под окном. Или стучать в пол ногой; удобнее перед тем разуться и ударить пяткой. Или взобраться на табуретку и стучать ложкой или кружкой в потолок. «Римский телеграф» строго преследовался, и потому удобнее перестукиваться, когда тюремщики заняты, например, перед раздачей пищи или когда выводят на прогулку заключенных из другого конца коридора. Этьен пришел к выводу, что из всех пяти чувств лучше всего в тюрьме развивается слух. Не зрение, не осязание, а именно слух. Он становится изощренным, обостряется до самой крайней степени. Прошло три недели после того, как добрые соседи подбросили Этьену коробок с азбукой, а он уже лежал поздними вечерами или ночью на своей койке и вел с жильцом соседней камеры длинные разговоры, узнавал много новостей и сам делился с ним всем интересным. Тюремщики всегда стараются, чтобы заключенный знал как можно меньше о жизни, которая его окружает, даже о самом себе. А заключенный старается узнать как можно больше. «Сколько ухищрений, уловок предпринимают тюремщики для того, чтобы разъединить наши слова, наши взгляды, наши мысли, не говоря уже о каких-то поступках! – думал при этом Этьен с веселым злорадством. – И все понапрасну. К черту гнетущее одиночество! Да здравствует «римский телеграф»!» 47 Весь мир сузился для Этьена до четырех стен, ограждающих тесную камеру, до крохотного клочка неба поверх «бокка ди лупо» – то есть «волчьей пасти». Особым капканом из жести во все окно тюремщики ловят свет и урезывают вид на мир, чтобы из окна нельзя было увидеть ничего, кроме полоски неба; смотреть же на двор или в сторону, на соседские окна, невозможно. Не сразу новоявленный узник привыкает к тому, что за ним все время подсматривают; в любое мгновение может приоткрыться «спиончино», то есть глазок в двери, и стражник заглянет в самую душу. И форточку начинаешь любить и уважать по-настоящему лишь после того, как попал в тюрьму. Никогда прежде Этьен не проникался к форточке такой нежной благодарностью. Ах, этот зарешеченный, но свободолюбивый квадратик, соединяющий тебя со всей вселенной! Оттуда доносится и дуновение ветерка, пойманного «волчьей пастью», и запахи оживающей травы, новорожденных почек, и слабый, далекий перезвон колоколов в Риме. Птахи, которые подлетали к его окну, знали, что «волчья пасть» им ничем не грозит, а крошки на дне железного ящика водятся. Где-то они сегодня побывали, римские ласточки, голуби и воробьи? Вслед за ними Этьен отправлялся в воображаемую прогулку по Риму. Когда стены раскалены зноем и источают духоту, он завидовал птицам с особенной остротой – птицы имеют возможность улететь к какому-нибудь из римских фонтанов. В воздухе там висит милосердная водяная пыль, и жемчужный блеск струй рождает вечную прохладу. А вдруг птахи прилетели от дома, на котором висит мемориальная доска – «Здесь жил русский писатель Гоголь». Здесь написал он «Мертвые души». Как Гоголь, живя в Риме, смог сохранить в первозданной свежести русский язык, русский дух, национальное своеобразие? Вот бы и Этьену сохранить в душе нетронутым и неувядающим образ Родины. А родились бы в Риме Чичиков, Ноздрев и Коробочка, если бы Гоголь не имел права разговаривать и даже думать по-русски? Может, птицы улетают в просторные сады Ватикана, куда простым смертным вход запрещен? Сегодня последняя суббота месяца, а в такие дни вход в музей Ватикана бесплатный. У служителей Ватиканского музея на петлицах – посеребренные значки с миниатюрной папской тиарой и перекрещенными ключами святого Петра. А какие ключи на петлицах у портье самых шикарных отелей? Этьен подумал, засыпая: «Такая форма больше подошла бы моим ключникам!» У изголовья Этьена стоял тюремщик, кричал: «Синьор!» – и тряс за плечо. Время выходить на прогулку. Разве прежде Этьен знал, какая ни с чем не сравнимая ценность – прогулка продолжительностью три четверти часа? Однажды его вывели гулять вдвоем с мрачным, молчаливым узником, который не сказал о себе ничего, кроме того, что сидит уже двенадцать лет. Этьен содрогнулся от мысли: «Как раз столько, сколько мне предстоит пробыть в заключении!» И он с ужасом посмотрел на спутника, видя в нем самого себя, каким он станет… Седовласый, с всклокоченной бородой, с землисто-серым лицом, с заострившимся носом, с опустошенными глазами. Семенящая, неуверенная походка узника, который отвык свободно ходить, а привык прогуливаться в каменном мешке. Ему с трудом удавалось унять дрожь рук, ног, головы. 
Уже давно Этьен вернулся с прогулки, а перед его глазами неотступно стоял узник, просидевший двенадцать лет, трагическое видение собственного будущего. Старик средних лет быстрее забылся бы, если бы Этьен мог вытеснить его из памяти другим человеком. Но кого можно увидеть в окне, грубо зашитом жестью? Никто из советских людей, и в том числе его надежный друг Гри-Гри, не придет к нему на свидание. Они лишены возможности прислать Этьену посылку на пасху, передать книги, не подлежащие запрету, скрасить письмом тюремное одиночество. Первое, что Этьену довелось прочесть, оказавшись в одиночке, – «Правила для отбывания заключения», установленные королевским декретом. Этьену напоминали, как ему повелевает себя вести сам Виктор-Эммануил III, божьей милостью и по воле народа король Италии. На этот раз Этьен отнесся к королю Виктору-Эммануилу без антипатии, потому что прошел слух о новой амнистии в связи с рождением сына у наследника престола Умберто – внука короля, принца Неаполитанского. Как своевременно принцесса разрешилась от бремени! Этьена едва успели засудить, и благодаря этим удачным родам ему скостят несколько лет заключения… Этьен всегда страдал оттого, что у него не хватало времени. Он не транжирил время, расходовал его экономно, но день не вмещал всего обилия дел, хлопот и обязанностей, какие приносил с собой. Арест как бы остановил внезапно Этьена на быстром бегу. Теперь время у него было в избытке. Обилие того самого времени, какого ему всегда так не хватало, – и когда учился в колледже в Цюрихе, и когда был комиссаром бронепоезда, и когда работал председателем дорполитотдела Самаро-Златоустовской железной дороги, и когда учился в военных академиях, и когда стажировался как летчик-наблюдатель, и когда занимался коммерцией, и когда шифровал письма и телеграммы. Маленькая Таня сказала незадолго до его последнего отъезда из Москвы – дело шло, кажется, о прогулке в Зоопарк или в Нескучный сад: «Опять у тебя нет времени! У тебя, папочка, есть все-все, кроме одного – кроме времени». Трижды в день тюремщики простукивали железным прутом все решетки, – вот точно так же простукивает буксы осмотрщик вагонов во время стоянки поезда – не дребезжит ли? Но жизненный поезд Этьена, увы, стоит на месте, а если и движется, то не в пространстве, а лишь во времени… Казалось бы, наконец Этьену представилась возможность отдохнуть от перенапряжения, вызванного постоянной необходимостью работать, думать, говорить и даже чувствовать в двух разных ипостасях, жить в двух шкурах. Оказывается, не так-то просто заставить себя не думать, этому тоже нужно учиться и переучиваться. Никак не хотела отвязаться профессиональная привычка все запоминать, запоминать, запоминать, хотя сейчас можно было позволить себе разгрузить память. Теперь он вправе забыть многое из того, что не позволял себе забывать, будучи на свободе. И тут он убедился, что ему не удается забыть ничего из того, что он разрешил себе предать забвению. Забывчивость не хотела являться к нему, и память его оставалась отягощенной всем, что надлежало помнить и Этьену, и Конраду Кертнеру, но что совсем не было нужно заключенному. Конечно, память – одно из самых ярких проявлений человеческого интеллекта, и памятливость – клад. Но все-таки страшно было бы сознавать, что мы ничего не в состоянии забыть, что мы все запоминаем навсегда. У каждого человека, кто бы он ни был, есть священное право на одиночество. Прежде Этьен тоже дорожил этим правом, любил время от времени уединяться. Забрести одному в лесную чащобу, между двумя полетами или в ожидании летной погоды, уплыть одному в море, чтобы полоска берега едва виднелась на горизонте… Иногда человеку нужно драгоценное одиночество. Но, только очутившись в камере-одиночке, Этьен узнал, что одиночество насильственное может стать таким страшным наказанием. Будучи на воле, он никогда не общался с итальянскими коммунистами, а сейчас крыша «Реджина чели» объединила его с сотнями единомышленников, хотя он по-прежнему оставался для всех богатым австрийским коммерсантом, преданным суду Особого фашистского трибунала по обвинению в шпионаже. В первые дни после ареста, подавленный всем случившимся, он перестал есть и спать, он сокрушался, что так мало сделал, будучи на свободе. Словно он попал в плен к противнику, не расстреляв всех патронов, не нанеся ему чувствительного урона. Но сейчас, читая вынужденные признания фашистской печати о стойком сопротивлении республиканцев в Испании, слушая новости о саботаже и рабочих забастовках, узнавая, что в самой Германии не убито противодействие Гитлеру, он осязал руки, локти, плечи сидящих рядом с ним в «Реджина чели» и в других тюрьмах безвестных коммунистов и все больше ощущал себя активным бойцом. Он оказался в одном строю со всеми узниками-коммунистами, своими единомышленниками и товарищами по духу. Это придало ему новые силы, воодушевило и наполнило гордостью. Он так долго воюет в разведке, один-одинешенек послан он в поиск на долгие годы. А в римской «Реджина чели», битком набитой коммунистами, антифашистами, он оказался в одном ряду с боевыми товарищами, хотя и не имел права никому из них в этом сознаться. Вечером, после того как Кертнера привезли из Особого трибунала по защите фашизма, после приговора, в стены его камеры стучали беспрерывно. Все волновались, все спешили узнать, каков приговор. И, едва освоив «римский телеграф», он отстукивал своим заочным товарищам: «двенадцать лет, двенадцать лет, двенадцать лет…» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  48 Новая тюрьма Кастельфранко дель Эмилия резко изменила положение Конрада Кертнера. После приговора он потерял свое имя, фамилию и получил тюремный номер 2722. Он невесело улыбнулся, вспомнив свои визитные карточки на глянцевом белоснежном картоне; пакет с ними принесли в «Эврику» из типографии накануне ареста. Он положил тогда в бумажник одну-единственную карточку, которую на допросе с вежливой насмешкой вручил следователю-коротышке. Ему впору заказать себе новую визитную карточку: «Узник № 2722, тюрьма Кастельфранко дель Эмилия, текущий счет в тюремной лавке под тем же номером». Его раздели донага, обыск был тщательным. Рылись не только в одежде и белье – по всему телу шарили грубые, холодные руки. Одежду отобрали и выдали тюремную робу, серую в коричневую полоску. Его наголо остригли, а он еще долго по привычке проводил рукой по волосам. Ему предоставлено право тратить в тюремной лавке пять лир в день, не больше. Газеты, журналы и почти все книги стали запретными. Посылки он сможет получать два раза в год – на пасху и на рождество. Но – от кого? После суда компаньон Паганьоло заявил адвокату Фаббрини, что отныне судьба Кертнера его не интересует; он прекращает всякие хлопоты. Во время следствия и суда Фаббрини выступал как защитник по назначению, но после приговора его функции окончились. Кто же теперь позаботится о судьбе заключенного? Гри-Гри запросил Москву: «Какого адвоката нанять для дальнейших хлопот? Можно нанять знаменитого. А можно нанять адвоката подешевле, того, который защищал Этьена на суде». Ответ гласил: «Лучше того, кто уже знаком с делом». Гри-Гри жалел, что телеграмма подписана не Стариком, даже не Оскаром, а Ильей, работником, которого Гри-Гри недолюбливал. Может, Илья руководствуется желанием сэкономить деньги? Или там, в Москве, довольны ролью адвоката в ходе следствия, суда и не видят оснований отказываться от его дальнейших услуг? Гри-Гри оставалось только ломать голову. Через посредство Тамары – Джаннины он связался с адвокатом Фаббрини. Выяснилось, что доступ в тюрьму и разрешение на свидание с Кертнером не аннулированы. Значит, надо воспользоваться еще не утратившим силу разрешением! Может, удастся заполучить копию приговора? Лишь с копией приговора на руках адвокат вправе продолжать хлопоты. Джаннина заверила адвоката, что его будущие хлопоты будут оплачены, и Фаббрини согласился вести дело Кертнера дальше, по его словам – из симпатии к бывшему подзащитному. До суда Фаббрини получал свидания с Кертнером часто, и это бывали свидания с глазу на глаз, а беседы – из уха в ухо. А теперь все изменилось – свидания могут проходить только при надзирателе. Впервые Этьен очутился в комнате свиданий. Две скамьи у противоположных стен и стул для надзирателя, стоящий у третьей стены, напротив двери. Когда Фаббрини вошел, Этьен поднялся и церемонно поблагодарил его за участие и за помощь во время следствия и суда. Этьена очень смущало присутствие соглядатая, грузного и сонливого надзирателя, который на жестком стуле пытался сидеть, будто развалясь в кресле. После дежурных вопросов о здоровье, самочувствии Фаббрини перешел к делу. Он понимает, что синьор Кертнер не может быть с ним откровенным в этих условиях, – выразительно кивнул на «третьего лишнего». Но когда Фаббрини добьется свидания с глазу на глаз, синьор Кертнер обязательно должен сообщить имя и адрес своего родственника, чтобы тому написать. Компаньон Паганьоло устранился, и нужно другое легальное лицо, которое министерство юстиции сочтет правомочным и от кого можно будет ждать всяких усилий, связанных с освобождением, – писем, денег, посылок. Фаббрини пожаловался синьору Кертнеру: у него были крупные неприятности при добывании недостающих документов. Если верить Фаббрини, в министерстве юстиции состоялся такой разговор. – Зачем вам эти документы? – допытывался у него какой-то столоначальник. – Хочу добиться пересмотра дела. – Всех материалов мы дать не можем. Много секретных. – На секретных я не настаиваю. – А каких документов у вас, синьор Фаббрини, нету? – Мне нужны протоколы открытых судебных заседаний. – Принесите и покажите все, что у вас есть на руках. Тогда я смогу решить, какие документы вам дополнительно нужны. Фаббрини принес судебные бумаги, сдал их, а когда на следующий день явился за дополнительными материалами, ему не дали новых и не возвратили старых бумаг. – Передавать материалы судебных процессов в Особом трибунале запрещено, – заявил столоначальник. – И вообще, синьор Фаббрини, ваша заинтересованность делом Кертнера наводит меня на грустные размышления. Фаббрини объявил, что их первое свидание после суда задержалось также и в связи с расходами на поездку в Кастельфранко. Секретарша из «Эврики» явилась к нему домой и принесла деньги. Однако Фаббрини от них отказался. – Посудите сами, синьор Кертнер, как я могу вести дело дальше, если у меня нет от вас или от доверенного лица официального поручения? И могу ли я взять у той синьорины деньги на поездку сюда? Так можно легко вызвать кривотолки и подозрение тайной полиции! Из тех же соображений я не вправе ехать сюда на свои средства. Не забывайте, я защищал вас только по назначению коллегии адвокатов в Милане! Как мне было уехать сюда, в Кастельфранко? Потребовал от властей, чтобы мне выдали служебный железнодорожный билет. И вот только на днях получил его в министерстве юстиции. Фаббрини показал служебный билет, потом хлопнул себя по лбу: – Есть у вас деньги сейчас? – Осталось двести лир. Если питаться очень скромно и расходовать пять лир в день, можно растянуть деньги недель на пять. Тем более, почтовых расходов у меня не предвидится. Кертнер пошутил, что тюрьма принесла с собой не только ограничения, но и преимущества. Например, он пользуется привилегией и посылает письма бесплатно. Такого права нет даже у депутатов английского парламента! Фаббрини снова напомнил, что у него нет на руках копии приговора и отказались ее выдать – требуется официальная доверенность лица, кровно заинтересованного в судьбе подзащитного, например близкого родственника. Кто даст подобную доверенность? Фаббрини не оглядывался на «третьего лишнего», а тот, в свою очередь, не проявлял интереса к беседе. Глаза полуприкрыты, его можно было бы принять за спящего, если бы он то и дело не доставал платок и не вытирал свое обрюзгшее лицо. Этьен невольно улыбнулся, заметив, что сонливый надзиратель как бы подражает Фаббрини, который тоже мнет в руке большой платок и точно такими же кругообразными движениями стирает пот с округлого лица… Прозвенел колокол, звон показался Этьену пронзительным и тревожным, как на вокзальном перроне перед отходом поезда: свидание подошло к концу. Кертнер хотел еще что-то спросить у адвоката, но тот приложил жирный палец к своему женскому ротику – не говорить ничего лишнего. Надзиратель уже встал со стула и выражал признаки нетерпения – пора расходиться. И тут Фаббрини громогласно, театральным тоном попросил синьора Кертнера чистосердечно признаться в своих преступлениях – и ради интересов Италии, и ради облегчения собственной участи. Кертнер ответил молчанием… После свидания Этьен не раз перебрал в памяти, фраза за фразой, весь разговор с Фаббрини. В сегодняшнем рассказе адвоката все выглядело достоверно. Пожалуй, кроме одной сущей мелочи: не может быть, чтобы он только сейчас вот, случайно, узнал, что его школьный товарищ – какая-то шишка в министерстве юстиции. Ведь они и на юридическом тогда должны были учиться вместе, и все время пути их пересекаются. Но зачем так строго судить Фаббрини? «Нехорошая у меня привычка – попусту придираться к человеку. А достаточно ли осторожны оба были сегодня на свидании? Не понял ли «третий лишний», о чем они условились?» Едва Кертнер вернулся в камеру, все принялись расспрашивать о свидании. – А кто за вами подглядывал-подслушивал? – спросил сосед по камере, Джованни Роведа. – Не приглядывался к нему, – сказал Этьен беззаботно, но тут же спохватился: он был невнимателен, позорно невнимателен к надзирателю! Увлекся разговором с Фаббрини, которого не видел так давно, и мало следил за поведением «третьего лишнего». Лишь смутно помнил, что тот сидел тихо, опустив грузные плечи. И даже голоса его Этьен не запомнил. – Значит, дежурил Скелет. – Скелет? – Это его кличка, – кивнул Роведа. – Толстяк с двойным подбородком, который все время потеет. Он? – Он. – Повезло вам. Скелет – самый безвредный. Этьен расспросил соседей и узнал: на свидания выделяют одного из четырех тюремных младших офицеров. Кто же они такие и что из себя представляют? Согласно собранным приметам, первый из четверых слегка припадает на левую ногу и страдает тиком – будто время от времени вам подмигивает. А мечется он во время свидания без устали, как узник, которого выпустили на прогулку после большого перерыва. Он важничает, любит делать замечания и все время мельтешит перед глазами тех, кто сидит на скамьях друг против друга. Нахально встревает в интимные объяснения, гогочет, гримасничает. С удовольствием и вдохновением пишет доносы. Второй тюремный офицер – низенький, из тех, кого неаполитанцы называют «пичирилло», а родом из Лигурии. Ну как же, лигурийца нетрудно распознать по его своеобразному произношению. Может, даже не отец его, а прапрадед перекликался с другими моряками, когда лодки были далеко одна от другой, или кричал против ветра, или доставал зычным голосом до верхушки мачты, до соседнего причала в порту. Умение говорить и превозмогая гул волн, когда рот набит ветром, и перекрывая крики торгашей в Генуе – эта привычка вырабатывалась веками, и от нее не просто отделаться даже весьма сухопутным потомкам. Сын Лигурии, нашедший себе тихую пристань в тюрьме, по слухам, якшался когда-то с анархистами, считается вольнодумцем. К разговорам не прислушивается, но ревностно следит, чтобы его поднадзорные ничего не передавали друг другу. А вот уголовным за нарушение режима от него достается изрядно. Третий надсмотрщик – седоусый, лысоватый, говорит низким басом, но рот открывает только в случае крайней необходимости. Тактичен, если свидание проходит в рамках правил. Очень самолюбив. Если к нему отнеслись без должного уважения – злопамятен, мстителен. А четвертого Этьен уже видел. Конечно, это он, согнув спину, мешковато сидел на стуле. Скелет сонлив, нелюбопытен, у него такой вид, словно он перетрудился и на этом свидании наконец-то может отдохнуть. На мелкие нарушения смотрит сквозь пальцы. Интересно – кто окажется «третьим лишним» на следующем свидании с адвокатом? 49 Гри-Гри был сильно озабочен положением Этьена. Скоро тот останется совсем без денег. А политический узник, если он к тому же слаб здоровьем, обречен фашистским тюремным режимом на медленную голодную смерть. Кто может помочь Кертнеру? Ведь, судя по его австрийским документам, он холост, семьи у него нет. Гри-Гри получил указание из Центра: «Чаще помогайте Этьену материально, но так, чтобы это не вызвало подозрений насчет того, кто именно ему помогает. Старик». От кого же, в таком случае, может исходить помощь? Только от Джаннины, тем более что Тамара поддерживает с нею постоянную связь. Джаннина враждебно относится к черным рубашкам и к самому дуче. Она помнит, кто погубил ее отца. Ее заботы о бывшем шефе Кертнере объясняются тем, что он стал жертвой Паскуале. Тот не выдержал испытаний судьбы, сделался предателем и принес Кертнеру столько страданий… Кто бы мог подумать, что Джаннина окажется способной актрисой? Сама не знала за собой такого таланта. В первый раз она отправилась в Кастельфранко на прием к капо диретторе Джордано принаряженная и попросила у него отеческого совета. Дело в том, что нынешний шеф международного бюро патентов «Эврика» синьор Паганьоло отрекся от своего бывшего компаньона герра Кертнера, осужденного за шпионаж и сидящего в тюрьме, вверенной христианским заботам капо диретторе. Сама она после всего, что выяснилось на суде, также не может симпатизировать герру Кертнеру. Но шеф Паганьоло считает, что поскольку личные вещи Кертнера остались в комнатах при конторе, следует заняться их реализацией и пересылкой Кертнеру денег. А то еще кто-нибудь упрекнет Паганьоло, что он присвоил чужие вещи! Джаннина доверительно сообщила капо диретторе, что она советовалась со своим падре Лучано – не богопротивно ли помогать по долгу службы в устройстве дел преступника? И падре Лучано ответил, что Джаннина тем самым лишь выполняет свой христианский долг. Капо диретторе умело притворялся либералом. Он был польщен искренностью и доверием очаровательной синьорины и, когда аудиенция кончилась, даже вышел из-за стола и проводил посетительницу до двери. С тех пор Джаннина, отлично зная, что все письма перлюстрирует капо диретторе собственной персоной, передавала ему приветы, поздравления с наступающими праздниками. Благодаря служебному поручению «Эврики» Джаннине разрешено было отправлять Кертнеру посылки и пересылать деньги. В приговоре указано, что конфискации подлежит все недвижимое имущество Кертнера, которого, кстати сказать, у него не было. А движимое имущество ему оставили. Из вещей, какие значились в описи, Джаннина прежде всего продала фотоаппарат «кодак», подвесной мотор для прогулочной лодки и перламутровый театральный бинокль. Эти деньги позволили отправить Кертнеру посылку еще до суда, в римскую тюрьму «Реджина чели», а кроме того, перевести на его счет в тюремной лавке 800 лир. Денег должно было хватить месяца на четыре. Но в тюрьме Кертнер заболел, много денег ушло на дорогие лекарства и на вызов доктора по легочным болезням. В первом письмеце из Кастельфранко на имя Джаннины Кертнер попросил прислать рыбий жир – ему необходимо для курса лечения 3-4 литра. По его сведениям, в связи с ограничением импорта рыбий жир достать очень трудно… В правом верхнем углу письмеца значился его тюремный номер 2722. А внизу стоял штамп, который напоминал, что «запрещается отправлять заключенным продукты и всевозможные предметы, за исключением нижнего белья, носков и – на случай освобождения – верхней одежды». Джаннина теперь знала весь почтовый распорядок тюрьмы в Кастельфранко. Продукты, за исключением скоропортящихся, разрешается отправлять заключенному лишь на рождество и на пасху. Заключенный имеет право отправлять два письма в неделю, а получать почту – без всякого ограничения. Получать книги от родственников запрещено. Но издательство может высылать непосредственно в тюрьму новые книги, если дирекция эти книги разрешила. Подобные расходы могут быть произведены лишь из тех 150 лир, которые разрешено ежемесячно тратить в тюремной лавке. Наверное, такую сумму установили, когда лира весила больше, сейчас эта сумма нищенски мала. Джаннину беспокоила посылка к пасхе. Она надеялась, что рыбий жир, который ей удалось достать и отправить, не будет рассматриваться капо диретторе как посылка и она сможет отправить к пасхе что-нибудь повкуснее. Можно было обратиться к администрации тюрьмы с ходатайством разрешить посылку к одному из фашистских праздников – таких праздников в году пять. Но коммунисты, антифашисты отказывались от посылок, например, к годовщине похода на Рим. Этьен также считал для себя подобные просьбы безнравственными. 27 марта Джаннина получила из тюрьмы второе письмо: «Оказывается, вес посылки не регламентирован строго и устанавливается дирекцией в зависимости от того, как ведет себя заключенный, но не менее 4 кг. Для меня установили вес праздничной посылки в 4 кг. (Приписка, сделанная синим карандашом рукой Джордано: «До 5 кг».) Дирекция своевременно сообщит мне, когда можно будет отправить посылку». (Приписка тем же карандашом: «Посылка разрешена, отправляйте к пасхе».) К письму была сделана приписка тем же карандашом, той же директорской рукой: «Благодарю синьору за любезное поздравление и поздравляю синьору взаимно». 50 Перед тем как написать Джаннине очередное письмо, Этьен призадумался: писать «синьорина» или «синьора»? Она ходит в невестах, познакомила его со своим женихом, интересным молодым человеком из богатой семьи, жгучим брюнетом, который все время старательно зачесывает назад волосы, открывая небольшой лоб. Значит, «синьорина»? Но солиднее, с точки зрения тюремной администрации, если он будет находиться в деловой переписке с синьорой. «Джентиллиссима синьора, мне, как Вы знаете, сильно повезло, я просто счастливчик среди других заключенных, – писал Этьен 21 апреля 1937 года. – Какая удача, что меня так поспешно судили и успели вынести приговор за неделю до 15 февраля. Я должен молиться за торопливых следователей, судей, а также августейших молодоженов. Благодаря новой амнистии, объявленной в связи с рождением сына у наследника царствующего дома, срок моего заключения уменьшился еще на пять лет. Таким образом, мне остается отбыть шесть лет и восемь месяцев, а не двенадцать лет, как я сообщал Вам после суда. Вы не находите, что я сделал крупный шаг вперед? Прошу еще об одном одолжении, узнайте – не вышел ли из печати второй том книги Крокко по авиации? В случае положительного ответа от вас попрошу у директора разрешения купить книгу. Почтительно приветствую вас. К. К.» Джаннина отправила ценную посылку, а вслед за ней раздобыла еще две бутылки рыбьего жира. Она начала эти хлопоты после получения письма Кертнера, он писал в субботу 8 мая 1937 года: «Уже несколько месяцев болит грудь. Боялся, что у меня больные легкие. Доктор уверил, что ничего опасного нет, однако прописал в обязательном порядке рыбий жир, две столовые ложки в день… Очень стыдно Вас затруднять, но, как выяснилось, болезней вокруг нас тысяча, а здоровье только одно». Деньги нужны были и для перевода в тюрьму, и для покупки Кертнеру лекарств и книг. Капо диретторе разрешил хорошенькой просительнице самой оплачивать счета издательства, не ухудшая материального положения заключенного, не из его тюремного бюджета. 15 сентября 1937 года Кертнер обратился с просьбой прислать ему кое-что из мелочей (мыло, гребешок, носки) и одновременно запрашивал: «Можно ли подписаться с октября на журнал «Обозрение иностранной прессы»? Или нужно ждать нового, 1938 года?» Приписка капо диретторе: «Уважаемая синьора! Пришлите все, что заключенный просит, но не приобретайте этого журнала, так как он не имеет права его получать. Следовательно, ваши беспокойства будут напрасными, а журнал я вынужден буду реквизировать. Джордано». Расходы на подписку, благодаря вмешательству Джордано, отпали. Но Кертнер должен подкармливаться в тюремной лавке! И не только мыло, гребешок и носки предстояло купить, собирая посылку. Что можно было продать еще из вещей шефа? Через несколько дней после ареста пришел портной и принес костюм. Уже состоялась последняя примерка, костюм оплачен, а застрял у портного потому, что заказчик попросил переставить пуговицы. Ну что ж, костюм опоздал весьма кстати. Джаннина впечатала в опись строчку насчет костюма, благо до подписи полицейского комиссара в описи было еще достаточно чистого места. Костюм продали через комиссионный магазин, и у Джаннины появилась легальная возможность снова прийти на помощь бывшему патрону. Как раз в эти дни Гри-Гри получил из Центра радиограмму: «Секретарша очень опасна, она много знает. Сообщайте, как себя ведет. Можно опасаться, что она наболтает много лишнего, тем более, что отчим ее арестован. Илья». Уже не в первый раз Гри-Гри получал телеграммы по поводу секретарши от весьма недоверчивого, переполненного подозрениями сослуживца. А первая радиограмма на этот счет пришла вскоре после ареста Этьена: «Секретарша слишком легко отделалась от агентов ОВРА. Ее благополучие подозрительно. Очень возможно, ее оставили на свободе, чтобы она способствовала аресту других товарищей. Как можно ей доверять? Не делайте ничего без ведома адвоката, без его советов. Илья». Черт возьми, но ведь нужно не только опасаться, бояться, остерегаться, надо чем-то реально помогать Этьену! Гри-Гри не чувствовал за словами и поступками Ильи той острой тревоги за судьбу Этьена, той оперативной деловитости, которая всегда ощущалась в рекомендациях Старика. Это Илья должен был подобрать замену для Этьена и не выполнил давнего приказа Старика. Проницательность Ильи в отношении секретарши мнимая; если бы секретарша в самом деле сотрудничала с ОВРА, итальянцы обязательно создали бы видимость, что ее преследуют, и сделали бы это именно для того, чтобы она сохранила доверие друзей Кертнера! «Она могла бы уже много раз воспользоваться обстановкой и скомпрометировать нас, – размышлял Гри-Гри. – Не стала бы контрразведка ходить так долго вокруг да около!» И потом Илья не знает и не принимает во внимание всех дополнительных жизненных обстоятельств, обусловивших нынешнее поведение Джаннины, – и гибель отца, и смерть отчима, и ее ссоры с женихом на политической почве. Наконец, разве Гри-Гри вправе не доверять собственному впечатлению о Джаннине, сомневаться в ее искренности, считать все ловким притворством? Гри-Гри отправил в Центр телеграмму, в которой выразил острую тревогу за судьбу Этьена, просил принять более действенные меры для облегчения его участи и подтвердил, что ответственность за подбор связных он полностью берет на себя. 51 Большая камера о трех каменных стенах, а четвертой стеной служит сплошная решетка, выходящая в коридор. Стена-решетка удобна тюремщикам: ничто не укрывается от их всевидящих глаз, жизнь камеры как на ладони. Но решетка позволяет видеть все, что делается в коридоре, и нет тюремных тайн, которые быстро не становились бы достоянием заключенных. Камера, в которую посадили Этьена, была рассчитана на восемь человек, но в нее втиснули тринадцать коек. Здесь сидела группа заслуженных революционеров, стойких борцов с фашизмом. Когда мимо решетки вели политзаключенных, они приветствовали жестами или возгласами соседей Этьена по камере. Тюремщики следили, чтобы проходящие не заговаривали с обитателями камеры. Лишь стражник Карузо, когда дежурил один, не мешал скоротечному общению политических между собой. Администрация старалась отъединить политическую молодежь от старожилов тюрьмы. Вот почему, несмотря на тесноту, две промежуточные камеры в коридоре пустовали… Началось с того, что уголовники, которые разносили по утрам хлеб, протащили назад мимо стены-решетки мешки с нетронутым хлебом. В то утро молодые парни из многих камер взбунтовались и объявили голодовку, протестуя против каторжного режима и против того, что ухудшилось питание. В Италии заключенные находятся на довольствии у поставщика. Он одевает, обувает арестантов, ремонтирует их одежду и обувь. Он же держит лавку и продает кое-какую провизию тому, у кого есть деньги на тюремном счету. При сдаче подряда на питание заключенных обусловливается и качество макаронных изделий, и заправка супа. А тут подрядчик завез такие темные макароны, что вызвал в тюрьме всеобщее возмущение. В тот день стража боялась открывать двери в камеры, никого не выпускали на прогулку. Пайка хлеба и миска супа – дневной рацион заключенного. Он даже не в праве попросить кружку кипятку – только холодную воду. Воскресенье – праздник для всех католиков, в том числе для заключенных. Воскресный режим отличается от будничного: каждый получает еще две-три картофелины в кожуре и 125 граммов мяса без костей; воскресный бульон – отвар этого мяса. И вот уже не первое воскресенье мясо давали гнилое, а хлеб становился все менее съедобным. Когда утром молодым политзаключенным принесли хлеб, они его не взяли и остались сидеть на нарах со сложенными руками. А в обед они отказались подставить свои миски под черпак, которым разливали суп. В протухшем супе червей плавало больше, чем крупинок риса. Молодой коммунист Бруно крикнул: «Кораццата Потьемкин» – он видел русский фильм «Броненосец «Потемкин», когда-то фильм крутили в кинематографах Милана. Заключенные стучали по железной решетке котелками, били табуретками. Иные дали налить в свои миски суп только для того, чтобы выплеснуть его сквозь решетку в коридор. Когда раздалась команда «на прогулку», никто из камер не вышел. На беспорядки в тюрьме Кастельфранко оказало влияние и проникшее туда известие о смерти Антонио Грамши. Сперва сообщили о его тяжелой болезни. Муссолини вынужден был согласиться, чтобы Грамши перевезли в клинику. Увы, слишком поздно! 27 апреля 1937 года, через три дня после освобождения, Грамши не стало. Государственный преступник № 7047 расстался с решеткой, но жить было уже нечем, нечем было дышать. В траурный день многие вспомнили циничные слова тюремного врача, который заявил Грамши: «Как фашист, я могу желать лишь вашей смерти». Вспомнили в камере и последнее слово Грамши, перед тем как его приговорили к 20 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения: «Вы приведете Италию к катастрофе, мы, коммунисты, ее спасем!» «А что я предпочел бы для себя? – подумал Этьен. – Прожить на свободе после десятилетнего заключения эти жалкие три дня или умереть в тюрьме? Пожалуй, три безнадежных дня на свободе стали бы самой жестокой пыткой. Уж лучше отдать богу душу, не снимая тюремной одежды…» Наконец, еще одно событие способствовало тюремному бунту – подошло Первое мая. 
Внешность стражника Карузо никак нельзя назвать привлекательной: колючие угольно-черные глаза, посаженные так близко, что между ними с трудом умещается узкий, с горбинкой нос, колючие брови, острый профиль. И однако же именно к нему Этьен рискнул накануне Первомая обратиться с просьбой: подойти к решетке камеры в 8 часов утра и подать знак. По московскому времени будет 10 утра. Этьену захотелось вообразить себе ту минуту, когда бьют кремлевские куранты, а из ворот Спасской башни выезжает нарком. Сейчас он примет рапорт командующего первомайским парадом, объедет войска и поздоровается с ними. Тишина, торжественная, полная сдержанного ожидания, овладевает площадью в праздничном убранстве. Литыми квадратами стоят войска. Еще неподвижны древки знамен, их золотые стрельчатые наконечники. Маршевый шаг колонн еще не наполнил ветром знамена, лишь слегка колышется шелк и бархат. Безмолвен оркестр, еще не раздались голоса повелительной меди, мелодии не согреты живым теплом, дыханием трубачей. Но в этой сосредоточенной тишине уже угадывается первый марш. Все ближе, ближе, ближе величественная и гордая минута – вот-вот начнется парад. И сколько раз ни стоял Этьен в такие минуты на Красной площади, нетерпеливо поглядывая на стрелки кремлевских часов, его всегда переполняло радостное волнение, рожденное предчувствием большого торжества… Первомайская голодовка, такая упорная и дружная, вызвала беспокойство у тюремной администрации, потому что к молодым бунтовщикам присоединились другие камеры, включая уголовников. Стало известно, что капо диретторе Джордано уже получил на сей счет запрос из министерства. А 2 мая он начал переговоры с делегатами политических заключенных. В делегацию вошел и заключенный из новеньких, австриец Конрад Кертнер. Он снискал уважение тем, что защищал несправедливо обиженных и не уступал в стычках с тюремной администрацией. Он не называл себя коммунистом, и, однако же, все его поведение позволяло видеть в нем убежденного революционера. Четырех делегатов от заключенных ввели в кабинет к капо диретторе. Тот был взбешен и не пытался этого скрывать. Больше всего его раздражал заключенный 2722, из новеньких. Упрям, неуступчив в споре и, если на него кричать, тоже начинает повышать голос, подчеркивая тем самым, что его непочтительность – ответная. Этьен уже знал, какой лицемер этот самый Джордано: с родственниками и близкими заключенных он умел быть добрым, старался прослыть гуманистом. А с заключенными бывает жесток и не одного из них уже свел в могилу. Мудрый итальянский коммунист сказал директору: – Вы сами виноваты в смуте, которой охвачена тюрьма. Вам пришла в голову вздорная мысль – выделить специальные камеры для политической молодежи. Мы голодаем в знак солидарности, но вовсе не считаем эту меру самозащиты разумной. Мы не хотим, чтобы молодые люди шли к краю своей гибели. Мы не собираемся учить их смирению, мы тоже протестуем против ущемления своих прав. Но если бы мы сидели в камерах вместе с молодыми, до голодовки не дошло бы, и молодые не бунтовали бы так анархически… Вскоре после беседы с капо диретторе делегатов отправили в карцер. На следующий день все политзаключенные и многие уголовники вновь отказались от хлеба, отказались от прогулки, отказались от супа, уже почти съедобного, и продолжали сидеть на нарах, демонстративно сложа руки. Джордано вновь вызвал к себе делегатов и, после долгих препирательств, вынужден был сдаться. Он признал справедливым и протест насчет писем; тюремное клеймо с конвертов уже снято. А самая главная победа – капо диретторе разрешил перевести в молодежные камеры троих из четверых приходивших к нему делегатов. Этьен шел по коридору с узелком в руке и одеялом под мышкой; оно из такого же серо-коричневого сукна, как и тюремная одежда. В какую камеру приведет его судьба? Невысокий парень с живыми черными глазами стоял у открытой двери камеры. Он спросил у проходящего по коридору: – Ты австриец из четверки? – Да. – Иди к нам! Мы ждем тебя! – Парень выхватил у Этьена узелок из рук, затащил в камеру, и тут же за ними захлопнулась дверь-решетка. В камеру Этьен вошел улыбаясь, его окружили изможденные, но счастливые молодые люди, на их лицах отблеск добытой победы. Этьен положил одеяло на пустовавшую койку и развязал свой худосочный узелок. Кусочек мыла. Алюминиевая кружка. Зубная щетка. Деревянная ложка и такая же вилка; один зубец этой вилки сбоку заострен, и деревянное лезвие служит ножом. А кроме убогого арестантского скарба в узелке несколько книг – целое богатство! Из-под нависших бровей Этьен бегло оглядел всех, кто его окружил, и сказал: – Дорогие друзья! Особый трибунал и фашистская полиция знают меня как австрийца Конрада Кертнера. Таким я должен остаться и для вас. Не задавайте вопросов, не смогу на них правдиво ответить… Ну, а что касается голодовки, молодые друзья, она может подорвать ваши силы. Нельзя жертвовать здоровьем в самом начале борьбы! Здоровье вам еще пригодится. Самое сильное оружие надо беречь для решительного боя. И плох тот стрелок, у которого так ослабела рука, что он посылает свою последнюю пулю мимо цели. Пусть каждый ваш выстрел будет метким! 52 Дорога вдоль апельсиновой рощи изрыта воронками. Пыль еще не улеглась, бомбежка была совсем недавно. По дороге, объезжая воронки и вихляя из стороны в сторону, мчался мотоцикл с коляской. Оба, мотоциклист и пассажир, в форме бойцов интербригады. Мотоцикл проехал мимо догоравшего грузовика, мимо покосившегося дорожного столба с указателем-стрелкой «Толедо», мимо деревьев с расщепленными стволами и срубленными макушками, мимо опрокинутой двуколки и убитой лошади в постромках. Сквозь стрекотанье мотоцикла все отчетливее слышался рокот другого мотора. Пассажир в коляске первым заметил самолет и жестом приказал свернуть с дороги. Оба бросились под чахлые придорожные оливы, упали плашмя на землю. «Фиат» снизился и пролетел вдоль дороги, прошивая очередями реденькую оливковую рощицу. Одна пуля пробила полевую сумку пассажира, две пули попали мотоциклисту в спину. «Фиат» улетел, стих его мотор, пассажир поднялся, посмотрел на небо и скомандовал: – Аванти, Фернандес! Но Фернандес остался недвижим. Пассажир поднял тело, понес к мотоциклу и положил в коляску, сел на место убитого, завел мотор и поехал, медленно объезжая воронки. Были ранние сумерки, когда мотоцикл въехал в ворота монастырского подворья, где обосновался командный пункт Доницетти. – Курт! – Пассажир подозвал к себе долговязого бойца интербригады – тот сидел в тени каменного забора и перебирал пулемет. Курт вгляделся в запыленного до неузнаваемости товарища, узнал его, расторопно поднялся и подбежал к мотоциклу. Вдвоем они перенесли убитого в тень, а монах накрыл его черным покрывалом. Вновь прибывший отдал Курту какой-то приказ по-немецки, поправил портупею с пробитой полевой сумкой и торопливо прошел через двор, на ходу стряхивая с себя пыль пилоткой. Он подошел к часовому, стоявшему у входа в подвал, и спросил: – Камарад Доницетти здесь? Часовой кивнул. – Доложите. Подполковник Ксанти. – Проходите, вас давно ждут. Едва он спустился в полутемный подвал, как его окликнули из полутьмы по-испански и тот же голос нетерпеливо спросил его по-русски: – Почему так поздно, Хаджи? До перевала далеко. Ты же сам знаешь – ночи короткие… – С трудом добрался, Павел Иванович. – Ксанти говорил с кавказским акцентом. Он подошел к столу, положил рядом с лампой запыленную полевую сумку. Доницетти приблизился к свету, на плечи накинута кожаная куртка. Он взял сумку, увидел след пули и вопросительно посмотрел на прибывшего. – Фашисты висят над дорогой. Налет за налетом… Фернандес убит… Доницетти поднял «летучую мышь» над головой и осветил подвал. Это был винный погреб; вдоль стены стояли огромные винные бочки. На полу сидели несколько бойцов из интербригады, люди в крестьянском платье, партизаны. Ксанти коротко кивнул Цветкову, который, по обыкновению, собрал вокруг себя слушателей и возбужденно рассказывал: – …согнулся в три, если не в четыре погибели, подлез под сваи, приладил свой подарочек, перевязал аккуратненько бикфордовым шнурочком, прикурил и только отполз на карачках – к-а-ак жахнет!!! не успел сказать генералу Франко эскюз ми, в смысле «пардон»… – Тишина, камараден, – приказал Доницетти по-испански, перекрывая гул голосов и смех. И после паузы сказал: – Шапки долой! Фернандес убит. Встали, обнажили головы, послышалось на нескольких языках: «Мир его праху!», «Бедняга Фернандес!», «Честь его памяти!» Ксанти отер серые губы от пыли, взял кружку, подошел к винной бочке, нетерпеливо открыл кран – ни капли. Цветков сочувственно поглядел и налил ему вина из бутыли, оплетенной соломой. Доницетти извлек из сумки пакет, сорвал сургучные печати, бегло ознакомился с бумагами и развернул сложенный вдвое, пробитый в двух местах пулей план аэродрома. Он расстелил план на столе. – Камараден, вот отсюда они летают на Мадрид. Нужно сжечь бомбардировщики. Это мой приказ и просьба жителей Мадрида. Ночью буду на перевале «Сухой колодец». Хочу вас проводить. Доницетти познакомил подрывников с диверсионным заданием, он водил пальцем по плану аэродрома: – …цистерны, ангары, а здесь таверна. Она открыта до глубокой ночи. Учтите, Ксанти, – туда может набиться десятка два посетителей… Здесь, здесь и вот здесь зенитки. От восточных ворот держитесь подальше, там командансия. Ваши исходные позиции – апельсиновая роща, канал Альфонсо. Действуйте одновременно разрозненными группами. После операции выходите на старую дорогу. – С кем я иду? – спросил Цветков, стоявший рядом. – В твоей группе Курт и Людмил. – А Баутисто ждет на перевале, – добавил Ксанти. Горный перевал «Сухой колодец» был освещен луной, когда по узкой тропе уходили цепочкой подрывники. Одни были одеты в форму солдат Франко, двое шли в итальянской форме, несколько бойцов из интербригады шли под видом испанских крестьян. Ксанти в форме офицера-франкиста проверял у каждого уходящего, как подогнано снаряжение – не бренчит ли? Как обуты? Старый партизан вел в поводу навьюченного мула. – Баутисто, – обратился к нему Ксанти, – где запалы? – Не беспокойтесь, камарад подполковник. Запалы лежат отдельно от динамита. Следом за Баутисто прошагал долговязый Курт с ручным пулеметом на плече; к поясу он подвязал котелок, поблескивающий при лунном свете. За ним шел пастух с котомкой за плечами, с кнутом в руке и подгонял отару овец. На нем широкополая соломенная шляпа, лица не видно. Проходя мимо командиров, пастух щелкнул кнутом и крикнул озорно: – Но-о-о, залетные! – Цветков идет в гости со своим шашлыком, – засмеялся Ксанти. – Только, Василий, не играй с огнем и сам не горячись, – успел вдогонку сказать Цветкову Доницетти. В ответ донеслось залихватское: – Все будет о'кей, синьор Павел Иванович! Гуд бай, в смысле «пока»… Прошагали еще два испанских партизана, могучий болгарин Людмил в каске. – Ну вот, Павел Иванович, мои все… – сказал Ксанти, прощаясь. – Одиннадцать. – Двенадцатым, Хаджи, будем считать Этьена. 53 Кертнер занял койку в центре камеры. Отныне над головой его будет вечно гореть лампочка в шесть свечей. Спать беспокойнее, но зато можно читать при тусклом свете. Соседству Кертнера очень обрадовался приветливый парень невысокого роста – тот самый, который втащил его в камеру. Зовут его Бруно, родом из Новары, судили в Милане, от роду двадцать шесть лет. Его койка тоже в центре камеры, но у противоположной стены. Бруно и Кертнер легли головами друг к другу. Так удобнее переговариваться вполголоса; между изголовьями лишь узкий проход. Проговорили ночь напролет, и под утро Этьен знал о новом соседе много. Он прочитал письма, полученные Бруно в последние месяцы. Письма писала соседская девушка, потому что мать Бруно малограмотная, брат воюет в Африке, а отец, старый шахтер Паоло, ослеп после завала в шахте. Оказывается, Бруно – самый пожилой в камере. Несколько парней попали в тюрьму уже во второй раз, их называют «возвратные лошадки». Неприятно, что Этьен не может ответить откровенностью новому другу, который распахнул перед ним свое сердце. Сколько раз ему придется обидеть профессиональной скрытностью товарищей по заключению? Они отнеслись к Кертнеру с предельным доверием, а Этьен не мог отплатить им той же драгоценной монетой. Камера живет коммуной, причем Бруно – главный распорядитель денежных фондов. Поддерживают заключенных, у которых на тюремном счету нет ни сольдо. Первый фонд, самый большой, предназначен для больных, второй фонд – на питание. Без того, чтобы докупать в тюремной лавке какую-нибудь провизию, выжить трудно. Трудно привыкнуть к голоду, тем более молодым парням. Каждый имеет право по своему усмотрению истратить на себя несколько лир в месяц, если же у кого-нибудь перерасход, ему соответственно уменьшают дотацию на следующий месяц. Бруно показал Кертнеру покрытый воском кусок картона – своеобразная приходо-расходная книга их камеры. Тонкой булавкой он накалывает на воске условные знаки. Каждый заключенный имеет свою графу, и там обозначено, на какую сумму он набрал продуктов за последний месяц. Конечно, несколько лир – нищенская сумма. Бутылочка молока стоит 22 чентезимо, а на узника камеры № 2 на день приходится из общего фонда 26 чентезимо. Сигарету курят несколько человек; каждый сделает по две затяжки – вот и вся сигарета. А потом еще добывалась уцелевшая крошка табаку из окурка. Кертнер научил расщеплять иголкой каждую спичку пополам или даже на три части. Он сказал, что бывал в местах, где бедняки всегда поступали таким образом. А еще в тех местах берегли соленую воду, в которой варили картошку, чтобы использовать воду несколько раз: соль беднякам тоже была не по карману. С появлением Кертнера в камере № 2 началась борьба с заядлыми курильщиками; для этого ему пришлось самому бросить курить. Курильщики тратили деньги на табак, вместо того чтобы купить бутылочку молока. Они скорее становились дистрофиками, чаще болели. Выражая всеобщее желание, Бруно обратился к вновь прибывшему с просьбой вести у них в камере политические занятия. Кертнер ответил согласием и выработал распорядок дня, ввел строгую дисциплину. После утреннего подъема, после того, как все умылись, убрали камеру, оставалось еще сорок свободных минут; в 9 утра начинались занятия. Поначалу тюремщики не отходили от решетки, напряженно вслушивались, нет ли повода для доноса? Но слушатели, окружавшие Кертнера, усаживались в углу камеры, подальше от стены-решетки; к тому же разговаривали вполголоса. Кертнер принес с собой в камеру книгу, на обложке которой значилось: «Адам Смит. Политическая экономия», а титульный лист книги украшала печать капо диретторе «Разрешено». На самом же деле то был первый том «Капитала». Кто-то подобрал в переплетной мастерской отобранный у кого-то том Маркса и спрятал. Книгу одели в чужой переплет, с чужим титульным листом, загодя снабженным желанной печатью. К подобному книжному маскараду Кертнер прибегал и в дальнейшем. А когда Кертнер проводил занятия по политэкономии и завел речь о конкуренции, он рассказал о финансовой дуэли акционерных обществ «Посейдон» и «Нептун», конечно заменив их названия. Так сказать, поделился личным опытом… Программа занятий расширялась: изучали диалектический материализм, некоторые работы Ленина. Двое парней под влиянием этих занятий расстались с анархистскими взглядами. Удалось достать несколько книг по истории, культуре и искусству Италии. Те, кто ходил в школу всего три-четыре зимы, плохо разбирались в искусстве Древнего Рима и лишь рассматривали картинки. Когда в коридоре дежурил надзиратель Карузо, он подолгу стоял у стены-решетки и прислушивался к словам Кертнера. А если речь шла о музыке и если при этом в коридоре не было других тюремщиков, Карузо встревал в беседу. Бывало, Бруно спал крепким сном, а Этьен лежал, не смыкая глаз, или слонялся по сонной камере. В одну из таких ночей он подошел к стене-решетке, заговорил с Карузо. Этьен спросил, откуда взялось его прозвище, и тот охотно объяснил: – Так у нас в Сицилии называют подростков, которые работают в шахте… Я в юности и не знал, кто такой Энрико Карузо… Это был первый надзиратель, которому улыбнулся Этьен. Прозвище приклеилось к Карузо на всю жизнь, потому что он – страстный любитель музыки, а так как Этьен был завсегдатаем «Ла Скала», они заговорили на музыкальные темы. Карузо напел себе под нос арию, другую, все из репертуара теноров. Его кумиром был Беньямино Джильи, на днях тот впервые спел в римском театре партию Радамеса в «Аиде». Настороженно оглянувшись на спящего напарника, Карузо попытался взять верхнее си-бемоль, ту самую ноту, которой кончается ария Радамеса из первого акта. Но тут в коридоре послышались гулкие шаги. Карузо приложил палец к губам и отвернулся от стены-решетки – шагал ночной караул во главе с самим капо гвардиа. Караул прошел, и Карузо повел речь об опере «Арлезианка»; самая выигрышная ария там – «Плач Федерико» из второго акта. Некоторые критики упрекали Джильи: он ввел в заключительную музыкальную фразу чистое си, которого нет в партитуре. Кертнер согласился с критиками: тенор не должен ради эффекта добавлять выигрышные ноты. Карузо разволновался и заспорил с заключенным 2722. В конце той арии весьма кстати драматически напряженное крещендо: «Ты столько горя приносишь мне, увы!» – Федерико выражает здесь скрытую скорбь своей жизни, как же можно согласиться, чтобы голос певца затихал на этом самом «увы»?! – Почему же тогда композитор сам не ввел этой ноты? – возражал заключенный 2722. А закончилась музыкальная дискуссия неожиданно: Карузо шепнул, что завтра во время прогулки во второй камере произведут обыск. Дважды в месяц в камере устраивали тщательный обыск, а узников раздевали догола. Труднее всего спрятать карандаш и бумагу. Кертнер прятал огрызок карандаша в своем матраце, набитом сухими кукурузными листьями, а Бруно поступал еще хитрее: накануне обыска, когда их выводили на прогулку, он выносил свое запретное имущество в тюремный двор и засовывал его в щель между каменными плитами. А на следующий день переносил все назад в камеру… 54 В полночь здесь слышалось лишь звонкое стрекотанье цикад, шорох травы и учащенное дыхание. Ползли по-пластунски и при этом тащили коробки динамита, мотки с бикфордовым шнуром, сумки с гранатами, оружие, бутылки с бензином. По небу размеренно шарил луч прожектора. Когда он склонялся к земле, в полосу света попадала антенна над зданием аэропорта. В небе трепыхался черно-белый конус, набитый ветром и указывающий его направление. На это время следовало припасть недвижимо к траве или нырнуть в спасительную тень под крыло ближнего самолета и переждать. Глубокой ночью раздался взрыв где-то в конце взлетной дорожки, и пламя подсветило облачное небо. Минуту спустя в другом конце аэродрома, за ангарами, подала голос группа Ксанти и занялось второе зарево. Затем наступил черед Цветкова, яркая вспышка предварила гром и новый пожар. От ночной тишины ничего не осталось. Выстрелы, пулеметные очереди, разрывы гранат, топот бегущих, вой сирены, свистки, крики, стоны, звон разбитого стекла – это вылетели окна в таверне при аэропорте. – Уходите по старой дороге, – приказал Цветков своим подручным. – Ждите меня под мостиком. На том берегу канала… Цветков стоял на коленях в жесткой рослой траве и сращивал два шнура. Не тащить же эти концы и остаток динамита назад через перевал, а бросить жалко, это не в характере Цветкова. Самое время подорвать сверх программы еще «хейнкель», иначе Цветков перестанет с собой здороваться. Людмил первым скрылся в полутьме. – И ты беги, – приказал Цветков Курту, который помог ему перевязать пакет с динамитом. – Я догоню… Цветков не хоронясь, во весь рост, побежал к «хейнкелю». Он протянул шнур, обвил его вокруг пропеллера и шасси, отбежал, чиркнул спичкой, но охрана заметила зловещий огонек, бегущий по шнуру, и открыла огонь по поджигателю. Курт услышал выстрелы, обернулся, посмотрел в ту сторону, где стоял подсвеченный «хейнкель», и рванулся назад. Когда он добежал до Цветкова, упавшего навзничь в розовую траву, пламя уже охватило кабину «хейнкеля». – Беги сам, сейчас взорвется… – с трудом произнес Цветков, прижимая руку к животу. – Шнель… У меня пуля в кишках. – Он страдальчески усмехнулся. – Ауфвидерзеен, в смысле «прощай»… Курт безмолвно опустился рядом, осторожно приподнял застонавшего Цветкова, взвалил его на спину и, сгибаясь под ношей, пошатываясь, пошел в сторону от горящего «хейнкеля», который ослепил охрану. На рассвете Ксанти вел свой поредевший отряд по крутой каменистой тропе. Двое были убиты в стычке около таверны, а когда загорелся ангар, фашисты схватили тяжело раненного Баутисто. Цветков в начале пути еще просил запекшимися губами: «Пить!», а умер уже в горах. Его тащили на самодельных носилках из двух жердей и плаща. Рука безжизненно свесилась, глаза навечно сомкнулись, и он уже не увидел долину в предутреннем тумане. Первые лучи солнца вот-вот коснутся излучины Гвадалквивира. Над аэродромом Таблада подымались черные столбы дыма. Они сходились в большое грязное облако, затмившее полнеба. В долине не слыхать было, как тяжело дышат носильщики, не слышен был позже и скрежет железа о камень. Каменистый грунт крошили кинжалами, штыком. Людмил загребал щебень каской, а Курт – котелком. На вершине горной гряды, по пути к перевалу «Сухой колодец», вырос могильный холм. 55 Самая первая ниточка, которую удалось протянуть в камеру к Этьену, взяла свое начало в фотоателье «Моменте». Скарбек узнал, что групповая семейная фотография, которая ему заказана (шесть штук, размер 9x12 см), предназначена для отправки отсутствующему члену семьи – некоему Ренато в тюрьму Кастельфранко. На фотографии снялись родители, младший брат, сестренка Ренато и его невеста Орнелла – стройная, высокогрудая, большие синие глаза с поволокой. Скарбек попросил Орнеллу сняться и отдельно от всего семейства, сфотографировал ее во многих позах. Он сделал это по совету Анки. 
Отец семейства не преминул похвастать, что Ренато арестовали после того, как несколько наиновейших самолетов «Капрони-113» оказались с пороками явно диверсионного происхождения. То дело рук коммунистов сборочного цеха, которые узнали, что их самолеты отправляют франкистам. Ренато молод, ему в тюрьме исполнилось двадцать три года, но он опытный мастер и зарабатывал очень прилично. Свадьба с Орнеллой уже была назначена, а за две недели до свадьбы на жениха надели наручники. А мать успела пожаловаться фотографу на будущую невестку – морит себя голодом, бережет фигуру. Ну что это за итальянка, если она отказывается есть спагетти? В откровенной беседе со старым туринским рабочим Скарбек счел возможным рассказать о несчастье, которое приключилось с одним их знакомым австрийцем. Как и Ренато, их знакомый – политзаключенный и тоже сидит в Кастельфранко дель Эмилия. Человек бессемейный, о нем позаботиться некому. Кажется, Орнелла на днях едет на свидание. Не возьмется ли она передать через Ренато привет австрийцу? Привет от Старика. По возвращении из Кастельфранко Орнелла наведалась в «Моменто», привезла свежие новости о Кертнере, переданные Ренато. Скарбек счастлив был услышать, что Ренато и другие политзаключенные говорят о Кертнере с глубоким уважением. Все восхищаются его стойкостью, его неуступчивостью в конфликтах с тюремной администрацией, его эрудицией, его заботливым отношением к другим заключенным. Он пользуется авторитетом даже среди уголовников, с ним вынужден считаться сам капо диретторе. Ренато распорядился, чтобы Орнелла и впредь выполняла поручения, которые могут послужить на пользу Кертнеру. Самая большая помощь – передавать записки ему и от него. Пусть друзья австрийца и Орнелла вместе обдумают, как это безопаснее делать. Ренато в тюрьме не на плохом счету, он приговорен к двум годам, и такая к нему приезжает красивая невеста, что администрация разрешает свидания с ней без решетки, лишь в присутствии «третьего лишнего». Передать записку из рук в руки опасно, обычно за руками следят внимательнее всего. Но даже при режиме Муссолини не осмелились упразднить старое тюремное правило: надзиратели разрешают целоваться при свидании, притом дважды – при встрече и при расставании. Скарбек начал опыты с непромокаемой бумагой и несмываемыми чернилами. Анка помогала. Лучше всего вела себя вощеная калька и китайская тушь, которую Скарбек привез с Востока. Он продержал во рту записку два часа, и бумага не расползлась от слюны. Приклеить же бумажный комочек к десне удобнее всего американской жевательной резинкой. В этом убедилась Орнелла, когда тренировки ради ходила с бумажным комочком во рту. Осталось только решить: передать Ренато комочек бумаги в начале свидания или в конце? Ну конечно же, в конце, потому что у Орнеллы он приклеен к десне, Орнелла к нему уже привыкла, а Ренато с непривычки трудно будет говорить, поведение его потеряет естественность. Не всегда «третий лишний» ведет себя тактично. Вдруг свидание придется на дежурство хромоногого, страдающего тиком надзирателя? Хромоногий всегда мешает сердечному уединению молодых людей, и на случай его дежурства Орнелла заучила наизусть перевод записки с немецкого на итальянский: «Секретарша ждет вашей открытки с просьбой срочно продать костюм. Надежда всегда с вами. Старик желает бодрости. Верный друг». По словам Орнеллы, передача записки прошла преотлично. «Третьим лишним» при их свидании оказался сонливый, нелюбопытный толстяк, которого все время клонит ко сну; боишься, как бы толстяк не упал со стула. О самом заветном Орнелла разговаривала с Ренато взглядами и намеками, а во всеуслышание – о разных пустяках. При расставании, полном немой боли, вся жизнь души может быть выражена страстным, долгим поцелуем. И в это мгновение Орнелла передала липкий секретный комочек; каждую секунду свидания она ощупывала его языком. Открытка Джаннине с просьбой о продаже личных вещей и присылке денег пришла из тюрьмы через пять дней – подтверждение того, что записка дошла по назначению. Двусторонняя операция прошла блестяще! В следующий раз связным Скарбека не повезло. В комнате свидания дежурил хромоногий с подергивающейся щекой. Он сразу уселся на скамейке между молодыми людьми и с удовольствием играл роль решетки. Не позволил даже обняться! Как тут передать записку? Такое осложнение было, однако, предусмотрено. Орнелле удалось пересказать содержание записки благодаря тому, что бездушный офицер-решетка – южанин, уроженец Калабрии, а молодые люди – северяне и оба нарочно утрировали особенности пьемонтского диалекта. Орнелла содержание записки вызубрила, но Ренато не был к тому подготовлен. Он же все-таки пришел на свидание с любимой, а не на явку! Чтобы Ренато запомнил записку, пришлось ее содержание незаметно вплетать в ткань разговора и повторить несколько раз. Орнелла все время помнила о предупреждении Скарбека: в случае каких-либо осложнений записку проглотить. Записка на русском языке: «Приказываю подписать прошение о помиловании, это ускорит освобождение. Продолжай отрицать связь с нами. Тюремную администрацию без надобности не дразнить и тем бесцельно не ухудшать своего положения, вызывая к себе репрессии. Извини за начальнический тон. Старик». И эта записка нашла адресата, в чем Скарбек убедился через несколько дней, когда Орнелла зашла в фотоателье «Моменто». Но мог ли Скарбек знать, какую драгоценную обратную почту доставит невеста Ренато? В одной камере с Ренато сидели совсем «свежие» заключенные – молодые парни с верфей Специи, с заводов под Генуей, в Турине, во Флоренции, в Фиуме и с других предприятий, работавших на Франко. На прогулках узники рассказывали много такого, чего Этьен не мог узнать, находясь на свободе. Молодой коммунист, занимавший койку в углу камеры, рядом с Ренато, работал в цехе, где устанавливал новые прицелы для бомбометания, которые незадолго до того поступили под видом примусов: на коробки наклеены яркие картинки с изображением горящего примуса. Наклейки шведские, а «примусы» из Германии, с завода Цейса. Да, кухарки с подобными «примусами» не возятся, не много на них настряпаешь… Помимо шифровки о прицелах, Этьен переслал другое важное сообщение: авиазаводы «Фиат», «Капрони» и «Бреда» получили из Японии большой и срочный заказ на самолеты. Японцы особенно интересуются тем, как все эти самолеты будут вести себя при морозах. Какое масло не боится мороза в двадцать градусов? Как меняется смазка всего управления? Режим работы мотора при сильных морозах? Как предохранить от обледенения бомбовой прицел? Не нужно ли изменить состав горючего? Как утепляется кабина? Защитный костюм для пилота? Как ведет себя кислородная маска при низких температурах? В Центре сами сделают выводы о том, чем вызван заказ японцев на самолеты, не боящиеся мороза в двадцать градусов, и где японцы в ближайшем будущем собираются вести боевые действия. Какое счастье, что Этьен не забыл своего последнего шифра! Да, он обязан бороться в тюрьме за свое существование. Но он так истосковался по настоящей работе! И как хорошо, что у него появились профессиональные заботы и хлопоты, они наполнили его постылое тюремное прозябание новым сокровенным смыслом. И уже далеко-далеко, куда-то на задний план отступили мелкие тревоги по поводу продажи какого-то костюма, который секретарша ухитрилась включить в опись вещей. Этьен надеялся отправить важное донесение в самое ближайшее время. У него сразу улучшилось настроение и самочувствие. После прилежных упражнений Этьен составил шифрованное письмо и стал нетерпеливо ждать оказии. Не забыть той счастливой минуты, когда Ренато подошел к нему на прогулке и сообщил о своем завтрашнем свидании с Орнеллой. Еще неизвестно, кого Орнелла осчастливит своим свиданием больше – любящего жениха или незнакомого ей заключенного 2722. Ренато отправился на свидание с невестой, а Этьен не находил себе места. Он волновался больше, чем если бы сейчас сам передавал этот секретный комочек бумаги с чертежиком и схемой. В подтверждение того, что послание дошло по назначению, Кертнер получил открытку из Швейцарии. Странно, что тюремное начальство, вопреки правилам, вручило эту открытку адресату. Неизвестная корреспондентка мобилизовала весь запас немецких любезностей, чтобы сообщить: она уже купила очки с цейсовскими стеклами и надеется их вскоре выслать. Этьен никогда очков не носил и с подобной просьбой ни к кому не обращался. Он угадал руку Анки и понял, что его информация насчет оптических прицелов, техническая характеристика и микроскопический чертежик дошли по назначению. 56 Скарбек увеличил фотографию Орнеллы и выставил портрет в витрине «Моменто». На прохожих смотрела очаровательная синьорина в открытом платье, смело облегающем фигуру. Теперь в какой-то мере были обоснованы новые визиты Орнеллы в фотографию. А для Ренато хозяин «Моменто» приготовил полдюжины кабинетных фотографий, все разные, ни одна не похожа на другую. – Вы бы смогли зарабатывать деньги как манекенщица, – сказал Скарбек, откровенно любуясь Орнеллой. – У вас не меньше шансов, чем у моей Анки! – Я это знаю, – согласилась Орнелла просто и улыбнулась Анке, еще молодой приземистой женщине, страдающей ревматизмом со времен Варшавской цитадели. – Он часто смешивает капусту с горохом, – вздохнула Анка. Несмотря на трагедию с женихом, Орнелла продолжала тщательно следить за собой. Весь рабочий день на ногах, за прилавком мануфактурного магазина, да еще участвует в гребных гонках. Она и в тюрьму послала скакалку, заставила Ренато заниматься гимнастикой. Ренато сообщил в открытке, что фотографии Орнеллы висят на стене, возле его тюремной койки, ими любуются даже тюремщики, и сам капо гвардиа спрашивал: кто снят?.. Позже Орнелла призналась Анке, что недолго были им в тягость новые тайные обязанности. Каждое свидание отныне больше волновало, лучше запоминалось. К согласию любящих сердец добавилась обоюдно переживаемая тревога, гордое сознание, что они стали точкой соприкосновения каких-то сил, борющихся на воле, с силами, которые продолжают борьбу в тюрьме. 57 Этьен получил новую записку: «Прошу подтвердить получение приказа. Напомни мне, сколько месяцев тебе осталось сидеть. Пойму это, как знак, что приказ получен и принят к исполнению. Отказ подать прошение многое испортит. Шкурничества в подаче прошения никакого нет. Объясни это всем товарищам по камере. Старик». Приказ Центра совпал с новым вызовом в дирекцию тюрьмы по поводу того же самого прошения о помиловании. После первого предложения, сделанного капо диретторе две недели назад, номер 2722 ответил: – Просьбу о помиловании может подать виновный, когда он просит милости. А я виновным себя не признаю. И снова Джордано был приторно учтив и любезен: – Мы вас поддержим. Мы даже напишем, что вы себя примерно ведете. Хотя мы оба знаем, это далеко не так. Мы уже несколько раз с вами ссорились. – Значит, вы считаете, что мы несколько раз мирились? Нет, я с вами не мирился. Я с вами в вечной ссоре на все оставшиеся мне годы пребывания под вашей крышей. – Семь лет могут превратиться в несколько месяцев. Нужны лишь ваше раскаяние, правда о самом себе, и тогда вы можете рассчитывать на милосердие. – Чем более нелепы законы и чем более жестоки судьи, тем нужнее знаки королевской милости осужденным, – Кертнер насмешливо глянул на портрет Виктора-Эммануила, висящий на стене напротив дуче. – Это случается, когда король начинает тяготиться своей репутацией деспота и хочет прослыть милосердным… – Номер 2722, я запрещаю неуважительно говорить о короле! – У Джордано побагровела морщинистая лысина. Он нажал кнопку звонка, открылась дверь. Капо диретторе подал стражнику знак, тот схватил Кертнера за руку выше локтя. – Я и не подозревал, синьор Джордано, что вы такой опытный спорщик, – успел сказать Кертнер, выходя. – Самый веский довод в нашем споре вы приберегли к концу. «Как только я признаюсь в своем гражданстве, – размышлял Этьен, подымаясь по лестнице к себе в камеру, – будет устроен новый процесс. Меня обвинят в сокрытии правды от правосудия во время первого процесса. Может, как раз этого и добивается двуличный Джордано…» Тюремщики внимательно следили за теми политическими, кто пал духом. Их изолировали, переводили в одиночку, и, если они подавали прошение о помиловании, их довольно быстро освобождали. Но коммунисты после этого не считали их товарищами по партии. Было строгое партийное указание: прошений на имя дуче и короля не подавать, это равносильно дезертирству, предательству, признанию фашистского режима. Человек без позвоночника смотрел на свою подпись под прошением так: «Почему я должен отказываться от освобождения из тюрьмы или сокращения срока заключения из-за такой пустячной формальности?» Однако заключенный 7047 Антонио Грамши не считал это формальностью! Политические в Кастельфранко знали, что он стойко отказывался от предложений Муссолини и не подписывал прошение о помиловании. Грамши назвал такое прошение политическим самоубийством, он говорил, что если ему дано выбирать между той или другой формой самоубийства, он предпочитает, чтобы дуче не выступал и палачом и братом милосердия одновременно. А ведь Грамши отказался от помилования, стоя одной ногой в могиле, уже отмучившись за фашистской решеткой десять лет! И если бы Кертнер, хотя он и не член Итальянской компартии, подписал сейчас прошение, он лишился бы внутреннего права считать себя соратником этого кристально чистого человека, как бы Этьен ни оправдывался перед самим собой, какие бы поправки он ни делал на свое особое положение. И последний приказ Старика попал к Этьену только благодаря помощи коммунистов. Старшие партийные товарищи запретили Ренато скандалить с тюремщиками. Он должен вести себя смирно, быть послушным, покладистым, чтобы его хвалил сам капо гвардиа, чтобы Ренато ни в коем случае не лишали права на свидания. Он не имеет права подводить австрийского товарища! А кто бы стал заботиться, кто бы стал рисковать ради какого-то нечистого дельца? Кто бы помогал австрийскому коммерсанту установить связь с внешним миром (может быть, с другим таким же дельцом), если бы Конрад Кертнер не вел себя как последовательный антифашист? Да никто!.. Орнелла терпеливо выждала, когда на их свидании дежурил сонливый, ленивый надзиратель, и незаметно сунула Ренато, достав из-за лифчика, маленький сверток. Там были флакончик с китайской тушью, перышко, несколько пластинок жевательной резинки и нарезанная кусочками вощеная калька; среди записок, переданных Этьеном до этого, некоторые размокли, и удалось разобрать не все слова. Этьен получил возможность послать Старику письмо более подробное. Бессонную ночь провел он в нескончаемых спорах с самим собою, он вел заочный диспут со Стариком. Этьен помнил, что Берзин вообще не любил докладов, а предпочитал диспуты. Он охотно устраивал диспуты у себя в управлении и сам принимал в них деятельное участие. Ах, если бы Этьен мог лично высказать Старику все возражения, какие вынужден будет втиснуть в жалкий клочок вощеной бумаги! Ах, если бы Этьен мог сейчас поговорить со Стариком, глядя в его глубокие серо-голубые глаза! Оказаться бы сейчас в России, в Москве, в старом-старом доме, окрашенном в грязно-шоколадный цвет, в знакомом кабинете… Именно там, в кабинете, состоялось знакомство с Берзиным, когда тот вызвал Маневича на первую беседу. Берзин вел себя как учитель, который внимательно слушает ученика и улавливает малейшую неуверенность в его ответах. Но, по-видимому, Берзину нравились неуверенные ответы Маневича. Берзин понял, что эта неуверенность продиктована повышенной требовательностью к себе. И вот нерешительность, которая, как казалось самому Маневичу, портила тогда все, на самом деле, как только Берзин установил ее происхождение, уже питала не сомнение, а наоборот, убеждение Берзина, что он говорит с человеком, на которого сможет положиться. От Берзина не укрылась искренность Маневича. В молодом человеке чувствовалась спокойная духовная сила, рожденная неугомонным темпераментом революционера, и непреклонная воля, смягченная тактом интеллигента. Такие люди обладают мягкой властью, а это уже много, очень много для будущего разведчика. Маневич сидел в кресле перед пустым просторным столом и наивно полагал, что еще ничего не решено, что главный разговор впереди, что не все пункты анкеты проштудированы, и не замечал в волнении, что тон и характер вопросов-расспросов Берзина изменился, а главное, неуловимо потеплел его взгляд. Годы спустя Старик признался Этьену, что тот понравился ему именно тогда, когда весьма неуверенно отвечал при первой беседе. Вопрос о работе Маневича был решен Берзиным в ходе этой беседы. Берзин считал, что без полного и безусловного доверия к разведчику тот не может вести подобную работу, и приучал Маневича, как и других, к самостоятельности. В условиях конспирации, где-то на чужбине, разведчику даже посоветоваться будет не с кем. В ответ на это доверие Маневич (теперь уже Этьен) и его товарищи по работе платили Берзину бесконечной преданностью. Самая строгая дисциплина прежде всего основана на доверии, а не на бездумном послушании, чинопочитании. Бывало всякое, приходилось в одиночку решать очень трудные задачи, и всегда Этьен мысленно спрашивал себя: «Как бы сейчас на моем месте поступил Старик?» Так ему легче бывало найти правильное решение. А сейчас он не согласен со Стариком, казнится тем, что не может выполнить приказ, подать прошение о помиловании. «В самом деле приказ неправильный или я просто не знаю причин, какими он вызван? А есть ли в этом приказе полное доверие ко мне? Почему мне самому не решить, как я должен вести себя в подобных обстоятельствах? И не ввел ли кто-нибудь Старика в заблуждение, сообщив ему не все обстоятельства дела?» Этьен представил себе Старика ругающим своего подчиненного, которым был сейчас он сам. Когда Старик ругал кого-то, вид у него был смущенный, он словно стыдился за того человека, которому приходится делать выговор. При этом Старик не повышал голоса, выговаривал подчиненному всегда стоя, а не сидя за столом, и как бы подчеркивал этим серьезность разговора. В минуту волнения он перекладывал карандаши с места на место, переставлял на столе пресс-папье… Но как бы строго ни критиковал Старик, в резком тоне его не слышалось желания обидеть, унизить. Провинившийся не терял веры в себя, в свои силы. Старик оставался учителем, который убежден, что перед ним стоит способный ученик, который уверен в сообразительности и честности ученика и в том, что урок пойдет ему на пользу. А кроме того, Старик умел слушать, а это очень важно для руководителя – уметь слушать подчиненного. Сумел ли Этьен этой бессонной ночью убедить Старика в своей правоте?.. На другой день Кертнер отказался от прогулки, чтобы остаться в камере одному, сочинить ответ Старику, начертать его маленькими буковками на клочке бумаги. Уверенный в своих связных, он писал по-русски. «По поводу прошения о помиловании: 1. Здесь находится в заключении более 120 товарищей, с которыми я живу и работаю и которые видят во мне товарища по партии. Моя подпись под прошением на многих подействует разлагающе, будет всячески использована дирекцией тюрьмы в своих целях и получит отклик во всей Итальянской компартии, так как тут сидят товарищи из всех провинций. Никакие мои объяснения не помогут. 2. Я уверен, что в прошении будет отказано. Директор тюрьмы даст мне отрицательную характеристику, так как знает о моей роли в сплочении политических заключенных, в их борьбе за свои права. ОВРА будет против помилования, об этом мне открыто сказал офицер, который присутствовал при моем свидании с адвокатом Фаббрини. Адвокат, который меня защищал на процессе, полного доверия у меня не вызывает. Прошение о помиловании будет стоить много денег, а результата не даст. 3. Мое мнение: не подобает члену нашей партии и командиру Красной Армии писать прошение о помиловании. 4. Если Старик, ознакомившись с моими доводами, подтвердит приказание насчет подписи, я постараюсь перевестись в другую тюрьму и там подпишу бумагу. Но боюсь, что единственный результат будет такой – я буду принужден провести все остальные годы в одиночном заключении, так как после прошения о помиловании не смогу более ни жить, ни работать с другими товарищами в заключении. Передайте все это Старику. Буду ждать ответа. Э.». «Я могу выдавать себя за австрийца, я могу ходить в коммерсантах, могу вести двойную жизнь. Но честь-то у меня одна и достоинство тоже одно! Вот так один пояс полагается красноармейцу и для шинели и для гимнастерки. И никакого другого пояса ему не положено…» Однако чем больше он думал, тем яснее становилось, что здесь, в Кастельфранко, никакого члена партии и командира Красной Армии нет, а есть богатый австриец Конрад Кертнер, осужденный за шпионаж во вред фашистскому государству. Но с другой стороны – если бы аполитичный коммерсант точно придерживался своей «легенды», он, помимо тюремной изоляции, оказался бы еще в моральной изоляции от томящихся здесь итальянских антифашистов. И ответ Старику дойдет сейчас только благодаря подпольщикам-коммунистам. Как же Этьен может стать в их глазах предателем и трусом? Нет, он по-прежнему был убежден в своей правоте. Вот почему в ответной записке Старику он не сообщил, как тот просил, сколько месяцев ему осталось сидеть. Впервые в жизни он не мог последовать совету своего учителя и выполнить приказ своего командира. 58 Лишь вчера Кертнер впервые увидел этого голубоглазого, русоволосого парня на прогулке в тюремном дворе; их водили по одному отсеку. А сегодня парень шагал за спиной Кертнера и доверчиво рассказывал обо всем, что с ним произошло. Его судили как саботажника и дезертира, а до этого он служил техником-мотористом на испанских аэродромах, готовил к полету и снаряжал двухместные истребители высшего пилотажа «Капрони-113». Он рассказал, что в марте этого года республиканцы и партизаны совершили налет на фашистский аэродром Талавера-де-ла-Рейна, это на реке Тахо, в отрогах Сьерра-де-Гвадаррамы. По слухам, тем налетом руководил знаменитый диверсант, по национальности он македонец, а по чину подполковник республиканской армии. – Не знаешь, как его звали? – вполголоса спросил Кертнер и замер в ожидании ответа. Но парень за спиной поцокал языком в знак отрицания. И все-таки Кертнер был почти уверен, что речь идет о Ксанти, под именем которого скрывается Хаджи-Умар Мамсуров. Налет на аэродром такой отчаянной дерзости, что угадывается «почерк» товарища. Кертнер знал, что в середине ноября прошлого года Ксанти стал советником анархиста Дурутти, который возглавлял отряд, переброшенный для обороны Мадрида из Каталонии. Видимо, Ксанти недолго ходил в анархистах, если уже воюет по своей специальности. Прошел слух, что этого македонца при налете на аэродром тяжело ранили. Но никаких подробностей голубоглазый, русоволосый парень сообщить не мог. Он снова поцокал языком. А в конце лета красные совершили налет на аэродром Таблада под Севильей. Они атаковали аэродром группами в два-три человека. Чувствовалось по всему, что они хорошо были осведомлены о внутреннем распорядке на аэродроме, знали его план. Около десяти подрывников прокрались со стороны навигационного канала Альфонса XIII, с берега Гвадалквивира, а группа диверсантов сосредоточилась для нападения в апельсиновой роще, недалеко от восточных ворот аэродрома, под самым носом у командансии. Красным удалось поджечь тогда на аэродроме семнадцать самолетов. Сгорели и тяжелые бомбардировщики и «мессершмитты» последней модели. Эта новая модель «мессершмитта» появилась после того, как русские начали утюжить испанское небо на истребителях двух типов. Один тип испанцы окрестили «чатос», что значит «курносые», а другой называют «моска», то есть «муха». «Какая же наша модель «чатос»? – гадал Этьен. – Скорее «И-15», чем «И-16»; если смотреть на «И-15» сбоку, то заметно, что мотор слегка задран кверху. В самом деле курносый профиль…» У парня, безостановочно шагавшего вдоль высоких тюремных стен, и сейчас перед глазами эта страшная ночь на аэродроме, перестрелка, взрывы. Он видел, как волокли какого-то седоволосого партизана, тяжело раненного, напарник его был убит. Он слышал потом, что старика увезли в Бадахос; фашисты врыли в холм при дороге крест, распяли на нем раненого и подожгли. Но перед тем ему разрешили причаститься и тогда узнали, что старику далеко за семьдесят, а зовут его Баутиста. Этьен медленно шагал по тюремному двору, а сердце его колотилось так, будто он только что узнал о новой амнистии. «Может, если бы не мои шифровки, не совершили бы этого налета на Табладу?..» 59 Пришло время представлять аттестацию на присвоение очередного звания полковнику Маневичу, срок выслуги давно истек. Разве тюремная роба может изменить прежнее представление о полковнике Маневиче? Сидит он за решеткой или не сидит – он воюет в тылу врага… Берзин написал аттестацию на полковника Л. Е. Маневича (Этьена): «Способный, широкообразованный и культурный командир. Волевые качества хорошо развиты, характер твердый. На работе проявил большую инициативу, знания и понимание дела. Попав в тяжелые условия, вел себя геройски, показал исключительную выдержку и мужество. Так же мужественно продолжает вести себя и по сие время, одолевая всякие трудности и лишения. Примерный командир-большевик, достоин представления к награде после возвращения. Армейский комиссар 2-го ранга Берзин». 60 Когда Карузо привел заключенного 2722 в комнату свиданий, его уже ждали. Адвокат Фаббрини встал со скамьи, а надзиратель остался сидеть у дальней стены. Кертнер коротко кивнул адвокату и уставился на тюремного надзирателя. Кто сегодня «третий лишний»? Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться: сегодня дежурит не тот, который вечно бегает по комнате, так что рябит в глазах. Да и лицо у сидящего на стуле как каменное. И не тот, седоусый и лысоватый. И не тот, который дежурил в прошлый раз. Значит, по методу исключения, Этьен имеет честь познакомиться с уроженцем Лигурии. И тут Кертнером овладел приступ буйной словоохотливости. Будто его привели сюда не из густонаселенной камеры, будто он вырвался из длительной одиночки, устал от молчания. Он поздоровался с Фаббрини, затем многословно, витиевато обратился к «третьему лишнему» и забросал его ерундовскими вопросами – что-то насчет погоды, спросил, какой сегодня день недели и сколько дней в июле. Надзиратель послушно отвечал на вопросы, а Этьен весь обратился в слух. Он успел уловить тень удивления на лице Фаббрини; тот слушал своего подзащитного, навострив большие круглые уши, стоящие торчком. Конечно, Кертнер сегодня не похож на самого себя, но он уже успел вслушаться: «третий лишний» никакой не лигуриец. Ну ничего похожего! Растягивает гласные и произносит звук «е» очень протяжно, что изобличает в нем, скорее, миланца. Да и рост не подходит под приметы. Какой же он низенький? Значит, товарищи по камере ошиблись, значит, в тюрьме существует какой-то неизвестный им пятый офицер, который дежурит в комнате свиданий. Может, этот, который сидит на стуле выпрямившись, – новенький? Заменяет ушедшего в отпуск? Фаббрини был сегодня в приподнятом настроении. И вдруг пожаловался «третьему лишнему» на отсутствие дождей в Ломбардии. – Кстати, вы не знаете, почему в Италии такое засушливое лето? – спросил Фаббрини у Кертнера. Тот недоуменно пожал плечами. – Потому, что все итальянцы набрали в рот воды! И Фаббрини первый с удовольствием, даже несколько театрально, рассмеялся. . В прошлый раз адвокат вел себя значительно осмотрительнее. Он не раз прикладывал тогда палец к губам, напоминал Кертнеру об осторожности. А сейчас так неопрятен в словах. Изменилось настроение? Опасался тогда «третьего лишнего»? Но ведь на первом свидании сидел самый безобидный свидетель из всех! Или Фаббрини очень уверен в сегодняшнем свидетеле? Сегодня Этьен очень внимательно следил и за Фаббрини и за «третьим лишним», не спуская с них глаз, И в камеру вернулся встревоженный. – Ну кто из четырех голубчиков мозолил тебе глаза на свидании? – Из тех четырех, которых вы знаете, – никто. Какой-то пятый. Бруно вскочил с койки. – Пятый? Откуда же он взялся? Кертнер только пожал плечами. – А как пятый выглядит? – Никаких особых примет. Рослый. Сидит на стуле – как шпагу проглотил… Впрочем… Мне показалось, что иногда он чуть-чуть косит. – И притом – левым глазом? – оживился рыжеволосый мойщик окон из Болоньи. – Да. – Тебя можно поздравить! – вскрикнул Бруно. – Ты познакомился с самим Брамбиллой! Числится помощником капо диретторе, но жалованье получает в тайной полиции… Соседи по камере уже заснули, а Этьен лежал в тревожном смятении. Он перебирал в памяти каждую из двадцати минут сегодняшнего свидания, и оно тревожило его все больше. Пожалуй, было что-то неестественное в том, как держался «третий лишний». Вспомнить хотя бы снисходительную усмешку косящего тюремщика, которой он сопроводил очередную двусмысленность адвоката. Эта усмешка значила больше, чем все улыбки, какие адвокат наклеивал на свое лицо в течение всех двадцати минут свидания. Можно ли допустить, что Фаббрини не знал, кто такой Брамбилла? Ведь сам говорил, что много лет ездит по делам в эту тюрьму, хвалился, что ему тут все знакомы! У Этьена возникло подозрение, что Фаббрини и косоглазый хорошо знакомы друг с другом. В выражении лица косящего было нечто такое, что выдавало в нем сообщника; он как бы все время оценивал – хорошо или плохо играет свою роль адвокат. А почему Фаббрини сегодня тяготел к политическим анекдотам? Кертнер на них никак не реагировал, не поддерживал разговора на скользкие темы. И почему адвокат, такой предусмотрительный, говорил крамольные вещи, не снижая голоса? Ради чего он рисковал? Вот где, пожалуй, психологическая разгадка поведения Фаббрини – убедить Кертнера, что, несмотря на провокационное письмо, он заслуживает полного доверия… 61 Берзин раскрыл папку и начал с конца перелистывать личное дело полковника Маневича. Ему захотелось остаться наедине с Этьеном и подробнее выспросить: «Ну, чем ты занимался последние месяцы, пока я был в Мадриде? Что успел сделать? Чем бывал встревожен? Кто виноват, и виноват ли кто-нибудь в провале?..» Среди последних донесений, аккуратно подшитых к делу, на глаза попался клочок папиросной бумаги, неведомо как и с кем пересланный Этьеном: «Дорогой и уважаемый Старик! Горячо поздравляю тебя с девятнадцатой годовщиной РККА. Передаю привет всем старым товарищам. Твой Э.». А вот еще записка, неровные буковки, неуверенные штрихи, будто Этьен писал трясущейся рукой: «Вдребезги болен и сегодня плохо соображаю. Прошу Старика написать мне несколько слов для ободрения духа. Передаю ему свой тоскующий привет. Этьен». «Вот ведь какая судьба у всех у нас, – подумал Берзин невесело. – Даже тоскующий привет другу занумерован, и хранится он в папке с грифами на обложке: «Совершенно секретно», «Хранить вечно», «В одном экземпляре»… Так-то вот». Записка от вдребезги больного пришла, когда Берзин находился где-то в горах Гвадаррамы. Сегодня же послать ответную шифровку в Италию! «Как же ты, Ян, после возвращения из Испании не перечитал внимательно все дело Этьена, не разобрал все буквы-закорючки до единой, не поговорил по душам с далеким другом? Конечно, дел с первого же дня, как только вернулся и переступил порог Разведуправления, навалилось поверх головы, но это не может служить мне оправданием…» За листами дела Маневича-Этьена отчетливо вырисовывалось лицо Гри-Гри. Вот кто по-настоящему озабочен участью товарища! Гри-Гри разработал несколько вариантов побега из тюремной больницы. Берзину показался весьма дельным план, при котором исчезновение Этьена из тюремной больницы могли обнаружить только спустя два часа после бегства и исключалась возможность всяких жертв при побеге… Но Илья, как явствует из копии письма, подшитого к делу, лишь напомнил Гри-Гри, что ему следует быть осторожнее. И никакой деловой подсказки, ни одного совета! Между строчек письма слышится крик души Гри-Гри: «Ведь, в конце концов, я должен не только бояться, но прежде всего делать дело! С умом, само собой разумеется, но делать дело, а не сидеть у тюремных ворот и ждать погоды!.. Какой все-таки молодец Этьен! Ни одной жалобы или намека на нее. На его месте от многих можно было бы ожидать не только жалоб, даже ругани, причем ругани, заслуженной нами… Без принятия хирургических мер Этьену угрожает пребывание в больнице до полного выздоровления…» Это значит – пребывание в тюрьме до окончания срока заключения. Сегодня же Берзин отправит шифровку Гри-Гри, поблагодарит его и Тамару. Пусть Гри-Гри и в дальнейшем делится с Центром планами освобождения Этьена. Судя по переписке с Гри-Гри, Илья совершил две ошибки: не имея никаких прочных доказательств, он все время предупреждал об опасной секретарше и рекомендовал помощь адвоката, который несимпатичен Этьену и Гри-Гри. Почему же не доверять мнению, интуиции товарищей, находящихся там, на месте? А Гри-Гри пишет Илье: «Наше счастье, что секретарша – человек верный, она доказала это делом. Думаю, Ваши подозрения напрасны». Из записки Этьена, адресованной Гри-Гри: «Последняя твоя записка не дошла. Связную обыскали перед свиданием с женихом, и она вынуждена была проглотить писульку. Привет Старику. Прощай. Э.». Значит, совершенно очевидно, что у Этьена появилась в тюрьме какая-то более или менее надежная связь… Почему же Илья ничего об этом не доложил? Или считает, что невесте, которая глотает писульки, также нельзя доверять? Листая страницы личного дела Маневича-Этьена, Берзин усомнился в правильности своего старого приказа – подать прошение о помиловании. Был смысл подавать прошение сразу же, как только Кертнер оказался в тюрьме. Но такое прошение должно было сопровождаться целым рядом организационных мер! И большие взятки могут помочь в подобных случаях. Однако нельзя теперь требовать у Этьена, чтобы он поступился всеми тюремными связями, когда без них он не мог бы жить и работать, когда связи эти – единственные и никаких других связей мы установить с ним не сумели. Берзин листал личное дело полковника Маневича, все глубже заглядывая в прошлое, возвращаясь с ним к тем дням, когда красных командиров еще не называли полковниками, майорами, капитанами, а к нему, к Берзину, еще не пристало прозвище «Старик». Личное дело хранило в копиях все справки и бумажки, какие в прошедшие годы были выданы Маневичу: о лётном пайке, о путевке для дочери Тани в пионерский лагерь, об отпуске дров со склада, о выдаче нового обмундирования. Берзин задержался взглядом на письме, отправленном в Чаусы, в исполком, с просьбой помочь родителям военнослужащего Л. Е. Маневича и отпустить им по государственной цене восемь листов кровельного железа для ремонта прохудившейся крыши. Сюда же подшита справка от местных властей о социальном положении родителей: «Из имущества означенные граждане имеют ветхий дом и ветхий сарай. Торговлей не занимаются». Листая подшитые бумаги от конца к началу, Берзин уткнулся в анкету молодого Маневича, ту самую, которая лежала на столе во время первой беседы с будущим разведчиком. Более чем закономерно, что Маневича перевели тогда на работу в Разведуправление! Старший брат, Жак Маневич, с юных лет участвовал в революционном движении, состоял в РСДРП (б). Был арестован, с помощью сестры бежал из каторжного централа в эмиграцию. Там получил медицинское образование. Позже товарищи Жака по подполью привезли к нему в Швейцарию младшего брата Леву. Родом Маневичи из белорусского городка Чаусы, семья бедная, и учить мальчика было не на что. После Февральской революции братья вернулись в Россию. Девятнадцатилетний Лев Маневич добровольно вступил в Красную Армию, сражался за Советскую власть в Баку, а затем против Колчака, был комиссаром бронепоезда. Член РКП (б) с 1918 года. Партбилет № 123915. После гражданской войны стал слушателем военной академии. Окончил академию с отличием и поступил на курсы усовершенствования начсостава при Военно-воздушной академии. Берзин перевернул еще страницу дела – вот характеристики, выданные Маневичу уже после того, как Берзин с ним познакомился: «Отличных умственных способностей. С большим успехом и легко овладевает всей учебной работой, подходя к изучению каждого вопроса с разумением, здоровой критикой и систематично. Аккуратен. Весьма активен. Обладает большой способностью передавать знания другим. Дисциплинирован. Характера твердого, решительного; очень энергичен, иногда излишне горяч. Здоров, годен к летной работе. Имеет опыт ночных полетов. Пользуется авторитетом среди слушателей, импонирует им своими знаниями. Активно ведет общественно-политическую работу. Вывод: Маневич вполне успешно может нести строевую летную службу. После стажировки обещает быть хорошим командиром отдельной авиачасти и не менее хорошим руководителем штаба». Аттестацию Военно-воздушной академии подкрепляет отзыв командира эскадрильи старшего летчика Вернигорода; в его эскадрилье Маневич стажировался с 15 мая по 1 октября 1929 года. «К работе относится в высшей степени добросовестно и заинтересованно. Летает с большой охотой. Энергичен, дисциплинирован, обладает хорошей инициативой и сообразительностью. Вынослив. Зачастую работает с перегрузкой. Свои знания и опыт умеет хорошо передавать другим». «Сколько похвал! – с гордостью подумал Берзин, закрывая личное дело Маневича. – И все похвалы заслуженные. Но все-таки не умеем мы нащупать в человеке самое главное. В характеристике нужно выделять ведущую черту характера! Ведь в характере каждого из нас, как в сложном станке, есть свои ведущие и ведомые шестерни!..» Нельзя сказать, что лучшие сотрудники Берзина схожи между собой характерами. Все они очень, очень разные– ближайшие его помощники. Но есть черты общие в их натуре, такой у всех у них склад души, такой состав крови – они редко бывают удовлетворены достигнутым, ими владеет святое творческое беспокойство, они никогда не снижают требовательности к себе, – значит, и к другим. А что касается Этьена, то он часто брал себе задачу не только по плечу, но и несколько выше плеча. Лишь идя на риск, смело испытывая судьбу, удавалось добывать золотые крупицы технических открытий, делать ценные находки, готовить победу на поле будущего боя с фашистами. Там, в Испании, Берзин многократно и повседневно убеждался в том, что нужно совершенствовать и обновлять многое из нашего вооружения. Мы отстаем от гитлеровского вермахта, а кое в чем, особенно в авиации, в подводном флоте, – и от итальянцев. Во время последнего военного парада на Красной площади Берзин с тревогой смотрел на пулеметные тачанки. Героический арсенал гражданской войны, о которой «былинники речистые ведут рассказ…» Впервые тачанки появились на Красной площади 7 ноября 1924 года. Точно гремящая, скачущая, катящаяся орда вырвалась на булыжный простор площади. Грохот окованных железными шинами колес, цокот, свистят и щелкают бичи, искры летят из-под копыт. Упряжки подобраны в масть: то кони серые в яблоках, то золотистые дончаки… Но ведь многие у нас до сих пор взирают на тачанки как на грозное оружие в современной войне… А самолетов еще немало тихоходных. Для участия в парадах это даже удобно, но для воздушных боев… Американцы, немцы, англичане, шведы за большие деньги помогали нам строить доменные печи и турбины, тракторы и автомобили. Но если здесь капиталисты, хотя и втридорога, продают свой опыт, свое умение, то в военной промышленности мы не можем рассчитывать даже на самую корыстную, щедро оплачиваемую помощь. Стоит ли удивляться тому, что мы только учимся прокатывать броневую сталь, если совсем лишь недавно ставили первые палатки в ковыльной степи у подножья горы Магнитной? В речи, обращенной к хозяйственникам, Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Да, мы шагаем вперед семимильными шагами. Иначе были бы невозможны полеты Чкалова, Громова, Коккинаки, новые ледоколы, Московский метрополитен. Но опасность, что нас сомнут, если мы быстро не перевооружим армию, оставалась. Было бы несправедливо и неблагородно винить наших военных специалистов, конструкторов, изобретателей в отставании. Дело прежде всего в общем техническом уровне страны. Разве можно сконструировать отличный танк, если у нас еще учатся ходить первые грузовики? Можно ли изготовить быстроходный истребитель при слабом моторостроении? Для того чтобы добиться победы в будущей войне, требуется, кроме всех достоинств советских бойцов, еще и более современная техника. Да, техника сегодня решает все. Настойчивый, сосредоточенный и повелительный интерес к новинкам военной техники – вот чем Этьен, судя по его донесениям и письмам, шифрованным и нешифрованным, жил все последнее время. Не распылял внимания на оперативную поденщину, на пустяки, даже весьма любопытные, а всецело посвятил себя нескольким важнейшим проблемам военной техники. И просто удивительно, как Этьен знает (две академии плюс знание иностранных языков?) или угадывает (обостренное чутье?), что именно требует от нас сейчас Красная Армия, чтобы не только догнать, но и опередить своих будущих противников. Одно из важных донесений Этьена касалось оптических прицелов, установленных на новых немецких и итальянских бомбардировщиках, содержало анализ их недостатков, изъянов. Сообщалось также, сколько «примусов» прислали немцы на авиазаводы Северной Италии. В шифровке были технические сведения и миниатюрные схемы: как укреплен бомбовой прицел возле сиденья штурмана, как штурман производит расчеты, делая поправки на скорость полета и на высоту, с какой производится бомбометание. Одновременно Этьен предостерегал от некоторых ошибок, допущенных немецкими конструкторами, подсказывал, как их избежать. Такого еще на длинной памяти Берзина не было – чтобы разведчик, в условиях фашистской тюрьмы, продолжал свою работу и добывал ценнейшие и новейшие разведданные! Если бы даже тюремные надзиратели перехватили какую-нибудь информацию Этьена, они прочитали бы только записку заключенного, у которого накопилось множество просьб, связанных с очередной посылкой в тюрьму, – марка сигарет, какие купить носки, сорт шоколада, какие книги прислать, какое мыло дешевле и т. д. и т. п. А калька с микроскопическими чертежами или схемой была бы проглочена связным. Но, может быть, самым важным было сообщение Этьена из тюрьмы о большом и срочном заказе, полученном итальянскими авиазаводами из Японии на самолеты, не боящиеся мороза. Ясно, что японцы покупают самолеты, имея в виду военные действия не на юге Китая или где-нибудь на Филиппинских островах, а в Маньчжурии, в Монголии, может быть, и на нашем Дальнем Востоке. Сигналы, поступавшие от Этьена, перекликались с донесениями Рамзая, и в совпадении оперативных разведданных была своя дополнительная убедительность. Сообщение, полученное от Маневича, теперь уже комбрига, содержало сведения государственной важности, и Берзин нашел нужным срочно доложить их начальнику Генерального штаба. Берзин закрыл папку, написал записку Гри-Гри и, уже после того как вызвал сотрудника, приписал: «Делайте все для облегчения участи Этьена. Ищите пути для материальной поддержки, не жалейте средств. Держите меня в курсе дела, обещаю свою помощь. Дружески Старик». 62 Две записки пришли с очередной почтой, которую Орнелла передала через Ренато. Записка первая: «Письмо твое Старик получил, и вот его решение: перевестись в другое место и там оформить подачу прошения. Ты вел себя геройски, но за политического выдавать себя не следовало. Это затруднило твое освобождение. Сейчас делается все, чтобы вытащить тебя. Не надо срывать затраченных усилий и монеты. Все шансы за то, что операция удастся. Поздравляю с присвоением очередного воинского звания. С подлинным верно. Илья». Записка вторая: «Мой родной! Я хочу, чтобы ты знал: я живу только надеждой увидеть тебя… Спасибо дедушке, что он своими разговорами о тебе и своей заботой старается вселить в меня бодрость и веру в нашу встречу. И я и дочь умоляем тебя сделать все, что просит наш Старик. Исполни это ради дочери… Твоя Н.». Несколько загадок предстояло решить Этьену. Получил ли Старик последнюю объяснительную записку из тюрьмы? Знает ли все обстоятельства дела? Почему письмо подписал Илья? Откуда взялось это «с подлинным верно»? Где сейчас сам Старик? И как не похоже на него! Не доверяя своему командирскому авторитету, он обратился к Наде, не посвятив ее, по-видимому, во все обстоятельства дела. Странно, что Старик нашел возможным напомнить насчет монеты. Ведь он столько раз ругал Этьена за болезненную щепетильность, за скаредность, когда дело касалось расходов на него самого. И почему, кстати, эта самая «затраченная монета» никак не отразилась на положении Этьена? Понимают ли в Центре, что если Кертнер подаст прошение о помиловании и получит отказ, то всякая связь с ним будет прервана, и, может быть, на долгие годы? И как там, в Центре, представляют его освобождение, если он будет помилован? Помилование может коснуться лишь тюремного срока. Но та часть приговора, где речь идет о высылке из Италии после отбытия наказания, остается в силе! Чтобы фашисты довезли его до какой-нибудь границы и отпустили там на все четыре стороны? Но так вообще не делается! Этьен вновь подтвердил свой отказ подать челобитную, все старые аргументы сохраняли свою силу. «Поверьте, – убеждал Этьен товарищей из Центра, – моя воля основывается на разуме, и все, что я делаю, делается мною после долгого-долгого размышления». Этьен совершенно уверен, что совет директора тюрьмы Джордано подать прошение королю и дуче – провокация. Он первый будет возражать против освобождения Кертнера! А уговаривает подписать прошение для того, чтобы похвалиться – ловко он приручил такого бунтаря! Этьен узнал все, что касалось перевода в другую тюрьму. Увы, товарищ Илья не понимает, что возбуждать ходатайство о переводе, в сущности, – жаловаться на дирекцию. А если в ходатайстве откажут, условия наверняка ухудшатся. Скорее всего, его переведут в строгую одиночку. На перевод в другую тюрьму без правдоподобной мотивировки рассчитывать нельзя. Кстати, у него мотивировка абсолютно правдивая: тюремная зима без печки смертельна для его легких, может спасти только юг. Вот если бы получить такое заключение у эскулапа! Тюремные врачи вообще-то охочи до взяток. И с пустым карманом идти к врачу бессмысленно. Этьен был уверен, что Старика в Москве нет. И прежде бывало – Старик продолжал поддерживать с ним связь, присылать свои распоряжения, будучи в далеких командировках. Но вот записка Ильи, хотя и утверждала, что «с подлинным верно», все сильнее вызывала у Этьена смутное и тревожное недоверие. И особенно – раздраженное упоминание насчет «монеты». Не таким Этьен знал Старика, знал его много лет, не таким он помнил его и любил, не таким… 63 Только вчера Этьен узнал, в каком бедственном финансовом положении он находится. Хоть объявляй в Миланской торговой палате о своем полном банкротстве! Какой переполох поднялся бы в «Банко Санто Спирите»!.. Да, святым духом сыт не будешь. Истрачена последняя лира, куплена последняя бутылочка молока. Джаннина ничем не может пополнить счет 2722 в тюремной лавке, и ей нужно срочно что-то предпринять. После консультации с Тамарой она продала костюм Кертнера через комиссионный магазин; на случай полицейской проверки можно взять выписку из приходо-расходной книги. На этот раз Джаннина превзошла себя. Посылка была ценная, питательная. Этьен лишь удивился, что ему прислали зубной порошок, да еще в двух металлических коробках. Никогда прежде зубного порошка ему не посылали, можно за гроши купить его в тюремной лавке. Когда каждый грамм на счету – обидно использовать вес посылки так нерационально… Этьен и не подозревал, что во всех хлопотах с последней посылкой Джаннине помогала невеста Ренато, надежная его связная. Для Скарбеков и Тамары знакомство девушек оказалось неожиданностью, а познакомились они в тюремной канцелярии, еще когда сдавали пасхальные посылки. Ну разве не удивительно, как женщины, при взаимной симпатии, быстро рассказывают о себе всё-всё? Орнелла сказала тогда новой приятельнице: – Завидую тебе, Джаннина. Жених твой цел и невредим, скучает по тебе в Испании. Можешь хоть осенью отправляться под венец! А я должна страдать без Ренато и стареть в одиночку еще два длинных года!.. – А я тебе завидую… – Чему?! Джаннина не ответила. Обе были заядлыми посетительницами кинотеатров, не пропускали ни одного нового фильма, обе бывали на концертах всех заезжих джазов. Орнелла больше интересовалась модами, дольше торчала у витрин Дома моделей, бегала на конкурс дамских парикмахеров и много времени отдавала спорту; она была пылкой болельщицей, из тех, кого в Италии называют «тиффози». А Джаннина регулярно ходила в церковь, ежедневно молилась и ежедневно держала в руках газету, интересовалась политикой, слушала радионовости. В чем-то синьорины схожи, но в то же время они совсем разные. Джаннина вспыльчива, но при горячности на словах уравновешенна в чувствах. Может, именно кипятные слова и помогают ей избегать опрометчивых поступков? Орнелла более непосредственна в выражении своих чувств, более откровенна, лучше помнит, что хороша собой, не стесняется заинтересованных или восхищенных взглядов мужчин, принимая их как должное. А Джаннина застенчива, смущается, когда замечает, что на нее обращают внимание, матовые щеки ее заливает румянец. Джаннина ругается, даже сквернословит, прося при этом прощение у матери божьей, но делает это в порядке самообороны, защищаясь от несправедливости, обиды, а Орнелла делает это подчас с азартом, с удовольствием, которого не хочет скрывать. Или это разрядка после восьмичасовой чопорной вежливости, после утомительно-изысканных манер, к которым приучают продавщицу в перворазрядном мануфактурном магазине? Орнелла неуравновешенна не только на словах, но и в жестах, они могут быть и вульгарными. И походка ее чуть развязнее, она смелее покачивает бедрами, хотя можно взять в свидетели всех двенадцать апостолов – фигура у Джаннины ничуть не хуже. Обе долго ходили в невестах, но одну вынудила к этому тюремная стена, а другая сама обрекла себя на терпеливое ожидание. Джаннине казалось: будь Орнелла на ее месте, она давно бы выскочила замуж за Тоскано… По-видимому, знакомство девушек упрочилось, потому что рождественские посылки они отвозили вместе. Встретились в Милане, где у Орнеллы была пересадка: она получила разрешение на свидание с женихом, последнее в этом году. И вдруг выяснилось – свидание отменяется. Как же так? С трудом выкроила на билет туда и обратно! С трудом отпросилась у старшего приказчика магазина! Тюремщики нервничали, грубили, придирались ко всему на свете. Накануне пытался бежать уголовник, в тюрьме переполох, искали пилу, которой он перепилил решетку. Одновременно случилось чрезвычайное происшествие у политических: они до полусмерти избили подсаженного к ним провокатора. Вот откуда строгости и запреты! Орнелла из приемной для посетителей не ушла – будет сидеть, пока ей не разрешат свидания. К концу дня ей, наконец, сообщили, что свидание разрешено. Но увы, на этот раз свидание состоится через две решетки. Недоставало еще, чтобы между нею и Ренато торчали ржавые прутья! – Я должна передать Ренато благословение матери! – кричала Орнелла на капо гвардиа, ощупывая языком секретный комочек, загодя приклеенный жевательной резинкой. – Я должна осенить Ренато крестным знамением. Что же, я буду крестить жениха через две ваши решетки? Моя будущая свекровь тяжело больна. Не надеется увидеть сына на этом свете… Орнелла добилась приема у капо диретторе, хотя день был неприемный. Пусть капо диретторе, если он ей не верит, выделит на ее свидание не одного тюремного офицера, а всех, кем он командует. Но – без двух решеток! Слушая потом рассказ Орнеллы, Джаннина в этом месте самодовольно засмеялась: она все точно предсказала! Орнелла слишком хороша собой, чтобы капо диретторе мог отказать ей в просьбе. Лысый поклонник слабого пола в самом деле смилостивился. Однако настойчивость Орнеллы показалась ему подозрительной – Джордано есть Джордано! – и он послал соглядатаем на свидание того хромоногого, с перекошенным лицом, родом из Калабрии. Хромоногий был настроен воинственно. Сперва он пытался обыскать Орнеллу, но та не разрешила прикасаться к себе. И тут он заметил, черт бы его побрал совсем, – синьорина что-то держит за щекой. Не человек, а ищейка! Он стал допытываться, что у синьорины под языком, она ответила: «Леденец». Он потребовал, чтобы она выплюнула леденец, и тогда ей пришлось проглотить писульку. Уже во второй раз по милости хромоногой ищейки она вынуждена давиться и глотать этакую гадость! Ей очень хотелось повидать в тот день Ренато, но у нее хватило сообразительности и характера отказаться от свидания. Оно прошло бы без всякой пользы для дела. А вот если Орнелла нажалуется, как умеет, на хромоногого негодяя, может быть, ей удастся через два воскресенья, в начале будущего года, воспользоваться уже имеющимся разрешением. И может быть, синьора Фортуна через неделю приедет с ней в Кастельфранко, и на будущем свидании Орнелла не увидит гнусную образину, которую уже – все-таки есть бог на свете! – начало перекашивать, но не перекосило до конца. Комочек бумаги стоял у нее в горле – или ей казалось? – и на глазах выступили слезы. – Ненавижу твои кривые следы! – прокричала Орнелла хромоногому, испепелив его синими молниями… На обратном пути Орнелла повидалась в Милане с Джанниной и рассказала о неудаче с запиской. От волнения Джаннина даже потеряла на какое-то время дар речи, а это бывало чрезвычайно редко. – Что с тобой? – переполошилась Орнелла. – Я же проглотила записку. Никто не заметил. После Нового года можно будет передать другую записку… – Другой раз, другой раз… – Джаннина побледнела как полотно. – Если мы с тобой ничего не придумаем, другого раза не будет. А это рождество может стать последним для моего шефа. Этьен помнил стародавнюю примету: на Новый год нужно надеть на себя как можно больше обнов, чтобы год был счастливый. А какие у него сейчас могут быть обновы? Впрочем, в посылке, которая пришла к рождеству, оказалась новая зубная щетка. Вот он и решил почистить ею зубы в канун Нового года. У итальянцев другой обычай – у них принято ругать, оскорблять, поносить разными словами старый год, рвать, ломать, разбивать, выкидывать всякую рухлядь. В новогоднюю ночь всеми овладевает демон разрушения. И сейчас где-то выбрасывают старье, под ногами прохожих валяются на тротуарах и на мостовых обломки, обноски, черепки, осколки. А что может выбросить из своего старья заключенный? Кто-то в камере выкинул погнутую алюминиевую ложку, другой – щербатую кружку, третий – дырявое полотенце. Хорошо, оставшиеся дни Этьен будет пользоваться старой зубной щеткой, в новогоднюю ночь выкинет ее и откроет новую коробку с зубным порошком. Обычай есть обычай. Не так уж богата тюремная жизнь, чтобы не принять участия хоть в этой невинной игре… Но Джаннина не знала о решении Этьена. У нее были основания для серьезной тревоги. Собирая рождественскую посылку, она вложила туда порошок, приготовленный в «Моменто». Скарбек аккуратно распечатал две коробки, заменил зубной порошок другим порошком, с виду неотличимым, запаковал коробки вновь, рассчитывая на то, что Кертнера удастся предупредить запиской, переданной через Орнеллу и Ренато. По всем расчетам выходило, что рождественскую посылку вручат Кертнеру спустя четыре-пять дней после свидания Орнеллы с Ренато. Кертнер будет предупрежден о содержимом посылки, так что оснований для тревоги не было. Этьен уже давно просил переслать ему какой-нибудь реактив, чтобы он мог читать написанное симпатическими чернилами. Не мог же он устраивать в камере целую лабораторию и проявлять тайнопись десятипроцентным раствором железа! Или при отправке секретного письма пользоваться каким-нибудь сложным реактивом, вроде десятипроцентного раствора желто-кровяной соли. «Зубной» порошок, посланный Скарбеком, – самый удобный проявитель. Но Этьена следовало срочно предупредить о новом, неизвестном ему реактиве, и вся беда в том, что предупреждение запаздывало. Джаннина не могла найти себе места. Вдруг он вздумает этой химией чистить зубы? А если химия ядовитая? Если он обожжет рот? Отравится? Да, не вовремя попытался убежать уголовник, не вовремя перепилил он решетку, не вовремя подсадили провокатора к политическим, всё не вовремя… Джаннина настояла на том, чтобы Орнелла не откладывала свидание на второе воскресенье будущего года, поехала на следующий же день. Когда Джаннина провожала Орнеллу на поезд в Кастельфранко, то забросала ее советами: – Кокетничай с капо гвардиа! А если ты не набожная – притворись в разговоре с капо диретторе, возьми грех на душу. – Тем более, что грех не единственный у меня, – беззаботно рассмеялась Орнелла. – Помнишь, Орнелла, – сказала Джаннина, когда та уже стояла на площадке вагона, – помнишь, я не ответила, когда ты спросила, почему я тебе завидую… Тебе осталось тосковать в одиночестве полтора года, а потом ты всю жизнь будешь неразлучна со своим Ренато. Я же приду на твою свадьбу старой девой… Орнелла приехала в тюрьму, тут же направилась к капо диретторе и не обманулась – ее приняли. Орнелла не поскупилась на ругательства, адресованные хромоногому надзирателю, страдающему тиком. Она не позволит себя лапать, совать ей пальцы в рот, она просит капо диретторе оградить ее от нахала. Пусть Ренато увидит ее через две решетки, но только не в слезах из-за грубой обиды. Именно так было бы в прошлый раз, если бы она сама не отказалась от долгожданного свидания! Накануне сочельника, когда Орнелла снова приехала в тюрьму, неудачник беглец уже сидел в строгом карцере, злополучную пилу и веревку нашли, все в тюрьме стало на свои места, настроение у капо диретторе улучшилось. Он был так любезен, что сам проводил очаровательную просительницу до двери. На этот раз в роли «третьего лишнего» оказался доброжелательный надзиратель родом из Лигурии. Он не вслушивался, что там Орнелла кричала через две решетки. А она ловко, по клочкам, прокричала Ренато все, что требовалось. Лигурийцу послышалось – она напоминала жениху, что нужно каждое утро чистить зубы порошком… Или что-то в этом роде. Предупреждение пришло вовремя. В новогоднюю ночь Этьен выкинул безнадежно полысевшую зубную щетку, порошком же по-прежнему пользовался старым. Этьен перебирал в памяти минувшие новогодья, они запомнились лучше, чем прожитые Первомаи или Октябрьские годовщины. И не трудно догадаться почему: Новый год они с Надей каждый раз встречали в новом месте – то дома, с друзьями, то в клубе военной академии, то у Старостиных, то в ресторане. И вновь его обступили воспоминания. Под вечер он пошел на Главный телеграф, чтобы послать телеграмму своим старикам в Чаусы и отправить заказные письма. Сколько народу толпилось у окошек, нужно выстоять длинную очередь. «Мне только марки купить!» – проталкивался кто-то. «Ну дайте человеку пролезть еще раз без очереди, последний раз в этом году!» – Он пристыдил нахала в каракулевой шапке. В клубе в тот новогодний вечер было по-настоящему весело. Толпились вокруг цыгана с попугаем. Попугай вытаскивал конверты, там лежали заготовленные впрок предсказания. Новогодняя комиссия сочиняла их несколько дней подряд. Из комнаты, где собрались прорицатели, доносились взрывы смеха. В тот вечер они едва не опоздали с Надей на встречу Нового года. Извозчика найти не удалось, догнали трамвай, который на минуту задержался у остановки: номер его был запорошен снегом, и вагоновожатый ждал, пока стрелочник сметет снег с номера. Разной жизнью живут в Москве ночные трамваи! Возвращается смена с фабрики «Парижская коммуна» – и в вагоне пахнет кожами; угадает трамвай под театральный разъезд – из вагона долго не выветривается запах духов. А в тот предновогодний час пустой, прозрачный вагон был пронизан насквозь светом. Кожаные петли, за которые уже некому держаться, согласно раскачиваются на поворотах. Пассажиры – один-два и обчелся – нервно поглядывают на часы. Кондукторша сочувственно кивнула в сторону моторной площадки: «Не повезло нам с Дмитрием Петровичем. Неприютное дежурство!» Надя успела поздравить: «С наступающим!» – и кондукторшу, и Дмитрия Петровича, и тут же Лева с Надей соскочили, трамвай и вовсе опустел… А назад ехали по заснеженной Москве на извозчике, уже под утро. Тогда еще над улицами не висели запретные знаки – лошадиная голова перечеркнута наискось: гужевому транспорту проезд запрещен. Помнится, на чай он дал извозчику не гривенник, и не двугривенный, а целый полтинник – все-таки Новый год!.. Он уже не помнит, какой то был Новый год, кажется, 1925-й, но помнит, что в эту зиму на московских улицах появились первые таксомоторы «рено» и «фиат». Он тогда впервые услышал название «фиат». Можно было бы ради праздничка и потратиться, прокатиться на автомобиле, как нэпману. Но разве поймаешь на московских изогнутых улицах один из тридцати автомобилей, затерявшихся среди десяти тысяч извозчиков?.. Каждый обитатель камеры, который получил праздничную посылку, внес свою долю в новогоднюю трапезу. Каждому досталось по нескольку шоколадных конфет из посылки, которую прислала секретарша. А рыжий мойщик окон угощал всех «панеттоне» – куличом, который едят и в рождественские праздники. Другой товарищ роздал по куску знаменитого торта «дзюкатто»: торт этот пекут только во Флоренции, по форме он напоминает шляпу священника. Чаяния и надежды всех неслись куда-то за тюремные стены и решетки, в родные семьи, где близкие, любимые встречали сегодня Новый год. Этьен вспомнил, что в Белоруссии канун Нового года называют «щедрым вечером». Чем новый год расщедрится для Этьена? Наступает 1938 год, второй год он встречает за решеткой. Сколько их еще осталось, таких горемычных праздников, на его веку?.. В камере царило приподнятое настроение, оно коснулось в тот вечер всех заключенных – политических и уголовных. Новогодний вечер был для Этьена праздником прежде всего потому, что он твердо знал: в этот вечер все близкие – и Надя с Таней и Старостины – мысленно с ним. А недавно ему переправили в тюрьму и привет от семьи: «Мой дорогой, с Новым годом. Я и дочь любим тебя, ждем и будем ждать. Н. Т.». Вместе с приветом Этьен получил подтверждение, что его последняя шифрованная записка дошла по назначению, и это тоже была немаловажная причина, почему он встречал Новый год в приподнятом настроении. Хотелось думать, что и Старик не забудет его сегодня, в новогоднюю ночь. 64 На следующий день после того, как Гитлер оккупировал Австрию, 12 марта 1938 года, Бруно показал Кертнеру записку, тайно полученную из камеры № 3: «Эпидемия в городе Штрауса». Для Кертнера, для Бруно, для других политзаключенных оккупация Австрии не явилась неожиданностью, и они понимали, какими кровавыми последствиями чревата оккупация Австрии. Но во всей тюрьме не было человека, для которого эта новость прозвучала столь трагически, как для Конрада Кертнера. Бруно сразу понял: он принес своему другу зловещую новость. Ведь по приговору Особого трибунала Кертнер после того как кончится его тюремное заключение, должен быть выслан из Италии. Навряд ли Кертнера согласятся выслать в страну, которую он изберет. Скорее всего, его вышлют в Австрию, поскольку он числится австрийским гражданином. А теперь такая высылка – смерть. После мартовских событий ц Вене Кертнера несколько раз вызывали на допросы какие-то чины из ОВРА, которые специально приезжали в Кастельфранко. Из Турина собственной персоной пожаловал Де Лео, тот самый доктор юриспруденции, который присутствовал на первых допросах Кертнера. Заканчивая свой новый допрос, доктор сказал: – Теперь вам уже ничто не может помочь. Вы неудачно выбрали себе родину. Австрии больше не существует. Во всяком случае – для вас. Прошло еще несколько дней, и Кертнера вызвал к себе капо диретторе. В тот день дежурил Карузо, и он сопровождал заключенного 2722 в канцелярию. Пока они шли по длинным коридорам, по лестнице, через тюремный двор, Карузо успел выложить заключенному 2722 множество музыкальных новостей. Карузо выразил свой восторг по поводу последних гастролей русского певца Шаляпина, а потом остановился возле чахлого персикового дерева, выдержал паузу и пояснил: – На русском морозе сохраняется и молодость и хороший голос. Впрочем, что я с вами об этом говорю, – он сдержал улыбку. – Вы же в России никогда не были и не знаете, что такое настоящий русский мороз. А я. слышал, в России можно даже глаза обморозить… Заключенный 2722 не поддержал разговора Карузо на русские темы, он прошел весь двор молча… – По-видимому, вам известно о событиях в Вене? – этим вопросом Джордано встретил Кертнера. Он поинтересовался, как себя чувствует заключенный, а Кертнер пожаловался на холод и голод. На дворе середина марта, а каждый камень в тюрьме промерз до основания. – Назовите, пожалуйста, свое настоящее имя, сообщите, пожалуйста, откуда вы родом, и все ваши невзгоды быстро окончатся, – любезно посоветовал капо диретторе; он говорил тоном дружеского участия. – Мне сознаваться не в чем. Кертнер стоял изможденный, с трудом удерживаясь от кашля, пряча за спиной опухшие руки с перебинтованными пальцами, но при этом не опускал головы и смотрел на Джордано со спокойным достоинством, отлично понимая, что приглашение в этот кабинет и весь разговор ничего хорошего ему не сулят. Лицо капо диретторе было непроницаемо. Ах, если бы Этьен мог сейчас знать, что скрывается за лысым черепом, вяло обтянутым кожей; весь череп в складках, в морщинах, будто когда-то он был объемистее, а теперь съежился. – Помнится, как только вы попали ко мне, я вас уговаривал облегчить свою участь. Будем откровенны. Чего вы боитесь? Никто не ведет стенограмму нашей беседы. Следствие давно закончено. Мужской разговор без свидетелей, наедине. – Вы ошибаетесь, синьор, есть свидетель. Вот он! – Кертнер показал подбородком на портрет Муссолини, висящий над директорским столом. – Полагаю, этот свидетель не даст показаний в мою пользу. Он – свидетель обвинения. Лицо Джордано сразу стало отчужденным. – Мы с дуче слишком разные люди, – усмехнулся Кертнер. – Единственно, что меня с ним объединяет, – мы оба летчики-любители… – Сыскной агент проверил вашу легенду на месте, – перебил Джордано сухо. – Ваши паспортные данные оспариваются муниципальным советником в Вене. – Джордано снова заглянул в бумагу, лежащую на столе. – Отныне вы лишены прав гражданства, ваш паспорт аннулирован. Таким образом, в глазах нашей юстиции вы перестали быть иностранцем. Независимо от того, кем вы являетесь на самом деле – русским, сербом или австрийцем… Кертнер пожал плечами: – Какое же государство признается, что это «его гражданина обвиняют в шпионаже? Сегодня вся Австрия напугана Гитлером, не только тот полицейский чиновник, у которого наводили справки обо мне… – Вы теперь человек без родины, – жестко сказал капо диретторе; у него сделалось каменное выражение лица. – Странно было бы, если бы обо мне сейчас в Австрии кто-нибудь позаботился. Где тут до какого-то заключенного, если пропали без вести и сам президент и федеральный канцлер! – Нужно признать, что вы держитесь стойко. Даже юмора не утратили. Но боюсь, что это – юмор висельника. И вам не удастся сбить меня с толку тем, что вы говорите все время на разных языках. – Мы с вами разговариваем на разных языках, даже когда я говорю по-итальянски, – усмехнулся Кертнер. Кертнер чувствовал себя скверно, его очень утомила словесная перепалка с капо диретторе, и он все больше раздражался оттого, что стоит рядом с пустым креслом, а Джордано не предлагает ему сесть. Наверное, никто другой ни в одной итальянской тюрьме чаще, чем Джордано, не говорил «прего» и «пер фаворе», что означает «прошу» и «пожалуйста». Благодаря подобным пустякам Джордано удалось прослыть учтивым, добрым, но только – среди посетителей тюрьмы, а не ее обитателей. Если бы Джордано мог сейчас прочесть мысли стоящего перед ним заключенного 2722, он прочел бы: «Умелый притворщик, опытный лицемер, чем ты вежливее, тем опаснее, с тобой нужно держать ухо востро». – Извините, пожалуйста, но вы сами виноваты, – донесся как бы издалека металлический голос Джордано. – Давно нужно было написать мне чистосердечное признание, сообщить о себе родным, и ваша участь была бы облегчена. Очевидно, в вашей стране считают вас потерянным. Я не получал насчет вас никаких заявлений, никаких прошений. – Требую свидания без свидетелей с синьором Фаббрини. Он защищал меня по назначению миланской коллегии адвокатов. Непроницаемого лица капо диретторе не коснулась даже легкая полуулыбка, и глаза его ничего не выразили, хотя внутренне он сейчас вовсю смеялся над заключенным 2722. Капо диретторе вспомнил в эту минуту, как он уговаривал Фаббрини взять с собой на свидание с Кертнером под видом своего помощника Брамбиллу – переодеть агента, посадить на стул, пусть изображает «третьего лишнего». «Кертнер в поисках защиты добивается свидания с нашим осведомителем Фаббрини!» – Я не прошу, а требую свидания с моим адвокатом, – настаивал между тем Кертнер. – В моем положении всякое обращение к законности не только уместно, но обязательно, хотя я и не питаю каких-либо иллюзий насчет современного правосудия. Я хочу быть уверен, что мой адвокат сделал все шаги, дозволенные законом, для облегчения моей участи. Кертнер говорил раздраженным тоном и глубоко прятал усмешку, которой сопровождал свою просьбу. Ведь его настойчивая просьба – только для отвода глаз, для того, чтобы скрыть от Джордано свое недоверие к адвокату. – Я разрешаю вам свидание с адвокатом Фаббрини без свидетелей, – торжественно объявил Джордано, и лицо его в эту минуту могло показаться добрым; то было великодушие победителя, он всегда добрел, когда ему удавалось выиграть психологическую дуэль или когда он мнил себя победителем. Карузо ждал конвоируемого в коридоре и, как только они остались вдвоем, снова завел разговор на музыкальные темы. Но узник 2722 шагал мрачный, молчаливый и ничего не отвечал. Когда они проходили по тюремному двору, Карузо, изнывая от молчания, принялся тихонько насвистывать «Бандьера росса». Кертнер прислушался и наконец-то рассмеялся. Он вспомнил рассказ Якова Никитича Старостина, которому в свою очередь рассказывал старый большевик, сидевший на Нерчинской каторге: тамошние жандармы, как только напивались, пели «Замучен тяжелой неволей», «Слышен звон кандальный» или «Глухой, неведомой тайгою». Других песен жандармы на каторге не слышали, а революционным песням научились у политических заключенных, которые сидели у них же под стражей. 65 Сегодня Этьен истратил в тюремной лавке последние чентезимо, купил четвертинку молока. В таком же бедственном положении были его соседи по камере. И самое печальное – не знал, когда еще и сколько ему переведут денег с воли и переведут ли вообще. Джаннина пришла к выводу, что легче и быстрее, всего продать пишущую машинку ундервуд, самая последняя модель. Но перед продажей ее следовало отремонтировать и, в частности, сменить сбитые буквы «р» и «м». Она вспомнила, как шеф посмеивался – машинка картавит и заикается одновременно. Джаннина спохватилась: пожалуй, нужно впечатать в опись еще что-нибудь из ценных вещей, якобы принадлежавших Кертнеру. Она подумала об этом, когда несла машинку в мастерскую на улицу Буэнос-Айрес, и вернулась с полпути. Сколько строк позволяет еще впечатать полоска чистой бумаги до подписи полицейского комиссара? Одну-единственную строчку! И впечатать ее следует до ремонта, со сбитыми буквами «р» и «м»: иначе обнаружится подделка. Она посоветовалась с Тамарой – что лучше внести в опись? Вещь должна быть как можно более ценная, на ней вся распродажа заканчивается. Через несколько дней вопрос решился: Джаннина впечатала в опись шубу с воротником из щипаной выдры и на подстежке из легкого меха нутрии; такую шубу уже купил Гри-Гри. Машинка прокартавила и прозаикалась последний раз, ее отремонтировали и пустили в продажу. Письмо в тюрьму было написано, как всегда, суховатым, подчеркнуто деловым тоном. Она была бы огорчена, если бы герр Кертнер усомнился в том, что машинка реализована самым выгодным образом. Из 1100 лир, вырученных за ундервуд, пришлось вычесть 150 лир за ремонт и газетное объявление. Этьен отправил ответное письмо: «Джентиллиссима синьора, благодарю за письмо от 17 декабря, а также за то, что Вы так срочно продали мою пишущую машинку. Прошу Вас принять 200 лир за хлопоты, удержав их из вырученной суммы. Мне очень жаль, что, я вынужден ограничиться такой маленькой компенсацией в возмещение столь больших беспокойств. Лишь крайние обстоятельства, а не чувство справедливости, руководят мною, когда я называю столь мизерную сумму. Очень заманчиво получить к пасхе посылку, хотя бы отдаленно похожую на ту, которую Вы присылали к рождеству. В ожидании Вашего любезного ответа приветствую Вас и поздравляю заблаговременно с пасхой. С благодарностью К. К.». Обычно в день получения письма из тюрьмы Джаннина звонила Тамаре, и они встречались, чтобы письмо как можно быстрее дошло до Гри-Гри. При последнем звонке Тамара сразу услышала, что голос у Джаннины дрожащий, а на встречу она пришла с заплаканными глазами. Сперва Джаннина отмалчивалась и отнекивалась, потом по-девчоночьи громко, судорожно разрыдалась, а когда немного успокоилась, уступила настойчивым расспросам Тамары. И тут выяснилось, что Джаннина глубоко обижена. Как же у герра Кертнера поднялась рука написать про эти самые 200 лир?! «Маленькая компенсация в возмещение столь больших беспокойств…» Даже если шеф решил, что Джаннину из конторы уволили и она бедствует… Тамара онемела от удивления. Милая девочка, ты же такая проницательная, откуда вдруг этот приступ обаятельной, почти детской наивности? Разве не ясно, что Кертнер намеренно распространяется насчет злополучных 200 лир, чтобы создать видимость деловых взаимоотношений? Чтобы напомнить цензору – корреспондентка материально заинтересована в подобных поручениях. А то еще кто-нибудь из тюремной администрации (а значит, и из тайной полиции) заподозрит синьору Эспозито в симпатиях к заключенному. Джаннина уже вытирала глаза. Слезы быстро высохли, но голос у нее еще долго был сырой и дрожащий… Джаннина попросила у капо диретторе разрешить ей отправку посылки к пасхе, а к своему заявлению приложила вырезку из газеты с объявлением о продаже машинки. Разрешение последовало, но вес был указан минимальный – 4 килограмма. Знакомым синим карандашом было приписано, что заключенный 2722 ведет себя плохо, пренебрегает тюремным уставом и потому вообще не заслуживает посылки, а разрешение выдано только в связи со скверным состоянием его здоровья. Письмо из тюрьмы от 8 апреля 1938 года пришло с купюрами – целые фразы были замазаны черной тушью. Шли длинные рассуждения о скверной погоде, хотя он и не знает, сколько за последнюю неделю было солнечных дней, а сколько дождливых. Гри-Гри сразу догадался, что Этьен сидел в строгом карцере, лишенный дневного света. Помимо посылки, Кертнеру отправили пасхальную открытку. Скарбек талантливо изготовил фотографию Танечки Маневич в духе сусальных открыток подобного типа. Фотографию обрамляли веточки вербы, а в углу открытки из разбитого яйца вылезал только что вылупившийся, но уже каким-то чудом прекрасно откормленный цыпленок. Открытку отправили на имя Бруно, можно было не сомневаться, что он покажет загадочную открытку своему соседу. В следующем письме от 12 мая 1938 года Кертнер в иносказательной форме подтвердил получение фотографии дочери. В письме цензурных вымарок было уже меньше. «Долго тянется время в тюрьме, бесконечно долго, его скрашивают только Ваши деловые письма, которые я невольно заучиваю наизусть – так часто их перечитываю. К пасхе Вы явились ко мне снова, как ангел-спаситель, у которого в руках была посылка весом в четыре килограмма. Но зато какая питательная! Меня наказали уменьшенным весом посылки, а Вы восполнили это высокой калорийностью. Благодарю Вас за каждую калорию – большую и маленькую. По совету тюремного врача я теперь совсем не курю, так что сигарет больше не посылайте. Следовательно, в другой раз вы можете увеличить дозу шоколада. Мы здесь отдаем предпочтение марке «Перуджино». Шоколад, присланный Вами, был опробован в первый же день, и общественное мнение признало его отличным. Нет меры благодарности за Ваши милосердные заботы. Да благословит Вас небо! К. К.». Когда Тамара читала вслух это письмо, Гри-Гри после слов «общественное мнение признает шоколад отличным» тяжело вздохнул: – Вот-вот, общественное мнение… Ведь все раздает… – А что же ему делать? Жевать в одиночку? У них в камере коммуна. Итальянцы тоже, наверное, получают посылки и тоже делятся… – Возможно, – еще раз вздохнул Гри-Гри. Но пришел день, когда ундервуд был съеден до последней буквы, и Гри-Гри вместе с Тамарой и Джанниной ломали голову над тем, что делать дальше. Кто же станет покупать дорогую шубу в начале лета, когда ей полагается лежать в ломбарде? Тревога увеличилась после того, как узнали, что у Кертнера нет денег даже на лекарства. За последнее время он несколько раз побывал в карцере, в том числе – строгом, что для его легких очень опасно. Джаннина, наученная Тамарой, в завуалированной форме попросила Кертнера вести себя более покладисто. Составляя письмо, Тамара пыталась перевести на итальянский русское выражение «не лезть на рожон», но так и не смогла это сделать. Гри-Гри извелся в поисках возможности помочь Этьену. Но придумать что-нибудь дельное не удавалось. И тогда Джаннина предложила – она переведет в тюремную лавку те 200 лир, которые получила как «маленькую компенсацию за большие беспокойства». Конечно, здесь был риск, она могла вызвать подозрение у цензора – агента полиции, следящего за их перепиской. Но Джаннина рискнула, и через несколько дней капо гвардиа сообщал заключенному 2722, что на его лицевой счет поступили 200 лир из какой-то торговой конторы в Милане. 66 Кертнер больше, чем его товарищи по камере, страдал от холода. Как бы согреться? Ах, если бы он мог надеть вторую пару шерстяных носков, если бы в камере волшебно появилась жаровня с углями. В холодные дни осени и зимы он часто вспоминал свою миланскую контору; там у его письменного стола – батарея центрального отопления. Всего два регистра, но для итальянской зимы хватало. Единственный и скоротечный источник тепла в камере – миска с супом. Можно греть пальцы, держа в руках миску, но чем дольше ты будешь греться, тем скорее остынет суп. Были бы деньги – можно было бы чаще покупать свечи: тоже мерцающий источник тепла. Иногда Бруно удавалось доставать для Кертнера горячую воду из котельной; она не годится для питья, но можно сделать ножную ванночку. И в самые холодные дни Кертнер занятий не прерывал. Камера № 2 занималась на ходу! Ученики безостановочно ходили вереницей, завернувшись, по примеру учителя, в полосатые серо-коричневые одеяла. Газетные новости тоже становились темой занятия. Кертнер делал доклады о международном положении, опираясь на те сведения, какие удавалось черпать в воскресных иллюстрированных фашистских газетах, и на сведения, какие просачивались из других камер. Много новостей политического характера сообщали Кертнеру уголовники. 7 июля 1937 года японцы вторглись в Китай. Едва взошло солнце, орды японцев, размахивающих саблями, хлынули через мост Марко Поло и устремились в глубь территории Китая. Все это называлось «китайский инцидент». И Кертнер посвятил ему занятие, поделился своими китайскими впечатлениями. Тюремщик «Примо всегда прав» подходил и со злорадством показывал газету сквозь решетку. Заголовки, набранные крупным шрифтом, кричали об очередной победе фашистов в Испании. Ходили слухи, что сын тюремщика «Примо всегда прав» воюет в батальоне имени Гарибальди, уехал из дома, прокляв отца, и тот озлобился еще больше. Кертнер подумал не только о негодяе Примо, который дежурит сегодня. Он подумал обо всем сословии тюремщиков. Среди них попадаются не такие уж плохие люди, например Карузо. Но. вся эта толпа, вооруженная пудовой связкой ключей, существует для того, чтобы отравлять жизнь ему и его товарищам. Грязные фашистские листки упоминали о России редко. Обо всем знаменательном, что там происходило, в частности о воздушных перелетах, о завоевании Северного полюса, писали скупо. Но в одном из номеров воскресного иллюстрированного приложения «Доменика дель коррьере» неожиданно напечатали отрывки из дневника Папанина, который он вел на Северном полюсе, и перепечатали его радиограмму «Двести дней на льдине». Кто знает, почему фашистская газета решилась это напечатать? Польстилась на арктическую экзотику? Или вспомнила, как русские спасали экспедицию Нобиле на Северный полюс? На Этьена произвели сильное впечатление записи о прилежных занятиях четырех зимовщиков на льдине. «24– июня. Женя начал преподавать мне и Эрнесту метеорологию». «19 сентября. Петр Петрович изучает английский язык. Он решил каждый день заниматься языком один час». «Работаем не меньше пятнадцати часов в сутки, засыпаем как убитые». «Каждый из этих двухсот дней был заполнен непрерывными научными наблюдениями. Работая по 12-16 часов в сутки, мы не заметили, как пролетело время». Этьен даже разволновался, прочитав эти записи. Так вот где средство самозащиты! Заниматься, работать, чтобы не заметить, как прошло время! Откуда было знать полярнику Ширшову, что это он убедил заключенного 2722 в необходимости заняться языком? Какой же он, Этьен, революционный наставник, если сам при этом не учится? Он твердо решил последовать примеру соотечественника, далекого и незнакомого Петра Петровича, который, сидя на дрейфующей льдине, изучает где-то на околице Северного полюса английский язык. С удивительной отчетливостью Этьен вдруг вспомнил, как заполнял свою анкету много лет назад, когда его в первый раз пригласили в Разведуправление. Пожалуй, он был излишне строг к себе, когда, отвечая на вопрос о знании языков, написал в анкете: «французский – свободно, немецкий – слабее, английский – слабо». А сегодня он мог бы по совести написать: «французский, немецкий, итальянский – свободно, английский – почти свободно, испанский – слабо». Вот он и решил, пока память не отказала, приняться за испанский. Даже если ему никогда больше не придется побывать в Испании, язык пригодится. Как раз в то время Джаннине удалось продать еще кое-что из его вещей (тогда было еще что продавать), и он надеялся, что дирекция разрешит ему выписать словарь, грамматику, а также «Дон-Кихот» Сервантеса и его же «Назидательные новеллы» – конечно, на испанском языке. Директор и в самом деле дал согласие, и Этьен с острым нетерпением ждал прибытия испанской посылки с книжного склада в Болонье. Когда же в камеру явится долгожданный собеседник Мигель Сервантес де Сааведра? До краев загрузить каждый день делами и занятиями – так легче предохранить душу от гибельного влияния тюрьмы, ее гнетущих невзгод и лишений. Не одну бессонную ночь принесли Кертнеру печальные новости из Испании. Но не меньше тревоги вызывали сообщения о Советской России. В начале августа «Примо всегда прав» показал сквозь решетку газету, где сообщалось о нападении японцев на советскую границу. Японцы захватили сопки Заозерная, Безымянная за озером Хасан, продвинулись на четыре километра в глубь советской территории. А вот когда японцев разбили наголову, когда японский посол Сигемицу запросил в Москве пардону и предложил начать переговоры о мире – об этом тюремщик умолчал. В сентябре Кертнер, а вместе с ним вся камера № 2 с тревогой узнали о предательском поведении министров Чемберлена и Даладье, а Кертнер тогда сказал, что их трусость вызовет больше жертв и повлечет за собой большее кровопролитие, чем любая жестокость Гитлера. – Верно сказано, что глупость играет в истории не меньшую роль, нежели ум. Осенью 38-го года Кертнер прочитал лекцию об интернационализме в связи с тем, что Муссолини начал антисемитскую кампанию. Кертнер, опираясь памятью на статьи Максима Горького, написанные в царские годы, доказывал, что тот, кто проводит дискриминацию, наносит себе большой моральный урон. Конечно, вред приносимый антисемитизмом или презрением к черной расе, больше всего ощущается теми, кто стал жертвой дискриминации. Но разве не становится жертвой грязных предрассудков и предубеждений тот итальянец, который считает себя выше араба, еврея или эфиопа? Даже если этот итальянец – сам дуче, который всегда прав… Потом Примо кривлялся за решеткой, орал: «Мадрид на коленях!» Размахивал газетой – Англия и Франция официально признали генералиссимуса Франко, это было в конце февраля 1939 года. Все еженедельники поместили фотографии – немцы ломают на границе шлагбаумы, рушат пограничные столбы. Кертнер и его соседи по камере были потрясены вторжением фашистов в Чехословакию. 67 Объявление о том, что продается новая шуба с воротником из щипаной выдры и с подстежкой из нутрии, публиковалось в «Гадзетта дель пополо» три дня подряд. Главное – не упустить сезон. А то можно опоздать и с денежным переводом в тюремную лавку, и с посылкой к рождеству. Прижимистый покупатель, оглядев, ощупав, обнюхав и примерив шубу, сказал: – Как хотите, двух тысяч лир шуба не стоит. Джаннину так и подмывало воскликнуть: «Да мы сами за нее недавно уплатили две тысячи восемьсот! А торговались прилежнее, чем вы сейчас!» Когда Джаннина сообщила бывшему шефу, что ей поручили продать шубу, Кертнер сразу понял, что кто-то изыскал возможность для новой его поддержки, потому что никакой шубы он не оставлял. «Многоуважаемая синьора, – писал Кертнер 14 сентября 1938 года, – отвечаю сегодня, в день приема писем. Мой запас вежливых итальянских слов не позволяет высказать Вам в достаточной степени мою признательность за то, что Вы для меня делаете. Проходят годы, но стиль моих итальянских писем остался неизменным. Единственными упражнениями моими в этой области являются письма Вам, которые я посылаю время от времени. Перо остается тяжелым и инертным в моих руках, а слова угловатые и неловкие. Вместо того чтобы придать моей мысли ясную и определенную форму, слова еле-еле в состоянии передать ее смутную и бледную тень. Извините меня, синьора, если эти слова благодарности слишком скупы и монотонны, но все же, поверьте, моя признательность глубока. Прошу Вас, если удастся, продать шубу. Не беспокойте себя присылкой списка проданных вещей. В вопросе о юристах (чтобы черт их всех побрал!) я позволю себе не согласиться с Вашим мнением. Признаюсь, синьора, адвокаты мне стали особенно антипатичны. Теперь я лучше понимаю, почему писатели, как правило, рисуют их плохими. Чего стоит, например, фигура адвоката из романа Мандзони «Обрученные», крючкотвора по прозвищу Аццеккагарбульи (я даже не сразу понял, что прозвище значит «Затевай путаницу»!). И если Данте не отправил адвокатов в ад, то только потому, что в его эпоху эти злые гении не имели еще такого развития, как сейчас. Увидим, к чему приведет их лживая практика! Всегда и премного обязанный, с вечной благодарностью К. К.». Из какого-то закоулка сознания выскочила русская поговорка: «После рождества цыган шубу продает». Подписав письмо, он горько усмехнулся и подумал: «А Кертнер продает свою шубу еще раньше – до рождества». Он даже вообразить себе не мог, как выглядит эта вымышленная, мистическая, потусторонняя шуба. Но так как в тюрьме уже ранней осенью стало в этом году холодно и Кертнер сильно страдал от невозможности согреться, унять кашель, он мечтал о шубе подолгу и с удовольствием. Вот бы шубу не продали, а нашли способ передать ему в камеру! Можно было бы накрываться ею ночью. Была бы у него такая шуба-невидимка, чтобы ни один тюремщик не мог сорвать ее с плеч, как запретную! Вспомнился день, когда он в первый раз надел первую в своей жизни шубу. В тот день он учился разгуливать в богатой шубе. Топал по снежным тротуарам не торопясь, и мороз не подстегивал его, как в шинели. День был холоднющий, из тех, когда трамваи ходят с промороженными стеклами и не сразу удается надышать в стекле глазок. Воротник новой шубы заиндевел от дыхания. Морозной пылью серебрился его бобровый воротник… «…Последнюю неделю, – писал Этьен 11 октября 1938 года, – здесь наступили дни, довольно холодные для начала октября, так что я даже простудился. Создается впечатление, что наступят сильные холода. Поэтому просил бы Вас, если это только в пределах Ваших возможностей, прислать мне две вязаные шерстяные рубашки, нижнее белье, а также две пары шерстяных носков. Не бойтесь посылать вещи из грубой шерсти, наоборот, чем грубее, тем лучше. Заранее благодарю и шлю наилучшие пожелания. К. К.». 15 ноября заключенный 2722 отправил письмо, которое начиналось словами: «Холодно, замерзаю». Он сообщал, что руки его покрылись волдырями. Большой палец нарывает, может быть, придется удалить ноготь. Кертнер просил прислать глицериновое мыло, – говорят, оно помогает против обморожения. Просил шерстяные перчатки, так как руки в камере сильно мерзнут. В конце письма капо диретторе сделал приписку, что заключенному 2722 разрешено послать перчатки, уже отдано распоряжение на этот счет. 29 ноября Джаннина отправила ценную бандероль и сопроводила посылку коротким письмецом: «Пользуясь добротой капо диретторе, посылаю еще одну пару перчаток посвободнее, чтобы их можно было надеть на Ваши опухшие руки». В Италии тюрьмы вообще не отапливаются – там попросту нет печей, нет труб, нет батарей центрального отопления, ничего, к чему можно было бы в поисках тепла прикоснуться иззябшими пальцами. Ни один дымок не подымается над тюремными зданиями в зимние дни. Только в канцелярии, в лазарете и, конечно, в кабинете директора можно увидеть кафельную печку, или скальдино, в которой милосердно тлеют угли. Нужно до мозга костей прозябнуть в неотапливаемом каменном мешке, чтобы понять, какое это испытание. И голод сильнее дает себя чувствовать, когда мерзнешь. Гнилая сырость трехсот итальянских зим впиталась, въелась в камень тюремных стен, чтобы обдавать узников Кастельфранко стылым дыханием. Конечно, в тюрьмах Южной Италии, где-нибудь в Сицилии или по соседству с ней, узники не так мерзнут в зимние месяцы. Но на севере страны суровая зима приносит страдания. На этот раз секретарша «Эврики» просила капо диретторе, в связи с плохим здоровьем заключенного Конрада Кертнера, разрешить ей отправить к рождеству посылку весом в 7 килограммов. Разрешение было дано. Или поведение Кертнера, с точки зрения администрации, стало лучше, или здоровье его стало хуже, или капо диретторе, помня хорошенькую посетительницу, не хотел выглядеть в ее глазах злым чиновником. Она не поскупилась в прошении на самые любезные приветы и пожелания капо диретторе, которого благословляла в своих молитвах и благодарила за помощь в выполнении своего служебного и христианского долга. В письме от 25 февраля 1939 года вновь много цензорских помарок, а прочесть можно вот что: «…Здесь зима почти прошла, к счастью. Вы не можете представить, как меня угнетает холод с тех пор, как я в заключении. Я страдал от холода уже в Риме. Однако температура Рима не может быть никак названа низкой. Представляете себе, как я стал чувствителен к холоду! Я знал холода в моей жизни. Бывали морозы, да какие – сорок градусов ниже нуля. Но по правде сказать, никогда не страдал так, как здесь, хотя температура еще ни разу не опускалась ниже 5-7 градусов. На это, по-видимому, влияют условия существования. Хорошо, однако, что я сейчас гарантирован от замерзания до октября, это уже кое-что. Хотел бы знать, уважаемая синьора, нашли ли Вы новую работу? Заранее благодарный, приношу наилучшие пожелания. К. К.». Холодная зима 1938-1939 годов пагубно отразилась на здоровье Кертнера. Скарбек и Гри-Гри узнали через Орнеллу, что болезнь Этьена часто обостряется, уже несколько раз он лежал в тюремном лазарете. 6 марта 1939 года о своей болезни написал и сам Этьен: «Врач снова прописал мне рыбий жир, но не чувствую никакого улучшения. С месяц уже, как у меня болит грудь и боль не унимается, несмотря на то, что свыше двух месяцев принимаю это неприятное лекарство. Догадываюсь, что начинается чахотка». Но дело не только в содержании последнего письма. Джаннина первая обратила внимание на то, что письмо написано каким-то изменившимся почерком, можно подумать, оно написано дрожащей старческой рукой. Или из-за нарывов на руках Кертнеру трудно держать перо? Или он писал, не снимая шерстяных перчаток? Или отныне вообще изменился его почерк? А из письма, отправленного раньше, явствовало, что Кертнеру снова делают уколы, но, несмотря на полный повторный курс, боль под лопатками не прошла, а, наоборот, усилилась. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. О чем бы Этьен ни думал, он, так же как Бруно, как другие, все время подсчитывал – сколько времени просидел и сколько еще предстоит пробыть в заточении. Вопрос о времени стал основой его существования, и отвлечься от каждодневных подсчетов было невозможно. Сколько дней отсидел и сколько дней осталось? Миновало «звериное число»: он отсидел 666 дней. Затем он отметил два года со дня своего ареста. Но все равно оставалось сидеть в тюрьме массу времени, отчаянно и непоправимо далекой оставалась дата освобождения. И годы, проведенные в тюрьме, никак не облегчали угнетенного состояния. Теперь он отчетливее представлял себе, какими бесконечно мучительными будут все будущие тюремные годы, потому что знал, какими были минувшие. И понимал, хорошо понимал, что те и эти годы – одинаковые, а сил для того, чтобы пережить остающиеся годы, остается все меньше. Кертнер вел все арифметические подсчеты и для своего друга Бруно, у того перспектива лучше, Бруно переступил через ту критическую точку, когда реже считают – сколько уже просидел, а чаще подсчитывают – сколько осталось сидеть. Арифметика служила ему утешением, скоро мерой тюремного времени станут для него только месяцы, а затем недели и дни. Кертнер помнил с точностью до одного дня, сколько осталось сидеть каждому из его соседей по камере, и одним завидовал, а тем, кто пересидит его в тюрьме, – сочувствовал. На этот раз амнистия была провозглашена в связи с историческими победами фашистов в Испании и в Албании. Бесчеловечные сроки приговоров именем короля в Особом трибунале – и щедрый на амнистии сердобольный король, который искал популярности у верноподданных. Да здравствует новое летосчисление! К черту устаревшие четыре действия арифметики! Новая тюремная арифметика подсказывала, что Кертнера должны освободить 12 декабря 1939 года. Увы, новая амнистия в значительно меньшей степени коснулась Бруно. По новому тюремному летосчислению выходило, что Бруно переживет Кертнера в тюрьме на десять месяцев. В эту минуту Бруно и огорчался тем, что будет сидеть на десять месяцев дольше Кертнера, и радовался тому, что его друг освободится на десять месяцев раньше. Этьен сразу же примерил амнистию к Блудному Сыну и к другим товарищам, которые были осуждены вместе с ним. Какое счастье – все они выходили на волю. Наконец, по этой амнистии Ренато должен быть освобожден немедленно. Кертнер сердечно попрощался со своим преданным связным. А вот Орнеллу не пришлось и, верно, никогда уже не придется увидеть. Напоследок Ренато передал для Кертнера ее кабинетную фотографию. Кертнер увидел штамп на обороте: «Турин. Фотоателье «Моменто». Этот штамп говорил Кертнеру много больше, чем жениху Орнеллы. На самом деле невеста Ренато такая красавица или это тонкое искусство Скарбека? Этьен искренне радовался за преданного Ренато, за его невесту Орнеллу. И в то же время с огорчением подумал, что лишается такого надежного связного, остается без всякой связи с внешним миром больше чем на полгода. Из своего постылого одиночества и душевной бесприютности Этьен слал отцовское благословение Ренато и его невесте: пусть молодые люди будут счастливы после разлуки, пусть не жалеют друг для друга доброты, ласки, нежности, заботы, благородства, страстной любви. Прошли месяцы, годы, и с течением времени стали менее разборчивы буквы тюремного штампа, который ставили на письмах в Кастельфранко дель Эмилия. Уже и штамп состарился, столько раз его ставил на письма узников капо диретторе или тюремный цензор. «…за исключением… предметов одежды на случай освобождения». Кто бы мог подумать, что это казенное предостережение на всех письмах приобретет вдруг силу полезного напоминания? 6 апреля 1939 года он писал Джаннине: «Вчера я был вызван в канцелярию, чтобы ознакомиться с сообщением Особого трибунала, вызванным вышеуказанной амнистией. Как я и товарищи предвидели, мне уменьшен срок заключения на четыре года, так что дата моего освобождения установлена на 12 декабря сего года. Остается высылка меня из страны после освобождения (в приговоре дословно: «по отбытии полного наказания»). Было бы интересно узнать, каков порядок этой высылки, но не знаю, к кому обратиться. Сколько стоят самые полные словари: итало-испанский, французско-испанский и немецко-испанский, а также словари для перевода с испанского на эти языки? Вам ничего не известно до сих пор относительно книги «Перспективы» Мортара? Примите, многоуважаемая синьора, мою прочную благодарность. Желаю исполнения всех ваших желаний. К. К.». Джаннина первая узнала о том, что новая амнистия коснулась Кертнера. В тот же день она встретилась с Тамарой. Полноте их общей радости мешала неотвязная мысль о том, в каком бедственном положении находится сейчас Кертнер. 68 Настал день, когда Кертнер, Бруно, рыжий мойщик окон и другие товарищи распрощались с Ренато. Он посидит в карантине, а вскоре его встретит в тюремной канцелярии истосковавшаяся и счастливая Орнелла. Она, как третий карабинер, будет сопровождать его до Турина. На пороге свободы Ренато подвергнется тщательному обыску, и потому даже микроскопическую записку с ним не передашь. Что Этьену важнее всего передать на словах? Он напомнил своим, что адвокат Фаббрини, клятвенно обещавший приехать наконец на свидание, не вызывает в нем доверия. Местные товарищи обещали ему в ближайшие дни все выяснить. Если Этьен ошибся, если его подозрения напрасны и антипатия к Фаббрини беспочвенна, Этьен обязательно передаст с адвокатом «сыновний привет Старику». Если же опасения насчет Фаббрини подтвердятся, «сыновний привет Старику» передан не будет; значит, с Фаббрини нужно срочно рвать всякие отношения… Через несколько дней их, как обычно, вывели на прогулку в тюремный двор. Кертнер шагал за дружеской спиной Бруно. А в затылок дышал неизвестный Кертнеру узник. Вдруг донесся шепот незнакомца, шедшего след в след: – Не оборачивайтесь… Вы интересовались своим адвокатом. Ну, тем, мордастым… Не верьте ему. Тут сидят его «крестники»… За ним и кличка такая в Болонье ходила – «Рот нараспашку». Прошу не оборачиваться… Это предупреждение не прозвучало для Этьена полной неожиданностью – он давно был во власти тревожных догадок и предчувствий. Теперь понятно, почему таким естественным был стиль и вся манера письма, которое Фаббрини адресовал директору тюрьмы. Видимо, Фаббрини написал на своем веку не один десяток доносов. Там же, на прогулке, Этьен подумал, что должен скрыть свою осведомленность перед лицом тюремной администрации, выказывать по-прежнему полное доверие к адвокату Фаббрини. Этьен должен продолжать игру в кошки-мышки, пока Фаббрини считает его глупым мышонком. Нужно скрыть все, что Этьену известно, и по-прежнему притворяться недогадливым. И с помощью адвоката-чернорубашечника дать знать своим о том, кто это такой. После памятной прогулки, после доверчивого шепота в затылок Этьен все время опасался, как бы Тамара и Гри-Гри не доверились провокатору. Ведь не начал же он сотрудничать с охранкой уже после суда! Совершенно очевидно, что, когда миланская коллегия адвокатов назначила его защитником, Фаббрини уже был коллегой того самого агента, который чуть-чуть косит левым глазом. В комнате свиданий Фаббрини появился с опозданием. Он никак не мог отдышаться, будто долго бежал, и жадно хватал воздух маленьким, женским ртом. Кругообразными движениями руки, с зажатым в ней платком, он вытирал лицо, лоснящееся от пота, и жирную шею. 
Он снова был неумеренно словоохотлив. Этьен слушал Фаббрини и не слышал его. Слова скользили мимо сознания, а думал он только о том, чтобы Фаббрини, когда он на днях увидится с Джанниной, не навредил бы ей, Тамаре и даже Гри-Гри. Фаббрини, конечно, заметил, что Кертнер сегодня чем-то подавлен и молчит – плохо себя чувствует или на него нашла апатия? Как нужна была бы Этьену сейчас крепкая нитка, связывающая его с внешним миром, нитка, которую прежде держали в своих руках Ренато и Орнелла, нитка, которую не ощупывал бы своими руками цензор или «третий лишний». Но ту гнилую нитку, которую держит в больших нечистых руках Фаббрини, следует оборвать самому. – Хотите со мной что-нибудь передать? – спросил Фаббрини. – Нет. – Может, привет кому-нибудь? . – Нет. Только в эту минуту Этьен вышел из состояния тягостного безразличия, в котором сидел на свидании. Он добился того, чего хотел: Фаббрини, сам того не подозревая, оборвет связь между ними. Много приветов Этьен адресовал Старику на своем разведчицком веку. Но еще никогда отсутствие привета не служило паролем и не было сигналом столь острой тревоги. 69 Бруно и Кертнер спали голова к голове. И когда бессонница одолевала обоих, они вполголоса говорили ночи напролет. Однажды Кертнер рассказал Бруно, как он сражался за революцию. Другой ночью рассказал, как голодал; он и его бойцы много дней питались только соленой рыбой. И названия этой рыбы Бруно никогда прежде не слышал – вобла. А когда зашел разговор об охоте, Кертнер рассказал о смелых лесных жителях, которые ходят на медведя с одной рогатиной; пришлось долго объяснять Бруно, что представляет из себя рогатина. Бруно давно догадался, что речь идет о России, где еще в лесах разгуливают медведи? Нетрудно догадаться, что Кертнер жил там. Но никогда Бруно не делился своими догадками, ни о чем не расспрашивал, а самое главное – не обижался на Кертнера за то, что за какой-то чертой тот остается скрытным. У Бруно хватило душевной щедрости не отказывать ответно Кертнеру в общительности и не стать менее откровенным. Никогда Кертнер не произносил русских слов. Иногда он пел незнакомые, берущие за сердце мелодии, но всегда без слов. Бруно был уверен, что это русские песни, чувствовал, что товарищ не по доброй воле отлучает слова от мелодии. Уже потом, много лет спустя, когда Бруно был мобилизован на русский фронт и до полусмерти мерз в донецких степях, он услышал там знакомую песню. Мелодия не раз звучала когда-то в их тюремной камере. Бруно переписал и выучил текст песни. Она начиналась словами: «По долинам и по взгорьям…» Время от времени Кертнер получал записки, письма. Они приходили к нему очень сложным путем. Это ясно хотя бы по тому, как бывала скомкана бумажка, которую дрожащими от нетерпения пальцами тайком расправлял Кертнер ночью. Но Бруно прощал другу скрытность, так как был убежден в его доверии. Иногда чувствовалось, что Кертнер ходит, распираемый важными новостями, его томит жажда неутоленной откровенности, и тем не менее он вынужденно молчит. Изредка у Кертнера бывало приподнятое настроение. Он про себя праздновал годовщину Октябрьской революции или День Красной Армии в конце февраля, не забывал хоть чем-нибудь отметить день рождения дочери Тани 21 октября и день рождения Нади 28 января. Бруно воспринимал те дни и как свои праздники. Бывали такие счастливые совпадения, когда русские революционные праздники или Первое мая приходились на воскресные дни. Тогда их можно было отметить хотя бы более приличным обедом. Пять крошечных кусочков мяса, нанизанных на деревянную лучинку, и миска мясного супа. Настоящий банкет! В такие воскресные дни Кертнер бывал особенно доволен – будто обманул все тюремное начальство, а заодно с ним самого дуче. Бруно знал, что когда Кертнер отказывается от прогулки, ссылаясь на недомогание, тому нужно остаться в камере в полном одиночестве и тайком от всех что-то написать. В таких случаях Кертнер не гнушался ничем и не брезговал подолгу торчать в углу, где стоит параша. Однажды ночью Бруно ненароком подсмотрел, как Кертнер прячет записку в хитроумный тайник – в щель между кирпичами, замазанную глиной, над самым полом. Но Бруно не стал задавать никаких вопросов. И, может быть, высшей мерой их доверия друг к другу были не беседы, а обоюдное молчание о делах, которым противопоказаны слова, даже самые дружеские. Бруно был прилежным учеником Кертнера, но это вовсе не означало, что он во всем и всегда с ним соглашался. Однажды во время прогулки Бруно заметил, как его друг изменился в лице, увидев самолет. – Знаешь, Бруно… – сказал Кертнер задумчиво. – Летчику тяжелее сидеть в тюрьме, чем шахтеру. Летчик сильнее тоскует без неба, без простора… – Сильнее, чем шахтер? Не верю! – возразил убежденно Бруно. – Потому что шахтер тоскует без неба, без простора и на свободе. Летом, начиная с мая, Кертнер всеми мыслями и чувствами был в Монголии. Там шли бои с японцами, напавшими на Советский Союз. Он перелистывал воскресные журнальчики в поисках какой-нибудь информации о Халхин-Голе, расспрашивал кого только мог, а потом делал коротенькие доклады об этих событиях. Бруно нетрудно было догадаться, что его друг и сосед. – человек с большим военным кругозором. Бруно только слушал, вникал в подробности и помалкивал. Этьен понимал, что там, в песках Монголии, идет серьезная разведка боем, и японцы пытаются прощупать, насколько мы готовы к войне с ними. Разрозненные, отрывочные сведения не всегда собирались в связный обзор. Трудно было, сидя в тюрьме, воссоздать картину боев, прежде всего Баин-Цаганское сражение. Но Этьену даже из итальянских телеграмм было ясно, что японские танки экзамена не выдержали. В то же время их бомбардировщики, зенитные орудия оказались на высоте, а пехота дерется стойко и храбро. После событий на Халхин-Голе и после договора с Гитлером о ненападении уже не было столь неожиданным сообщение о том, что немцы начали военные действия. И снова первым прочитал, Кертнеру эту газетную телеграмму злобный сардинец. Ни Кертнер, ни «Примо всегда прав», никто еще не знал, что 1 сентября 1939 года войдет черной датой в память и в календарь человечества, – началась мировая война. 3 сентября иссяк ультиматум, предъявленный Гитлеру. Англия оказалась в состоянии войны с 11 часов, а Франция с 17 часов. Месяц спустя «Примо всегда прав» показал Кертнеру через решетку газету с фотографией: Гитлер принимает военный парад в Варшаве. Он стоял в длинном кожаном пальто, с вытянутой рукой и благосклонно взирал на кавалеристов, дефилирующих мимо него. Его окружали генералы, одни в касках, другие в фуражках. С фонарных столбов свешивались флаги со свастикой. «Не будет ли осложнений у Скарбека? У него польский паспорт, – все чаще тревожился Кертнер. – Лишь бы ему не пришлось уехать, лишь бы не закрылось фотоателье «Моменто». Да, немало печальных и даже трагических новостей сообщил за два года злобствующий тюремщик. И как трудно бывало правильно оценить каждое такое сообщение, вселить в молодых товарищей по камере веру и бодрость, правильно осветить события, происходящие в мире, и дать им революционную марксистскую оценку. Немало острых споров вели они по ночам в конце августа 39-го года, после того как СССР и Германия заключили пакт о ненападении. Помимо споров с Бруно, в те дни Этьен тяготел к размышлениям наедине с собой. Он взял в тюремной библиотеке «Майн кампф» Гитлера на итальянском языке и внимательно перечитал. Многие места книги выводили его из душевного равновесия. Особенно запомнилось: «Мы покончили с вечными германскими походами на юг и на запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке… И когда мы говорим сегодня о новой территории в Европе, нам сразу приходит на ум только Россия и пограничные государства, подчиненные ей… Гигантская империя на Востоке созрела для падения». Не раз во время чтения Этьен думал: «Все у нас должны знать, с каким «заклятым другом» мы заключили договор о ненападении. Вот же мне, коммунисту и командиру Красной Армии, в это грозное время пришлось надеть на себя маску и шкуру австрийского коммерсанта. Может, в этой предвоенной обстановке и Советской стране пришлось притвориться доверчивой. Лишь бы не довериться на самом деле, а только притвориться…» 70 Прежде, когда счет шел на годы, месяц казался значительно более коротким, чем сейчас. Совсем, совсем недавно оставалось сто дней до освобождения, а сегодня – только три месяца. Конечно, три месяца – тоже срок немалый, но воодушевляет уже одна мысль, что было во много раз больше. А потом счет уже пошел на недели. Значит, наступит такое время, когда единицей измерения станут сутки? За десять дней до освобождения заключенный переводится из общей камеры в одиночку. Может быть, для того, чтобы уходящему на волю не давали всевозможных поручений, не использовали его как связного? Кертнер заранее начал принимать от своих тюремных собратьев поручения. Конечно, в пределах того, что может сделать человек, высылаемый за границу под конвоем: например, передать чью-нибудь просьбу соседу по вагону или прохожему, который вызовет его доверие. В камере № 2 уже давно сообща высчитали, что 3 декабря Кертнера должны перевести в одиночку. Последний день пребывания в общей камере, последний вызов на прогулку. Он пытливо вглядывался в лица. На всех одно и то же выражение – смотрят с завистью, и каждый мысленно задает себе вопрос: «Неужели и для меня когда-нибудь наступит такой день, неужели и я доживу до такой радости?» 
Перед концом прогулки он попрощался с товарищами из других камер. Скорее всего, его переведут в одиночку завтра утром. – Значит, последняя прогулка? – Да, последняя, – радостно подтвердил Кертнер. Все сняли серо-коричневые береты в знак приветствия, он никогда больше не увидится с товарищами. Личная радость отравлена тревожным состраданием ко всем этим людям. Только подумать, что их ужасное прозябание будет продолжаться, когда он окажется далеко-далеко от мрачных стен, замков и решеток. Им овладела невыразимая нежность к товарищам, которых он здесь оставляет, а прежде и больше всего – к Бруно. Ему предстоит просидеть еще девять месяцев. Огромный срок! Этого времени женщине хватает, чтобы зачать и в первый раз накормить младенца грудью. Бруно помалкивал, но в камере знали: он не верит фашистам и боится, что Кертнера оставят в тюрьме сверх срока. Тем большей была радость, когда 3 декабря, после утренней воды и раздачи хлеба, к решетчатой двери подошел Карузо и прозвучало жданное-долгожданное и все-таки неожиданное: – Номер две тысячи семьсот двадцать два! На выход со всем имуществом! «Со всем имуществом!!» Три мучительных года Этьен ждал, когда для него прозвучат эти слова. И вот наконец-то Карузо произнес их, – как показалось Этьену, произнес, тоже слегка волнуясь. – Только сейчас рассеялись мои сомнения, – счастливо улыбнулся Бруно. – Ты на пороге свободы. – Надо еще прожить эти десять дней, – глубоко вздохнул Кертнер, но тут же неудержимо рассмеялся. 
Больше ни слова друзья не сказали, молча обнялись – каждому хотелось прильнуть к другу всем сердцем – и заплакали, хотя оба стеснялись слез. Им обоим удалось овладеть собой, только когда они бойко завели речь о каком-то совершенном пустяке. Уходя из камеры, Кертнер впервые не сказал сегодня соседям: «Ариведерчи», а радостно воскликнул: «Аддио!» – и спазмы сжали его горло. 71 Одиночная камера, где Кертнеру предстояло провести в строгой изоляции последние десять дней, – на втором этаже. Обычно, войдя в камеру, заключенный сразу спешит к окну: ну-ка, что мне будет видно отсюда в ближайшие месяцы, а может быть, годы? Но Этьен был сейчас равнодушен к виду из окна, он устало сел на койку. Если быть чистосердечным и совсем искренним, Этьен даже доволен, что напоследок очутился в одиночке. Хорошо, что его отселили из общей камеры: предчувствие близкой свободы требует одиночества. Было бы жестоко и безнравственно жить счастливцем рядом с теми, кому еще предстоит долго томиться в заточении. А скрывать счастье труднее, чем горе. Сколько есть на свете радостей, о которых и не подозревают те, кто всегда живет на воле! Скоро у него вновь появится необходимость следить за временем и куда-то торопиться. Пожалуй, гуманно, что узникам не оставляют часов, а то бы они не отводили глаз от циферблата и сокрушались по поводу того, что стрелки движутся слишком медленно. Вновь появится право написать письмо, записку, когда за листом бумаги не подглядывают холодные глаза Джордано. Люди на воле и не подозревают, что значит ходить по земле, куда и как тебе самому заблагорассудится, не ожидая команд и не прислушиваясь к ним. Люди на воле не ценят возможности спать в темноте, без принудительной лампы над головой, они могут включить и выключить свет, когда им захочется. Ох, этот свет тюремной лампы, режущий глаза! И саму лампу тоже, как узницу, обволакивает железная сетка. Право остаться наедине с собой, чтобы смотритель через «спиончино», то есть глазок, не засматривал тебе в самую душу… Да мало ли есть уже почти забытых радостей, и все эти радости станут ему вскоре доступны! Десять дней даны ему для того, чтобы подготовиться к свободной жизни, ко второму рождению, к 12 декабря 1939 года… Иным счастливцам, едва они перешагнут порог тюрьмы, бросаются на шею родные, близкие. Никто его у тюремных ворот не поджидает, встреча ждет далеко-далеко от Кастельфранко. Но при благоприятных обстоятельствах его могут быстро перебросить в Москву. Может, ему удастся попасть туда к Новому году? У Танечки скоро начнутся зимние каникулы, лыжи ждут в передней. На балконах московских домов уже стоят перевязанные елки. Предусмотрительные хозяева купили елки впрок и держат их на балконах, чтобы хвоя не осыпалась в тепле раньше времени. А в канун Нового года елку никак не достать… Вообще конец года всегда приносит с собой множество хлопот и забот. Вечная возня с подпиской на газеты и журналы. А тут еще вечные и бесконечные варианты – где и с кем встречать Новый год. Охотней всего вспоминалось, как однажды они большой компанией встретили Новый год на лыжах. И снег скрипел на весь лес, и заразительно смеялись, и оглушительно хлопнула пробка от шампанского. Он жадно примерял свободную жизнь к себе прежнему, совсем здоровому, и был не в силах превозмочь самообман. Будто он выйдет из тюремных ворот таким, каким вошел в них три года назад, оставив все приставшие к нему в тюрьме хворобы, будто хворобы эти не сделались неотъемлемой принадлежностью его тела, будто болезни были всего-навсего придатком к тюремному режиму и он может отшвырнуть их заодно с арестантской одеждой. Конечно, его срочно отправят в санаторий. Он представил себе заснеженное Архангельское, где когда-то отдыхал вместе с Надей. Он испытывал острое удовольствие от того, что не таясь, вслух разговаривал в камере-одиночке по-русски, декламировал по-русски стихи, напевал русские песни. Заключенный, который досиживает срок, становится более послушным, смирным, покладистым. Этьен не собирался быть исключением из правила, он берег сейчас нервы для грядущих испытаний, старался не раздражаться, не быть строптивым и капризным. Но тут произошел случай, который едва не выбил Этьена из колеи, заставил его изрядно поволноваться. В «волчью пасть», за окно, упал воробышек с перебитым крылом и никак не мог выбраться обратно на волю. А Этьен ничем не мог помочь! В ту ночь он не сомкнул глаз, нервы были напряжены до предела. Примириться с тем, что воробей умрет здесь, как многие люди, переступившие порог этой тюрьмы? Он вызвал надзирателя, потом явился капо гвардиа и распорядился, чтобы развинтили железную ловушку. Капо гвардиа знал, что заключенный досиживает последние дни, и, может быть, захотел на прощанье прослыть отзывчивым, кто его знает. Так или иначе, но полуживого воробья выпустили на волю. Этьен сидит на тюремном пайке последние дни, можно позволить себе часть хлеба скармливать птицам. И ведь каждое утро слетаются на его подоконник, будто знают, что тут для них кормушка. А может, птиц кормил его предшественник? Кертнер спросил об этом у Рака-отшельника, но тот, по обыкновению, ничего не ответил. «Вот так же ничего не узнает обо мне тот, кто поселится в камере после меня. Кто приклонит голову на это подобие подушки, набитое соломенной трухой? И сколько лет отмучается мой преемник – дольше моего или короче? Может, бедняга промытарится в тюрьме, подобно мне, целых три года? Больше тысячи дней!! Сколько раз надзиратель подсматривал в замочную скважину, гремел засовами, повертывал с ржавым скрипом ключ, простукивал железным прутом решетки – целы ли, – а я все сидел и сидел под ключом у него… Откуда происходит слово «заключенный»? Заключенный – тот, кто сидит под ключом, – осенило вдруг Этьена. – Удивительно, как это не пришло мне в голову раньше? А сколько замков придется открыть тюремщикам, чтобы выпустить меня на волю? Замок в камере – раз, замок на решетке в коридоре – два, замок, которым запирается лестница, – три, замок на двери, ведущей в галерею, – четыре и, наконец, замок на воротах крепости – пять…» А кто из стражников явится к нему вестником радости, ангелом-освободителем? Может, Рак-отшельник? Мрачный рыжебородый сицилиец уже в летах. Ему легко сойти за глухонемого, потому что никогда не вступает в разговоры с узниками. Во всей тюрьме, даже среди заключенных, нет, пожалуй, человека столь мрачного, как этот надзиратель. Вчера Этьен попросил у Рака-отшельника зеркало, тот даже не ответил… «Сколько времени я не видел себя в зеркале? Все годы заточения. Лишь несколько мимолетных отражений в стеклах, когда меня водили в тюремную канцелярию, да еще зыбкие отражения в лужах. Кажется, я сгорбился, а все негодная привычка мерить шагами камеру, опустив голову, заложив руки за спину. Кажется, сильно поседел. Как пишут в газетных очерках: «Время посеребрило его голову…» Узнают ли меня близкие? «Я уже столько раз видела тебя входящим в дом, что верю – скоро ты вернешься на самом деле», – писала Надя еще два года назад. Не переговорить будет с Надей обо всем ни за день, ни за неделю. А впрочем, никто не знает, как это произойдет. Интересно, от чего я успел отвыкнуть за эти годы, от чего отучился? Может, уже не умею плавать? Ездить на велосипеде? Бегать? Или рука разучилась держать штурвал, кисть, чертежный карандаш? Столько лет пишу тюремным стилем, недоговаривая что-то, скрывая, скрытничая и таясь, обращаясь к иносказаниям и намекам». В то утро он проснулся, дрожа от восторга, с предощущением пронзительного счастья. Последнее пробуждение в камере. Последнее утро в тюрьме. Последний взгляд на небо, перечеркнутое решеткой. Накануне Кертнер сдал книги в тюремную библиотеку, в том числе и полученные с воли книги на испанском языке; по этим книгам он упражнялся в сравнительных переводах на французский, итальянский и немецкий. Счет пошел на часы. Самые длинные часы, какие Этьен провел в тюрьме. Боже мой, ему осталось мучиться в каменном мешке еще шесть-семь часов! Где набраться терпения и выдержки, чтобы прожить эти самые шесть-семь часов? Раньше чем разнесут хлеб и воду, за ним никто не явится. Он развернул Библию – она лежала во всех камерах как непременный инвентарь – и попытался скоротать время за чтением, но быстро захлопнул книгу. Наконец-то принесли хлеб и воду! Сегодня Этьен решил скормить воробьиному племени весь хлеб – самому обедать в тюрьме уже не придется. Накрошил хлеб, насыпал крошки на подоконник – последний завтрак, приготовленный для пернатых приятелей. Завтра они слетятся к знакомому оконцу и тщетно будут ждать угощения. Воробьи все годы пользовались симпатией Этьена, эти шустрые птахи ему гораздо милее, чем голуби. Хорошо, что сегодня голуби не подлетали к его оконцу, не обижали воробышков. Каждый дальний отголосок, слабый отзвук тюремной жизни вызывал нервную дрожь. Вот-вот послышатся шаги, загремит засов, заскрипит замок, откроется дверь, войдет Рак-отшельник, а то и капо гвардиа, Кертнеру подадут ту самую, отчаянно-радостную команду, и он возьмет в руку свой тщедушный узелок с «имуществом». Кто бы мог подумать, что последний день будет полон таких мучений? Все равно что бесконечно ждать экзамена, от которого зависит вся твоя жизнь. Или сидеть в ожидании допроса и слышать крики, стоны истязуемых, вызванных на допрос до тебя. Или сидеть у двери операционной, ждать, когда тебя положат на стол и станут резать без наркоза, – в общем, пребывать в напряженном ожидании не минуты и даже не часы, а длинные-предлинные сутки. Приступ ожесточенной тоски не проходил. Снова шаги в коридоре, сейчас за ним придут. За ним пришли, но как ни в чем не бывало вызвали на прогулку. Он еще раз попрощается с чахлой травой в каменных щелях, с персиковым деревцом в углу тюремного двора. Он всматривался в лица тюремных надзирателей – может, прочитает свою судьбу? Но лица тюремщиков были, как всегда, непроницаемы, сумрачны. Может, они сами ничего не знали, а может, профессионально скрывали все от узника 2722. Вернулся в камеру и вновь стал с содроганием и ужасом ждать. Время идет к обеду, вот-вот начнут раздавать баланду, к которой он легкомысленно не оставил ломтика хлеба. Ведь если принесут обед, значит, его не сняли с довольствия, значит, администрация продолжает числить его и сегодня среди заключенных. Правильно ли он следил за календарем, не сбился ли со счета, отсчитывая дни? Может, не десять, а только девять дней просидел он тут, в одиночке? Загремел засов, повернулся ключ, откинулась дощатая форточка с глазком, и Рак-отшельник протянул руку за пустой миской, которую узнику полагалось уже приготовить. Машинально подал Кертнер миску, так же машинально взял ее, полную. Он спросил у Рака-отшельника, какое сегодня число – одиннадцатое или двенадцатое, но тот лишь помотал головой, прикрыв притом глаза, будто захлопнул сразу две щелки в двери, два «спиончино». А больше справиться не у кого, капо гвардиа весь день на вызовы не являлся… Прошла вечность, прежде чем подоспели сумерки. Вот уже Рак-отшельник прошагал по коридору, контрольно поигрывая по решеткам длинным железным прутом. Говорят, надпиленную решетку сразу слыхать, звук совсем другой, надтреснутый. Но нет, дуче всегда прав, все решетки целы. В дальнем конце коридора затих тюремный ксилофон Рака-отшельника. Утром другой тюремщик пройдется прутом по ржавым переплетам. «Как же я сбился со счета? Наверное, меня подвело нетерпение. Так часто считал, пересчитывал дни и все-таки сбился. Проснулся сегодня на рассвете неизвестно какого дня. Так можно и до мартобря здесь дожить…» 72 С радостным испугом услышал Бруно заветную фразу. Он давно и часто слышал ее в своих мечтах: – Номер две тысячи тридцать четыре! На выход со всем имуществом! Не задерживаться, быстрее! Ну какое у него имущество? Зубная щетка, ложка, потрепанный томик Данте, немецко-итальянский словарь. Была еще шерстяная фуфайка, но все, что может пригодиться другим, уходящий обязательно оставляет в камере. Бруно оставил фуфайку рыжему мойщику окон из Болоньи. Бруно перевели в одиночку. Он давно припас талоны тюремной лавки, чтобы подкормиться в последние дни: очень не хотелось, чтобы родные увидели его таким слабым. Окно одиночной камеры, в которую перевели Бруно, обращено в тюремный двор и потому не затемнено «волчьей пастью». Он стоял и смотрел сквозь решетку на узников, которые скорбной вереницей возвращались с прогулки. А в соседнем отсеке двора… Бруно отшатнулся от окна, будто его ударили по глазам. Не поверил себе, прильнул вновь к решетке, вгляделся в узника, бредущего по тесному дворику, – Кертнер! «Верный брат, мудрый учитель, дорогой сердцу товарищ, что с тобой?! А мне в разлуке так помогала радость за тебя, свободного! Надеялся, ты давно среди своих». Тошнотный ком подступил к горлу, подогнулись колени, он едва не упал тут же у окна. Хорошо бы улечься на койку, но как бы не потерять из виду друга… Бруно ухватился руками за решетку и буквально повис на ней, прижавшись лбом, щеками к ржавым прутьям и положив подбородок на узкий каменный подоконник. «Милый и несчастный друг! Значит, все эти месяцы мы жили с тобой под одной крышей, вдыхали ту же сырость, хлебали червивую похлебку из одного вонючего котла, одновременно вслушивались в далекий, едва различимый благовест церкви, когда ветер дул от Модены. И так прошел почти год. Таким длинным умеет казаться только последний год заключения… К сожалению, я был прав, когда до последней минуты не верил фашистам. Все-таки поверил этим негодяям после того, как тебя перевели в карантин, в одиночку! Как я мог, наивный простофиля?» Бруно знал, что Кертнера задержали в прошлом декабре сверх десяти дней. Рыжий мойщик окон захворал тогда и поневоле встречал Новый год в тюремном лазарете. Он узнал от санитара, что несколькими днями раньше там лежал Кертнер, жаловался на боль в груди и сильно кашлял по ночам. Бруно сделал тогда вывод, что Кертнер задержался в тюрьме из-за нездоровья. Позже следы Кертнера затерялись, и Бруно был уверен, что тот на свободе. Но чтобы заключение Кертнера превратили в бессрочное?! Фашисты еще раз обманули Бруно. Ах, негодяи! Он не смог предусмотреть, до какой низости они дойдут, как подло вывернут наизнанку закон! Где же твоя амнистия? Где же твоя совесть, изолгавшееся величество, старый враль Виктор-Эммануил, король Италии, Албании и цезарь Абиссинии?! Острая жажда свободы, которая владела Бруно все последние дни, сменилась вдруг апатией. Какая-то одеревенелость и вялость – физическая и душевная. Он уходит, а старший брат Кертнер остается здесь. Вот вам и амнистия, вот вам и законники в черных рубашках! Между тем прогулка Кертнера подошла к концу. Стражник повел его к тому самому подъезду, через который вчера вошел Бруно. Значит, Кертнер сидит в одиночке где-то по соседству. Как сильно он изменился за девять месяцев! Ссутулился, хотя и не держит голову опущенной. А как поседел! Походка и та изменилась – короче стал шаг, что ли? На Рака-отшельника рассчитывать никак нельзя, но, к счастью, Бруно в тот же день удалось установить контакт с подметальщиком из уголовников. Верно говорят, что табак – тюремное золото. Началось с того, что Бруно угостил его сигаретой, а кончилось тем, что отдал ему полпачки сигарет. Сказочное богатство! Подметальщик сообщил, где сидит Кертнер, – совсем, оказывается, близко, через три камеры, в том же самом коридоре. Только камера его на противоположной, внешней стороне и глядит на волю, значит, его окошко закрывает «волчья пасть». Слава богу, что подметальщик мучился без курева, он оказался покладистым. Бруно послал с ним Кертнеру клочок газеты и булавкой наколол на бумаге несколько фраз. В тот же вечер подметальщик, тоже на обрывке бумаги, принес ответ, наколотый булавкой. Кертнер сообщил, что лишен права переписки, его держат без передач. В знак протеста он дважды объявлял голодовку и подолгу не выходил из камеры. Нетрудно догадаться, почему Кертнера держат без передач, без писем: никто не должен знать, где он томится в беззаконном заключении. Утром Бруно удалось послать Кертнеру через подметальщика четвертинку молока, а также новую записку. Он спрашивал: как здоровье, есть ли виды на освобождение? Ответ был написан карандашом на изнанке коробки сигарет. Записка выглядела так: слово по-немецки, слово по-французски, слово по-испански. Кертнер знал, что Бруно изучал в тюрьме немецкий язык, а во время занятий в камере испанским языком многое запоминал. «Исчерпал все легальные возможности для освобождения. Написал двенадцать жалоб. Потерял всякую надежду. Остается только рассчитывать на помощь извне. К. К.». Срок заключения Бруно заканчивался 4 сентября, а накануне в одиночку к нему зашел капо гвардиа. Несколько смущенный, он объявил, что завтра Бруно не смогут выпустить из тюрьмы – не прислали карабинеров, которые должны его сопровождать до места жительства, поскольку он освобождается под надзор полиции. Звонили из Милана, из полицейской канцелярии. Всех карабинеров куда-то мобилизовали. «Значит, там новая забастовка», – догадался Бруно, и настроение его сразу улучшилось. Очевидно, капо гвардиа за пять лет узнал характер заключенного 2334 и после своего сообщения ждал скандала. Но ему ответил сговорчивый, послушный, даже покорный человек: – Знаете, синьор? Это меня устраивает! Ничего не имею против. Пусть карабинеры приедут за мной даже через неделю. Вы же знаете, я парень холостой и необрученный. Ни одна синьора или синьорина по мне не тоскует. Могу набраться терпения и подождать. Тем более – чувствую слабость и хочу окрепнуть… Бруно не хотел уйти из тюрьмы, не сделав для Кертнера то немногое, что было в его силах. У них завязалась ежедневная переписка. Бруно решил в оставшиеся дни пересылать Кертнеру молоко. Кроме того, решил оставить Кертнеру весь свой капитал, правда не очень-то богатый, который лежал на его тюремном счету. Бруно заготовил завещание-доверенность и, соблюдая все формальности, отправил в канцелярию. Заключенный может распорядиться лицевым счетом по своему усмотрению. Бруно готов выйти из тюрьмы без единого сольдо в кармане, а все лиры, какие оставались на счету № 2334, перешли в распоряжение Кертнера, на счет № 2722. Подметальщик-уголовник передал узнику 2334 на словах: седой арестант беспокоится, почему вы находитесь в тюрьме после того, как кончился срок вашего заключения? Боится, что вас задержали сверх срока, подобно ему самому. Как Бруно был благодарен Кертнеру, тот помнит дату освобождения – 4 сентября 1940 года, тревожится за него. Он попросил подметальщика передать седому арестанту, что в тюрьме задержался добровольно на несколько дней и оформляет на его номер свой лицевой счет в тюремной лавке. «Что можно для тебя еще сделать? – отправил Бруно записочку на следующий день. – Через несколько дней я буду на свободе». Утром подметальщик передал письмецо на незнакомом языке, написанное мелко-мелко, а также записку на итальянском языке. Эту записку Кертнер просил уничтожить тотчас же по прочтении. В ней он просил Бруно связаться с посольством, сотрудники которого тепло одеваются зимой, передать туда прилагаемое письмецо и сообщить о его положении. Записку, написанную по-итальянски, Бруно уничтожил, а непонятное письмецо на папиросной бумаге вклеил в свой немецко-итальянский словарь. Он знал, что при выходе из тюрьмы его ждет тщательный обыск, и готовился к нему тоже тщательно. Две смежные страницы в словаре он артистически склеил хлебным мякишем. Письмецо на папиросной бумаге хранилось между страницами словаря, как в потайном конверте. Тюремщики с наибольшим подозрением относились к переплетам книг, на переплеты обращали наибольшее внимание, именно потому Бруно решил спрятать записку между страницами. – Что вы там изучаете? – спросил Бруно, когда хромоногий надзиратель, которого возненавидела Орнелла, в последний раз осматривал, ощупывал его имущество; в голосе бывшего узника 2334 не было и оттенка тревоги, только усталость. – Надо смотреть, что у меня в голове спрятано! После этих слов хромоногий вновь злобно принялся терзать и потрошить переплет словаря. – Почему синьору так не нравится немецко-итальянский словарь? – простодушно вопрошал при этом Бруно. – А вдруг мне представится случай поговорить с Гитлером без переводчика? По-моему, такой словарь необходим в наше время каждому итальянскому патриоту. И томик Данте и немецко-итальянский словарь хромоногий отложил в сторону – все в порядке. Затем ощупал всю одежду Бруно. Наконец в четыре утра в канцелярии, где шел обыск, раздалась команда: – На выход! Отдали пояс, галстук, шнурки, – все это оставалось под запретом пять лет. В Кастельфранко не раз снимали висельников с поясов, шнурков, галстуков. Бруно совсем забыл о них, отвык, разучился ими пользоваться. Перед тем как вернуть все это, ему дали подписать бланк, на котором значилось: «Все имущество, изъятое при аресте, возвращено владельцу в целости и сохранности». Он уже собрался поставить подпись, но вспомнил: – А где мой медальон на золотой цепочке? – Вы забыли про наш поход в Абиссинию, – напомнил хромоногий. – Вы забыли призыв дуче: «Золото – родине». – Это подарок умершей матери. Что за самоуправство? Немедленно верните медальон! – Значит, синьор отказывается принести жертву родине? – Отказываюсь. А если не вернете медальон – подам в суд на капо диретторе по обвинению его в воровстве. Бланк, который Бруно дали, он подписал, но перед тем сделал приписку насчет украденного медальона. Итак, с опозданием на неделю Бруно покидал тюрьму. 
Карабинеры надели на Бруно наручники, вывели из тюремных ворот и посадили в карету, которая двинулась к железнодорожной станции. – Ну к чему наручники? – рассердился Бруно. – Очевидно, чтобы я не сбежал? Но куда? Обратно в тюрьму? Карабинеры ехали молча, не вступая в спор. Поезд шел быстро, так, по крайней мере, казалось Бруно. Все мысли его обратились к тому, что ждет его по приезде в Новару, к тем, кого он там встретит. Его ждали слепой отец и два брата. И вот наступила минута, когда в полицейском участке при станции Новара с арестанта сняли наручники, уже навсегда, и старший карабинер сказал с неожиданным добродушием: – Ну, а теперь – шагом марш! Сам шагай! Что же ты медлишь? Или боишься с нами расстаться? Привык, что тебя всегда охраняют? Бруно взял свой нищенский узелок и пошел по опустевшей платформе, то и дело оглядываясь, спотыкаясь. Он шел не глядя под ноги, запрокинув голову. Какое сегодня просторное небо, и как много можно увидеть в один огляд, когда небосклон не урезан со всех сторон высокими тюремными стенами. Мог ли он предположить, что на свободе чуть ли не каждую ночь ему будет сниться тюрьма, что он так будет тосковать по товарищам? А больше всего с горечью и болью думал о Кертнере. И часто подолгу рассказывал о нем отцу. Не всегда Бруно находил точные слова, пытаясь охарактеризовать своего друга и учителя Кертнера. – А я твоего друга хорошо вижу, – сказал слепой отец. – Целомудренное сердце, душа революционера и храбрость солдата. Такой никогда не приказывает, но его слушаются все. Даже самые отъявленные анархисты… С трудом устроился Бруно на авиационный завод «Савойя Маркетти». Едва местные чернорубашечники узнали, что он работает на авиазаводе, как его оттуда выгнали. Добрые люди посоветовали устроиться в маленькую мастерскую. И в самом деле, там его уже не тревожили. Спустя какое-то время принесли извещение с почты – на имя Бруно пришла ценная бандероль. И что же в ней оказалось? Ему вернули из тюремной канцелярии медальон с золотой цепочкой! Прошло два месяца, слежка ослабла, он освоился на свободе и лишь тогда выехал в Милан. Надо связаться с верными партийными товарищами и с их помощью выполнить поручение Кертнера… Вскоре Гри-Гри получил письмо на итальянском языке: «Я был осужден специальным трибуналом за принадлежность к Коммунистической партии, пропаганду и пять лет просидел в тюрьме Кастельфранко (Модена). Там я имел случай узнать Конрада Кертнера, осужденного Особым трибуналом. Поведение Кертнера на судебном процессе было превосходным. Это видно из текста приговора, который находится в делах тюрьмы, а у Кертнера есть копия. Все его поведение в тюрьме, его знания и опыт обогатили наших молодых товарищей. У них много энтузиазма, но мало теоретических знаний и нет закалки. Товарищи, имевшие счастье знать Конрада Кертнера и находиться вместе с ним в камере, извлекли большую пользу для общего дела. Кертнер после амнистий полностью отбыл срок наказания, но его из тюрьмы не освободили. Угрожают, что не выпустят, если он не сообщит о себе новых данных, касающихся национальности и гражданства. Очень долго Кертнера держали в строгой изоляции и плохо с ним обращались. Идет месяц за месяцем, а наш любимый товарищ еще не освобожден. 4 сентября этого года окончился срок моего заключения. Перед освобождением я был изолирован на пять дней. В эти дни мне удалось увидеть Кертнера, который почти год незаконно сидит в одиночке. Мы получили возможность объясниться с ним, и на мой вопрос – смогу ли я быть ему полезен после своего освобождения, он дал мне поручение довести все это до Вашего сведения. Лично это поручение выполнить не могу, так как нахожусь под специальным надзором и не хочу никого ставить под удар, принести с собой тревогу и несчастье. Поручил доставить это письмо надежным антифашистам. Кертнер сообщил мне обо всех легальных попытках воспрепятствовать беззаконию – результаты отрицательные. Легальным путем он помощи дождаться не может и просит тех, кому его судьба не безразлична, посоветовать ему какое-нибудь новое средство. Если нового средства не найдут, он будет, как дисциплинированный солдат, выполнять прежний приказ, как выполнял его до сих пор. Если те, кто о нем думают, найдут нужным, чтобы он сменил гражданство, то пусть через меня сообщат ему биографические данные о новом лице, каким он должен стать. Надеюсь, что мне удастся с помощью верных товарищей передать Кертнеру такое сообщение. Вот суть деликатного поручения, которое мне дано. Горячее желание мое и всех товарищей в тюрьме добиться освобождения Кертнера, не оставлять его в том положении, в каком он сейчас находится. Лицо, передавшее это послание, знает мой адрес. Я всегда в Вашем распоряжении для пояснения и поисков возможности связаться с надежными людьми, знающими Кертнера. Прошу извинить за это краткое и печальное изложение дела. С коммунистическим приветом Альбино (Бруно). Прилагаю записку Кертнера в надежде, что она будет доставлена по назначению». «Тусенька, податель сего Бруно был со мной в заключении в течение нескольких лет. Он парень верный, я питаю к нему полное доверие. Кроме этой записки я дал ему поручение рассказать все, и ты его, несомненно, поймешь. Меня все больше беспокоит здоровье Старика. Иногда мне кажется, что я его больше не увижу. Целую маму и тебя, моя родная дочурка. Твой отец». 73 Еще за несколько дней до того, как истек срок, Этьен не мог представить себе, что выживет и сохранит рассудок, если его не освободят в обусловленный законом и гарантированный амнистиями день. Но его по-прежнему держат в зарешеченной клетке, и он по-прежнему жив. «Проклинаю каждый день!» Где найти силы, чтобы пережить одиночное заключение, которое нельзя больше измерять ни днями, ни неделями – никак? Скорее забыть о призраке свободы, который неслышными шагами прошел мимо его камеры. Какой же это ангел-освободитель? Старый тюремщик! Снова и снова грохочет он засовами, трижды в день скребет железным прутом по всем решеткам – не перепилены? – повертывает ключи в скрипучих замках, подсматривает глазом сыщика в «спиончино». И нет силы, которая может разлучить стерегущего и стерегомого. Зачем его перевели в одиночку? Для того, чтобы заключенные не узнали о грубом нарушении закона. На прогулке он теперь в полном одиночестве, а водят его в тюремный двор по пустынным коридорам и лестницам. Да и не каждый день он теперь выходит на прогулку, чаще отказывается, чего не бывало прежде. После прогулки в тюремном дворе одиночество еще мучительнее. Он прямо-таки с ужасом возвращался к себе в одиночку, камера встречала его предметами, на которые тошно смотреть, глаз не хотел на них останавливаться. Безразлично смотрел он на паутину в углу потолка. «Паук в этой камере, – главный, а я – только муха, попавшая к нему в паутину. Из меня уже выпиты все соки, от меня осталась одна оболочка, это я чернею пятнышком в паутине…» Ясно, что освобождать его в ближайшее время не собираются. Какой вероломной оказалась недавняя радость! Истерзанный ожиданием, он потребовал свидания с капо диретторе. Никто из администрации долго не являлся на вызовы, наконец пришел капо гвардиа. С капо гвардиа Кертнер разговаривать не стал, снова потребовал встречи с капо диретторе, в противном случае начнет голодовку. Холодные глаза директора не предвещали ничего хорошего. Он равнодушно погладил морщинистый череп и сообщил, что Кертнер задержан по требованию главного прокурора. Последний пункт приговора Особого трибунала не может быть выполнен: неясно, куда высылать арестанта, отбывшего наказание. Дело Конрада Кертнера возвращено в ОВРА. Капо диретторе должен огорчить узника 2722: лиц, злостно вредящих фашистскому режиму, итальянская тайная полиция имеет право держать в тюрьме бессрочно. – Все дело в том, что Австрия отказалась признать Конрада Кертнера своим гражданином. Куда вас выслать, если национальность по-прежнему не выяснена? А отпустить на все четыре стороны – нарушить решение Особого трибунала. – Засадить в тюрьму моя сомнительная национальность трибуналу не помешала. А выпустить на свободу после заключения – мешает. Капо диретторе раздраженно помахал рукой перед своим лицом – признак крайнего раздражения. – Полагаю, что, если бы у Италии была общая граница с Россией, вопрос о вашей высылке решился бы проще. – Джордано недобро усмехнулся. Этьен вернулся в камеру подавленный и в последующие дни пытался сознательно потерять счет времени – такова была мера его отчаяния. Но он так долго и ревниво вел прежде устный счет календарю и так сильна оказалась эта тюремная привычка, что ему не сразу удалось разминуться с календарем и кануть в безвременье, хотя в одиночке ничто не помогает вести такую статистику – ни газеты, ни отрывные календари, ни театральные афиши. Он лишился права получать письма, деньги, посылки, права на свидания. За ним сохранялось только право на отчаяние и на воспоминания. Причудливо и странно смешивались воспоминания, относящиеся к действительно прожитой им жизни, и подробности, которые сопутствовали «легенде» Конрада Кертнера. Чем дольше он сидел, тем все более отчетливо вырисовывались всамделишные воспоминания и становились все более смутными выдуманные – наверное, от внутреннего сознания, что последняя «легенда» ему уже никогда не понадобится. Иногда он уже сам не мог понять – воспоминание промелькнуло или тень сна? Даже сны ему снились в последнее время какие-то тусклые, бессильные, как сны раба… Он путал сновидения с событиями действительными, реальными. Стало все труднее бороться с обманами чувств. Рядом не было никого, у кого можно было бы проверить сомнения, когда они появлялись. Мысли Этьена лишились былой логики и ясности. Едва возникнув, они крошились, дробились, распадались на кусочки, промельки, обрывки. Тень – его единственный друг. Они вдвоем живут в одиночной камере, у них одна тюремная одежда на двоих. «Привычки у тени все мои, а вот повадки свои», – заметил Этьен, пребывая где-то на границе яви и сна. А позже ему померещилось – тень от него отъединилась и стала жить самостоятельной жизнью. Этьен уже давно уразумел, что на свете нет обмана хуже, чем самообман. Нельзя убегать от настоящего в почти потустороннее, где все теряет свою устойчивость и равновесие – и предчувствия, и чувства, и ощущения, и мысли, и слова. Было время, когда он всерьез собирался симулировать сумасшествие. Но сейчас он на такое зловещее притворство не решился бы, потому что на самом деле опасался – как бы не повредиться в уме, и его нередко преследовала боязнь сумасшествия. «Не дай мне бог сойти с ума!» Да, самое важное – не потерять контроля над уходящим, меркнущим сознанием, не потерять душевного, психического равновесия. Как избежать страшной опасности? Этьен понял, что нужно заставить себя совершить поворот к реальности и тем самым избавиться от неустанного воображения, которое так часто граничит с болезненными, опасными иллюзиями. Беда в том, что он не смог совладать со своей апатией, смирился с тем, что его мозг стал бездеятельным. Как можно скорее вернуться к книгам, регулярным занятиям! В конце концов, дело не в том, принесет ли работа плоды и какие именно. Нужна гимнастика мозга, он отучился работать. Само мышление поможет выздоровлению. Он уже знал, что сделал ряд серьезных ошибок. Он не должен был отказываться от книг из тюремной библиотеки, какие бы они ни были завалящие. Не имел права отказываться от прогулок. Тем более нельзя этого делать сейчас, когда он живет впроголодь, когда у него нет двадцати двух чентезимо на бутылочку молока, когда ему нечего надеяться на рождественскую посылку. Не было денег даже на поганую воскресную газетенку, он давно не знает, что творится в мире. Этьен недавно заметил, что у него начали дрожать руки и ноги. Может, и голова? Он вспомнил узника, с которым больше трех лет назад встретился во дворе «Реджина чели», того седобородого, с всклокоченными волосами, с землисто-серым лицом и с опустошенными глазами, кому с трудом удавалось унять беззвучную дрожь всего тела. Но тот узник уже просидел двенадцать лет! Не рано ли Этьен начал ему уподобляться? Может, это от бессонницы? Вот уже четверо суток, как он не спал. Исчезли и сон и аппетит. Он замечал на себе обеспокоенные взгляды тюремщиков. Не думает ли Рак-отшельник, что узник 2722 решил уморить себя голодом? Вчера ему показалось – притупилась не только острота восприятия, но стала тускнеть память. Если отказала память – он кончился как профессионал-разведчик. Может, он вдобавок еще разучился быстро соображать, стал недогадливым, сделался тяжкодумом? Он так боялся забыть последний шифр, словно обязан был передать его какому-то преемнику, словно в противном случае не выполнит свой воинский долг. Он обязан помнить шифр так же, как русский алфавит. Встревожился всерьез и решил устроить себе экзамен. Раскрыл Библию, углубился в работу и скоро, довольный собой, убедился, что память ему не изменила. Может быть, впервые за тысячелетие кто-то вздумал шифровать библейский текст. Он окончил заданный себе урок измученный, с головной болью, ослабевший от переутомления, но был собой доволен. Шифр продолжал жить в его мозгу, будто выгравированный там навечно. Есть еще порох в пороховницах! Рано ему складывать оружие! А это значит – он не имеет права на апатию, безразличие к жизни, он обязан, если хочет себя по-прежнему уважать, вновь обрести живую душу. Не проклят, а благословен сегодняшний день и все другие, которые ему доведется прожить! После работы над библейским текстом он наконец заснул и спал долгим, глубоким сном, будто решил отоспаться за все четверо суток. А когда проснулся и встал – впервые за последние дни почувствовал голод. Как он позволил безразличию овладеть его сознанием? Так и душа потеряет способность чувствовать, и сердце остынет. Он обязан собрать все силы, чтобы преодолеть моральное бессилие! Если уж ему суждено дожить до отчаяния, то пусть это будет отчаяние бурное, даже скандальное, но не тихое, застывшее, умиротворенное, бессильное. Недавно он хотел отстать от календаря, потерять счет опостылевшим, проклятым дням. А сейчас порывисто бросился к двери, вызвал тюремщика, потребовал, чтобы к нему срочно явился капо гвардиа, узнал, какой сегодня день, потребовал, под угрозой голодовки, чтобы его снабдили бумагой и чернилами для прошения, заявлений, какие он хочет направить и прокурору, и в министерство юстиции, и следователю, и по другим адресам. Едва закрылась дверь, Этьен, после длительного перерыва, попытался сделать нечто вроде гимнастики, затем встал на табуретку и снял в углу камеры старую паутину. На первых порах ему помогли и занятия языками. Он взял себе за правило каждый день думать, говорить вслух и декламировать стихи на разных языках, каждый день недели – на другом. В понедельник в камере слышалась немецкая речь, он читал на память Гейне и Рильке; во вторник – английская; в среду – французская, немало стихотворных строк удалось ему наскрести на дне памяти – Гюго, Беранже, Ронсар, Поль Верлен; в четверг звучала испанская речь и гостем камеры-одиночки становился Дон-Кихот; пятница стала итальянским днем; суббота – русский день. И только по воскресеньям жил в камере-одиночке интернационалист, который запросто переезжал из одной страны в другую, и всюду у него были свидания со знаменитостями. Здоровье Этьена не стало лучше, но оно не было настолько плохим, чтобы врач оказывал ему знаки повышенного внимания, – подозрительно часто осведомляется о здоровье и еще подозрительней заглядывает в глаза. Ах, вот в чем дело! Врач хочет выяснить для себя – не собирается ли номер 2722 сойти с ума. Ваше беспокойство, досточтимый синьор дотторе, сильно запоздало. Узник 2722 установил строгую слежку за собой. Он вновь обрел живую душу. У него нашлись силы для того, чтобы страдать бессрочно. 74 За спиной у него котомочка, это и называется «со всем имуществом». Схваченное решеткой оконце в арестантской карете. В арестантском автомобиле. В арестантском вагоне. И лишь когда менялись средства передвижения, Этьен получал благословенное право смотреть на мир во всей его целостности и слитности. Тогда пейзаж не поделен грубо на квадраты, тогда на панораму, открывающуюся взгляду, принудительно не ложится сетка. Даже отсвет солнца, который кратковременно появлялся на каменном полу камеры, был разделен на квадраты. Так долго сетка меридианов и параллелей, покрывающая земной шар, представлялась ему тенью тюремной решетки! Кертнер забрасывал своих попутчиков вопросами. Что нового в мире? Где сегодня бушует огонь войны? Этьен, сдерживая и пряча волнение, спросил о Советском Союзе – не доносится ли канонада с Востока? Он понимал, что лишь меняет сегодня тюремный адрес и не свобода ждет его, а новое заключение. Впервые его везут в арестантском вагоне. Его провели по проходу между двумя рядами маленьких узких купе, каждое площадью не больше одного квадратного метра. В такой вот клетушке очутился и он. Едва поезд тронулся, он догадался, что его везут на юг. Может, переселение пойдет ему на пользу? Только бы не повезли в Сицилию или на Устику, где обдает беспощадным зноем Африка. А мягкий морской воздух полезен для больных легких. И все-таки светозарное утро, а затем длинный весенний день принесли столько нежданной радости, столько скоротечных восторгов! Он глядел в Болонье сквозь решетку арестантского автомобиля на привокзальные улицы и рад был каждому встречному. Даже тому, кто провожал арестантский фургон безразличным или неприязненным взглядом. Одежда прохожих казалась крикливой, яркой. Он забыл, что не все человечество одето в серо-коричневую арестантскую робу, что люди носят цветные платья, косынки, рубашки, шляпы, платки, шарфы, чулки. Он словно заглянул на чужой праздник. Глаз его насыщался давно забытой палитрой улицы – пестрая толпа, яркие вывески, разноцветные дома, веселые колеры трамваев и автомобилей. Да и лица людей, разгуливающих свободно, без конвоя, так своеобразны! Может быть, потому, что он давно не видел румянца на щеках, живого блеска глаз, не видел капризных чубов, локонов, челок, девичьих кос? Он счастлив был снова увидеть живой мир, который предстал перед ним в возросшем богатстве красок, звуков и запахов. Он чутко реагировал на забытые звуки. Автомобильный гудок. Веселые звонки велосипедов. Треньканье мандолины. Скрежет трамвая на крутом повороте. Гулкий топот лошади, запряженной в экипаж. Сквозь открытую дверь донесся звон посуды в траттории. В самое сердце его проник плач грудного младенца. Гоготанье гусей, их гнала через дорогу старуха. Зазывные крики продавцов жареных каштанов, газет. А позже по радио передавали арию из «Травиаты»; певица тоже была с хрипотцой и шепелявила. Этьену вспомнился тайный радиопередатчик «Травиата». Подает ли он еще признаки жизни, выходит ли Ингрид в зашифрованный эфир? Отзвуки покинутого им давным-давно, полузабытого мира. И хотя в уличной симфонии нет ничего особенно мелодичного, она полна была для него в то утро божественной гармонии. Необъятный мир существует, и внимать ему, созерцать его можно лишь с потрясенной душой. Солнце, небо, цветы, женщины, дети – вот приметы прекрасного мира, обступившего его! Но стоило ли так долго сидеть в каменном мешке, чтобы увидеть-услышать все это полнозвучное, яркое богатство и снова быть замурованным в четырех стенах с нищенским клочком неба в «волчьей пасти»? Он не насладился свободой, только глянул на нее вполглаза. Неужели он видит мир для того, чтобы навсегда позабыть увиденное? Не увидеть, как молодые деревца научатся давать первую тень? Но даже если ему никогда не суждено окунуться в живую жизнь, он был счастлив воскресить в своей памяти былое. Чем ближе к Неаполю, тем попутчики, скованные с ним одной судьбой, чаще поговаривали о том, что их везут на острова. Вероятнее всего, их ждет ссылка на остров Вентотене. Два дня их продержали в Неаполе, в тюрьме «Кармине», затем привезли на пассажирскую пристань. Отсюда отходят катера на близкие острова Прочида, Искья, отходят пароходы на отдаленные острова архипелага. Не только город, но залив, восточные холмы, крыша королевского дворца, откуда Неаполь как на ладони, – все покоится в серой полутьме, все в предчувствии близкого рассвета. Карабинеры позволили выйти из автофургона, и арестанты уселись в стороне от пристани на прибрежных валунах. 
Глядя на море, трудно вообразить, что вот этот самый Неаполитанский залив обычно бывает лазурным. Сейчас море серо-зеленое, бурое, а под низко висящими свинцовыми тучами – черное. Узников то и дело обдает брызгами, пеной волн. Шторм разыгрался не на шутку. Неумолчный гул оглушает, и переговариваться между собой нельзя – можно только кричать во весь голос. Ни один камень, а тем более камешек, не остается сейчас на берегу в покое. Они шевелятся, ворочаются, елозят, трутся друг о друга, все в движении. Ветер срывает пену с гребней волн, когда волны обрушиваются, и в эти мгновения видно, откуда дует ветер. Наверное, отсюда и берет начало шторм – течение не соответствует направлению ветра. Когда море в покое, линия горизонта кажется более далекой, а сейчас, при плохой видимости, горизонт приблизился. Прошел час, наступило раннее утро, а шторм все набирал силу. Теперь, когда волна разбивалась о прибрежные валуны, ее пена отбрасывалась назад, на гребень волны, подоспевшей вслед. Теперь волна играючи швыряла большие камни. Казалось, даже массивные валуны подрагивают под ударами волн. Сейчас Этьена никто не услышит, он может орать все, что угодно. Внезапно им овладело страстное желание говорить, кричать, петь по-русски. Штормовое море и небо стали его собеседниками. Когда еще представится возможность выкрикивать во весь голос родные и запретные слова? – «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам…» – Он собрался продолжить, но запамятовал… Продекламировал две строчки из «Онегина» заново, надеясь, что с разгона придут на память последующие. Но сколько ни тщился – не мог вспомнить. Огорченный, он снова и снова громогласно твердил: – «Я помню море пред грозою…» – пока не зашелся от надсадного кашля. В заливе моталась и дергалась на якорной цепи рыбачья шхуна. Смотреть на нее Этьену было физически больно – будто шхуна привязана не к якорной, а к той самой цепи, которая продета через их наручники. Шхуна пыталась и не могла оторваться от своей каторжной стоянки. Все последние годы тюремные стены прятали Этьена от шторма, от грома и молнии, от ливня, от наводнения, от бури. А сейчас его восхитила неуемная сила стихии, не подвластная ни капралу карабинеров, ни капо диретторе, ни председателю Особого трибунала по защите фашизма, ни самому дуче. Нет силы, которая может сейчас помешать его восхищению! Такая стихия уравнивает в правах любого диктатора и человека в наручниках. Вот так же стихия уравняла когда-то и всех жителей древней Помпеи, засыпав их вулканическим пеплом Везувия. Чувства обострились до предела. Ему мало обычных порций воздуха – он дышит порывами свежего ветра! Его обдает брызгами волн? Нет, он плывет по штормовому морю в неведомую даль, в будущее! «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы!..» Утренний свет прибывал, стал виден Везувий на горизонте, высветило набережную возле пристани. Напротив высился коричневый шестиэтажный дом. Окна закрыты ставнями, все с вечера спрятались от дневного зноя, которого сегодня не будет. 75 У Этьена основательно распухли запястья, и он старался как можно меньше двигать руками. А соседи его, уже опытные кандальники, умудрялись скованными руками зажигать спички, скручивать цигарки, чистить апельсины, бинтовать ноги, шнуровать обувь. Противная все-таки штука эти наручники! Холодно – от железа еще холоднее, а когда жарко – железо вбирает в себя зной и не остывает до вечера. Разность температур железа и человеческого тела все время напоминает о кандалах. Наконец пришла очередь Этьена подняться по трапу. Пароход, куда погрузили заключенных, переполнен. Этьен прочел название парохода на спасательном круге – «Санта-Лючия». Седовласый коммунист – он уже бывал здесь – объяснил, что многие едут проведать ссыльных, провести с ними пасхальные дни. Гуманный и очень старинный обычай этот не решились отменить и при фашистском режиме: два раза в году родным разрешалось навещать ссыльных. Вот почему на пароходе столько женщин с детьми. Над головами арестантов, на палубе, звучали гитары, мандолины, голоса певцов, слышался топот танцующих. Аппетитные запахи проникали и сюда, в трюм. Рядом с Этьеном ехали старые знакомые – четыре молодых дезертира и седовласый коммунист. Оказывается, пожилой синьор уже пробыл несколько лет в ссылке на острове Вентотене и едет туда во второй раз. Он явно хотел подбодрить Этьена – режим на острове не слишком строгий, иным ссыльным прежде разрешали жить не в общих казармах, а снимать комнаты. Если жили с семьями, то стражники запирали на ночь и семью. А к ссыльным повыше рангом приставляли специальных конвоиров. Три раза в день труба сзывает на перекличку тех, кому разрешено ходить по острову. Пароход дал гудок, машина за перегородкой уменьшила обороты, пристань близка, машинист замедлил ход. Над головой протопали матросы, послышалась команда, машина застопорила, на палубе поднялась возня, суматоха. Кто-то истошно кричал кому-то на пристани, перебросили трап, вольные пассажиры сходили на берег. На верху лесенки появился капрал. Не спускаясь в трюм, он стал вызывать заключенных по одному. Этьен ждал вызова, но фамилия Кертнер так и не прозвучала. Значит, его не высадят на Вентотене? Он остался с уголовниками, которых везли дальше. «Санта-Лючия» только что отошла от причала, и капрал разрешил подняться из трюма на опустевшую палубу. Их осталось всего трое, пассажиров-невольников. Этьен уже более уверенно вскарабкался наверх по крутой лесенке, которая ходила ходуном. Перед Этьеном высился берег, сильно изрезанный бухтами и бухточками, естественными и искусственными гротами, выдолбленными в вулканическом туфе. Пристань успела опустеть, пассажиры подымались по узким лестницам-улочкам – кто под конвоем, кто конвоируя, а кто сам по себе… И тут сосед Этьена показал на скалистый остров, отдаленный от Вентотене проливом шириной километра в два. Он глухо сказал: – Санто-Стефано, остров дьявола. Было что-то зловещее в торчащей из моря скале, на вершине которой белеет круглое трехэтажное здание «эргастоло», то есть каторжной тюрьмы. Или трагическая репутация острова освещает скалу таким мрачным светом? В зрительной памяти возник замок на скалистом острове Иф, тот самый, в котором томился Дантес, он же граф Монте-Кристо. Но остров Санто-Стефано еще более уединенный, отторгнутый от жизни. «Санта-Лючия» сбросила ход и задрейфовала метрах в двухстах от скалистого берега. Он не сразу заметил, что к пароходу направляется лодка. Лодку швыряло на рваной, неряшливой волне, но гребцы были неутомимы. Подойти вплотную к борту опасно. Тот, кто сидел у руля, поймал конец, брошенный матросом «Санта-Лючии», чтобы лодку не относило назад. А чтобы лодка не ткнулась о пароход, на носу стоял гребец и, виртуозно балансируя, отталкивался от борта каждый раз, когда их могло сильно ударить. Первым, когда лодку отделяло от борта не более метра, ловко спрыгнул капрал. Но он прыгал, балансируя руками, а Этьену и его спутникам придется прыгать в наручниках. С последней веревочной ступеньки Этьен прыгнул так, чтобы угадать между двумя скамейками. Его швырнуло на дно лодки, как груз, и он повалился боком, не в силах опереться руками о скамейку. Матрос с «Санта-Лючии» выбрал конец, трап подняли, прощальный гудок. Гребцы сели на весла. Лодка неуместно нарядная, белее пены. Пожалуй, этой лодке больше подошел бы черный цвет, как лодке Харона, который перевозил души умерших. Очень трудно пристать к скалистому берегу: он весь в белом кипении. Возвратная сила волны отталкивала лодку, отторгала ее от острова, будто хотела помешать высадке Этьена. «А если бы вообще не удалось пришвартоваться к этому берегу? – мелькнула шальная мысль. – Куда бы меня дели?» Но гребцы знали свое дело, рулевой учитывал направление ветра и причалил к камням, где волна теряла силу, потому что до того разбивалась о другие, соседние камни. Так же неловко Этьен спрыгнул с носа лодки на камень, омываемый морем и, может быть, никогда не просыхающий. Со скованными руками он прыгал с одного камня на другой, пока не ступил на сухую почву. Тропа петляла, лавировала, но куда бы Этьен ни сворачивал, порывистый ветер дул ему в лицо, заставляя вбирать голову в плечи и сильно щуриться. Очень трудно подыматься на крутую гору, когда на руках наручники и страдаешь от сильной одышки. Этьен постоял, пытаясь отдышаться, оглянулся назад. «Санта-Лючия» уже маячила в беспокойной дали и стала размером с белую лодку. Этьен торопливо посмотрел наверх. Белое трехэтажное здание тюрьмы так близко, что видны решетки на квадратных окнах. Прямая стена фасада возвышается метров на десять – двенадцать. Тропа подвела их к железной калитке под каменной аркой. На арке высечена надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ  76 Круглые башни стерегут главный вход. Попасть в тюрьму можно, лишь пройдя через трое ворот. Кертнер прошел за капралом налево, в тюремную контору, куда тот сдал пакет с документами вновь прибывшего и конверт с его деньгами. Увы, в конверте перекатывалось несколько самых мелких монеток. Карабинер снял с Кертнера наручники и унес их. Недолго, однако, Конрад Кертнер прожил под своей фамилией. Вместе с тремя годами жизни он оставил в Кастельфранко присвоенный ему там номер 2722. Здесь его вновь разлучат с именем и фамилией. Какой номер заменит их отныне? Этьен знал, что приговоренные к различным срокам заключения получают на Санто-Стефано номера, начинающиеся с пяти тысяч, а те, кто сидят пожизненно, начиная с тысячи. Человек, обреченный на пожизненную каторгу, занумерован навечно. Имя канет в Лету, а номер будет высечен на могильной плите. Кертнер получил номер 1055. И пока он сидел в конторе, пока у него снимали отпечатки пальцев, кладовщик уже ставил номер 1055 на вещах, которые выдадут. Из старой одежды ему оставили только грубые ботинки, они еще не просохли от морской воды, которая заливала лодку. Белье, носки, постельное белье, летние полосатые серо-коричневые куртка и штаны, такой же берет с жестким околышем и «казакка» – рубаха, похожая на толстовку, из той же серо-коричневой холстины. Он вышел из вещевого склада, размещавшегося, как и контора, внутри стены внешнего обвода крепости, прошел через вторые ворота. Внутри эргастоло, построенной в виде трехэтажной подковы, – двор, разделенный, как и в Кастельфранко, на отсеки, а в центре двора – часовня. Апрельское солнце Санто-Стефано могло бы потягаться с июльским в Ломбардии, на севере Италии. «Неужели я и сам и тень моя до конца дней своих проживем под конвоем? – горько подумал Этьен. – Мы неразлучны. То я бреду за своей тенью, как приговоренный, то она за мной…» Конвоир повел каторжника 1055 в баню. Первые две цифры в обращении к каторжнику для удобства опускались, и конвоир уже называл его Чинкванто Чинкве, то есть «55». – Послушай, Чинкванто Чинкве, что ты такое натворил, чтобы попасть сюда? – спросил конвоир добродушно, когда они шли по двору. – Убил богатую синьору, ее конюха и украл двух скаковых лошадей. Это было в Риме, на вилле Боргезе, среди бела дня. Конвоир даже отшатнулся. Его испуг рассмешил Этьена, и тогда конвоир понял: Чинкванто Чинкве шутит. А Этьен был доволен своим дурачеством. Наперекор всему он еще не разучился смеяться! Навстречу им шагал другой тюремщик. Конвоир Этьена показал встречному четыре пальца, тот понимающе кивнул – направляются в четвертую секцию. Еще в конторе капо гвардиа сообщил, что по законам каторжной тюрьмы каждый вновь прибывший 10 дней отсиживает в карантине в четвертой секции. За особо тяжелую провинность каторжника наказывают строгим карцером – без матраца, без постели, хлеб и вода, суп раз в неделю. А обычный карцер-карантин дает заключенному право на матрац, одеяло и суп два раза в неделю. Так как на десятидневку обязательно приходится хотя бы одно воскресенье, выдают суп и в третий раз. Воду приносят два раза в сутки. Казалось бы, все уже отняли у Этьена – свободу передвижения, право дышать чистым воздухом больше сорока минут в сутки, отняли возможность есть досыта, а вот, оказывается, можно отнять еще нечто и посадить в темный карцер, где лишаешься света. Четыре квадратных метра темноты. И не удивительно, что Этьену в первую же ночь приснилось солнце. Он так озяб душой и телом, чувствовал острую потребность в солнечном свете. А почему каторжника, ничем не провинившегося, заталкивают в день приезда в темную камеру? Это делается для острастки. Подавить склонность к бунтарству, если она еще сохранилась! Сделать новосела покладистым, смирным, послушным, чтобы он не скандалил, не нарушал тюремный распорядок и был доволен камерой, где окажется после карантина, – ведь все относительно. Глухое окошко над дверью. Четыре железных прута поперек и четыре прута вдоль окошка; поперечные прутья вкованы в продольные. Значит, окошко состоит из двадцати пяти квадратов полутьмы. Когда дощатая дверь карцера открыта, то сквозь ближнюю, решетчатую, дверь виднеется отрезок коридора и окно с решеткой, смотрящее в тюремный двор. Под тощим матрацем – решетка, достаточно редкая, с дырой посередине. В строгом карцере узник лежит нагишом и привязан к койке, так что прутья впиваются в тело. Под дыру подставляют парашу. Холодно, знобко. Сонная немочь одолевает замурованного человека. Этьен и не подозревал, каким страшным орудием пытки может явиться тишина. В Кастельфранко тишина не была такой удручающей, гнетущей, как здесь, в сыром полуподвале четвертой секции. Глухонемая жизнь. Немотствует черная ночь. Такой глубокой тишины он еще не слышал. Казалось, здесь умерло даже эхо. У Рака-отшельника в одиночке тоже было тихо. Но все-таки Этьен слышал птичьи голоса, хлопанье крыльев, к нему вдруг доносилось далекое дребезжание телеги или чей-то смутный окрик. Лишь раз в сутки, на исходе дня, в карцер проникает слабый отзвук церковного колокола. Он висит во дворе и с наступлением темноты возвещает отбой – израсходовался еще день. Этьен не подозревал, что перевод из одной тюрьмы в Другую невольно воспринимается как новый арест. А может, это объясняется тем, что при переезде на Кастельфранко он жадно наглотался впечатлений? Изредка открывался глазок двери, обитой железом. Утром появился уборщик – низенький, уже в летах, с седой бородкой. Он подмел, убрал в карцере, а перед уходом молча протянул маленький, мелко исписанный листочек бумаги. «Я политический, здесь семнадцатый год. На Санто-Стефано еще двое политических. Считаю своим долгом предупредить, что в ваших документах указано восемь дней карцера, на которые вам дана была отсрочка в той тюрьме по болезни. И еще вам предстоят десять суток карцера как новенькому. Значит, восемнадцать суток карцера подряд, что бесчеловечно. Вызовите врача, пожалуйтесь, потребуйте, чтобы в наказании сделали перерыв. На врачебном обходе пожалуйтесь на острый ревматизм. Или вызовите врача в карцер. Джузеппе Марьяни». Пока Этьен читал записку, уборщик стоял и ждал, затем отобрал записку, мелко изорвал ее и бросил в парашу: видимо, таково было указание. – Я сам неграмотный, – промолвил наконец уборщик, – но синьор Марьяни прочел мне записку… Значит, вы тоже политический? Этьен кивнул. – Теперь вас в эргастоло будет четверо? Вот никак не могу взять в толк. Я получил двадцать лет каторги, а у вас она вообще бессрочная. Но я был бандитом! Я жил в свое удовольствие! Я пустил на ветер много тысяч лир! Я кутил с красивыми женщинами! А что вы видели в жизни хорошего? Видимо и не рассчитывая на ответ, уборщик махнул рукой и вышел из камеры. Письмо неизвестного Джузеппе Марьяни огорчило Этьена и одновременно обрадовало. Огорчило тем, что на него добавочно обрушиваются восемь голодных, темных, промозглых дней карцера. Но в то же время на него повеяло чьим-то добрым участием. Пожалуй, письмо больше обрадовало, чем огорчило. «Всего трое политических, может, среди них нет ни одного коммуниста. Вот где я мог бы в свое время подать прошение о помиловании, если бы Старик настаивал! По крайней мере, меня не презирали бы свои и я не принес бы ущерба итальянским коммунистам. Но теперь, слава богу, никакие прошения о помиловании вообще не принимают». К концу дня дверь снова отворилась, и в камеру вошел капеллан. Однорукий, глаза добрые. Зовут его Айьелло Конте. Не нуждается ли христианин в помощи в столь трудный для него день? Не хочет ли исповедаться или помолиться вдвоем? Этьен признался, что он человек неверующий, но относится с уважением к верующим и к пастырям, которые заботятся о своей пастве. Почему капеллан пришел к нему в сутане? Но тут же все выяснилось – тот достал из-под сутаны два яйца, кусок сыра и ломоть хлеба. – Так это же пармиджане! – Этьен жадно грыз твердый, пахучий сыр, похожий на швейцарский. Капеллан предупредил, что яйца вкрутую и что Чинкванто Чинкве может есть не торопясь и не оглядываясь на дверь. Никто не осмелится сейчас войти в камеру. А вдруг узник в эту самую минуту исповедуется? Пока Этьен ел, капеллан, сидя на его койке, рассказывал об острове Санто-Стефано. Помимо того, что капеллан облегчает страдания и помогает общению людей с богом, у него есть еще одно занятие: он изучает историю и географию Понтийского архипелага… Островок, на котором они сейчас находятся, самый маленький во всем архипелаге. Его интересно объехать на лодке, прогулка в два километра. Одна треть квадратного километра -площадь, которую занимает скала, вулканическим потрясением поднятая из морских глубин на поверхность. Когда-то под морем был вулкан, островки Вентотене и Санто-Стефано – его верхушка, размытая надвое. Вчера «Санта-Лючия» проплыла как раз над кратером. Этьен проголодался до дрожи в руках. Последний раз он ел на пароходе – яблоки и виноград из корзинки и ломтик мацареллы. – По всему видно, что остров совсем маленький, – сказал Этьен с набитым ртом, – даже по размерам карцера. Остается поблагодарить короля за то, что он предоставил мне эти три квадратных метра своей земли. И еще я получу у государства два квадратных метра на местном кладбище. Капеллан отрицательно покачал головой: – Только тюрьма и дом диретторе стоят здесь на государственной земле. А весь остров, в том числе и кладбище, уже в частном владении. Островом владеет род Тальерччо. Он унаследовал Санто-Стефано от братьев Франческо и Николо Валлинотто, которые купили остров еще у короля Фердинанда II за 345 дукатов. Полтора века назад здесь построили тюрьму, остров приобрел невеселую славу. А государство уже полтора века платит роду Тальерччо арендную плату. Капеллан давно связал свою жизнь с островом, он оказывает милосердную помощь каторжникам, учит их грамоте, арифметике, закону божьему, географии и, конечно, истории. Он единолично ведет пять классов школы для каторжников. Пока Чинкванто Чинкве ел, капеллан успел ему сказать, что он приводит в порядок местное кладбище и решил выбить над входом надпись: «Здесь начинается суд бога». Нравится ли синьору эта мысль? Чинкванто Чинкве одобрил надпись, но предложил ее дополнить. Пусть надпись будет разбита на две фразы. Слева от входа уместно написать: «Здесь кончается суд людей», а справа от входа: «И начинается суд бога». Капеллан глубоко задумался и перед тем, как уйти, повторил: – Здесь кончается суд людей и начинается суд божий… Неплохая мысль. Спасибо, сын мой. Капеллан собрал яичную скорлупу и спрятал в карман, а крошек подбирать не пришлось. Он обещал наведаться еще и выразил сожаление, что Чинкванто Чинкве попал в карцер на страстной неделе и вынужден будет провести здесь пасху, что само по себе богопротивно. Чинкванто Чинкве объяснил, что помимо десяти суток карантина он задолжал восемь суток карцера тюрьме Кастельфранко. Полагал, что наказание аннулировали, когда он лежал в тамошнем лазарете. Капеллан покачал головой: плохой христианин, злопамятный человек оформлял его сопроводительные документы. Чинкванто Чинкве спросил, сидит ли здесь Джузеппе Марьяни, и получил утвердительный ответ. Но расспрашивать о неизвестном ему синьоре, который поспешил со своим дружеским участием, Этьен не решился. Совет Марьяни помог. После жалоб Чинкванто Чинкве на приступ острого ревматизма тюремный врач распорядился не оставлять узника в карцере на второй срок и отложить старое наказание до той поры, пока Чинкванто Чинкве не поправится. Утром в страстную субботу в карцер явился капо гвардиа: – Завтра пасха. Я разрешаю вам перейти в камеру тридцать шесть, которая вас ждет. А потом досидите еще пять суток. Просьба капеллана. – Если в связи с праздником пасхи администрация решила быть милосердной и отменить карцер совсем, я с благодарностью приму такой акт милосердия. Но временная отсрочка – милостыня, и я ее не приму. Капо гвардиа находился в весьма затруднительном положении. Под конец беседы он признался, что требование отпустить Чинкванто Чинкве исходит не только от капеллана. Об этом стало известно всем узникам в эргастоло. От уборщика с седой бородкой Этьен знал, что каторжники возмущены, ругают тюремное начальство последними словами: весь пасхальный праздник отравлен, когда в карцере томится христианская душа. Заключенным стыдно за администрацию, которая берет на свою душу такой грех. Что же тогда стоят призывы к морали и справедливости?! И держать узника на хлебе и воде в день, когда воскрес Христос, – неприличная жестокость. Капо гвардиа явился еще раз, снова уговаривал Чинкванто Чинкве, но тот стоял на своем и отказался покинуть карцер. Этьен успел всесторонне обдумать предложение капо гвардиа и только делал вид, что упрямится, петушится себе во вред. По всем расчетам покидать сейчас карцер невыгодно. Во-первых, где гарантия, что ему не придется отсидеть оставшиеся пять дней карантина плюс старые восемь дней подряд, что будет мучительно? А во-вторых, маловероятно, что в пасхальные дни его оставят в карцере на хлебе и воде. Если же ему будут давать в эти дни суп, то сам бог велел проторчать всю пасху в карцере, чтобы последующее наказание голодом стало не таким чувствительным. Он оказался прав в своих предположениях. В дни пасхи ему и впрямь делали поблажки, чтобы все узнали о милосердии капо диретторе. И благодаря своей хитрости новосел перенес карцер без голодных обмороков, без приступов головокружения. Его вывели из карцера в пасмурный день, а он, отвыкший от света, щурился так, словно его ослепило нестерпимое солнце. Медленно поднялся он на третий этаж и остановился перед камерой 36. Первая дверь, ведущая в камеру, деревянная, обита железом, с окошечком, в которое едва можно просунуть миску с супом, стена шириной без малого метр, второй дверью служит железная решетка. На самом деле камера светлая или так кажется после карцера? А насколько здесь суше? Ему полагаются два одеяла и подушка, набитая морской травой. Он забрался на табуретку и прильнул к окну, закрытому «волчьей пастью». В верхнюю щель, кроме клочка неба, видна полоска моря, оно тускло синеет совсем рядом. Ему даже показалось, что слышен скрип уключин невидимой лодки. Может, лодка и в самом деле плывет где-то близ берега? Нет, это скрипнула ржавая петля или щеколда. Долго, очень долго стоял он на табуретке, не отрывая взгляда от моря, уходящего к горизонту. Одни только глаза оставались у Этьена на свободе, и он смотрел на чаек, на море, все в белых гребешках, на дымок парохода в серо-синей дали… 77 Ранним утром Гри-Гри имел обыкновение заходить в кафе «Греко» возле площади Испании, в этом кафе когда-то сиживал Гоголь. Сегодня Гри-Гри не успел дойти до своего столика и заказать чашку кофе, как узнал из обрывков всеобщего возбужденного разговора, что Гитлер, а вслед за ним Муссолини объявили войну Советскому Союзу. В «Греко» показалось душно. Гри-Гри не стал завтракать и вышел на виа Кондотти. Почему не слышно газетчиков? Все газеты уже распроданы? Или опоздали? Нужно как можно быстрее добраться до посольства, с каждым часом осложнений будет все больше. А как же персонал торгпредства в Милане? Наверное, уже укладываются. Хорошо, что Тамара в отпуске, в Крыму. Но тут же он подумал, что отсутствие Тамары сейчас весьма некстати: она повидалась бы с Джанниной и оставила бы ей деньги для Этьена. А может, повидаться им уже не пришлось бы? И как Джаннина смогла бы потом объяснить происхождение денег? Впрочем, незачем ему сейчас над этим ломать голову. Тамары нет, денег нет, и передать что-нибудь Этьену не удастся. У посольства большая и шумная толпа. Фашисты выкрикивают антисоветские лозунги. Как Гри-Гри и предполагал, карабинеры никого не выпускают из здания посольства и не впускают туда. На фоне безоблачного голубого неба вьется дымок над трубой: нетрудно догадаться, что в посольстве горит камин, торопливо жгут бумаги. Гри-Гри направился к телефону-автомату. Тщетно, телефоны посольства отключены. Он зашел на телеграф – связь с Москвой прекращена. Кто знает, что ждет его в городе, который охвачен воинственным фашистским психозом? Позже секретарь посольства позвонил ему домой из автомата и сообщил, что Гри-Гри может перебраться на жительство в посольство, еще есть несколько свободных диванов, день отъезда – 24 июня. Список советских граждан, не имеющих дипломатических паспортов, но эвакуируемых, – у лейтенанта карабинеров, который дежурит у входа в посольство. Он пропускает в здание, сверяясь со списком. Перед вечером вышли срочные выпуски газет. Гри-Гри узнал все события дня. Русский посол синьор Горелкин находился утром за городом и потому не сразу явился по вызову во дворец Киджи, в министерство иностранных дел, в резиденцию графа Чиано. По обыкновению, сотрудники посольства проводили воскресный день на взморье, и посла разыскали лишь в полдень. Посол прибыл в министерство иностранных дел в половине первого. Чиано был подчеркнуто официален, сух и немногословен. Он заявил послу: – Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявила войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию, то есть с 22 июня, 3.30 утра по среднеевропейскому времени. Аудиенция длилась всего две минуты. Из английской радиопередачи Гри-Гри узнал, что вступление Италии в войну было полной неожиданностью и для итальянского посла в Москве Россо; он узнал о войне по радио. Английский диктор сообщил несколько подробностей, касающихся минувшей ночи. В минувшую полночь германский посол предупредил министра Чиано, что ночью ожидается важное сообщение. Чиано спать не лег. В час ночи посол попросил аудиенцию и явился в министерство с папкой в руках – там лежало личное послание Гитлера к Муссолини. В четыре ночи разбудили Муссолини и составили ноту Кремлю… Гри-Гри решился выйти из дому и прогуляться по Риму. Чем сегодня дышит город? На пьяцца Венеция, над дворцом Муссолини, висит черный флаг с золотой фашистской эмблемой. У парадного подъезда на часах стоят «мушкетеры дуче». Площадь запружена орущей толпой. Манифестанты не расходятся, ждут, когда дуче появится на балконе. Гри-Гри оглушали воинственные крики чернорубашечников. Недоставало сил слушать, как они бахвалятся, поносят Советскую Россию, провозглашают здравицы в честь фюрера, дуче… Он ушел с площади. Наступил час прощания с Римом. Для этого нужно наведаться к фонтану Треви. Поверье таково: если ты хочешь когда-нибудь снова вернуться в Рим – встань спиной к фонтану и брось монетку через левое плечо. Гри-Гри повернулся к фонтану спиной и бросил через левое плечо две монетки: за себя и за Этьена. Знает ли уже Этьен там, на Санто-Стефано, какая разразилась катастрофа? Понимает ли, что рвется последняя, самая наипоследняя ниточка, какая связывала его тюремную камеру с родиной? Уйдет эшелон с персоналом посольства, покинут Италию другие советские люди, а Этьен останется один-одинешенек. Скарбек и Анка не должны иметь никакого касательства к узнику Санто-Стефано. Джаннина – вот преданное, благородное сердце, она по-прежнему обеспокоена судьбой бывшего шефа. Но что может сделать Джаннина, если распродажа вещей закончилась и у нее нет повода для перевода денег? Нетрудно догадаться, что теперь, когда Италия и СССР находятся в состоянии войны, слежка за Джанниной усилится, поскольку Кертнера по-прежнему подозревают в связи с русскими. Персонал посольства и все советские граждане, подлежавшие эвакуации, съехали с частных квартир. Как все изменилось в посольстве за двое последних суток! Служебные кабинеты тоже заселены, многие спали на полу. Сперва итальянцы предложили эвакуировать русских морем – через Неаполь в Одессу. Но как можно плыть в Одессу, если и в Эгейском, и в Мраморном, и в Черном море хозяйничает флот нацистов? Позже предложили такой вариант: эвакуироваться поездом до Испании, оттуда пароходом в США и через Аляску, Дальний Восток – в Москву. Нашлись итальянские антифашисты, которые предупредили, что план подсказан нацистами, исходит из недр германского посольства. Подозрительный кружной маршрут был отвергнут. Только к 26 июня определился маршрут: через Югославию, Болгарию, Турцию. 5 июля поезд отошел от римского перрона. В каждом вагоне ехал карабинер, но общий контроль осуществляла команда эсэсовцев. 17 июля в 8 утра пересекли турецкую границу. Каждый день оглушал Гри-Гри громом тревожных сообщений. Они врывались по ходу поезда – сначала на итальянском, потом на сербском, болгарском и турецком языках. Радиоприемник в поезде работал с большими перебоями, а местную газету не всегда найдешь, не всегда поймешь. Но даже если сделать поправку на необъективность болгарской и турецкой печати, дела на фронте были плохи. Из пограничного Свелинграда поезд, которым ехал Гри-Гри, направился по маршруту Стамбул – Анкара – Карс. Из Карса уже сравнительно нетрудно добраться до Ленинакана. 4 августа, после месячного путешествия, персонал посольства и торгпредства прибыл в Москву. 78 Не успели съесть воскресный обед – в тот день полагался кусочек мяса и две картофелины, – к Марьяни прибежали уголовники: – Немцы напали на русских! Италия объявила войну России! Новость потрясла Этьена, хотя он давно ждал ее. И не успел он побыть наедине со своей тревогой, как их вызвали на прогулку. Они всегда гуляли вместе, трое политических – Марьяни, подполковник Тройли и Этьен. А четвертого политического – Лючетти – водили на прогулку отдельно, строгий режим не разрешал ему ни с кем общаться. Нечего и говорить, что все сорок минут, отпущенные на прогулку, обсуждалась ошеломляющая новость. Марьяни утверждал, что Гитлер и Муссолини сделали непоправимую ошибку. Он пространно доказывал, почему нельзя браться за оружие ни тому, ни другому, и напомнил предостережение Фридриха Великого о русских солдатах: их нужно дважды застрелить и потом еще толкнуть, чтобы они наконец упали. О, Фридрих Великий хорошо знал русских солдат, и его соплеменники скоро в этом убедятся. «Вот такой солдат – наш Старик! – с гордостью подумал Этьен. – Кого-кого, а Старика война наверняка не застала врасплох. Настоящий разведчик встречает войну во всеоружии…» Тройли в воинственном пылу размахивал кулаками, выкрикивал проклятия по адресу большевиков – с Россией церемониться не станут! Сам он подаст прошение королю и дуче с просьбой немедленно направить его на фронт, на передовую. Тройли, участник похода на Рим в 1922 году, был консулом фашистской милиции, служил в генеральном штабе, а все свободное время проводил у зеленых столов в игорных домах. Французская разведка подцепила его на крючок в Монте-Карло и по дешевке купила этого заядлого, нечистого на руку картежника. Сперва Тройли прокутил казенные деньги, а затем начал по сходной цене продавать французам военные тайны. Этьен с нетерпением ждал, когда окончится прогулка и он сможет остаться в камере наедине со своими мыслями, опасениями, тревогами. Горько знать, что в такие часы ты отторгнут от Родины и ничем не можешь ей помочь. А сколько мог бы сделать Конрад Кертнер на свободе, оставаясь по эту сторону фронта! Хоть бы знать, что принесли пользу его донесения, знать, что они помогли Красной Армии! Особенно настойчиво он обращался мыслью к танковым войскам. Успели у нас наладить серийное производство «Т-34»? Много лет назад Этьен начал серьезно заниматься танками. Еще в начале тридцатых годов он заинтересовался работой 6-го инспекционного отдела германского генерального штаба. Возглавлял 6-й отдел полковник Гейнц Гудериан, там разрабатывались вопросы, связанные с бронетанковой техникой, там пытались предугадать характер будущей войны. Этьена тревожила толщина брони, так как обычная броня в 20 миллиметров предохраняет только от пуль, а не от осколков, это показали бои в Испании. Вторая проблема, тоже жизненно важная, – дизельный мотор «В-2». Сколько у него преимуществ перед бензиновыми двигателями, которые стоят на немецких танках! Да и силенок у нашего побольше – 500 «лошадей», могучий табун! Многое беспокоило Этьена в то трагическое воскресенье и в последующие дни, когда он неустанно и настойчиво думал о вооружении Красной Армии. Сильно тревожили самолеты. Удалось ли нашим конструкторам за последние два-три года набрать высотёнку и скоростёнку? Чтобы получить ответ на все эти вопросы, требовалось немногое – оказаться на свободе и добраться до своих… Впрочем, как он может судить о сегодняшнем вооружении Красной Армии, сидя здесь, в одиночке № 36? Наивное и бессмысленное занятие! Он даже не знает, какая сегодня форма у Красной Армии. Может, та, которую он последний раз надевал в 1935 году, тоже устарела? Необходимо думать о самом главном, но до этого ему хотелось отчетливо представить себе, как наша армия сейчас одета, и его раздражало, что он отвлекался от главного. Да, он был бы бесконечно счастлив, если бы мог очутиться сегодня под небом Родины, в строю, в форме комбрига Красной Армии. Кому и когда он в последний раз козырнул, до того, как снял форму и надел штатский костюм? Разве такое запомнишь… Давненько не ходил строевым шагом! «Левое плечо вперед!» – подал он неведомо кому беззвучную команду и сам повернулся. Как бы не приключился с ним при возвращении в армию такой конфуз: начнет печатать на марше строевой шаг, а по инерции, по стародавней тюремной привычке, после четырех шагов сделает поворот через левое плечо. Весь строй может испоганить!.. Через неделю пришла иллюстрированная воскресная газета; опубликованы фотографии и подробный отчет о параде войск, направлявшихся в Россию. Уже в первой половине июля предполагалось перебросить итальянский экспедиционный корпус на какой-то участок Южного фронта. Как Тройли ни был антипатичен, Кертнер и Марьяни брали у него старые газеты, которые тот исподтишка им передавал. Но в последний раз оба демонстративно не взяли газет и порвали с Тройли всякие отношения: отказались выходить с ним на совместные прогулки. Тюрьму облетела весть, что ходатайство Тройли удовлетворено. В день, когда Тройли уезжал, сводка с русского фронта сильно огорчила Этьена. Если верить газетам, немецкие войска продвигаются в глубь России, они уже завоевали почти всю Белую Россию. Этьен догадался, что речь идет о Белоруссии. Он с острой тревогой подумал о затерянном в лесном захолустье деревянном городке Чаусы, где живут добросердечная мачеха Люба, другие родичи и друзья его детства. Неужели огненный вал докатится так далеко, прежде чем Красная Армия оправится от внезапного удара и перейдет в контрнаступление? Однако день сменялся днем, а вести с русского фронта по-прежнему приходили неутешительные. 79 Еще до того, как подъехали к Москве, Гри-Гри понял, что город эвакуируют. Навстречу им прошел странный эшелон, сплошь состоящий из вагонов-ресторанов, набитых пассажирами, из почтовых, багажных вагонов, холодильников и снегоочистителей. С соседнего пути, по которому ходила подмосковная электричка, снимали и сматывали медный кабель. Мимо дачных платформ прошла переполненная электричка, однако тащил ее маломощный паровоз; он обволакивал вагоны густым дымом. Никто из родных, близких не встречал поезд, пришедший вне расписания. Был предвечерний час, и площадь у Курского вокзала встретила дипломатов из Рима тревожным ожиданием воздушного налета. Две недели назад немцы бомбили первый раз, и с тех пор начались еженощные налеты. В московском небе плавают невиданные серебристые рыбы – аэростаты воздушного заграждения; если налетчики снизятся над городом, то попадут в тенета. У входа в метро выстроилась очередь – вечером станция превращалась в бомбоубежище. В нескольких домах на Садовой, на Маросейке и на Ильинке выбиты стекла. Но ни одного разрушенного дома Гри-Гри и его попутчики не увидели. Слава нашим зенитчикам, слава нашим истребителям! «Эмочка» выехала мимо ГУМа на Красную площадь. На кремлевской стене нарисованы скошенные фасады домов – чтобы сбить с толку фашистских летчиков, чтобы зрительно сломать форму объекта, чтобы стены Кремля сливались с окружающими кварталами. Над Мавзолеем сооружен макет трехэтажного жилого дома. Пока машина при выезде на площадь стояла у потухшего светофора, пока милиционер в каске и с винтовкой за плечом не взмахнул разрешающе флажком, Гри-Гри успел заметить, что памятник Минину и Пожарскому обложен мешками с песком. Кремлевские звезды то ли укрыты защитными чехлами, то ли выкрашены защитной краской – наступали сумерки, из «эмки» не разглядеть. Фасад Большого театра тоже в камуфляже – завешен какими-то декорациями. На Театральной площади выставлены на всеобщее обозрение обломки фашистских самолетов, сбитых в московском небе. Фонтан по соседству бездействовал, и Гри-Гри вспомнил фонтан Треви, куда он месяц назад бросил монетки «на счастье». Как не похожа Москва, надевшая военную форму и вставшая под ружье, на крикливый, пока еще беспечный, не знающий затемнения Рим! Надолго ли Рим останется таким? Сможет ли Вечный город избежать ужасов войны? Навряд ли. Проехали через Охотный, свернули на улицу Горького. Зеркальные витрины ресторана «Националь», магазинов и парикмахерской напротив телеграфа закрыты дощатыми щитами, штабелями мешков. «В течение ночи на 5 августа наши войска вели бои с противником на Смоленском, Коростенском и Белоцерковском направлениях». В вечернем сообщении за тот же день прибавился Эстонский участок фронта. Как сообщало Совинформбюро, «на остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось». В Разведуправлении все были заняты сверх головы, многих старых работников Гри-Гри не застал, Берзин здесь давно не работал, имя его не упоминалось. На следующий день Гри-Гри узнал много тревожных новостей, о которых Совинформбюро пока не информировало. Сдан Смоленск, остатки армий, защищавшие Смоленск, чтобы избежать окружения, поспешно отошли на восточный берег Днепра. В районе Дорогобужа идут кровавые бои на Соловьевской и Ратчинской переправах, немцы жестоко их бомбят. Гри-Гри сильно устал от месячной поездной жизни, был встревожен тем, что увидел и услышал в Москве. Но тем не менее на второй же день, еще до наступления сумерек, до того, как будет объявлена воздушная тревога, поехал к Надежде Дмитриевне и Тане Маневич. Их могли эвакуировать со дня на день. 80 Джузеппе Марьяни – невысокого роста, коренастый, широкоплечий, уже начавший лысеть, отчего его просторный лоб казался еще больше. Глаза умные, добрые и внимательные. 
Еще когда фашисты призвали юношу Джузеппе в армию, он симулировал потерю памяти: забыл все слова, кроме названия родного города – Мантуя. Позже молодой Марьяни примкнул в Милане к анархистам, вошел в их боевую группу. Взорвали здание, где помещалась фашистская милиция в Милане. Марьяни был приговорен к бессрочной каторге. Двенадцать лет он просидел в строгой изоляции, с персональным стражником у двери камеры. Они привыкли друг к другу – каторжник и его стражник. Каторжник усердно занимался, и его неграмотный сторож изнывал, томился в коридоре больше, чем тот, кого он сторожил. Потом Марьяни сквозь приоткрытую дверь на цепи стал декламировать своему стражу Данте, Гомера, читал вслух иллюстрированные воскресные приложения, каких не имел права получать. Когда этот страшный террорист с чувством читал лирические стихи, на глазах стражника блестели слезы. В такой же строгой изоляции находится теперь Джино Лючетти, только стражник у него не столь общительный. Для Марьяни это время прошло, он теперь пользовался доверием привыкших к нему, как к «старожилу», тюремщиков. Иногда его даже пускали в соседнюю камеру, к новичку Чинкванто Чинкве. Они подолгу беседовали. Марьяни огорчался тем, что не может помочь голодающему Чинкванто Чинкве, он сам лишен всякой поддержки с воли и живет впроголодь. От кого Марьяни ждать помощи? Единственный брат его содержит мать; он работает подметальщиком при муниципалитете, сметает сор с улиц родной Мантуи. Этьен рассказал, как Бруно перевел ему свои сбережения перед освобождением из тюрьмы, это было полтора года назад… По словам Марьяни, политическим в здешней тюрьме намного труднее, чем уголовникам. Те могут работать на огороде у подрядчика или, на худой конец, стирать тюремное белье, тачать обувь, вязать носки – набегают какие-то сольди на курево, на мыло, на лук, покупаемые в тюремной лавке. А политические не имеют и такого приработка. Джино Лючетти сидит на втором этаже, как раз под камерой № 36. Этьен стучит в пол, Лючетти подходит к окну, и они, в зависимости от обстановки, или перестукиваются с помощью «римского телеграфа», или переговариваются через две «волчьи пасти». Родом Лючетти из Каррары, служил в армии, воевал, работал мраморщиком в каррарских каменоломнях. Еще совсем молодым он участвовал в схватках с фашистами, был ранен, эмигрировал во Францию. Живя в Марселе, Лючетти прослышал, как фашисты зверски издеваются над арестованными рабочими. Их избивали до полусмерти и насильно поили, накачивали касторкой, чтобы они теряли власть над функциями внутренних органов. После того чернорубашечники привязывали свои жертвы к деревьям, уличным фонарям, телеграфным столбам, и люди стояли полуживыми статуями, от которых исходило зловоние. Лючетти решил вернуться в Италию и убить Муссолини, пожертвовать собой. По чужим документам он поселился в Риме и начал подготовку к покушению – изучил маршрут, по которому Муссолини ездил от виллы Торлонья во дворец на пьяцца Венеция. Около недели Лючетти вел наблюдение за режимом поездок Муссолини. По улице Номентана тот проезжал в одно и то же время, с точностью до минуты. Глазомер у Лючетти отличный, может угодить бомбой прямо в окно автомобиля. Но Лючетти погубило, а Муссолини спасло непредвиденное обстоятельство: видимо, утром 11 сентября 1926 года Муссолини куда-то опаздывал, автомобиль ехал быстрее, чем обычно, и Лючетти не успел сделать поправку на повышенную скорость. Бомба отскочила от рамы между стеклами и взорвалась, когда автомобиль уже успел отъехать. Лючетти держал про запас вторую бомбу, но к автомобилю стремглав сбежались агенты, прохожие, были бы неминуемы жертвы. Слегка поврежденный автомобиль продолжал свой путь, и через несколько минут на балконе дворца на пьяцца Венеция появился дуче. Пусть все видят, что он жив и невредим! Муссолини высмеял покушавшегося и похвастался: если бы бомба даже попала внутрь автомобиля, он схватил бы ее и швырнул обратно в террориста. А в конце речи Муссолини пригрозил, что будет введена смертная казнь. Но, как известно, закон обратной силы не имеет, и поэтому Лючетти не казнили, а осудили на тридцать лет каторги со строгим режимом. На суде он утверждал, что действовал в одиночку, всю вину взял на себя и никого не утащил за собой на каторгу… Лючетти держался с тактом и скромным достоинством, внушал всеобщее уважение. Подобно Марьяни и Кертнеру, он не относился к уголовникам как к людям второго сорта, не подчеркивал своего превосходства и пользовался их ответным расположением. Приговоренный к тридцати годам каторги, Лючетти не потерял вкуса к жизни, не был безразличен к тому, что волновало людей на воле. Лючетти гулял в принудительном одиночестве, но обычно давал знать Марьяни и Кертнеру, что его вывели на прогулку. Он обладал редкой меткостью и, гуляя в каменном загоне тюремного двора, безошибочно попадал камешком в притолоку приоткрытой двери на третьем этаже – это Лючетти посылал свой привет. В знойные, душные дни администрация гуманно оставляла дверь на цепи, чтобы камера проветривалась. Конечно, в дверь попасть легче, но камешек может проскочить и через вторую дверь-решетку, угодить в заключенного, вот почему Лючетти метил в притолоку. 
Этьен смотрел на Лючетти и любовался им. Высокий, с гордой осанкой. В его облике было нечто аристократическое. Бывшему каменотесу очень пошел бы фрак. Даже серо-коричневая арестантская куртка, попав на плечи Лючетти, выглядела сшитой по заказу. Обоих – и Лючетти и Марьяни – не сломила каторга, но политические взгляды их стали разниться основательно. Лючетти в тюрьме научился самостоятельно думать. Годы размышлений убедили его в том, что индивидуальным террором нельзя многого добиться. Судя по некоторым высказываниям во время разговоров через окно, Лючетти отошел от анархизма, сохранив, впрочем, азартную готовность к самопожертвованию. И в самом жарком споре он умел признать правоту другого. Всеми силами души он желал русским победы над Гитлером и Муссолини и всегда с любовью говорил о далеком Советском Союзе, в котором никогда не был, но куда мечтал попасть, если доживет до свободы. Марьяни в годы заточения также начал исповедовать идею объединения всех сил рабочего класса, но при этом оставался верен знамени анархистов. Спорить с Марьяни трудно: он легко воспламеняется, неуступчив и лишь упрямо трет свой сократовский лоб с залысинами. Этьен вновь, как в Кастельфранко, когда дружил с Бруно, ощущал душевную неловкость оттого, что не может платить Марьяни и Лючетти полной откровенностью в ответ на их искреннее, чистосердечное прямодушие. Оба друга чувствовали это, и каждый по-своему огорчался. Оба не верили тому, что Кертнер – богатый коммерсант, который лишь симпатизировал революции и давал деньги на антифашистскую работу, чем, по мнению Особого трибунала, принес ущерб национальным интересам Италии. Лючетти схож характером с Бруно, он прощал другу скрытность, понимал, что тот прибегает к ней не по доброй воле. А Марьяни обижался на Кертнера: – Сколько времени мы вместе, но никогда я не чувствовал себя равным с тобой. Всем, всем, всем, что у него было, делился Этьен с Лючетти и с Марьяни, так же как в свое время с Бруно, а не делился, не мог делиться только своим прошлым. Когда много лет назад ему предложили работать в военной разведке, он счел для себя возможным посоветоваться с ближайшим другом, старым коммунистом, с кем вместе прошел гражданскую войну, с Яковом Никитичем Старостиным. Но после того, как Маневич стал Этьеном, он и с Яковом Никитичем не имел права быть откровенным до конца. 81 Яков Никитич Старостин слыл на заводе лучшим мастером по медницкому делу, но чаще ему приходилось теперь иметь дело с алюминием. Еще летом их завод срочно эвакуировали из Москвы в Поволжье. Но недолго царила тишина в опустевших цехах. Первыми нарушили безмолвие пожилые мастеровые, из числа тех, кого не эвакуировали заодно с заводским оборудованием. Ветераны воскресили те старые станки, которые кто-то счел недостаточно ценными, чтобы увезти в тыл. «Одна у нас судьба», – невесело подумал Яков Никитич. Он хорошо помнит первую бомбежку Москвы. Ровно через месяц после начала войны, в ночь на 22 июля, в 22 часа 07 минут в Москве впервые объявили воздушную тревогу. И только в 3 часа 53 минуты утра прозвучал отбой. С тех пор черная радиотарелка в цехе не выключалась, Яков Никитич уже насчитал сотню воздушных тревог. Яков Никитич выходил на заводской двор и вглядывался в тревожное небо. Мощные прожекторы были подобны голубым мечам, они неутомимо рассекали небо на куски. Огненным забором встречали врага зенитные батареи. В конце лета на окраину Москвы, по старому заводскому адресу, начали свозить самолеты, искалеченные в воздушных боях. В алюминиевых останках находили нужные запасные части, детали. Однажды привезли самолет, на котором дерзкий летчик пошел на таран – обрубил своим пропеллером хвост «Юнкерсу-88». Такому бы самолету место в музее, но сейчас не до сантиментов, айда в ремонт! Мастера врачевали израненные фюзеляжи, перебитые крылья, бессильные моторы. И самолеты обретали, казалось, утраченное навсегда умение летать. Воскресает мотор, живая дрожь охватывает «ястребок», ему невмоготу оставаться в стенах цеха, он выруливает на летное поле, он рвется в воздух. Увы, все ближе и ближе лететь ему до линии фронта. Яков Никитич нес все тяготы, какие выпали рабочему человеку в прифронтовой Москве, – работал до изнеможения, дежурил на крыше в часы воздушной тревоги и обучал ремеслу подручных, совсем зеленых юнцов. Как стремительно повзрослели вчерашние мальчишки! Не последнюю роль играли в пожарной дружине заядлые «голубятники», озорные крышелазы. Они стали сторожами и старожилами цеховых крыш. Прорех в крыше все больше, суровая зима все настойчивее стучалась в ворота, и работать, ютиться в цехе все труднее. Дежурные жгли негасимые костры. Накануне Октябрьской годовщины Якову Никитичу, члену заводского парткома, доверительно сообщили, что в случае благоприятной, то есть скверной, пасмурной, погоды на Красной площади состоится парад войск. Пригласительные билеты будут в этом случае доставлены на рассвете. Подготовка к параду ведется втайне. Площадь начнут украшать только глубокой ночью. Парад начнется на два часа раньше, чем бывало до войны, – в восемь утра, пока не рассеялся туман. Несколько раз той ночью и на рассвете Яков Никитич выходил из цеха и с тревогой вглядывался в низкое, серое небо. Погода явно нелетная, да еще идет на «улучшение»: снег все пуще, и небо сделалось цвета шинельного сукна. Уже много лет Яков Никитич не видел праздничных парадов. На трибунах как-то обходились без мастера по медницкому делу, и он ничуть не обижался. В последний раз он ходил на Красную площадь лет десять назад. Лева Маневич маршировал в тот Первомай как слушатель Военно-воздушной академии имени Жуковского. Маневич предупредил – он в первой колонне, в третьем ряду, посередке, чуть ближе к правому флангу. Но Яков Никитич не узнал его в тесном строю, не различил знакомых черт лица. Мелькали, мелькали фуражки с голубыми околышами и воротнички с голубыми петлицами… В половине шестого утра прикатил райкомовский «газик», нарочный привез пригласительные билеты для заслуженных заводских товарищей. Лежал там, в парткоме, и билет, на котором черной тушью каллиграфически было выведено: «Яков Никитич Старостин». Он знал, что сегодня в параде примет участие сводный рабочий полк. Промаршируют и народные ополченцы с их завода. Правда, вооружены красногвардейцы 41-го года неважнецки: винтовки вперемежку с карабинами, автоматов никому не досталось. Да и вид у рабочих не слишком молодцеватый, непарадный. Но кто им поставит в упрек плохую выправку? Разве их вина, что не хватило времени на строевые занятия? В полк записались и совсем пожилые люди, незавидного здоровья, а маршировать они учились, когда осколки уже начали свистеть москвичам в уши. А еще Яков Никитич знал, что сводный рабочий полк после парада уйдет на фронт, так бывало и в годы гражданской войны. И одна из верных примет того, что путь с Красной площади лежал не в казарму, а на позиции, – заплечные солдатские мешки; их приказано взять всем ополченцам. Якову Никитичу очень хотелось пойти на Красную площадь. Но перед тем, в ясный морозный день 5 ноября, где-то на дальних подступах к Москве разыгрался воздушный бой, и тягач приволок к ним в цех «ястребок», искореженный осколками. Летчики не уходили с завода, помогали ремонтировать машину, счет шел буквально на часы. Яков Никитич горестно вздохнул и отказался от билета. Утро и весь праздничный день Старостин клал заплаты на крылья и фюзеляж, возвращал к жизни умертвленный «ястребок». Парад давно закончился, замолкла радиопередача, а старик все еще колдовал, мудрил, мастерил. К вечеру «ястребок» расправил крылья. Яков Никитич мог бы теперь уйти домой, на Бакунинскую улицу, но не тянуло в остуженные комнаты, в одиночество, и он остался в цехе. Работницы варили общественную кашу из подгоревших зерен пшеницы (бомба угодила в соседний элеватор), а летчики, помогавшие при ремонте, пожертвовали флягу со спиртом. Война разбросала самых близких Старостину людей. Дочь с детьми недавно эвакуировалась. Надежда Дмитриевна и Таня Маневич где-то в Ставрополе. И давным-давно нет никаких известий о Леве. Жив ли он, знает ли о трагических событиях этого года, представляет ли себе, как выглядит прифронтовая Москва – затемненная, продрогшая на ледяных ветрах ранней зимы, не слышащая детских голосов и звонкого смеха, подтянутая, настороженная, одетая в солдатскую шинель, готовая к смертному бою? 82 Когда ртутный столбик подымается выше цифры 40, каждый добавочный градус ощущается во всей своей знойной и беспощадной силе. Будто все тоньше становятся подошвы, которыми ступаешь по раскаленным камням. Все чаще ищешь взглядом облачко в бледно-голубом небе, выцветшем от жестокого зноя. Страшно подумать, что солнце еще не поднялось в самый зенит, что еще сильнее раскалятся на солнцепеке донельзя раскаленные камни. Каторжникам здесь остается лишь мечтать о прохладе, о тени, о том, чтобы утолить жажду. Они вправе лишь завязать голову платком пониже полосатого берета, чтобы пот, стекая с головы, смачивал затылок, чтобы платок оставался влажным, а значит, сохранял способность к охлаждению, и чтобы платок при этом закрывал уши, иначе просачивается знойный воздух. В огнедышащие дни июня, июля, августа у каторжан случались солнечные удары, сердечные приступы. И тюремная администрация разрешила: раз в неделю прогулка заменяется купанием. Водили только тех, чье поведение не вызывало замечаний. На купание отводился час. Самой удобной для купания была бухточка в юго-восточной части острова, где в море выдается небольшой скалистый мыс Портичолло. Высокие скалы ограждают бухточку с трех сторон. Несколько стражников занимали посты наверху, а две лодки стерегли четвертую сторону, никто не смел выплывать из бухточки. Каторжники не знали большего наслаждения, чем купание в море. По крутой-крутой тропинке, по скользким уступам, цепляясь за кусты вереска, за стволы агав, за жесткую траву, умеющую расти в расщелинах скал, группа в сорок-пятьдесят человек спускалась к воде. Раздевались, оставляли свою пронумерованную одежду на прибрежных камнях и бросались в воду… Сегодня дул сирокко, этот ветер домчался сюда от берегов Африки, он поджарен в огромной духовке – Сахаре. Сегодня весь остров на знойном сквозняке, но море при этом остается спокойным; голубая вода будто отполирована. Сирокко дул поверху, дул, не зная угомону. Уж лучше бездыханный неподвижный воздух, чем этот обжигающий зноем душный ветер. Иные порывы горячего ветра очень сильны, приходится напрягать веки, чтобы глаза оставались открытыми. И больно бьют песчинки, мелкие камешки – будто по лицу трут наждачной бумагой. Искривленное ветрами оливковое деревцо, растущее на верхушке скалы, клонилось из стороны в сторону, встряхивало ветки, показывая то ярко-зеленую свою листву, то ее матово-серебристую изнанку. На этих островах порывами ветра сшибает и созревшие фрукты, выживают здесь только деревья с жесткими листьями, кактусы, агавы. «Вот бы где установить ветряные двигатели, те самые, которые я продавал когда-то по поручению Вильгельма Теуберта! При такой погодке, как здесь, ветряной двигатель – вечный двигатель». Только сейчас Этьен впервые подумал, что соседний остров очень точно назван Вентотене, что дословно означает «держащий ветер». Как всегда, Этьен вышел из воды раньше других, потому что подъем в гору при одышке осилить труднее. Он делает несколько длительных остановок, стоя где-нибудь на каменном приступке, на узеньком карнизе, на крохотной площадке, любуясь морем, наблюдая за купальщиками, следя за двумя сторожевыми лодками, как бы запирающими на два замка выход из бухточки. Камни, лежащие у берега в синей воде, совсем белые, а над камнями вода более светлого тона, чем вокруг, – как разбавленные синие чернила. Обидно, что ему приходится заканчивать купание раньше других, но есть своя прелесть в таком уединении. Можно декламировать русские стихи, петь вполголоса русские песни, говорить по-русски – никто не подслушивает. И он декламировал без особого разбора, подряд, стихи, которые помнил наизусть. На пустынной скале звучала странная поэма, где Пушкина сменяли Есенин, Блок, Некрасов, и все они снова уступали Пушкину. Он упивался волшебными созвучиями, пытаясь возместить этой жадной, сумбурной декламацией долговечную немоту свою, мучительную разлуку с родным языком. Снова, как на берегу Неаполитанского залива, охваченного штормом, он твердил: «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам…» Но окончание строфы померкло в памяти… Он пел сумасбродные попурри из советских песен: «Но от тайги до британских морей Армия Красная всех сильней… Пускай же Красная сжимает властно… Пускай пожар кругом, пожар кругом… Стоим на страже всегда, всегда… Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих… Никто пути пройденного у нас не отберет… Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала…» «Давным-давно все бойцы вернулись к своим, только я один задержался в разведке на шесть лет…» Отсюда, с верхней площадки, видны очертания соседнего острова Искья, где-то за ним лежит Капри. Но эти близкие острова, в сущности, не ближе Млечного Пути… А каким образом каторжник Беппо оказался еще выше на скале, на самой верхотуре? Или Беппо сегодня вовсе не купался, или вылез из воды раньше? Нет, не мог он так быстро взобраться наверх! Беппо подошел к самому краю скалы, будто хотел оттуда взглянуть на камни, которые голубая вода лениво прополаскивает у берега. Замечательный пловец и ныряльщик, он не раз совершал прыжки с высоты в двадцать метров. А сегодня забрался на скалу, нависавшую с противоположной стороны бухты и, кажется, собирается прыгнуть с высоты метров в тридцать, никак не меньше. Однако зачем у него в руках полотенце, почему так долго возится, зачем подносит руки ко рту? Но вот Беппо прыгнул и, не успев взмахнуть руками, камнем полетел в воду. Этьен посмотрел вниз. Ну где же Беппо, почему он не показывается из воды? Почему до сих пор не вынырнул? Истошные крики стражников, тревожные возгласы купальщиков. Кричат все громче. Одна из двух сторожевых лодок и несколько купальщиков поплыли к тому месту, где в воду канул Беппо. Уже и зыбкие круги на воде стали едва заметны, размыло пену, рожденную всплеском упавшего тела. Один за другим исчезали в воде ныряльщики и показывались вновь – безуспешно!.. Только через три дня тело утопленника прибило к белым камням. Бедняга Беппо, он решился нырнуть, но не собирался вынырнуть. Как выяснилось, отправляясь на купанье, он обвязался под курткой полотенцем. А перед тем как спрыгнуть со скалы, связал себе тем полотенцем руки и уже со связанными руками неловко перекрестился… Многие в эргастоло знали историю Беппо. Он отбывал бессрочную каторгу за убийство, совершенное непреднамеренно. Ему исполнилось тридцать шесть лет, но он выглядел намного моложе – молодцеватый, ловкий, сильный. Беппо работал в саду, на огородах подрядчика Верде, а затем стал прислуживать в доме капо диретторе, потому что отличался опрятностью, вежливостью. Капо диретторе Руссо, пожилой болезненный человек, дослуживал до пенсии; на памяти Марьяни это был самый приличный начальник. Только капо диретторе разрешалось жить на острове с семьей: у него – жена и две дочери. Синьора Руссо была намного моложе мужа, ее красивое лицо еще не успело увянуть. Она стала заботиться о Джузеппе, и пришла минута, когда слуга стал для нее Беппино. Но тут разразилось несчастье – Руссо умер от разрыва сердца за обеденным столом. Из Рима прислали другого начальника, а Беппо вернули в камеру. Он умолял дать ему какую-нибудь работу и наконец просил послать на огород, чтобы хоть урывками, тайно видеться с вдовой Руссо. Многие в эргастоло сочувствовали влюбленным и охраняли их тайну. Беппо отправлялся на огород рано утром, к обеду возвращался в тюрьму. Перед обедом огородников торопливо обыскивали – нет ли ножа? Если же стражник нащупывал в кармане несколько стручков фасоли или луковицу, он закрывал на это глаза. Лишь надзиратель Кактус, краснощекий верзила с мелкими гнилыми зубами, тщательно обыскивал ловкими, понаторевшими в этом деле руками. И надо же было, чтобы именно к нему в лапы попал Беппо, когда припрятал для соседа две луковицы финоккио! Кактус со злорадством вытащил две луковицы. Беппо стоял с лицом, на котором окаменело страдание. Кактус сочинил донос, и Беппо лишился работы на огороде. Теперь он не сможет увидеться со своей возлюбленной до ее отъезда. Значит, их ждет вечная разлука? Синьора Руссо под всякими предлогами оттягивала отъезд с острова, но Беппо из тюрьмы не выпускали. Участливые люди сказали Кактусу, что Беппо сходит с ума от тоски. – Чем скорее, тем лучше! Сердце Кактуса давно обросло колючками. В тот вечер Этьен и сказал Марьяни: – Мне жаль Беппино, но я завидую ему. – Это сказано под влиянием минуты. Я вам не верю! Я не верю потому, что убежден – ваша жизнь нужна очень многим. Хотя от меня вы это скрываете. Этьен пожал руку Марьяни и ничего не ответил. В те дни на полях России шла жестокая битва, и тем сильнее Этьен страдал от своего бездействия. Он теперь спокойнее относился к такому понятию, как «бессрочная каторга», потому что понимал – вся его судьба отныне связана с ходом и исходом войны. А вынужденная беспомощность лишь увеличивала меру его мучений. Он не мог и не хотел отъединять свою жизнь от судьбы своей Родины и своей армии. Он так страдал, держа в руках иллюстрированные воскресные газеты, узнавая о дальнейшем продвижении на восток полчищ Гитлера и Муссолини, что разучился смеяться; живя впроголодь, лишился аппетита; его измучила жестокая, неотвязная бессонница. И вот настала минута, когда он остался без душевных сил, вслух позавидовал бедняге Беппо, выслушал строгую, справедливую отповедь Марьяни и мысленно поблагодарил друга. – Лучше подумаем, как отомстить Кактусу, – предложил Марьяни. Они посоветовались с надежным парнем Поластро и вынесли Кактусу приговор: когда каторжников в следующий раз поведут купаться, Кактуса столкнут со скалы в пропасть. Разве не мог он поскользнуться на камне, отшлифованном ветрами? Но Кактус почуял недоброе, потому что вдруг притворно охромел и из тюрьмы никуда не выходил. Никто не прощал подлеца, хотя уже давно уехала с острова красивая печальная вдова с дочерьми, уже давно на тюремном кладбище покоился под своим каторжным номером ее возлюбленный. Беппо похоронили с руками, связанными полотенцем, как с вечными наручниками. 83 Есть в тюрьме своя граница, за которой заключение переходит в медленную казнь. Наступили дни, когда узником Чинкванто Чинкве овладело полное безразличие, когда равнодушие к жизни, а вернее сказать – к смерти, стало его обычным состоянием. Кому нужна постылая, оскорбительная, бесполезная жизнь? Ему такая жизнь ни к чему. Когда Этьена привезли на Санто-Стефано, он не видел никакой разницы между приговором на двенадцать, на тридцать лет и пожизненным заключением, потому что и то и другое воспринимал как разлуку с жизнью. А оказывается, есть разница, и весьма существенная! На сидящих бессрочно никакая амнистия не распространяется, и, только отсидев двадцать лет на каторге, можно подавать прошение о помиловании, а раньше и прошения такого не примут. Мысль о вечной каторге могла привести к сумасшествию, если бы Этьен не вселил в себя надежду на будущее. Но неутешительные вести с Восточного фронта летом 1942 года омрачали его надежду. Покинет ли он когда-нибудь стены, полонившие его? Расстанется ли с темнотой, обступающей его со всех сторон после захода солнца? Ни свечи, ни коптилок. Даже не верится, что у него вызывала раздражение электрическая лампочка в шесть свечей, не угасавшая в Кастельфранко. 
Капеллан Аньелло рассказывал, что каторжники Санто-Стефано до 1895 года волочили на ноге ядро, весившее, не считая цепи, пять килограммов. С каждым годом каторги цепь, которой ядро было приковано к ноге, укорачивалась на одно звено. Каждый год – звено, год – звено, год – звено… «Он хоть видел, что срок уменьшается», – подумал Этьен о своем далеком предшественнике, который, может, сидел в этой камере. Да, цепь становилась легче. Но и сил с каждым годом оставалось меньше! Силы уходили быстрее, чем укорачивалась цепь, так что облегчения это каторжное правило не приносило… На каком звене замкнется его жизнь, какое звено в цепи его несчастий и бед станет могильным? Рассудком он понимал, что безразличие – паралич души, смерть заживо, и если примириться с равнодушием, бездействием мысли и чувств, настанет такой момент, когда они атрофируются вовсе, и тогда уже не вырваться из мертвой апатии. И если вдруг придет свобода, он встретит ее погасшим взглядом, высохшей до дна душой, растраченной без остатка надеждой, склерозом памяти, амортизацией сердца, забвением любви. У него испортилось настроение, когда он заметил, что сильно обветшала его тюремная одежда, особенно куртка – на воротнике, на обшлагах, возле петель, на локтях. Потом куртку заменили новой, но пришло ощущение, что он стареет еще быстрее каторжного одеяния. Жизнь становится все короче, и все меньше времени остается для воспоминаний. Пришел день отчаяния, когда Чинкванто Чинкве отказался выйти на прогулку. С Восточного фронта продолжали поступать невеселые новости, в фронтовых сводках мелькали названия городов в предгорьях Кавказа, в Поволжье, и каждый сданный гитлеровцам город увеличивал срок его бессрочной каторги. 84 В то утро он лежал в тупом отчаянии. Но тут произошло событие, которое потрясло всю тюрьму и привело узника Чинкванто Чинкве в состояние крайнего возбуждения. Топали сапожищами стражники, звал кого-то на помощь дежурный надзиратель, кто-то кого-то послал за врачом, затем послышался голос самого капо диретторе. В первом этаже, под камерой Лючетти, нашли мертвым заключенного номер 42, иначе говоря – Куаранта Дуэ. Родом он из Триеста, по национальности не то македонец, не то хорват, не то цыган, а присужден к бессрочной каторге за убийство. Переправлял контрабандой через границу краденых лошадей, пограничники пытались его задержать, и в перестрелке он застрелил троих. Подошли минуты утренней уборки. Каждый выливал свою парашу в зловонную бочку, которую проносили по коридору. Дежурные каторжники дошли до камеры, где сидел Куаранта Дуэ, открыли со стуком первую дверь. Он не откликнулся. Открыли дверь-решетку и крикнули: – Эй, Куаранта Дуэ! Парашу! Каторжники держали бочку за длинные ручки. Ну что он там замешкался? Раздраженный надзиратель вошел в камеру. Куаранта Дуэ лежит. Подошел к койке – тот мертв. Надзиратель снял шапку, вышел, запер дверь камеры и побежал к начальству. Пришли капо гвардиа, капеллан, тюремный врач. – А на вид был такой здоровый парень этот самый Куаранта Дуэ, – удивлялся врач. Куаранта Дуэ лежал на боку, отвернувшись к стене. Врач приблизился к койке, положил руку на лоб – холодный. Но фельдшер, прибежавший вслед за врачом, отбросил одеяло… Чучело!!! Туловище сооружено из одежды и всякого тряпья. Голова искусно вылеплена из хлебного мякиша, наклеен парик, а лицо раскрашено. В тюрьме и на всем острове подняли тревогу. Обыски, облавы. Прочесывали кустарник, заглядывали в расщелины скал – Куаранта Дуэ как в воду канул. Неужели уплыл? Погода сегодня не благоприятствовала пловцу, море неспокойное. Куаранта Дуэ каким-то фантастическим образом убежал из тюрьмы, добрался до сарайчика, где подрядчик Верде держит лодку, бросил там свою одежду, сбил замок с цепи, но лодкой не воспользовался. Следы беглеца уводили из сарайчика на верхнее плато, на огороды, оттуда снова вели вниз, к берегу, и там пропадали. Никто не помнил, чтобы из дьявольской дыры Санто-Стефано кто-нибудь убежал. С Вентотене прибыл со своими стражниками начальник охраны Суппа. Из Неаполя прислали опытных сыщиков и проводников с собаками. Ищейкам не уступал надзиратель Кактус. Он прямо с ног сбился, стараясь заслужить одобрение начальства, он весь день бегал, высунув язык, как бешеный пес, сорвавшийся с цепи. Говорили, в его послужном списке есть черное пятно – из той тюрьмы, где Кактус прежде был цербером, сбежали два заключенных, оставив ему па память о себе нервное расстройство в бессонницу. Говорили, он и на Санто-Стефано перевелся только потому, что здесь сама возможность побегов исключена. 
Собаки взяли след, но он уходил в море. Не доплыл ли беглец до Вентотене? Правда, течение в проливе сильное, и на море штормит, но хорошему пловцу всё под силу. Часть стражников и проводников с собаками переправили на Вентотене. Однако утром оказалась раскрытой настежь дверь на склад Верде, оттуда исчезло большое деревянное корыто. Десант с Вентотене отозвали. А следующей ночью обнаружилась пропажа в хлеву. Исчезла крышка от большого деревянного ларя, куда скотник засыпал отруби. Прошел день, прошла ночь, и на огороде были сорваны помидоры, еще что-то из овощей. И той же ночью из комнаты, в которой спали карабинеры, при открытом окне пропали со стола хлебцы. Прошли еще сутки, из погреба Верде исчезли пять больших бутылей для вина – «дамиджане». Стало очевидно, что беглец пытается соорудить плот. Просто диву даешься, как быстро каторжники узнавали подробности! Этьен все дни был возбужден, горячо обсуждал с Марьяни ход событий, сообщал подробности через «волчью пасть» Джино Лючетти. С восхищением следили они втроем за упорным мужеством беглеца. Этьен жалел, что был недостаточно внимателен к контрабандисту прежде. Он лишь помнил его внешность: смоляные волосы, белозубый, блестящие черные глаза с желтоватыми белками, широк в плечах, легок на ногу. В нем была кряжистая сила. Прошли еще сутки – исчезла длинная веревка, висевшая на площадке перед прачечной, где стирали белье каторжники. К неудачным поискам беглеца прибавились другие неприятности: в те дни остров испытывал острый недостаток в пресной воде. На остров привезли установку, с помощью которой из морской воды выпаривали соль, но каторжники роптали, когда пищу готовили на этой воде. Сколько в ней ни варились макароны, картошка или горох, они не разваривались как следует. Несколько лет назад доставку пресной воды взял на себя какой-то подрядчик из Неаполя. Позже воду два раза в месяц привозили в маленькой наливной барже военные моряки. Но пресную воду нужно не только доставить на остров, ее еще нужно поднять на верхнее плато; у дряхлого насоса не хватало сил гнать воду по трубам. В такие дни каторжники носили воду в бочонках. Тропа такая крутая, что по ней не пройти ни лошади, ни мулу, их и нет на острове. Заставить политических носить воду вместе с уголовниками тюремная администрация не вправе. Но Марьяни добровольно согласился на это и уговорил своего друга. Марьяни не даст ему уставать сверх сил, надрываться. Но пробыть весь день на свежем воздухе, среди людей, пусть даже под строгим конвоем, – полезно при нынешнем подавленном состоянии Кертнера. Уголовники не позволили Чинкванто Чинкве взяться за ручки бочонка. Он и с пустыми руками тяжело подымался по тропе, часто останавливался, чтобы отдышаться, несколько раз присаживался на ступеньки. Тут он встретил знакомого лодочника Катуонио, служившего у подрядчика Верде. Катуонио – единственный, кому разрешалось в любое время приплывать на Санто-Стефано и будоражить прибрежную воду взмахами своих весел. Однажды Катуонио подарил Чинкванто Чинкве галеты, в другой раз – пучок лука финоккио. Сейчас Катуонио нес в гору ящик с макаронами и тоже остановился, чтобы передохнуть. Он поставил ящик на тропу и предложил посидеть на ящике Чинкванто Чинкве, а сам уселся рядом на каменной ступеньке. Группа каторжников с бочонками прошла мимо, внизу виднелась еще группа, водоносы тянулись вереницей. Бочонки несли по двое, а маленькие бочки – по четыре человека. Катуонио завел разговор о поисках беглеца, и по выражению лица, по репликам ясно было, что лодочник ему симпатизирует. Этьен воспользовался тем, что их никто не слышит, и сказал: – Хорошо бы сбить ищеек со следа, оставить тюремщиков в дураках. – А как это сделать? – Пусть ищейки думают, что он уплыл на Вентотене. – Кто поверит? – А ты ночью подойди к маяку на Вентотене. Тебя не увидят. Сколько ни смотреть со света в темноту… Подойди и крикни, что ты – беглый каторжник. Умираешь от голода, просишь оставить тебе еду. Укажи какое-нибудь точное место рядом с маяком. – Там на берегу стоит старая шлюпка, – подхватил Катуонио. Ему явно понравилась идея, он потер руки, предвкушая удовольствие, и рассмеялся. Катуонио уже скрылся наверху, за поворотом тропы, а Этьен все сидел и глядел, как каторжники тащат бочонки и бочки с пресной водой… 85 Внизу простиралось Тирренское море, а перед глазами Этьена текла извилистая речка Бася, через нее перекинут мост в Заречье. В том месте от Баси отделяется правая протока Своеволка. Чуть выше устроена запруда, а если шагать из городка домой, в Заречье, то правее моста стоит водяная мельница. Интересно, провели в Чаусах водопровод или до сих пор возят питьевую воду из Заречья? Сколько раз на дню водовоз Давыдов, отец Савелия, ездит взад-вперед через Басю и Своеволку? Водовоз называет Своеволку еще более презрительно – Переплюйкой. Низкорослая гнедая Лысуха с белой звездочкой на лбу тащит бочку с водой в гору. На улицах городка, которые взобрались на холм, нет колодцев, там до воды не докопаться. Давыдов с сынком Савелием и лошаденкой надрываются втроем день-деньской. Домовладельцы платили за бочку воды десять копеек. На самом крутом подъеме или в злую распутицу отец Савелия шагает позади повозки и подпирает днище бочки плечом, хватается руками за спицы колеса, увязшего в колее, и страшным голосом понукает Лысуху. Но кнута вовсе нет: у водовоза и его лошаденки отношения основаны на взаимном доверии. Даже грозные окрики Лысуха воспринимает лишь как обещание помочь. Савелий сидел на облучке впереди бочки и погонял лошаденку, покрикивая на нее по-отцовски грозно… Сегодня на Санто-Стефано знойный октябрьский день. Этьен сидит в хилой тени агав, здесь все растения вечнозеленые. Когда лет десять назад выпал снег, то, по словам Марьяни, это было огромным событием, и сицилийцы, тем более уроженцы острова Устика, встретили снег криками удивления… А в Чаусах сегодня уже глубокая осень. Клены в городском парке роняют свой багряный убор, опавшая листва шуршит под ногами и плотным ковром застилает могилы революционеров. Он с детства помнит только две мощеные улицы – Могилевскую и Длинную. По ним любил раскатывать на тарантасе господин исправник, самый большой начальник во всем уезде. А еще в Чаусах пребывали становой пристав, околоточный надзиратель, под началом которого состояло четверо городовых. Летом 1917 года Лева с братом вернулись из эмиграции на родину, в Чаусах уже не было ни исправника, ни околоточного надзирателя, ни станового пристава. Вскоре после установления Советской власти отца избрали народным заседателем, позже он стал народным судьей. С раннего утра до вечера он пропадал в суде, сидя в своем судейском кресле с высокой дубовой спинкой, на которой вырезан герб Советской республики, именем которой судит суд… А когда в 1927 году отец умер, Лева был далеко-далеко за границей, откуда ему не было пути домой, и приехать на похороны не мог. Много воды утекло с тех пор в Своеволке, еще больше в речке Басе, еще больше в Проне, куда Бася втекает, еще больше в Соже, куда втекает Проня, еще больше в Днепре, куда втекает Сож… Жив ли сейчас Савелий и как сложилась его судьба? Когда в конце 1917 года в Чаусах образовалось Рабочее городское правление и девятнадцатилетний Лев Маневич стал его председателем, Савелий усердно помогал, ездил с ним на митинги: в дрожки впрягали старушку Лысуху. Хотелось думать, что Савелий вышел в люди, получил образование… А может, Савелий Давыдов тоже стал командиром Красной Армии? Он мечтал стать кавалеристом, может, старая дружба с лохматой Лысухой оставила свой след… Прошел фронт стороной или война обрушила на городок бомбы и снаряды? В Чаусах мало каменных зданий, все больше деревянные дома, домики, домишки. Если Чаусы поджечь зажигательными бомбами, городок быстро превратится в сплошное пожарище. Скорее всего, водопровода еще не провели, и вода там, где дома повыше, по-прежнему привозная. Но сколько бочек могли дотащить на пожар отец Савелия и другие водовозы? Правда, в Чаусах не бывает таких ветров, как здесь, на Санто-Стефано. Но пока не сгорит все, что умеет гореть, без воды огонь не уймется… Вся тюрьма узнала, что беглец скрывается на Вентотене. Ночью кто-то подошел к маячному огню со стороны скалы Скончильо и крикнул из темноты: – Эй, слушайте! Я убежал из эргастоло. Дайте поесть, пока я не умер. Оставьте еду на перевернутой шлюпке. Я убежал из эргастоло!.. Стражники с собаками во второй раз переехали на Вентотене и начали там повальные облавы. Никого! Начальник охраны орал, что напрасно теперь не приковывают ядра к ногам каторжников. «Мы не страдали бы так из-за беглецов!» Опытная лиса этот Суппа, он вскоре отдал команду – всем ищейкам вернуться на Санто-Стефано. Он понял, что над ним подшутил кто-то из ссыльных. Может, над кавалером Суппа смеются уже не только на Вентотене, но в Неаполе и в Риме? Стражники сильно озлобились. Ссыльные и жители Вентотене над ними издевались, начальство на них кричало, а тут еще на помощь им вызвали карабинеров. Какой позор! Среди заключенных распространился слух, что беглеца убили, а стражники лишь делают вид, что он прячется. Но Кертнер опроверг эту версию. С беглецом не посмеют расправиться втихомолку, когда за поисками следит министр; может быть, сам дуче в курсе событий в эргастоло. Появились новые улики на Санто-Стефано – на огородах Верде снова обнаружили потраву. Суппа правильно рассудил, что скорей всего беглец прячется в каком-нибудь ущелье или гроте, море их во множестве выдолбило в подножье базальтовых скал. Можно спрятаться и в узких расщелинах прибрежных камней, омываемых водой. Так или иначе, но беглец пропал, как иголка, на острове площадью в треть квадратного километра. Тринадцатые сутки Куаранта Дуэ в бегах. Суппа устраивал ночные засады на тропах, ведущих от моря на верхнее плато. Стражникам не давали прохода. Куаранта Дуэ оставил их в дураках. Если бы контрабандист попал к ним в руки, кончилось бы самосудом, а уж избили бы его до полусмерти наверняка. Прошло несколько дней, море утихло – скала Санто-Стефано будто вправлена в безбрежное голубое зеркало. Дошлый Суппа сказал: – Он выплывет сегодня. Сегодня или никогда. И отдал приказ: ночью дежурить всем, не смыкать глаз. А вдоль берега пусть курсируют лодки со стражниками. Будет также дежурить моторный катер с карабинерами. Среди ночи, когда моторный катер огибал северную оконечность острова, на катере услышали голос с берега: – Эй, синьоры! Подождите… В воду бросился кто-то и поплыл к катеру, его втащили на борт. То была тень человека, чьи приметы сообщили карабинерам и чью фотографию им показывали. Где же Куаранта Дуэ скрывался? Любопытство побудило карабинеров подойти на катере вплотную к берегу у мыса Романелла на северо-западе. Вымоина в скале образовала над самой водой узкий грот. Посветили электрическим фонариком: у каменной стенки стоит корыто и деревянная крышка от ларя, связанные веревкой. А где же «дамиджане»? Контрабандист объяснил, что бутыли разбило волной о камни и плот развалился. Он плохо говорил по-итальянски и рассказывал с трудом. По ночам он поднимался на огород и срывал там «поммароле», так он на свой лад коверкал слово «помидоры». Он признался, что нарочно выждал, когда лодка с мстительными тюремщиками скроется из глаз, чтобы сдаться карабинерам. Моторный катер увез пленника на Вентотене. Ему дали одеяло, чтобы он согрелся. Что же толкнуло Куаранта Дуэ на бегство, на поступок, который в этих условиях мог быть продиктован только крайним отчаянием? Ему нечего было терять, недавно он узнал, что прокурор подал кассацию, настаивает, чтобы пересмотрели приговор и бессрочную каторгу заменили смертной казнью. Наутро Куаранта Дуэ доставили на Санто-Стефано, и в расписке, выданной карабинерам в тюремной канцелярии, было указано, что он сдан здоровым и невредимым. О поимке беглеца узнала вся тюрьма, наступило всеобщее уныние. Вчера тюремщики готовы были разорвать беглеца на части, а сейчас и пальцем не тронули. Этьен задумался: почему озлобление так быстро прошло? Оно сменилось уважением к смелости. Всех – и заключенных и стражников – восхитила страстная жажда жизни, проявленная контрабандистом… Вскоре Кертнер, Марьяни и Лючетти сообща восстановили во всех подробностях картину побега. Кто бы мог подумать, что главную роль сыграл не контрабандист, а его приятель, циркач, также приговоренный за убийство к бессрочной каторге? Приятели сидели по соседству, их вместе водили на прогулку, они бывали в камерах друг у друга. У циркача такой вид, словно все тюремные невзгоды ему нипочем. Ничто не могло лишить его жизнелюбия и оптимизма, вывести из душевного равновесия. Это был очень подвижный, сильный, деятельный, веселоглазый человек лет под тридцать, мастер на все руки. Откуда только бралась такая сила в его худощавом теле? А ловок он удивительно, почти сверхъестественно. Лишь накануне поимки контрабандиста в строгий карцер посадили циркача. Тюремщики вспомнили, что он лепил фигурки, головы из хлебного мякиша. Вспомнили, что года три назад он искусно вылепил голову Муссолини с широко раскрытой пастью. То была пепельница, и Лючетти, получивший ее в подарок, с удовольствием гасил сигареты, засовывая их дуче в пасть. Надзиратель тогда отобрал пепельницу, а циркач и Лючетти отсидели в карцере. А теперь циркач вылепил две головы – контрабандиста и свою. Для этого он покупал хлеб в тюремной лавке. Он украл в конторе цветные карандаши и искусно раскрасил лица. После санитарного дня и всеобщей стрижки собрал волосы и изготовил два парика. А перед тем как покинуть камеру, циркач искусно сформировал чучело – будто человек спит на боку, лицом к стене. И точно такое же чучело улеглось на боку, лицом к стене, в соседней камере. Циркач запасся отмычкой, которую по его чертежу изготовили дружки в слесарной мастерской тюрьмы. Там же скопировали ключ от двери-решетки. Сперва циркач открыл дверь-решетку в своей камере. А как бесшумно открыть вторую, дощатую дверь, выходящую в коридор? Он сумел отжать вниз пружину заслонки в окошке второй двери, в маленьком окошке, куда можно просунуть лишь миску с супом или кружку воды. Затем, с помощью специального аркана, сплетенного из тонкой лески, он дотянулся до засова, отодвинул его, дотянулся рукой до замка и открыл ключом, торчащим снаружи в замочной скважине. Про таких ловкачей, как циркач, говорят: «Родился с отмычкой в руке». Причем все это он проделал за считанные минуты, пока надзиратель, меряющий шагами коридор, находился вдали от камеры. Итак, циркач получил возможность следить за стражником, дежурившим в коридоре. До поры до времени циркач держал прикрытой уже отпертую им дверь и прислушивался к шагам, чтобы знать, как далеко стражник находится от его камеры. Едва стражник отошел, циркач быстро и бесшумно снял навесной замок со своей двери. Он предусмотрительно налил масло в замочную скважину, смазал все замки и засовы – никакого скрипа. Когда стражник удалился в другой конец коридора, циркач выскользнул из своей камеры, запер снаружи дощатую дверь на оба замка, прошмыгнул к камере соседа, открыл одну за другой обе двери, выпустил соседа, вышел вслед за ним и закрыл наружную дверь. Итак, на обеих камерах висят замки, двери заперты, засовы задвинуты. Теперь можно надеяться, что во время ночных обходов стражника с фонарем их исчезновение останется незамеченным. В их распоряжении вся ночь до утреннего обхода, до выноса параши, если только удастся убежать из эргастоло, прежде чем их хватятся и начнут погоню. Оба бесшумно пробрались на лестницу. Их камеры находились на первом этаже, а чтобы выбраться из здания, следовало сперва подняться на крышу. Прислушиваясь к шагам стражников, беглецы благополучно поднялись на второй этаж, на третий. Из-под навеса верхней галереи они вскарабкались на крышу, прошли по ней к краю цитадели, к водосточной трубе. Труба не достигала двух метров до земли, но оба спрыгнули удачно. Они оказались во внешнем тюремном дворе. Теперь нужно преодолеть еще высокую стену, обвод цитадели. Они вновь оседлали водосточные трубы – сперва вверх, потом вниз – и оказались вне эргастоло. Скорей, скорей вниз, к воде! Беглецы рассчитывали на лодку подрядчика, ее прячут в сарайчике, притулившемся к скале в маленькой бухточке. Циркач не забыл захватить с собой отмычку и открыл замок на сарайчике. Пригодился и огарок свечи. Лодку держали на толстой цепи, пришлось сломать еще один замок. И только тогда беглецы к ужасу своему убедились, что весел и руля при лодке нет. Обшарили все закутки – пусто. Значит, весла уносят наверх, в контору, где они недосягаемы. Стало ясно, что уплыть на лодке не удастся. Циркач с отчаяния отказался от всей затеи, а контрабандист решил бежать без лодки: его не пугал и марафонский заплыв. Он переоделся в одежду лодочника, висевшую в сарайчике, и бывшие соседи расстались. Теперь циркачу предстоял путь назад в камеру. Конечно, если его застукают, без строгого карцера не обойдется. Но добавить срок тому, у кого бессрочная каторга, никак нельзя! Непостижимо, как циркач смог преодолеть высоченные стены и незаметно пробраться к себе. Позже он рассказал, что поднялся по стене тюремного здания, цепляясь за медный громоотвод. Простой смертный не взобрался бы на крышу и не спустился бы по стене ни по проволоке, ни по скобам, ни по водосточным трубам. Он проник к себе в камеру, изнутри закрыл замки и засовы, закрыл окошко в двери на щеколду, разобрал чучело, искрошил маску, разорвал в клочья парик, выбросил его в парашу и лег спать. Шли своим чередом ночные поверки. Стражник за ночь не раз удостоверился, что циркач и контрабандист спят. А утром циркач прислушивался к переполоху и молился за приятеля: хоть бы убежал!.. Но и тогда, когда тюремщики вспомнили про пепельницу «дуче» и засадили циркача в строгий карцер, ему туда кто-то сообщал новости о поисках контрабандиста. Две недели Этьен жил этим побегом. И уже после того, как беглеца поймали и увезли в Триест, где должен был состояться новый суд, Этьен продолжал впитывать и переживать подробности происшествия. Покорила жизнестойкость контрабандиста и его исступленная борьба за свободу. А ведь при этом контрабандиста не воодушевляли никакие общественные идеалы! Но если конокрад и убийца так воевал за свою жизнь, какое право имеет он, Этьен, несущий ответственность перед товарищами по оружию, перед антифашистами, опустить руки и отказаться от борьбы за свою жизнь? У него есть обязательства, каких и в помине нет у контрабандиста! В те дни помог Марьяни. – Когда тебе бывает очень плохо, вспоминай обо мне, твоем друге, которому еще хуже, – сказал Марьяни, опустив голову. – Самое страшное в моей судьбе – по мне никто не скучает. Никто не замечает моего отсутствия. Никто не ждет меня на свободе. Ты знаешь судьбу плачевнее? Я не знаю… У Этьена и прежде бывали такие приступы апатии. Еще во время следствия, а затем в одиночке Кастельфранко календарь терял для него вдруг всякое значение. Нет, тогда эти приступы апатии были не так сильны. Тем более он не имел права позволить себе такое душевное бессилие сейчас, когда льется кровь на родной земле и в родном небе, и он, даже в каторжном своем одеянии, обязан вести себя как солдат, захваченный в плен, солдат, для которого нет и не будет демобилизации… Ему стало стыдно фразы, которую он недавно сказал Марьяни в припадке отчаяния: – Жизнь длинна, а смерть коротка, так нечего ее бояться. – Бывает и смерть длинной, – возразил Марьяни. – В последние дни мне не нравится твое поведение и твое настроение. Ты уверен, что живешь, а не медленно умираешь? Сегодня горькие слова Марьяни заново прозвучали у Этьена в ушах, он вызвал капо гвардиа и попросил, чтобы его определили на работу вместе с уголовниками. Капо гвардиа кивнул в знак согласия: он пошлет Чинкванто Чинкве на огород. Этьен нетерпеливо ждал возможности поработать на огороде, а пока с вновь обретенным удовольствием ходил на прогулку. Там, на тюремном дворе, между каменными плитами росла базилика – съедобная трава, предупреждающая цингу. Такая трава продавалась некогда в Баку на базаре как приправа к мясу, но там она называлась как-то по-иному. Почему же он теперь проходит мимо базилики? Зачем пренебрегать такой целебной травой, когда начинается цинга? В тот же день Марьяни, после большого перерыва, увидел Чинкванто Чинкве с книгой в руках – старый учебник испанского языка. Полному выздоровлению Этьена помогла «Санта-Лючия». Разве мог он предполагать, что знакомый пароходный гудок имеет сегодня непосредственное отношение к нему? Открытка из Милана, напечатанная на пишущей машинке и подписанная рукой Джаннины, осведомляла, что Конраду Кертнеру послан чек на контору эргастоло. Наибольшее внимание Этьена в открытке привлекла фраза: «Недавно у меня в гостях была ваша сестра Анна». Значит, он должен помнить, что у него появилась сестра. А закончила открытку Джаннина дружеским пожеланием: «Прошу Вас пребывать в надежде на будущее, эта всеобщая надежда весьма основательна. Имейте мужество противостоять болезням, когда они огорчают Вас…» Позже пароход привез ему письмо из Турина. В конверт, на котором не указан адрес отправителя, вложена фотография: красивая молодая синьора с ребеночком на руках и счастливый молодой Ренато. Этьен сразу узнал Орнеллу! Она еще красивее, чем на старой фотографии, подаренной некогда Этьену ее женихом. Честное слово, у Кертнера в связных была сама Мадонна! Не меньше обрадовала оборотная сторона фотографии, хотя она оставалась чистой и на ней не было ничего, кроме штемпеля: «Фотоателье «Моменто». Этьен знал, что паралич очень трудно и редко поддается лечению, и радовался тому, что, кажется, излечился от паралича души. 86 Пароход «Санта-Лючия» ходил в этих водах чуть ли не с начала века. Пароход становился все медлительнее, он уже страдал старческой одышкой, но на покой не уходил. «Санта-Лючию» бессменно водил капитан Козимо Симеоне, и они старились вместе. Время успело посеребрить волосы Козимо Симеоне, всегда подстриженные бобриком, а сам он оставался по-молодому подвижным, звонкоголосым и неизменно приветливым. 19 апреля 1943 года, когда пароход шел проторенным путем из Гаэты к Вентотене, на него обрушились американские бомбардировщики. В последние дни они часто кружились над островками. Анку в числе других пассажиров спровадили с палубы в трюм, но там было еще страшнее. В темноте казалось, что самолеты все время висят над головой, не видно, что самолет снова разминулся с целью, не виден огромный столб воды, взметнувшийся в море за кормой; в трюме каждый раз были убеждены, что бомба угодила прямо в пароход. Когда пассажиры оказались на пристани Вентотене и почувствовали под собой твердую землю, каждый счел себя воскресшим. Анка попросилась на ночлег к одинокой пожилой женщине, которая штопала рыбачьи сети. Перед тем как отправить Анку в это далекое путешествие, ее как следует проинструктировали. Разговаривать в пути только по-итальянски, не боясь при этом немецкого акцента: по паспорту она на время этой поездки Анна Кертнер, австриячка. Разрешение на свидание с братом Конрадом получено за большую взятку в министерстве юстиции. Анку обнадежили, что у начальника охраны Суппа будут все нужные бумаги. Однако утренний визит к нему оказался неудачным – разрешения нет. Может, произошло недоразумение и разрешение лежит у капо диретторе в эргастоло? Анка сослалась на крайний недостаток времени и попросила разрешения поехать на Санто-Стефано немедленно, тем более что море сегодня спокойное, неизвестно, какая погода будет завтра, послезавтра, а она страдает от морской болезни. Суппа заявил, что поездка на Санто-Стефано возможна при двух условиях: если она наймет лодку за свой счет и если она согласна отправиться в наручниках. Не раздумывая долго, Анка приняла условия и вскоре сидела на Санто-Стефано в тюремной канцелярии. Увы, и здесь разрешения из министерства юстиции не оказалось, и Анку на той же самой лодке со скованными руками отправили назад. Предстояло прожить три дня, прежде чем «Санта-Лючия» снова отправится на материк. Она пыталась передать брату посылку и получила отказ. Она попросила начальника охраны Суппа принять деньги для перевода в тюремную лавку на счет брата – отказ. Анка распрощалась с приветливой Хозяйкой, штопальщицей сетей, и с посылкой в руках, которую у нее отказались принять в полиции, спустилась по крутой лестнице-улочке к пристани. «Санта-Лючия» вот-вот должна подойти к берегу. С большим трудом она купила обратный билет. Пришлось прибегнуть к помощи карабинера, дежурившего на пристани. Буйная толпа осаждала билетную кассу. Воздушные налеты вызвали среди островитян панику, и прибытия парохода из Понцо ждали на пристани несколько сот человек. Все спешили эвакуироваться на материк. Трезвые голоса предупреждали в те дни капитана Симеоне об опасности, но он говорил, что днем сугубо штатский силуэт и даже преклонный возраст пароходика очевидны для всех летчиков и штурманов, конечно при условии, если экипажи американских бомбардировщиков состоят из зрячих, а не из слепых. – А кроме того, я не имею права нарушать расписание, – добавлял Козимо Симеоне, будто самый серьезный довод он оставил под конец. И вот, когда «Санта-Лючия» уже подходила к Вентотене и до пристани оставалось с километр, налетели два торпедоносца. Пристань мгновенно опустела, ожидающих словно ветром сдуло, все забились в пещеры, в гроты, выдолбленные в прибрежной скале, Анка замешкалась на пристани со своей отвергнутой посылкой и видела все. Первая торпеда прошла мимо цели, взметнув к небу искрящийся столб воды, так что пароход сильно накренился. Вторая торпеда угодила прямо в пароход, и корпус его переломился пополам. Второй торпедоносец летел низко-низко, при желании штурман мог бы различить на палубе пассажиров. «Санта-Лючия» не успела даже подать своего по-стариковски хриплого гудка. На помощь утопающим вышел моторный катер, какой-то бот, несколько лодок. Но из девяноста пассажиров спаслись четверо. Они плыли, держась за обломки. Одним из четырех пловцов был капитан Козимо Симеоне, смертельно раненный в грудь. Если бы пароход подошел к Вентотене немного раньше и успел взять тамошних пассажиров, число жертв увеличилось бы в пять раз. После того как Анка попрощалась со штопальщицей сетей, она прожила у нее еще несколько дней в ожидании оказии. И отплыла на паруснике. Накануне отъезда Анка рассудила, что разрешение на свидание с братом все-таки может когда-нибудь прийти. Вряд ли взяточники в министерстве юстиции оказались до такой степени бесчестными. А в случае, если разрешение придет, Конрад Кертнер получит право и на посылку, и на деньги от сестры. Поэтому Анка отправилась на почту, сдала посылку и перевела деньги брату… На следующий день после того, как парусник увез Анну Кертнер на материк, капо диретторе Станьо вызвал к себе Чинкванто Чинкве. – У вас есть сестра? – Вы имеете в виду Анну? – Этьен слегка запнулся, не сразу вспомнил про открытку Джаннины. – Да, Анна Кертнер. – Это моя старшая сестра. Капо диретторе просил принять его сожаление по поводу того, что не состоялось свидание с сестрой. Недавно она приезжала на Вентотене, была на Санто-Стефано, добивалась свидания. Но разрешение от министерства юстиции пришло лишь сегодня, когда сестра вернулась на материк. В утешение капо диретторе сообщил Чинкванто Чинкве, что на его имя поступила от сестры посылка весом в пять килограммов шестьсот граммов, а также денежный перевод на 1500 лир, которыми он может отныне распоряжаться согласно тюремному регламенту. 87 По давнишней привычке Этьен делал четыре шага, затем поворачивался, левое плечо вперед, чтобы сделать четыре шага до нового поворота. Так повелевали стены камеры в Кастельфранко и камеры № 36 на Санто-Стефано. А сейчас он мог сделать и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, и, наконец, девятый шаг без поворота! Только человек, расставшийся с тесной кельей, может оценить простор общей камеры, где не уподобляешься белке в колесе. Началось с того, что на валу, у самой тюремной стены, зенитчики установили пулемет. Американский летчик быстро засек огневую точку, сбросил бомбу и вывел пулемет из строя. После того дня американские штурманы уже не обделяли тюрьму своим вниманием и своим бомбовым грузом, – видимо, они решили, что цитадель на скале превращена в мощный узел обороны. Больше всего бомбежками были напуганы тюремщики. Капо диретторе Станьо распорядился перевести всех заключенных из одиночек в большие казематы на первом этаже. Стены и перекрытия метровой толщины превратили казематы в солидные бомбоубежища. Все выглядело как забота о заключенных, а на самом деле тюремщикам во время бомбежек было удобнее убегать с первого этажа в подвалы четвертой секции, в безопасную тишину. Больше всех обрадовался бомбежкам Лючетти. Наконец-то окончилась его строгая изоляция! Кертнер и Лючетти стали соседями, их тюфяки рядом. Марьяни при поддержке Кертнера решил устроить в общей камере коммуну для политических. В камеру набилось столько людей, сколько тюфяков уместилось на каменном полу! К тому времени на Санто-Стефано томилось уже немало политических из Югославии, Албании, Греции, из других стран. Общая камера быстро превратилась в шумный политический клуб, где бурно обсуждались новости, и прежде всего – ход военных действий. Послушать эти разговоры – в камере сидят только генералиссимусы, фельдмаршалы, главнокомандующие и начальники штабов, крупные стратеги. Кертнер тоже принимал участие в дискуссиях на военные темы, но при спорах не горячился. Из военных событий по-прежнему чаще всего обсуждали поражение немцев под Сталинградом. А когда Гитлер объявил в Германии трехдневный траур, Марьяни сказал: Италия также должна бы объявить день траура по своей Восьмой армии, разгромленной на Дону. В связи со Сталинградской битвой шла длительная дискуссия между Кертнером, двумя югославскими генералами и греческим полковником. Марьяни окончательно убедился, что Кертнер – военный. Не мог штатский человек, тем более коммерсант, с таким знанием дела анализировать ход сражения, вопросы тактики и стратегии. А как Кертнер ликовал, когда прочел кислую сводку германского командования о битве под Орлом и Курском и когда понял, что Гитлер потерпел новое крупное поражение! Отныне каждое поражение фашистов на советском фронте или на других фронтах мировой войны воспринималось Этьеном и как событие, которое несет ему спасение. Бессрочное его заключение на Санто-Стефано во время войны перестало быть бессрочным. А если бы он сейчас отсиживал тюремный срок, он бы не отсчитывал тщательно годы, месяцы и дни, которые ему осталось просидеть, как он это делал в Кастельфранко, ревниво следя за медлительным календарем. День, который принесет с собой крах фашизму, станет днем его освобождения. И бесконечно важно, совершенно обязательно дожить до этого освобождения, потому что еще страшнее самой смерти было бы сознание, что он уходит из жизни, настрадавшись от горьких фронтовых новостей первого года войны и не познав счастья Победы. Страдания, к которым его приучила каторга, притуплялись от одной Мысли о страданиях миллионов людей – убитых, раненых, измученных или обездоленных войной. В общей камере бушевали страстные дискуссии. Чинкванто Чинкве отстаивал марксистские позиции, хотя коммунистом себя не называл. Теперь, после разгрома Испанской республики, ему было удобно выдавать себя за антифашиста, пленного офицера Интернациональной бригады. Много споров разгоралось вокруг Ленина и его учения. – Конечно, нашему Антонио Грамши трудно позавидовать, – вздохнул Лючетти. – Но завидую тому, что он познакомился с Лениным, беседовал с ним. Я слышал, Ленин уже был тяжело болен, к нему никого не пускали и для нашего Антонио сделали исключение… Еще юношей я мечтал увидеть Ленина! Вы его никогда не видели? – неожиданно спросил Лючетти, повернувшись к Кертнеру. – Нет, – ответил Этьен односложно, чтобы не произносить много неправдивых слов. Он вновь не имел права ответить чистосердечно, этому решительно воспротивился бы Конрад Кертнер. 88 Он попал в Народный дом случайно. Вернулся с занятий в политехническом колледже и нашел дома незнакомого гостя. К брату приехал товарищ, тоже медицинского роду-племени, не то из Лугано, не то из Лозанны, Лева уже не помнит откуда. Но помнит, что медик приехал в Цюрих всего на несколько часов и ему очень нужно было повидаться с Жаком. Лева знал, что брат присутствует на съезде швейцарской социал-демократии, где должен выступить с приветствием Ленин. Лева не раз встречал Ленина на улицах Цюриха, а еще чаще на почте; знал, где Ленин живет, но никогда прежде его не слышал. Лева повел приезжего в Народный дом. Ленин очень тепло приветствовал швейцарских товарищей, он говорил по-немецки. Лева хорошо понимал картавый говорок Ленина, понравилась та ясность, с какой Ленин доказывал, почему партия не поддерживает террора и почему при этом стоит за применение насилия со стороны угнетенных классов против угнетателей, почему ведет пропаганду вооруженного восстания. Это было в один из дней поздней осени 1916 года. Разве мог юноша предполагать, что этот день внесет перелом в его сознание, определит направление всей его жизни? В годовщину Кровавого воскресенья (в России этот день по старому стилю отмечали 9 января), 22 января 1917 года, Лева слушал в Народном доме доклад Ленина на собрании молодежи о революции 1905 года. Лева хорошо помнит, что Ленин тогда начал доклад обращением: «Юные друзья и товарищи!» А в конце доклада причислил себя к старикам, которые, может быть, не доживут до решающих битв. Но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции! Отныне Лева не пропускал ни одного номера газеты «Социал-демократ», внимательно прочитывал статьи Ленина. Особенно ему запомнилась статья «Поворот в мировой политике», в № 58, незадолго до того, как к ним в Цюрих донеслись первые вести о революции в России, о свержении царя. Он знал, что Ленин уехал в Берн, где находились все посольства, знал, что группа эмигрантов уже деятельно готовится к отъезду в Россию. Лева вместе с братом был в числе тех, кто 9 апреля провожал в Цюрихе поезд, которым выехало около сорока эмигрантов во главе с Лениным. На вокзале пришлось долго ждать, пока к поезду, идущему к германской границе, прицепят специальный вагон «микст». Теперь он каждый день просматривал газеты на трех языках, искал сообщения о приезде Ленина в Россию. Братья Маневичи надеялись, что им удастся уехать со второй группой эмигрантов, но их перевели в третью, более позднюю группу, и это решение совпало с их личными планами, потому что старший брат должен был завершить работу в клинике, а младшему предстояли экзамены, без которых ему не выдали бы диплома. Немало провожающих собралось и 20 июня, когда третья группа – еще 206 эмигрантов – покидала Цюрих. На этот раз в числе пассажиров были и братья Маневичи – старший с дипломом врача, младший с дипломом об окончании политехнического колледжа. Этьен давно не помнит, сколько пересадок пришлось тогда сделать, прежде чем они добрались домой, в Чаусы. Но помнит, что дорога была длинная и трудная. 89 К сожалению, лиры после начала войны сильно обесценились, их покупательная способность стала падать. До войны пяти лир хватило бы на день прокормиться троим. А нынче на такие деньги в лавке приходится покупать у подрядчика все кусочками, ломтиками, щепотками, а сигареты – поштучно. Все равно Этьен был счастлив тем, что подкармливает своих друзей. Но тем сильнее ощущал Этьен недостаток духовной пищи, страдал от отсутствия информации о положении на Восточном фронте. По-прежнему заключенные имели право читать только иллюстрированные воскресные газеты. Недавно капеллан прочел вслух письмо с Восточного фронта от бывшего подполковника, ныне полковника Марио Тройли: письмо мрачное, как завещание. Тройли жалуется на русский климат, на русские дороги, на русскую еду, на русский характер, на неуступчивость и бессердечие русских женщин и еще на что-то. Он охотно вспоминает Санто-Стефано. Там, по крайней мере, нет морозов, нет снега, а живой христианин не чувствует себя все время мишенью. Тройли не верит, что вернется домой. Дон – последняя река, которую он видел в своей жизни, не увидеть ему больше ни голубого Неаполитанского залива, ни мутных вод Тибра. Он просит капеллана помолиться за его душу, на которой столько незамолимых грехов… А в другой раз капеллан сообщил, что Куаранта Дуэ, контрабандист, который пытался убежать из эргастоло в компании с циркачом, по приговору суда расстрелян в Триесте. Капеллан часами просиживал в камере политических. Но не страх перед воздушными налетами приводил его сюда. Узники встречали капеллана неизменной приветливостью, а он рассказывал немало интересного из истории Понтийского архипелага… На Вентотене сохранились развалины виллы императора Нерона, бассейна, остатки лестницы, вырубленной в скале. Сохранились характерные черты древнего порта, там во время шторма укрывался Калигула. Капеллан готов рассказывать бесконечно, была бы только аудитория… Все больше послаблений делали узникам эргастоло, капо диретторе Станьо не хотел с ними ссориться. Дела Муссолини шли все хуже, и в тюрьме чувствовалась растерянность. Суетливо шныряли по коридорам тюремщики, присмирел Кактус. Еще на одну уступку пошла тюремная администрация, когда начались воздушные налеты: убрали «волчьи пасти», и теперь узники часами стояли у зарешеченных окон. Однажды Этьен и его соседи наблюдали воздушный бой между немцем и англичанином. Позже узнали, что англичанин сбил «Фокке-Вульф-190» и тот врезался в море, но перед тем успел подбить своего победителя, и англичанин выбросился на парашюте. Все в эргастоло во главе с капелланом молились за англичанина. Но происшествия и события, подсмотренные в тюремное окно, отступили на задний план и забылись после того, как к Санто-Стефано подошел военный корабль под итальянским флагом. 90 26 июля 1943 года около полудня на рейде Вентотене бросил якорь корвет «Персефона». В тот день число ссыльных едва не увеличилось на одного человека. На борту «Персефоны» находился свергнутый Бенито Муссолини. Не прошло и суток после исторического визита дуче на королевскую виллу «Савойя», как Муссолини попросил короля принять его. Виктор-Эммануил согласился дать аудиенцию, но просил Муссолини приехать в целях конспирации непременно в штатском. 25 июля в 17 часов Виктор-Эммануил III, король Италии и Албании, цезарь Абиссинии, ждал Муссолини у входа во дворец. Тот приехал в темно-синем костюме и поношенной коричневой шляпе. В 17.20 аудиенция была закончена. Король проводил Муссолини до выхода, подал на прощание руку и вернулся в свои апартаменты. Муссолини хотел уехать в своем автомобиле, но ему сообщили, что это опасно, его ждал другой автомобиль. На месте водителя, вместо Эрколе Боррато, который двадцать лет водил машину диктатора, сидел капитан карабинеров. Из казармы карабинеров, с окраины Рима, Муссолини увезли в полицейской машине к морю. На этот раз он ехал без своего личного телохранителя Ридольти. Некогда тот обучал молодого Бенито фехтованию и верховой езде… Ридольти уже за семьдесят, дуче произвел его в почетные генералы милиции, он ходил в ярмарочно-пестром мундире и до последнего дня сопровождал дуче во всех его поездках. У берега ждала моторная лодка, она подошла к корвету «Персефона», и, едва Муссолини ступил на палубу, корабль вышел в море и лег курсом на юг. Еще утром на Санто-Стефано разнесся слух об отставке Муссолини и назначении вместо него Бадольо. Радио известило об этом вчера, 25 июля, в 10.45 вечера, когда в эргастоло было темно и все спали. Новость обнародовал радиодиктор Джанбатисто Ариста, который в течение многих, многих лет оповещал страну о «славных деяниях» дуче и чей голос знали во всех уголках Италии. На этот раз он бесстрастно прочел послание короля, его обращение к народу, а также обращение маршала Бадольо. После обеда Марьяни узнал от всезнающих уголовников, что в кабинете капо диретторе со стены сняли портрет дуче и эмблемы фашизма, остался висеть только портрет короля. Тюремщики сняли со своих мундиров фашистские значки. Судя по последней радиопередаче, народ повсеместно ликует. На улицах городов горят большие костры. Жгут портреты дуче, жгут бумаги, которые тащат из участков фашистской милиции и фашистских организаций, разбивают бюсты дуче. Народ требует, чтобы заключили перемирие, амнистировали политических, распустили фашистские организации, требует свободы печати. Муссолини хотели высадить на Вентотене, но охрана сочла это опасным. Слишком много своих врагов сослал дуче на этот остров. Там томится около пятисот коммунистов во главе с Террачини, Лонго, Секкья, Скоччимарро, Камиллой Раведа. Анархисты еще опаснее, каждый из них может вытащить из-за пазухи бомбу. Нет, Вентотене – неподходящее место для дуче. Корвет «Персефона» поднял якорь, и через несколько часов Муссолини сошел на соседнем острове Понцо. Его поселили в рыбачьем поселке, в небольшом домике. Муссолини разрешили расхаживать по острову, купаться, но лишили радио и газет. А ведь совсем недавно рабочий день дуче начинался с того, что он читал в оригинале сообщения тайных агентов и шпиков, на что уходила немалая часть всего времени, хотя занят он был сверх головы. Дуче не доверял в последнее время даже близким сподвижникам и сосредоточил в своих руках министерства иностранных дел, армии, флота и авиации, внутренних дел… Здесь, в одиночестве, через три дня после высадки на Понцо, Муссолини отметил свое шестидесятилетие. Капеллан Аньелло виделся на Вентотене со своим коллегой падре Луиджи, у которого был приход на острове Понцо. Падре Луиджи рассказал, что, в предчувствии близкой расплаты за все злодеяния, у дуче неожиданно появились религиозные позывы. Недавно он захотел исповедаться, но охрана не разрешила. Видимо, события последних дней, внезапное (по крайней мере, для дуче) отрешение от власти, арест и ссылка вызвали внезапный приступ религиозности. Утром 8 августа по тревоге, буквально за пять минут, Муссолини приказали собраться. Шлюпка доставила его на корвет «Персефона», который вновь пришел на Понцо, чтобы увезти оттуда экс-дуче. На сей раз Муссолини высадили на островке Санта-Маддалена, к северу от Сардинии. Сотня карабинеров охраняла его в отведенной ему вилле. Разрешили читать, писать, передали книги, которые ко дню рождения прислал Гитлер. С острова Санта-Маддалена Муссолини переправили еще севернее, в горы, к подножию пика Монте-Корво, в отель «Кампо императоре», как бы специально для того, чтобы 12 сентября 1943 года его удобнее было выкрасть оттуда фашистскому диверсанту Отто Скорцени. 91 Можно было подумать, что остров Санто-Стефано оказался в ночь с 6 на 7 сентября 1943 года на самой линии фронта. Черное небо в сполохах и зарницах. Стреляют, бомбят совсем рядом. Кто-то из тюремщиков видел на горизонте военные корабли. Узники Санто-Стефано напряженно ждали новостей с Вентотене, считали минуты; воедино слились надежды и чаяния самых разных людей. Днем 9 сентября к Санто-Стефано подошла моторная лодка. Старый знакомый Катуонио выполнял обязанности лоцмана, он показывал, куда причалить. Но прошло не меньше часа, прежде чем в тюрьму явился американский офицер, а с ним несколько солдат морской пехоты, капо диретторе Станьо, капо гвардиа, тюремный врач и дежурный надзиратель. Многие радовались вдвойне – и краху фашизма, и своему освобождению. Капитан морской пехоты оказался американцем итальянского происхождения, изъяснялся с сильным акцентом. Он не доверял тюремной дирекции и сам выстроил каторжников во дворе. – Политические – два шага вперед! Иностранцы – два шага вперед! Все иностранные подданные будут освобождены в первую очередь. Американцев нет? – Нет! Всех пятьдесят семь политических вызвали в канцелярию, и после вопроса «За что осужден?», после выяснения мотивов ареста капитан вносил их в список лиц, подлежащих немедленному освобождению. Кертнер объяснялся с капитаном по-английски, сказал, что лишен возможности вернуться в Австрию, пока там нацисты, что болен и нуждается в помощи Красного Креста. Капитан заверил австрийца, что он имеет право на лечение, как освобожденный из военного плена. Но куда именно его направят – сейчас сказать не может, узнает в штабе. Капитан увез с собой на Вентотене первую группу освобожденных. Завтра с острова отправят остальных политических. Уголовников увели назад в камеры, а политические, все, кто не уехал с первым рейсом, в свои камеры не возвратились: их уже не запирали. Эргастоло облетела весть, что с острова сбежал надзиратель Кактус. Он боялся самосуда, знал, что ему припомнят пучок лука финоккио и беднягу Беппино… Заключенному, дожившему до свободы, не забыть минуты, когда он в первый раз вышел за тюремные ворота. Поначалу Этьен даже растерялся, чувствовал себя беспомощным и одичавшим. Он прошел с Лючетти и Марьяни вдоль тюремной стены, втроем посидели у ворот. Лючетти был в приподнятом, праздничном настроении, напевал «Гимн Гарибальди». Этьен отвык от самого себя, свободного, живущего без надзора, кому позволено ходить без конвоя. До одури, до дрожи в коленях, до головокружения бродил он с двумя друзьями по острову, с жадностью всматриваясь в голубые дали. Далеко-далеко видно окрест! Решили отправиться на кладбище, отдать долг памяти не дожившим до освобождения и похороненным под номерами. Положить цветок и на могилу Беппино. Что может быть печальнее кладбища, куда, в точном значении слова, не ступает нога человека? Кладбище за железной оградой, а калитка – стандартная дверь-решетка, какая ведет во все камеры. Слева от калитки высечено на плите: «Здесь кончается суд людей», а справа – «и начинается суд бога». Этьен вспомнил, что является соавтором сего изречения. – Даже сюда, на суд бога, – заметил Лючетти, – покойников приносят безымянными, согласно суду людей. Только в углу кладбища, в стороне от безымянных каторжников, рядом с несколькими тюремщиками – могила Филумены Онорато. Марьяни рассказал, что это могила матери, которой разрешили свидание с сыном. Она приехала на острое, увидела сына и от огорчения умерла. С непривычки все трое устали от прогулки и заторопились назад в камеру. Обитатели камеры неузнаваемы. Смеялись и те, у кого никогда прежде не видели улыбки; казалось, они вообще разучились смеяться. А чего не хватает в партитуре тюремного дня? Что сегодня сильнее всего режет ухо? Марьяни и Лючетти согласились, что фонограмма тюремного дня изменилась: стало тише и в то же время шумнее. Шумнее от живых голосов, никто не хотел шептаться, говорить вполголоса. А какие характерные шумы исчезли? И тогда Кертнер, бесконечно довольный тем, что его загадка осталась не разгаданной, пояснил: не слышно ржавого скрипа замков, не скрежещут постоянно задвижки, щеколды и петли, не грохочут засовы, не звенят цепи, не позвякивает связка ключей в руках тюремщика. Время до вечернего колокола пробежало быстро. Марьяни был в ударе, он в радостном возбуждении читал вслух главы из «Божественной комедии». Восхищение Марьяни поэтом было безгранично, и оно передавалось слушателям. Марьяни, как многие в Италии, не произносил имени Данте, а говорил с благоговением: «Поэт». Марьяни заразил своей страстью Кертнера, тот уже помнил наизусть много строф, длинные отрывки. Какие-то неизвестные дружелюбы, ссыльные с Вентотене, прислали Лючетти немного денег. Он купил в тюремной лавке три четвертинки кьянти, и друзья выпили за общую свободу. Марьяни провозгласил тост: – За мое отечество! – Хороший тост, – поддержал его Кертнер. – И за мое отечество! Марьяни и Лючетти с удовольствием подняли стаканчики. Утром начались хлопоты, связанные с переодеванием. Марьяни надел поношенный костюм, стоптанные ботинки, побрился у тюремного брадобрея. Кто бы мог подумать, что узника Чинкванто Чинкве все эти годы терпеливо ждал в кладовой костюм – английский, черный в белую полоску? Костюм переслали из Кастельфранко; и молью не трачен, и совсем мало ношен, и пятна крови давно выцвели. Но будто с чужого плеча, будто его не шил по заказу модный портной в Милане, а куплен костюм в магазине без примерки и оказался номера на два больше. С обувью было совсем скверно, но Этьен отказался от желтых сандалий, которые ему пытался подарить Джино: тот сам остался бы тогда без приличной обуви. Сидеть под тюремными сводами не хотелось. Отдохнуть от созерцания решеток, не расставаться со светом дня! Устроились на ночлег в кордегардии. На следующее утро все не отрываясь смотрели в сторону Вентотене. Наконец моторная лодка показалась в проливе между островами. Уже слышно, как стрекочет мотор. Еще четверть часа, и американцы поднялись по тропе. Однако где же тот симпатичный капитан? И что за люди в штатском идут за вновь прибывшим моряком? Вместо пехотного прибыл капитан в морской форме, с рыжей бородкой и злыми глазами. Он привез назад двух югославов, вчерашних узников. Морской капитан устроил строгую проверку политзаключенных и внес поправки в список, составленный накануне. Двух югославов заново взяли под стражу. Хотя они иностранные подданные, но осуждены за уголовные преступления и поэтому освобождению не подлежат. Капитан с бородкой допрашивал всех подряд, а в конце допроса каждого сверлил глазами и задавал стандартный вопрос: – Обещаете не воевать против Соединенных Штатов? – Да. – Поклянитесь на Библии. Тут же дежурил капеллан Аньелло в праздничном облачении, а Кертнер выполнял обязанности переводчика. Когда рыжебородый вызвал Марьяни, тот с опрометчивой искренностью и неуместной правдивостью начал рассказывать о давнем взрыве в кинотеатре «Диана» в Милане, об ошибке, которую тогда допустили анархисты. Кертнер, переводя на английский, изо всех сил пытался на ходу смягчить показания Марьяни, но это не могло помочь. – Взрыв? Неплохая школа для гангстеров! Вас опасно выпускать на свободу. Столько жертв… Уголовное преступление! – вынес свой приговор американец. – Я не могу вас выпустить… Марьяни побелел, он был близок к обмороку, он лишился последних душевных сил. Он уверял, что все долгие годы заключения числился политическим. Переводчик Кертнер засвидетельствовал, что Марьяни говорит правду. – Если бы Марьяни был политическим, его бы осудил Особый трибунал по защите фашизма, – утверждал рыжебородый. Марьяни возражал: когда его судили, еще не было фашистского трибунала. Но морской капитан только любовно поглаживал рыжую бородку и настаивал на своем. Не помогло и заступничество капеллана, который удостоверил, что Марьяни – добрый христианин, хотя и неверующий, и никогда не числился уголовником. То, что Марьяни безбожник, лишь ухудшило дело. Марьяни был подавлен, обижен. А кроме того – горько отставать от Лючетти и Кертнера. Когда морской капитан узнал, за что сидит Лючетти, он сказал очень зло и вовсе не шутливым тоном: – А вас нужно было бы еще подержать на каторге за то, что вы не убили Муссолини!.. Лючетти и Кертнер спускались по тропе к моторной лодке, чтобы ехать на Вентотене, а оттуда еще дальше. Марьяни провожал друзей. – Я политический, я всю жизнь боролся с фашизмом! – твердил он, шагая рядом с рыжебородым капитаном; в глазах у Марьяни стояли слезы. – Нет, вы уголовник, – настаивал американец. Подошла минута расставания. Друзья обнялись, расцеловались. От избытка нахлынувших на него чувств Марьяни нагнулся и неожиданно поцеловал руку Кертнеру. Тот растерялся на какую-то секунду, но ответил другу тем же знаком признательности и любви. Как только отчалили и взяли курс на Вентотене, провожающих тут же скрыл край скалы. Моторка ходко пересекала пролив, глубоко-глубоко под ними скрывался кратер потухшего вулкана. Этьен повернулся спиной к эргастоло. «Дьявол с ней, с этой тюрьмой, она не стоит того, чтобы на нее оглядываться. Столько отмучился…» Но разве можно забыть Марьяни? Этьен тотчас же вспомнил, что на Санто-Стефано остались добрые товарищи, которые ждут освобождения, которых еще долго не освободят, потому что они числятся уголовниками. Этьен торопливо пересел на нос катера, чтобы видеть белое трехэтажное здание на верхнем плато, еще и еще раз мысленно попрощаться с Марьяни, со всеми несчастными, виновными и невиновными, кто еще там оставался и от кого навсегда уезжал бывший Чинкванто Чинкве. Храни надежду всяк томящийся здесь смертный!.. Лючетти и Кертнер сошли на пристани Вентотене. Но всякая связь с материком прервана. Ходят слухи, что немцы захватили Рим и двинулись на юг. Но точно никто ничего сказать не мог. На остров Искья уходил пароходик «Нардуччо», на его борт поднялось восемнадцать освобожденных каторжников. Кертнер и Лючетти были в числе пассажиров; все-таки ближе к Неаполю. Но на Искье оказалось беспокойнее и опаснее, чем на Вентотене. Немцы обстреливали Искью с соседних островов, с материка, где у них стояли тяжелые батареи. Этьен сидел в рыбачьей хижине, не в силах совладать с кашлем, а непоседливый, истосковавшийся по людям Лючетти разгуливал по незнакомому острову, не считаясь с предостережениями. Этьен услышал близкий разрыв. Он решил, что это бомба, сброшенная с большой высоты. Донесся крик рыбака-грека, оказавшего приют ему и Лючетти: – Убили! Ваших убили! – Где? – На пристани. Этьен из последних сил побежал к пристани. Несколько греков, обитателей острова, сгрудились вокруг тел, лежащих на земле и уже покрытых старым парусом. Этьена пронзило страшное предчувствие, и тут же он увидел торчащие из-под паруса желтые сандалии. 
Мучительно разрывалось сердце, он закричал, но голос его увяз в горле. Парусину отвернули. Джино Лючетти лежал как живой. Для него хватило одного злого осколка – дырочка в левом боку, даже крови не видно. Маленький осколок снаряда из итальянского орудия, а стреляли немцы. После восемнадцати лет каторги и двух дней свободы оборвалась жизнь Лючетти… Гроб покрыли красным знаменем. На площади, рядом с пристанью, устроили траурный митинг. Кертнер назвал смерть Лючетти жестокой, несправедливой и сказал про него словами Данте: «Мой друг, который счастью не был другом…» Не успела траурная процессия отъехать от площади, как начался новый огневой налет. До кладбища добрались уже в темноте и похороны перенесли на утро. По слухам, фарватер и все пристани в Неаполе заминированы, путь туда закрыт. Значит, нужно плыть в какой-нибудь порт по соседству с Неаполем, лучше всего в Гаэту или в Формию. По-прежнему ходили слухи, что нацисты заняли Рим и движутся на юг. Спросили шкипера, хозяина парусника, слышал ли он в Гаэте или в Формии о немцах? Шкипер ответил, что вышел из Гаэты 8 сентября утром, немцев там и в помине не было. И тогда шестеро иностранцев, в том числе Этьен, решили плыть парусником «Мария делла Сальвационе» на материк. Сколько можно ждать другой оказии? Когда еще власти отправят их с неприветливого острова? Сообща оплатили рейс. Прижимистый и жадный хозяин парусника был далек от сантиментов и мало считался с финансовыми возможностями вчерашних каторжников. Он заломил большую сумму, но нетерпение освобожденных было еще больше. Этьен тоже уплатил за место на паруснике 500 лир, две трети всего своего состояния. Рыбаки на Искье в один голос говорили о десанте союзников в Салерно, южнее Неаполя. Называли точное время десанта – утро 9 сентября. Этьен рассудил, что при этом условии Неаполь внезапно стал прифронтовым городом, туда наверняка стягивают немецкие войска для отражения десанта. И безопаснее уплыть от Неаполя на север, тем более что, по словам шкипера парусника, немцев в Гаэте нет. Как назло, стояла безветренная погода. Старый, с заплатами парус висел вяло, безжизненно и был обречен на безделье. Трудно сказать, кто больше от этого страдал – шесть заждавшихся пассажиров или хозяин парусника, которому не терпелось поскорее убраться с Искьи, подальше от немецких снарядов. Однако перед рассветом в отель прибежал юнга с парусника и сообщил, что ветер, как он выразился, «проснулся». Выгнутая ветром парусина несла баркас с пассажирами, говоря по-морскому, на норд-норд-ост. Про запас на дне парусника лежали три пары сухих весел. Этьен возвращался на материк одновременно и подавленный гибелью Лючетти, и встревоженный. Сколько ждал он этой возможности – свободно плыть на материк, на волю. Полсотни миль до Формии станут началом его длинного пути домой, в Россию, через границы, через войну, которой, по расчетам Этьена, осталось косить людей и собирать свою кровавую жатву полгода, от силы – год. Где и как прожить это время Конраду Кертнеру, австрийскому подданному? Он рассчитывал, что власти в Гаэте помогут ему, выпущенному с каторги политическому, добраться до одного из портов Адриатического побережья, а там его возьмут на борт какого-нибудь корабля. «В крайнем случае, – подумал Этьен, – если дороги из Гаэты временно закрыты, отлежусь в местной больнице». В это время его настиг такой приступ кашля, что он тут же добавил про себя: «Даже если там дороги открыты, все равно придется сначала отлежаться. Никуда я сейчас не гожусь…» Судьба разлучила с Марьяни, тот не оставил бы его одного в предстоящих испытаниях. Нет в живых Джино Лючетти, который стал ему братом и готов был делиться всем, что у него есть или будет. Есть ли сейчас русские в Италии? Только военнопленные, которые сбежали из лагерей и, по вынужденному свидетельству фашистских газет, скрываются в горах, сражаются в партизанских отрядах. Вот бы уйти в горы, в леса, прибиться к такому отряду или перебраться в Югославию, в Албанию, там, наверное, тоже воюют наши… Но примут ли его в боевую семью, поверят ли Конраду Кертнеру? В кармане пиджака, надетого взамен полосатой каторжной куртки с номером на левой стороне груди, лежит драгоценная бумажка, она удостоверяла, что Кертнер, уроженец Австрии, просидел столько-то в тюрьмах, как антифашист, осужденный Особым трибуналом на 12 лет. Почти семь длинных-предлинных лет, зарешеченных, запертых на множество замков лет, прожитых впроголодь лет, вместилось в часы, когда парусник плыл к материку. Где-то за островом Искья, невидимым в лучах позднего солнца, небо уже тронуто закатом. Облака на небосклоне, недавно прозрачные, потемнели, а по краям оторочены золотом. Розовое отражение облаков плыло по морю рядом с парусником. Выгнутая парусина тоже окрасилась в розовые тона. Все жило предчувствием заката – и небо, и облака, и море, и далекий остров позади. Внезапно ослабевший ветер надоумил шкипера, что выгоднее держать курс не на Формию, а на Гаэту. Два маленьких порта разделены всего шестью милями, но в Гаэту, чуть севернее, парусник пойдет более ходко: их будет подгонять попутный ветер, который итальянцы называют «ветер в карман». Ветер лишь полировал синюю поверхность моря, не успел ее взъерошить, зарябить. Только легкое поскрипывание такелажа и круто повернутого руля, только журчание за кормой с трудом взбаламученной воды. Хозяин парусника был мрачен, и Этьен сперва подумал – он обеспокоен тем, что ветер убавил в силе. Но ведь и в начале плавания, когда ветер прилежно дул в корму, хозяин так же хмурился и такими же злыми глазами поглядывал на пассажиров. Больше похоже – жалеет, что мало запросил с каждого за проезд, считает, что продешевил. Сколько раз Этьен воображал себе этот счастливый день – возвращение? Наверное, тысячи раз. И от этого каждый раз у него начиналось сердцебиение, вот как сейчас, будто не сидит он неподвижно на скамейке, а без устали гребет. Итак, он возвращается домой. Дорога дальняя, долгая, трудная и опасная, но он движется вперед! Как же он может не слышать сейчас своего сердца, когда не воображает себя едущим, а на самом деле едет? А кем он вернется домой? Разве он вернется таким, каким уехал миллион лет назад, каким его дома помнят, любят, ждут? «Восторг души первоначальный вернет ли мне моя земля?» Нет, он вернется совсем, совсем другим человеком. Только он один знает, как сильно изменился за минувшие годы. Надя этого даже не подозревает. И от него потребуется немало усилий, чтобы вначале вообще скрыть от нее перемену, а потом стараться, чтобы перемена эта не показалась слишком разительной. Каждый день свободной, счастливой жизни будет быстро приближать его к тому человеку, который прощался когда-то с родными, с друзьями перед отъездом из Москвы. Последняя командировка растянулась на восемь лет. Время струилось, как вода сквозь пальцы, быстротечное время. Он опустил руку в воду за бортом и внимательно поглядел, как вода омывает пальцы и ладонь. А может, жизнь на свободе, среди своих, вольет в него новое здоровье, новые силы, принесет с собой вторую молодость?! От мечтаний пришлось отвлечься, потому что шкипер велел всем взяться за весла. Этьен только сейчас заметил, что парус вяло полощется в неподвижном воздухе. «Шуми, шуми, послушное ветрило…» Ни шума, ни послушания, ветер совсем ослаб… Заскрипели уключины, шесть весел – шесть гребцов. Подоспели сумерки, а гребцы не выпускали весел из рук. Впереди Этьена сидел на скамейке и греб крестьянин из Чочарии, мускулы шевелились на его плечах и спине. Ну и силенка, ну и гребок! А в руках Этьена весло, как он ни тщился, оставалось немощным. Уже поздние сумерки заштриховали близкий берег, весло все тяжелело и сделалось как чугунное. Наконец показался маяк. Силы у Этьена на исходе, он в липком поту, онемели, одеревенели руки, и не хватает воздуха – такой свежий морской воздух и столько его, несмотря на безветрие, а все-таки не хватает. Откровенно говоря, он не думал, что сможет столько прогрести. Здешний климат пошел ему явно на пользу. На краю белеющего волнореза, совсем близко от левого борта, показался красный фонарь. Все ближе пристань Чиано. Берега совсем не видно за лодками, баркасами, яхтами, шхунами, шлюпками. В полутьме лодка ткнулась в прибрежную гальку и зашуршала носом. Этьен вдохнул запах водорослей, невидимых рыбачьих сетей, смолы, остывшей после солнцепека. Вслед за своими попутчиками Этьен коротко распрощался с неприветливым хозяином парусника и сошел на темный берег. И в этот момент послышался гулкий топот. Несколько человек со всех ног бежали вдоль берега. Очевидно, там находилась набережная, топали по камням. Топот все явственнее, он неотвратимо приближался. Хриплое, свистящее дыхание, похожее на стон. Сдавленное проклятие на берегу. И тут же лающий окрик «хальт!», невнятные слова команды, поданной по-немецки, подкрепленные длинной очередью из автомата. Язычок пламени бился на дуле невидимого в темноте автомата, а по соседству с ним зажглось еще несколько таких же мерцающих, подрагивающих, зловещих огоньков. Пули просвистели совсем близко; впрочем, всегда мерещится, что все пули пролетают у самого твоего уха. Следуя примеру попутчиков, Этьен плюхнулся между двумя лодками на черный, влажный песок. Он приложился к песку щекой и ухом, прислушиваясь к материку. ЧАСТЬ ПЯТАЯ  92 А утром стало очевидно: беда опередила их всех. До того как южнее пристани Чиано причалила «Мария делла Сальвационе», в Гаэту вошли немецкие войска. Пассажиры парусника понимали, какая беда их настигла, все представляли себе меру опасности. Каждую минуту они могут попасть в лапы к фашистам. Ночь напролет Этьен слышал шуршание гальки, она откатывалась назад по пологому берегу, безуспешно догоняя ушедшую волну. Хозяин парусника решительно отказался приютить своих пассажиров на ночь: они могли улечься на дощатой решетке, на дне, и накрыться парусиной. Но вдруг облава? Немцы еще заподозрят хозяина в том, что он хочет увезти кого-то из Гаэты. Все шестеро переночевали под перевернутыми лодками. Итальянец был неистощим в ругательствах по адресу хозяина парусника, чтобы ему черти на том свете смолы не пожалели. Три албанца – они держались особняком – ушли еще перед рассветом, попрощавшись со спутниками. Албанцы решили пробираться на побережье Адриатики, поближе к каблуку Апеннинского сапога, к порту Бари и уже оттуда плыть к родным берегам. На берегу остались Этьен, греческий полковник и итальянец, которому недалеко до дому. Как выяснил итальянец у рыбаков и лодочников, вечером 8 сентября жители Гаэты услышали стрекотание мотоциклов. То был небольшой отряд немцев, очевидно разведка. Мотоциклисты проехали вдоль набережной и постояли там. Вскоре мотоциклисты исчезли, а утром появились танки, цугмашины, тяжелые орудия. После короткого безвластия немцы захватили казармы и военную крепость, начали хозяйничать в городке. Этьен лежал, смотрел на вылинявшее, как всегда перед рассветом, море и гадал: как далеко немцы могли продвинуться на юг? Где проходит линия фронта? В чьих руках Неаполь? Может, фашисты отбили острова обратно и снова хозяйничают на Искье и Понцо, на Вентотене и Санто-Стефано? Останься Лючетти в живых, и Этьен был бы сейчас с ним в Сицилии. Албанцы малознакомые, и ничего удивительного, что они пренебрегли компанией австрийца. А ведь Этьену тоже нужно добираться к Адриатическому морю, чтобы с какой-нибудь оказией переплыть или перелететь в Югославию. Там он скорее найдет кого-нибудь из советских военных. Утром итальянец ушел то ли звонить по телефону в Неаполь, то ли телеграфировать. Этьену и греку звонить и давать телеграммы некому, а показываться в городке, не зная обстановки, опасно. Итальянец вернулся в сумерки, пришла пора прощаться со спутниками. Безопаснее отправляться сегодня с темнотой, идти придется всю ночь. До света нужно пройти сорок километров. Он решил идти домой напрямик через горы. Итальянец родом из Чочарии, их деревня Бокка Секка севернее Монте-Кассино. Бокка Секка в переводе означает «сухой рот»: в деревне всегда не хватает воды. Хочет ли австриец составить ему компанию в ночном походе? Этьен тяжело вздохнул: такое путешествие не для него, где ему, больному, взять силы, чтобы карабкаться по горам. Он поблагодарил итальянца и отказался. Он не хочет, не имеет права быть товарищу в тягость, в опасную тягость. Итальянец в ответ сочувственно пожал могучими плечами. Собственно, и предлагал итальянец себя австрийцу в попутчики из приличия, чтобы не обидеть хорошего товарища, а отказ выслушал с чувством неумело скрытого облегчения. Австриец со своим кашлем и одышкой, конечно, не компаньон для такого горного марша. Рука итальянца – Этьен с завистью отметил это про себя, когда прощался с ним, – была налита силой. На второе утро Этьен и грек отправились бродить по улицам проснувшейся Гаэты. Нужно было исподволь выяснить обстановку, узнать, где линия фронта, ходят ли и куда поезда или катера; работой транспорта итальянец не интересовался вовсе и ничего не узнал. Видимо, все войска прошли через городок к югу, к линии фронта. Время от времени попадались лишь эсэсовцы или солдаты немецкой жандармерии – у них под воротником висит большая металлическая бляха на толстой цепи. Пока встречи с патрулями не принесли неприятностей… Но вдруг Этьена задержат, потребуют документы? Не слишком-то понравится жандарму справка о том, что задержанного судил Особый трибунал по защите фашизма, что он сидел столько-то лет в тюрьме у фашистов и выпущен на свободу американцами! Держать при себе подобные документы опасно, нужно припрятать их в каком-нибудь тайнике. На вокзале выяснилось, что поезда в южном направлении не ходят, а билеты на север касса продает только с разрешения гестапо, после короткого допроса там ставят специальный штемпель на заявлении. Спутник Этьена узнал у дежурного на вокзале, что в Гаэте есть греческий консул, вот адрес. Полковник мгновенно пришел к выводу, что ходить вдвоем опаснее, чем поодиночке, а потому пусть каждый идет своей дорогой. Он небрежно попрощался, и был таков. Этьен с новой болью пережил свое одиночество. Оно тем более печально, что в кармане всего 200 обесцененных лир. Он постоял, ошеломленный торопливым исчезновением греческого полковника, затем медленно побрел наугад. Спустился от вокзала к церкви. Аннунциаты. Часы на фасаде показывали половину второго; он не ел два дня и сильно ослабел. А позавчерашняя гребля, видимо, отняла остатки сил… Он съел бы свой обед на Санто-Стефано еще два часа назад. Сейчас бы хоть пайку хлеба и миску супа, какую давали в эргастоло! В обеденное время голод всегда ощущается острее. Ничего не поделаешь, рефлекс. По своей давней, казалось забытой, но автоматически воскресшей привычке Этьен внимательно поглядывал на таблички с названиями улиц, на вывески. Виа Бономо, 8. Отель «Рома», номера с ваннами. Не сунешься туда без документов, а лиры нужны на питание. Он убыстрил шаг; крышу отеля заменит днище перевернутой шлюпки, а ванну он примет морскую. Измерил шагами улицу Фаустино из конца в конец и решился заглянуть в дешевую, если судить по мебели и убранству, тратторию. Сидя за столиком у окна, Этьен приметил щель в каменной стене под мраморным подоконником. Туда он и засунул незаметно документы. Этьен заказал «лазанье» – блинчики с мясом в томатном соусе и стаканчик молодого фраскатти. Он ужаснулся тому, как обесценилась лира. При таких ценах состояние его позволяет пообедать еще два раза, не больше. Этьен вышел очень огорченный: он лишь едва утолил голод. Проходя мимо парикмахерской, он неожиданно увидел свое отражение в зеркале, висящем у двери, и даже остановился. Да, годы и невзгоды оставили свой отпечаток, изрезали лицо глубокими морщинами. Он улыбнулся самому себе. Почему улыбка такая несмелая, мимолетная? Может, оттого, что она редко появляется? «А самый последний штрих на лицо накладывает смерть. И в то мгновение ты вряд ли улыбнешься…» Столько лет не видел себя без каторжного одеяния! Вид, честно сказать, не авантажный. Теперь понятно, почему мальчишки-попрошайки ни разу ему не досаждали: у такого синьора не разживешься. Про него самого можно сказать: прилично одетый нищий. Он бродил по улицам, по набережным, и острое ощущение жизни, какой тревожной она ни была сейчас, помогало забывать о недомогании, скверном самочувствии, крайней степени усталости. Пожалуй, его внешность будет меньше бросаться в глаза там, где все хуже одеты, например среда портового люда, рыбаков. Он пошел под гору по улице Чезаре Батисты, обсаженной липами и ведущей к пристани, неторопливо прогулялся по пляжу, добрел до пристани Чиано и присел там на парапет. Вся бухта как на ладони. Справа на скале, укрытой пиниями, на обрывистом мысе Орландо старинная крепость. Лодки, как здесь принято, пестро раскрашены, на бортах надписи. На носу изображения святых, чаще всего – покровителя моряков Франческо де Паоло. На одной лодке начертано: «Управляю я, но божий промысел сильней меня». Вдоль берега по воде брел старик с проволочным ведром и бреднем. Грубая роба скроена из старого паруса. Штаны подвернуты, торчат черные, не по-стариковски сильные ноги, тонкие, как весла. Старик то взбирался на камни, то заходил по пояс в воду. Он вылавливал креветок, мидии, съедобные улитки «лумати», всяческую чешуйчатую мелюзгу. А вслед за старым рыбаком по мокрой гальке, по воде, по камням бойко прыгала девушка, также одетая в лохмотья, прокопченная, с крестиком на черной гибкой шее, с высоко подоткнутым подолом, открывающим такие же черные, как у деда, но удивительно красивые ноги, тонкие в щиколотках, с округлыми икрами и коленями. И голубая вода залива ласкалась у ее ног. Будто молния осветила какой-то темный закоулок памяти – Этьен вспомнил пушкинские строчки, за которые никак не мог ухватиться сознанием долгие годы: «…бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам!» И он с наслаждением продекламировал вполголоса всю строфу: «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам!» У него даже улучшилось настроение, как если бы кто-то из близких разделил с ним сейчас тревожное и опасное одиночество, как если бы рядом с Этьеном сидели сейчас на парапете живой Лючетти и свободный Марьяни. Этьен уже понял, чем объясняется его повышенный интерес к содержимому проволочного ведра, – разве можно насытиться карликовой порцией «лазанье»? Долго глядел он на море, туда, где должен находиться остров Санто-Стефано, где провел в заточении два с половиной года и куда сейчас, чтобы не попадаться на глаза немецким патрулям и фашистам-гвардейцам, не прочь был бы вернуться на кратковременное вольное поселение, чтобы переждать там политическую непогоду. Сегодня утром хозяин парусника, который собирался в обратный рейс на острова и уже припас бочонок бензина, отказался взять с собой Этьена. Хозяин сослался на то, что немецкие катера шныряют вдоль берега и осматривают все посудины. Горе тому, кто везет партизан, коммунистов, дезертиров из армии. Лодку тут же топят, могут отправить на дно и пассажиров и лодочника. И все-таки Этьен был убежден: если бы он мог предложить крупную сумму, хозяин согласился бы отвезти его обратно на Искью или Вентотене. Но хозяин знал, что седой пассажир с впалыми щеками богат только кашлем. Зачем же рисковать ради больного нищего? Днем в траттории «Фаустино» Этьен слышал обрывки разговора, который заставил его долго допивать стаканчик фраскатти. Через Гаэту прошли части немецкой 15-й мотодивизии. Нацисты разоружили итальянцев в казармах Неаполя, в субботу 11 сентября на улицах Неаполя видели много танков и броневиков. По ночам те, за кем охотятся нацисты и местные фашисты, улепетывают из Гаэты, легче спрятаться в Неаполе. Если ночь темная, а гребцы хорошие – можно скрыться. Конечно, при условии, что лодку не высмотрит луч прожектора. А для этого нужно уйти далеко в море на парусе или на веслах. Моторные лодки для такого путешествия не годятся, далеко бежит над водой звук мотора. Этьен весь день околачивался на пристани, пытаясь вызнать – не собирается ли отчалить какая-нибудь лодка, бот, баркас? Может, найдутся добрые люди и примут участие в его судьбе? Но сколько Этьен ни приглядывался, ни расспрашивал – ничего обнадеживающего. Впрочем, разве сборы к отплытию шли бы среди бела дня, на глазах у зевак? А владельцы лодок, не имеющих паруса, еще до разговора успевали бросить на бродягу оценивающий взгляд: гребец из такого пассажира никудышный. Ночь – уже третью – он проведет теперь в одиночестве, под той самой перевернутой шлюпкой, от которой разит перегретой смолой. Может, ночь окажется более покладистой и милосердной, чем день? Он не прочь бы вечером еще раз наведаться в «Фаустино», чтобы поужинать, но сегодняшний бюджет исчерпан. Третья ночь на берегу прошла еще более тревожно. Несколько раз поднималась стрельба, прожекторы шарили, высвечивали горизонт, а перед утром весь район порта, все набережные и пристани были оцеплены патрулями. Этьену удалось ускользнуть лишь потому, что он прошел мимо самого прожектора. Прожектористы не обратили внимания на спокойно шагающего прохожего, а патруль, ослепленный светом, его не увидел. Ночью немцы обнаружили и настигли в открытом море несколько лодок с перебежчиками. Лодки потопили, а беглецов расстреляли. Наутро последовал приказ потопить все, что только держится на плаву, всю разномастную рыбачью эскадру. Весь день взрывали и топили в порту суда, суденышки и лодки Гаэты. Немцы боялись десанта с моря. Погасли красные фонари на волнорезе. Потух проблесковый маяк на мысе Орландо. В городе ввели строгое затемнение. На набережной установили батарею тяжелых орудий. Возле здания муниципалитета спилили раскидистые платаны – они мешали береговой батарее. Из района, прилегающего к порту, еще раньше выселили всех жителей, там расположились на постой немецкие солдаты. Печально пустели заброшенные виноградники: листья пожелтели, а гроздья потемнели, начали гнить, переспели, изъеденные осами и ящерицами. Немцы объявили Гаэту прифронтовым городом, ввели комендантский час. Этьен еще вчера заметил, что в городке прибавилось солдат и офицеров в эсэсовской форме. Этьен подслушал, что такой же комендантский час установлен в Неаполе, там были стычки между жителями и солдатами эсэсовской дивизии «Герман Геринг». После какой-то диверсии патриотов нацисты оцепили улицу, где находится университет, устроили повальный обыск и подожгли университетскую библиотеку. Нацисты заставили стоять на коленях пять тысяч неаполитанцев, какого-то моряка расстреляли, а комендант пригрозил: за каждого раненого или убитого немецкого солдата он расстреляет сто итальянцев. Может быть, при таком терроре было к лучшему, что лодочники отказались увезти Этьена в Неаполь? Наутро осложнилась обстановка и в Гаэте: фашисты из республиканской гвардии устроили облаву на мужчин. Тех, кто помоложе, собирали в маршевые роты для отправки на фронт, иных посылали на рытье окопов, на строительство оборонительных сооружений, на восстановление разрушенного бомбами волнореза. Фашисты методично прочесывали квартал за кварталом. 
Теперь Этьен на берег не выходил, бродил по улицам, удаленным от моря. Но после второго скудного обеда в «Фаустино» он все-таки угодил в облаву, когда вышел из траттории. Все ближе выстрелы, крики «мани альто!», что означает «руки вверх!». Куда бежать? Превозмогая одышку, он побежал вверх по улице Фаустино. Но патруль уже перекрыл впереди перекресток. Этьен оказался в западне. Он распахнул ближайшую калитку и шмыгнул в тесный тенистый двор. На крыльце сидела женщина и колола молотком миндаль, кидая ядрышки в ведро; ног ее не было видно за кучей скорлупы. При виде беглеца она испугалась. Этьен приложил палец к губам, и женщина безмолвно скрылась в доме, а он пробежал к сараю в глубине двора. Хорошо бы перемахнуть через каменный забор, перебраться в соседний двор, а оттуда выйти на другую улицу. Но забор слишком высок, не перемахнет через него недавний Чинкванто Чинкве, а за забором надрывается от лая собака. В сарае пахло козьим молоком, дымом и кислой шерстью. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел в углу козу. Прислушался – на улице зазвякали подковки сапог, натужно проскрипела калитка, несколько человек протопали по ступенькам крыльца. Через раскрытое окно из дома донеслись выкрики, отборная ругань, детский плач. В смутной невнятице, заглушаемой лаем соседской собаки, удалось кое-что разобрать. В доме шел допрос, кто-то кричал сдавленным гортанным голосом, грозился начать обыск. Если найдут посторонних, хозяев расстреляют. Хозяйка клялась, что в доме посторонних нет. Откуда ей знать – прячется кто-нибудь во дворе или нет? Пусть ищут! Этьен знал, как проводят такие обыски – прошивают из автомата все укромные углы, перед тем как туда заглянуть. Хорошо, что хозяйка его не выдала, но если от угроз перейдут к действиям… Кто станет подвергать себя смертельной опасности, спасая бродягу? И имеет ли он право обрекать на расстрел обитателей этого дома? Все равно его обнаружат через минуту-другую живого или мертвого: собака чуяла его и надрывалась все сильнее. Он вышел из своего ненадежного убежища, пересек двор, поднялся на крыльцо, насыпал себе полный карман миндаля, набрал еще пригоршню и, не входя в дом, куда набились фашисты, спокойно окликнул их по-немецки. Этьен грыз миндаль и властно требовал по-немецки, чтобы его немедленно доставили к германскому консулу или к коменданту города, но только к немцу. Ему не убежать от такой оравы гончих, бегун теперь из него никудышный. Но местные фашисты, пожалуй, не решатся расстрелять немца, не понимающего по-итальянски. Прежде всего Этьен заверил старшего, с повязкой на рукаве (тот немного понимал по-немецки), что хозяева дома не подозревали о его появлении во дворе, а зашел он, чтобы переждать, пока утихнет стрельба на улице. Злым гортанным голосом старший отдал команду обыскать двор. Кто-то подошел к сараю и старательно прострочил его из автомата, не заглядывая внутрь. В сарае было тихо – то ли козу не задело, то ли, наоборот, убило наповал. Этьена увели со двора, а перед тем грубо обыскали. Счастье, что он расстался со своими документами. Он неплохо играл роль немца, не понимающего по-итальянски. Фашисты не скрытничая говорили о задержанном и на ходу решали – куда именно вести «тедеско», то есть немца. – С гестапо нам лучше не ссориться, – сказал тот, кто шагал у Этьена за спиной, играя затвором карабина; может, у конвоира заело затвор, а может, он гремел для устрашения. Шагая под конвоем, Этьен снова и снова обдумывал каждый свой шаг. Можно ли было избежать нового ареста? Нет, просто-напросто обстоятельства повернулись против него… Разлука с Марьяни. Смерть Лючетти. Несчастливый маршрут парусника в Гаэту. Трусливый и жадный шкипер, которому пришлось отдать чуть ли не все лиры. Приступ слабости, вызванный непосильной греблей и голодным бродяжничеством. Эх, если бы он был в силах уйти в горы с тем крестьянином-здоровяком! Но где ему взбираться по крутогорью, когда забор среднего роста теперь для него – горный хребет, более неприступный, чем горы Чочарии. В былые годы он лихо перемахнул бы через каменный забор, задушил бы собаку, вырвался б из облавы, а сейчас… Задержанного привели на улицу Катена, но тут выяснилось, что гестапо переехало отсюда в монастырь ирландских сестер. Тащись теперь по жаре на другой край города, в этот чертов монастырь… Проще всего прикончить «тедеско» на месте. Но вдруг это какая-то нацистская птица? Неприятностей не оберешься. – Если в гестапо не удостоверят твою личность, – сказал тот, который играл затвором карабина, – я не дам за твою голову и пуговицы от брюк. Наконец добрались до монастыря. Чин гестапо небрежно допросил Этьена. Тот настаивал, что он австриец, хотя может подтвердить это только своим венским произношением. Документы у него отобрали фашистские гвардейцы еще утром, при первой облаве. Задержан по недоразумению, просит его освободить и помочь добраться на родину. – Все заботы о вашем отъезде в Австрию мы возьмем на себя, – ухмыльнулся гестаповец, заканчивая блицдопрос. Кертнер притворился, что его устраивает такое решение вопроса, при условии, если ему вернут свободу. Но гестаповец отрицательно покачал головой, вызвал часового и коротко распорядился: – В крепость! 93 Только тот, кто после длительного заточения оказался на свободе, а затем вновь ее лишился, может понять меру страдания Этьена. Но ожесточенная воля и долг твердили ему: «Ты можешь, ты должен выдержать и это…» Несколько дней, которые он прожил свободным человеком, уже представлялись сном. Свобода дважды промелькнула, как призрак: в первый раз – в таком близком, но несостоявшемся будущем, а теперь – в мимолетном прошлом. Этьен не успел надышаться ее живительным воздухом. В камере горячо обсуждали военные и политические новости, которые заодно с волнами бились прибоем о каменное подножие крепости. И сюда долетали запоздалые отзвуки грандиозной Орловско-Курской битвы. Как ни лгали официальные телеграммы, как виртуозно ни изворачивались военные обозреватели, было очевидно, что немцы потерпели на Восточном фронте жестокое поражение. Интересно бы знать, где сейчас проходит линия фронта и по какую ее сторону находится Рыльск? Насколько Этьен помнит, Рыльск лежит строго на запад от Курска. После окончания первой академии и до поступления во вторую Маневич был командиром роты, затем начальником полковой школы в 55-й стрелковой дивизии и служил тогда в Рыльске. Что сохранила память о жизни в этом городке? После занятий всей семьей катались на лодке, ездили верхом. Иногда ходили по грибы. И во всех прогулках его, Надю, маленькую Тусеньку безотлучно сопровождала кудлатая собака Дианка дворового происхождения. Сколько километров и лет отделяют Рыльск от Гаэты? Другая эра, другая планета… Позже в камере бурно обсуждали похищение Муссолини из отеля «Кампо императоре» 12 сентября. Весть об этом событии быстро проникла на мыс Орландо. Говорили о Скорцени – организаторе похищения. А ведь какие-то военные чины отвечали перед итальянским народом за охрану Муссолини и при попытке к бегству или к похищению обязаны были его убить. Через несколько дней стало известно, что Муссолини вернулся в Италию на автомобиле, подаренном ему фюрером. «Какая все-таки несправедливость, – горько усмехнулся Этьен. – Муссолини был под стражей всего полтора месяца, и его выкрали. А мне не могли устроить побег за семь лет!» Соседом Этьена по нарам оказался английский летчик, сбитый в воздушном бою над островом Вентотене. Как знать, может, тот самый воздушный бой и наблюдал Этьен из камеры на Санто-Стефано? Англичанин спустился на парашюте, потом долго мотался по морю в надувной лодке. Хорошо еще, что у него в аварийном бачке были спирт, пресная вода, галеты. На вопрос англичанина о том, как сосед попал в плен, Этьен ответил, что был пленен намного раньше в Испании. Больше Этьен на эту тему не распространялся, а англичанин не расспрашивал. Долговязый и белобрысый отпрыск каких-то там сэров или пэров отличался хорошими манерами и в тюрьме был вежлив, как в Оксфордском университете. Тюремный день он начинал молитвой и заканчивал ею. У Этьена с англичанином завязались приятельские отношения, чему способствовал взгляд того на второй фронт. Этьен загодя готов был вступить в спор и обрушить на оппонента немало злых упреков, но белобрысый летчик не дал для этого повода, сам возмущался бесконечными проволочками, искренне считал, что затягивать открытие второго фронта не по-джентльменски и не по-солдатски. Этьен был единственным человеком в камере, с которым летчик мог поддерживать разговор, итальянского он совсем не знал. А Этьен с удовольствием говорил по-английски. На девятый день заключения австрийца, 23 сентября, обитатели камеры в тревоге бросились к окошкам, которые не были закрыты жестяными бельмами. Зарево освещало камеру так, будто в каждом окошке висела за решеткой яркая-преяркая люстра. Тюремщик сказал, что это горит на плаву и никак не затонет судно «Гуарнаре». А наутро волны прибили к мысу Орландо корабельные обломки, обгорелую шлюпку, неприкаянные доски, весла и обугленные спасательные круги. Снова штормило, и потому берег был отделен от зеленовато-серой воды белой линией прибоя. Как все арестанты мечтали увидеть своими глазами высадку десанта в Гаэте! Но сколько ни вглядывались в море Этьен и английский летчик, не видать было корабельного дымка. 94 Службу в военной крепости несли итальянские тюремщики. Лишь перед погрузкой в вагоны Этьен оказался под конвоем эсэсовцев. Оберштурмфюрер шел вдоль шеренги, проверял номера заключенных и зуботычинами подравнивал строй, причем делал это беззлобно и деловито. Всех, кого перенумеровали, – обрили, всем вшили в куртки лоскуты полотна, на которых уже были намалеваны масляной краской номера, а немецкие конвоиры при этом шумно развлекались, гоготали, не затрачивая внимания на тех, кто толпился за колючей загородкой. Вагон набили до отказа, но на платформу пригнали еще группу арестантов. Всем было не усесться, и эсэсовец, размахивая автоматом, знакомил со своей системой: заключенный садился в коридоре на пол, спиной к противоположной, запертой двери, согнув и раздвинув колени, у него между ног садился другой. И таким способом в коридоре уселось человек тридцать. Снова Этьен едет поездом, снова переезд полон тревоги, смутного предчувствия беды. Такое ощущение всегда возникает, когда тебя неизвестно куда везут. Стучат, постукивают колеса на стыках рельсов, на стрелках, доносятся паровозные гудки, в окна врывается полузабытый запах железной дороги – смешанный запах паровозного дыма, каменноугольной смолы, перегретых букс, запах, который манит нас с детства. Эсэсовец, который при загрузке арестантского вагона так умело уподобил людей сардинкам в банке, переусердствовал. Тучный, краснорожий оберштурмфюрер теперь не мог протиснуться по коридору из конца в конец вагона без того, чтобы это при его габаритах не выглядело комично. Тучный накричал на эсэсовца, и группу арестантов, в том числе австрийца под номером 576, перегнали на какой-то станции в соседний вагон. Не думал Этьен, что пересадка в другой, такой же вонючий, удушливый, вшивый вагон, битком набитый такими же, как он, несчастливцами, принесет ему радостную встречу – везут большую группу русских военнопленных! Они бежали в разное время из концлагерей, добрались до Италии, Югославии, воевали в партизанских отрядах, прятались в горах, в лесах, и там их настигли каратели. Сколько лет Этьен не слышал русской речи и сам не разговаривал, кроме как с самим собой! Ему не так важно, о чем говорят, лишь бы говорили по-русски! Кто-то устало, злобно ругнулся, но и к давным-давно забытым ругательствам он прислушивался с удовольствием. Вот не думал, что может статься такое! До него долетали обрывки разговоров – то серьезных, обстоятельных, то сдобренных неизбывным юмором, которого не может вытравить из русской речи самая жестокая судьбина-кручина. – …вот тебе порог, сказала моя мачеха, вот тебе семьдесят семь дорог – выбирай и проваливай! И заблудился я в дебрях своей судьбы… – …полтора года старшиной в роте хлопотал. Шутки в сторону! Три раза менял славянам обмундирование, два раза валенки и рукавицы выдавал, один раз летнее обмундирование, полный комплект – от пилотки до портянок… – …ой, не скажи – у сапера на войне свои удобства. У нас народ поворотливый, затейный. И письмо можно написать на малой саперной лопатке. Могилку вырыть – опять инструмент под рукой. И голову от осколков, в крайнем случае, есть чем замаскировать. – …у меня, между прочим, тоже голова не дареная… – …семья у нас гнездилась большая, сильная. В девять кос выходили на луг сено косить… А в полдень бабка ставила горшок с вареной бульбой. Пар от нее духовитый. Горшок у бабки на припечке стоял, или, по-нашему, по-белорусски сказать, – в загнетке… А двое переговаривались рядом с Этьеном: – Эх, доля сиротская! Стоя выспишься, на ладони пообедаешь. – Как же, пообедаешь у него, у Гитлера, держи рот шире! Как у нас в полесских болотах говорят: день не едим, два не едим, долго-долго погодим и опять не едим. – Лыхо тому зима, у кого кожуха нэма, чоботы ледащи и исты нэма що… – В общем, живем – не жители, а умрем – не родители. Наше дело теперь цыц! – «Цыц» еще услышит фриц. А нам приказ – голов не вешать и глядеть вперед!.. Пока Гитлеру капут не сделаем. Милый сердцу и уху родной язык во всем богатстве говоров, диалектов, интонаций, с его характерной певучестью! Оказывается, русские пленные называют немцев «фрицами». Этьен знал, что в конце первой мировой войны английские солдаты кричали немцам: «Фриц, капут!» А сейчас в вагоне уже несколько раз прозвучало разноязычное, но общепонятное «Гитлер капут!». Лица в вагонной полутьме – как серые пятна, но Этьен хорошо запомнил при свете спички лицо сапера, который переговаривался с кем-то рядом. Все лицо в оспенных знаках. Этьен легко узнавал голос сапера Кастуся Шостака, это он только что призывал голов не вешать и смотреть вперед. Это он не разучился улыбаться, не терял надежды на лучшее, в охотку шутил – жизнерадостный смертник! Сапер Шостак первым заговорил с Этьеном: – Эй, служивый! Где ты столько кашля достал? – Он сидел на полу, укрытый шинелью. Этьен махнул рукой, не мог ответить, так зашелся кашлем. Шостак не поленился, встал, с трудом пробрался через тех, кто спал, сидя в коридоре, принес воды в консервной банке и предупредил: – Губы не порежь, жесть ржавая. – Дякую, – поблагодарил Этьен. – Теперь если не умру, так жив буду. – Да ты, кажись, из наших, из белорусов? – обрадовался Шостак. . – Чаусы, оттуда родом… – Можно сказать, родня! На одном солнце онучи сушили. От голоса Кастуся Шостака веяло родной Белоруссией. «Увага, увага! Гаворыць Мiнск. Добрай ранiцы, товарышы радыёслухачы!» – почудился Этьену в темном вагоне голос минского диктора: когда Этьен приезжал к своим в Чаусы, то каждое утро слышал этого диктора. 
Кроме жизнелюбивого сапера, Этьен уже различал по голосу в вагонном мраке техника-лейтенанта Демирчяна, бывшего помощника командира полка по противохимической обороне. Узнавал по голосу военврача Духовенского; тот очутился в плену, потому что не бросил без помощи своих раненых. Узнавал по голосу и могучего бронебойщика Зазнобина; у него газами опалило глаза, а в плен он попал обгоревший и полуслепой. – Ранило бы меня – дело житейское, – доносился глухой басок Зазнобина. – А то ни одна пуля, ни один осколок ко мне не приласкались. Кто поверит контузии? Этьен даже не представлял себе, как выглядит это самое противотанковое ружье, и, чтобы не попасть впросак, не решился спросить, когда оно появилось на вооружении. А вдруг ружье пришло в армию еще до войны? Какой же Этьен тогда, черт бы его взял, военнопленный?! Два крайних купе в этом вагоне были выделены для сыпнотифозных. Оттуда вчера вынесли два или три трупа. Но Этьен, кажется, рад был бы ехать и в зачумленном вагоне, лишь бы слышать русскую речь. Жадно вслушивался Этьен в разговоры, но с еще большим удовольствием то и дело (нужно – не нужно, к месту – не к месту) заговаривал с попутчиками. Иногда он становился болтлив, даже надоедлив. Он понимал, что утомительно многословен, но наслаждался вновь обретенной возможностью произносить вслух русские слова. Этьен произнес слово «невытерпимо» и усомнился: говорят ли так по-русски? Что-то сосед странно его переспросил, расслышал, но не понял. Он говорил, говорил, говорил, но при этом прислушивался к себе с недоверием – не разучился ли думать по-русски? Последние семь лет он не разговаривал на родном языке, а прежде наговаривался досыта, лишь когда приезжал в Россию. Не говорит ли он теперь по-русски с акцентом? Он этого не знал и не мог знать, но чувствовал, что не вызывает полного доверия у соотечественников. Вот бы показать им сейчас приговор Особого трибунала по защите фашизма и документы, которые спрятаны в щели под мраморным подоконником, у крайнего окна слева, в траттории «Фаустино», в Гаэте. А в сейфе на тихой улице в Москве хранится его партийный билет № 123915, выданный в 1918 году. Его явно принимали за иностранца, прилично знающего русский язык. – А помолчать ты, в крайнем случае, не можешь? – спросил у Этьена добродушным шепотом сапер Шостак. – Ничим-чагенечко не говорить? А то славяне на тебя коситься стали. Уж слишком бойко на разных наречиях балакаешь. Еще кто-нибудь подумает – тебя гестаповцы к нам за компанию подсадили. – Подсадили? – Этьен задохнулся от обиды и лишь после длинной, нелегкой паузы произнес по-белорусски: – Смола к дубу не пристанет. Развиднелось, темнота улетучилась даже из углов вагона, коридор стал виден из конца в конец. Шостак изучающе посмотрел на русского иностранца и сказал раздумчиво: – Говоришь ты, правда, не чисто. Но на провокатора, в крайнем случае, не похож. – И на том спасибо, – усмехнулся Этьен невесело. – Но все-таки есть в тебе какое-то недоразумение. – Как не быть… По-белорусски сказать – с семи печей хлеб ел. – Говоришь, в Красной Армии служил? – Приведен к Красной присяге в тысяча девятьсот двадцать втором году. На Красной площади. Первомайский парад. Когда в академию приняли. – И до каких чинов дослужился? – Комбриг. – Комбриги давно из моды вышли. Их приравняли к генералам. Надолго замолчали, а потом Шостак спросил Этьена так, будто не было никакой паузы в их разговоре: – И как ты, мил человек, так быстро от русского языка отстал? Можно даже сказать – запамятовал? Свой язык, в крайнем случае, забыть разве мыслимо? Быстро у тебя память отнялась. Мы тоже не первый месяц от родной земли отторгнутые, но все-таки… Этьен промолчал, но в немом смятении почувствовал, как слезы, непрошеные слезы текут по колючим щекам. Он провел рукой по лицу и был доволен, что сидел с поникшей головой. 95 Только спустя сутки они добрались до Рима. Часовые на товарной станции, возле депо и возле пакгаузов не поглядывали боязливо на небо, как на промежуточных станциях. В Риме не бывало воздушной тревоги, не боялись налетов. В арестантском вагоне уже знали, что Рим объявлен «открытым городом», хотя там и хозяйничают нацисты. На станции Рим-сортировочная к их вагонам прицепили другие, тоже с арестованными. Прошел слух, что эшелон направляется в Австрию, там всех ждут допросы, проверки, там решится судьба каждого. Ехать Конраду Кертнеру в Австрию – ехать на пытки, на казнь. Сменить бы как-нибудь в пути имя, отделаться от своего номера! Этьен сказал Шостаку, что фашисты интернировали его после поражения Испанской республики, что он уже не первый год мыкается по тюрьмам и лагерям и что ему нельзя, ну никак нельзя появляться в Австрии под своей нынешней фамилией, это смерти подобно. – Прежде всего нужно сбыть с рук свой номер, – сказал Шостак. – А где найти другой? – Номерок мы тебе, в крайнем случае, достанем. Но дело осложнялось – эсэсовцы следят не только за тем, чтобы сходилось поголовье арестантов. Во время аппелей они выкликают не только номера, но устраивают и поименную перекличку. Значит, кроме номера, нужно еще обязательно сменить фамилию, что труднее. А как хочется назваться русским! Даже если не придется долго жить, то хотя бы для того, чтобы не умереть под чужеземным именем. Ходили слухи, что завтра будет проведен очередной аппель, времени в обрез. Шостак тоже понимал, что взять первую попавшуюся вымышленную фамилию нельзя, а нужно стать наследником кого-нибудь из тех, кто значится в списке конвоя, кто упоминался еще живой. – Человек не вол, в одной шкуре не стареет, – произнес Шостак ободряюще. – Семь шкур с тебя уже содрали, а мы на тебя восьмую напялим. Что Гитлеру покойник, если для него и живой человек – ноль без палочки?.. Следующей ночью, как, впрочем, и во все предыдущие, в удушливой темноте кто-то чиркал спичкой, наступал на ноги и чуть ли не на голову… Затем донесся знакомый хрипловатый бас: «Отмучился наш Яковлев, царство ему небесное». – Ну-ка, снимай свою одежонку, – зашептал Шостак. – И пожертвуй ее новопреставленному рабу божьему Яковлеву… Этьен торопливо снял с себя мятый пиджак с номером 576. – Обманем еще раз бога или, в крайнем случае, начальника конвоя… – Шостак унес пиджак в другой конец вагона, в купе для сыпнотифозных. Схватили Этьена в жаркий сентябрьский день, а после того он больше двух месяцев просидел в крепости. Поезд шел на север. Рим остался позади. Стоит ли удивляться, что Этьен сильно мерз ночами. Он жил на белом свете без шапки, без шинели. Если бы не душная теснота в вагоне, мерз бы еще сильнее. Но давно ему не было так зябко, как сейчас. Или страшновато сидеть в одной рубахе? Недоставало, чтобы его застукали в таком виде. Итак, если затея Шостака удастся, один двойник Этьена сменит другого. Он ощутил мимолетное чувство сожаления по поводу того, что Конрад Кертнер уходит из жизни, уходит безвозвратно и никогда не воскреснет. Да, немало поработал на своем разведчицком веку этот самый австрияк Кертнер! «Сколько раз ты играл в жмурки со смертью! Нужно отдать должное, у тебя была профессиональная, тренированная память. А каким ты был любопытным! Теперь вся твоя любознательность ни к чему. Если говорить честно, мне не всегда нравилось твое поведение. Слишком часто тебе приходилось быть неискренним, лживым. Но, нужно еще раз отдать тебе должное, ты был исполнительным, оборотистым, приглядистым, ловким, неглупым и нетрусливым парнем – да будет тебе пухом древняя земля Рима!..» На самом деле сапер Шостак отсутствовал так долго или продрогшему Этьену показалось, что прошел чуть ли не час? Шостак появился, держа в руках солдатскую гимнастерку, и при робком предутреннем свете Этьен различил лоскут с цифрой 410, вшитый выше левого нагрудного кармана. – Вот держи. Яковлев отказал тебе свой гардероб. А похоронят бедолагу австрийца. Ребят я на этот счет предупрежу. Только, – Шостак услышал, как австрийский комбриг стучит зубами, увидел, как спешит надеть гимнастерку, – возьми-ка ты мою шинель покуда. Тебя цыганский пот пробирает. А гимнастерку сверни до полного света. Прежде чем наряжаться, сообрази ручную дезинфекцию. Обследуй все швы. Тифозная вошь, она злая. У нее, в крайнем случае, и на тебя аппетита хватит… Значит, отныне он будет называться Яковлевым. Но нужно иметь в виду не только аппель, который состоится завтра утром. Его ждут допросы, у него могут выпытывать всю подноготную Яковлева, а времени для того, чтобы сочинить достоверную «легенду», не будет. И новая фамилия, при дотошной и строгой проверке, может подвести. Яковлев, Яковлев, Яковлев-Яков! Яков Никитич! Яков Никитич Старостин! На первом же аппеле он берется объяснить эсэсовцам, что запись в их списке арестантов – ошибочная. Не Яковлев он вовсе, а Яков, Яков Старостин! Поправка должна выглядеть вполне правдоподобной: арестант уточняет данные о себе, боится, что его след безнадежно затеряется. Итак, Яков Никитич Старостин. Вот чью биографию Этьен знает во всех сокровенных подробностях, начиная с той поры, когда воевали с Колчаком, и позже, когда Старостины приютили его и Надю в своей московской квартирке, и кончая тем днем, когда вместе ужинали накануне отъезда Этьена в последнюю заграничную командировку. Остаток ночи Этьен провел без сна, а утром, на полустанке, как и предсказывали, всех выгнали из вагона и провели очередной аппель. Эсэсовец пролаял фамилию «Якофлефф». Этьен извинился и вежливо поправил немца: это имя у него Яков, а фамилия Старостин. Объяснялся Этьен на прекрасном немецком языке, эсэсовец сразу стал внимательнее и сделал уточнение. – В списке не указано ваше воинское звание, – сказал эсэсовец. – Оно вас интересует? – спросил Этьен равнодушным тоном. – Яволь! – Полковник. – Яволь, оберет! – Эсэсовец сделал в списке еще одну поправку. И в самом деле, ну откуда у рядового русского взялось бы такое безукоризненное немецкое произношение? С этой самой минуты, вслед за бойцом Яковлевым, закончил свое существование и коммерсант Конрад Кертнер. А мастер по медницкому делу Яков Никитич Старостин внезапно оказался в плену. 96 Здравствуй, мой милый Яков Никитич! Сколько лет не виделись с тобой, старый друг? Зато теперь будем неразлучны. Когда-то они оказались соседями по вагону. Нет, они не были попутчиками. Оба ютились в вагоне, загнанном в дальний тупик станции Самара-товарная. Купе общего вагона были затянуты ситцевыми занавесками, за ними ютились семьи, жили тесно, спали и на третьих полках. К Старостину тогда приехала из Москвы Зина с семилетней дочкой Раей. По инвалидности тот вагон третьего класса давно перешел на оседлый образ жизни. В тупике, где стоял вагон, рельсы выстлало ржавчиной. Летом на крыше вагона зеленела трава. Женщины сушили белье на веревке, протянутой вдоль вагона, а дети привыкли играть рядом с рельсами и, как дети путевых обходчиков, не обращали внимания на проходящие поезда. А то еще играли на задворках депо, где стояли мертвые паровозы, на них лежал нетронутый снег. Паровозы с потушенными топками как мертвецы, на чьих лицах не тают снежинки. В неподвижном зеленом вагоне жили сотрудники политотдела и чекисты Самаро-Златоустовской железной дороги. Восточный фронт отступил уже далеко. Но по эту сторону фронта было еще неспокойно – белые офицеры, кулаки, меньшевики, эсеры, анархисты устраивали заговоры, готовили восстание, подбивали машинистов, кондукторов на забастовку, на саботаж. Знакомство с Яковом Никитичем началось, когда Маневич был командиром бронепоезда. Он уже не первый год защищал Советскую власть с оружием в руках. Когда же Маневича назначили начальником райполитотдела, знакомство перешло в дружбу. Не одну ночь напролет они проговорили, лежа на соседних полках. По вагону гулял ледяной сквозняк. Уже пожгли все противоснежные щиты, стоявшие поблизости. Старостин, присланный из Москвы по партийной разверстке, рассказывал о Ленине, которого несколько раз видел и слышал. А Маневич последний раз видел Ленина на вокзале в Цюрихе, когда вместе с братом провожал в Россию вагон с эмигрантами. Поезд тронулся, провожающие и отъезжающие запели «Интернационал». Братья Маневичи тоже пели гимн, стоя на перроне, уже не вспомнить сейчас – по-немецки или по-французски. Судя по фотографии в «Известиях» внешне Ленин не изменился за последние два года, только носит кепку, которой в Цюрихе не было. То была первая фотография Ленина, которую напечатали после его ранения. Бойцы Железной дивизии послали телеграмму о взятии Симбирска и получили ответ от Ленина, еще не оправившегося от тяжелого ранения: «Взятие Симбирска – моего родного города – есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны». Старостин рассказывал о своей жизни; невеселых воспоминаний было больше, чем радостных. Сызмальства батрачил. Подростком поступил на завод Дангауэра и Кайзера учеником по медницкому делу. Маневичу было семь лет от роду, когда Старостина выслали в административном порядке из Москвы. Паспорт отобрали и в полицейском управлении выдали карточку со штампом «неблагонадежный». По годам Старостин мог быть Маневичу чуть ли не отцом, но держались они как братья. Старостин определился к Маневичу в инструкторы: «Ты грамотнее, лучше я в помощниках у тебя похожу». У Старостина побогаче житейский опыт, а Маневич – с образованием, и кругозор у него шире. Вместе они ходили на субботники и устраивали облавы на бандитов, которые разбивали и грабили товарные вагоны на сортировочной горке; вместе реквизировали излишки зерна у кулаков; вели заготовку сухарей для голодающих рабочих Москвы и Петрограда. В 1920 году друзья расстались, Маневич проводил Якова Никитича в Москву. Губком отозвал его на Казанскую железную дорогу, в главные паровозные мастерские. В Москву приехали Лева с Наденькой. Он поступал в военную академию, но жить было негде. Зина Старостина решила приютить их у себя, уступили одну из двух комнат. Дружной семьей, как в старом неподвижном вагоне, зажили Старостины и Маневичи в неказистом двухэтажном доме № 41 по Покровской улице. Когда Маневич приехал в Москву впервые, Москва еще хранила много примет царского времени. У Маневича не было денег на извозчика, он ходил пешком в своей порыжевшей кожанке, и в глаза ему бросались старые, с буквами «ять» и твердыми знаками, вывески и щиты с отжившей свой век рекламой, закрывавшие брандмауэры домов. Армейские сапоги прохудились, Маневич хлюпал по лужам, а его наперебой уговаривали купить галоши, то фирмы «Богатырь», то «Треугольникъ», то «Каучукъ». «Имущество у моего дружка известное, – говаривал в то время Яков Никитич. – Пошел в баню – и считай, что съехал с квартиры». А когда сам шел в баню, то неизменно приговаривал, как все паровозные машинисты: «Ну, пойду на горячую промывку». Было время, Старостин гостеприимно предоставил кров слушателю первого курса военной академии Маневичу и его молодой жене. А сейчас Старостин защищает Этьена своим именем. 97 Казалось, ни одного человека больше не удастся втиснуть в битком набитый вагон. Но эсэсовцы пустили в ход приклады, жестоко избили для острастки кого-то, кто, уже стоя в вагоне, упрямо жался к порогу, к воздуху и свету, – в вагон удалось затолкать еще с десяток арестантов. После Флоренции Этьен наконец увидел англичанина. Белые брови и ресницы еще сильнее выделялись, так как состригли его соломенные волосы. Бывшие соседи умудрились обменяться приветственными жестами, и Этьен пожалел, что они попали в разные вагоны. На аппеле они несколько минут стояли рядом, и англичанин успел передать последнюю новость: в Каире встретились Рузвельт, Черчилль и Чан Кай-ши, решали вопросы, связанные с войной против Японии. И откуда только этот белобрысый узнает все новости? Будто носит в кармане потайной радиоприемник… В двухосный вагон с выпуклой крышей затолкали не менее ста арестантов. Весь день стояли на затекших, одеревенелых ногах, согласно покачиваясь, сообща дергаясь, когда паровоз брал с места, поневоле опираясь друг на друга, дыша в лицо один другому. Если бы кто-нибудь вознамерился упасть, то не смог бы – некуда. Эшелон шел как-то неуверенно, с частыми и долгими остановками. Арестантов никто не кормил, не поил. Ни разу не отодвинулась тяжелая, скрипучая дверь. Особенно страдали от жажды. Вагон долго торчал у депо, возле крана, из которого заправляют паровозы, и слышно было, как журчит вода, льющаяся из рукава в тендер и переливающаяся через край. И журчание воды, утекавшей попусту, делало всеобщую жажду еще более мучительной – пытка, придуманная самым изощренным палачом. Шостак распорядился все фляги и котелки передать тем, кто стоит под форточками, оплетенными редкой колючей проволокой. Кое-как наружу просунули фляги и котелки, привязанные к ремням или обрывкам веревок… На эсэсовцев надежды нет. Но, может, пройдет итальянский железнодорожник и сжалится над людьми, умоляющими о таком подаянии? И нашлась добрая душа – не то кондуктор, не то стрелочник, не то сцепщик или тот, кто стучал молотком по скатам, заглядывая в буксы. Кто-то залил всю эту посуду свежей водой. Живительная милостыня! Досыта напился и Этьен. Он закрыл глаза и увидел себя, бегущего по станционной платформе за кипятком. Состав вот-вот отойдет, а в одной из теплушек сидит малознакомая, но уже дорогая его сердцу девушка из Уфы. Они случайно встретились сегодня с Надей на станции Самара во второй раз. Ее приняли за мешочницу и не пускали в теплушку. Она расплакалась от обиды и отчаяния. Он распорядился, чтобы ее пустили, помог устроиться. Он едва успел, обжигая руки, налить кипятку и добежать с чайником до теплушки, как состав на Москву тронулся. Попрощались второпях. Она оторвала уголок от какого-то объявления, прикрепленного к вагонной стенке, торопливо написала свой уфимский адрес и сунула бумажку ему в руку. Он просил Надю найти его на обратном пути на самарском вокзале, в дорполитотделе. Поезд ускорял ход, а он бежал вдогонку за теплушкой, за прощальными взглядами и словами… Вся его довоенная биография – как на ладони, но вот военные годы пока рисуются весьма смутно, неотчетливо. Поскорее уточнить «легенду»! На каждой остановке можно ждать выгрузки и допроса с пристрастием: кто таков, на каком фронте и при каких обстоятельствах попал в плен, где обретался позже? Вот почему Этьен, стоя в тесной, согласно пошатывающейся толпе, прислушивался к разговорам военнопленных и сам не ленился расспрашивать. Хоть по крупицам, по кусочкам, но склеить свою фронтовую «легенду»! Ну, а поскольку ты, Яков Никитич, назвался полковником, то и кругозор у тебя, Яков Никитич, полковницкий, и военные познания твои нуждаются в обновлении, проверке. Тебе предстоит вот сейчас, на колесах, стоя в тряской душегубке, дыша смрадными испарениями, пройти краткосрочные курсы по усовершенствованию комсостава, курсы, на которых никто не даст тебе переэкзаменовки и где не от кого ждать поблажки. Опасно не знать важных армейских новостей, особенно предвоенных, не знать нового оружия, не знать фронтовых перипетий до плена. Он долго стоял в подрагивающей полутьме, лицом к лицу с танкистом. Еще часа два назад можно было заметить, что лицо у танкиста обожжено, и виднелись дырочки на плечах его изорванной гимнастерки. Оказывается, в нашей армии ввели погоны, это дырочки для шнурков. Вот бы поглядеть на погон! Но, как оказалось, погоны ввели только в 1943 году, а потому для «легенды» они ему не нужны. Старостин выспрашивал: – А верно, товарищ танкист, что немецкий «фердинанд» без пулемета? – Зато броня у него серьезная. – Броня броней. Но как же все-таки без пулемета? – удивлялся Старостин. – Значит, для ближнего боя непригоден. Во всяком случае, сильно уязвим. – А «тигр» – хищник еще серьезнее. – Забыл, какой толщины у него лобовая броня… – Кажись, сто пятьдесят миллиметров. А если еще пушка длинноствольная, восемьдесят восемь миллиметров… Радостно было услышать, что танк «Т-34», потомок той машины, в таинство рождения которой Этьен когда-то был посвящен, оправдал надежды. «Тридцатьчетверка» успешно вела дуэли с немецким танком «T-IV». Немцы могли нанести «тридцатьчетверке» смертельный удар только с кормы или угодить в мотор через жалюзи. Очень хочется побольше расспросить про «тигры» и «фердинанды». Когда они появились? Если после того, как Старостин попал в плен, – его расспросы будут звучать вполне естественно. А если «тигры» и «фердинанды» – сорок первого года рождения? Какой же он, черт его побери, полковник, если ничегошеньки о танках не знает? Вот и приходится допытываться у танкиста, который назвал себя младшим лейтенантом. А Старостин и про звание такое не слышал, так же как не знал, что теперь в Красной Армии завелись подполковники. Еще важнее Старостину вызнать географические, календарные данные и все другие подробности какого-нибудь крупного окружения, при котором в плен сразу попало много народу. Выгоднее назвать окружение, которое случилось раньше, чтобы короче была фронтовая анкета Старостина, а длиннее – лагерный стаж. Опираясь на рассказы спутников, Этьен выбрал для Старостина Западный фронт. Теперь следовало уточнить и должность, какую Старостин занимал до плена, это тоже «белое пятно» в его фронтовой биографии. Рядом дышал техник-лейтенант Демирчян, в полку он занимался противохимической обороной. Разговорчивый Демирчян и не подозревал, что помог заполнить брешь в «легенде»! Старостин с трудом повернулся лицом к Демирчяну и начал его выспрашивать. Пожалуй, начхим – разумная придумка. Немцы не станут допекать Старостина расспросами. Кому интересны устаревшие секреты противохимической обороны? Безопаснее назваться работником штаба армии по противохимической обороне и собрать разнообразные сведения – прожиточный минимум допрашиваемого… Эшелон остановился на товарной станции Болонья, а дальний маршрут его по-прежнему уходил в неизвестность. В одном из вагонов везли теперь бывшего начальника химической службы 20-й армии полковника Якова Никитича Старостина. Он уже немало знал об армии, чьи бойцы и офицеры сражались, плутали и снова сражались в смоленских лесах. Знал, что в начале октября 1941 года «его» армия попала в окружение на левом берегу Днепра, западнее Дорогобужа. Старостин заучил фамилии многих командиров, запомнил номер полевой почты и множество других примет, деталей и подробностей, вроде того, например, что первый снег в лесах севернее Дорогобужа выпал в ночь с 6 на 7 октября. Потом Старостина, тяжело контуженного (раненым нельзя сказаться, потому что на теле нет шрамов), взяли в плен, держали в бараке для пленных офицеров на нефтебазе под Вязьмой. Позже его определили в команду могильщиков и подметальщиков при немецком кладбище, устроенном на центральной площади Вязьмы. Затем он сидел в концлагере в Орше, оттуда его погнали по шоссе в Брест и держали там в казематах крепости, затем направили в Майданек, оттуда в Терезин (бывшая крепость, а ныне концлагерь на берегу Лабы). Там набирали химиков на военные заводы, изготовлявшие секретное оружие в Тироле и Ломбардии. Потом их завод в Милане разбомбили, Старостина послали на рытье окопов под Монте-Кассино, а позже посадили в военную крепость в Гаэте. И всю эту правдоподобную «легенду» впитала по-прежнему цепкая и емкая память Этьена… По всем данным, эшелон должен двигаться дальше к австрийской границе. Но Этьен услышал ночной разговор конвойных: к северу от Болоньи американцы разбомбили железную дорогу и мост через реку По. Среди ночи началась поспешная выгрузка. С тех пор как теплушку набили арестантами, их так ни разу и не кормили. С грохотом и натужным скрипом отодвинулась дверь на колесиках, и в смрадный вагонный ящик ворвался свежий воздух, от которого закружилась голова. Люди были спрессованы. Насчитали шесть мертвецов. Тела их давно остыли, но не падали – некуда было. – Бандиты! – ругался военврач Духовенский. – Если вы хотите ругать немцев, найдите другое слово, – остерег его Старостин. – «Бандит» и по-немецки «бандит». Мертвецов выносили из вагонов и складывали в штабель. Возле штабеля устроили аппель, на котором Этьена уже называли не Яковлевым, а Старостиным. Колонну погнали на Модену, на Милан. Прошел слух, что Милан сильно бомбят. Может, поэтому охрана не торопила колонну на марше, часто устраивала привалы? Брели в опорках, ботинках с подметками, привязанными обрывками проволоки, в деревянных башмаках. Брели в серо-голубой полосатой форме немецких лагерей и серо-коричневом каторжном одеянии итальянского покроя. Иные брели в плащах, драных макинтошах, плащ-палатках. На Старостине – ватник с чужого плеча, а вот шапкой разжиться удалось не сразу. Остаток дождливой и холодной ночи провели в загоне, за колючим забором, недалеко от дороги. Шостак где-то подобрал старую итальянскую пилотку и молча напялил на Старостина. Где-то будет следующий ночлег? Наутро команды на привал раздавались реже, колонну поторапливали. Из хвоста колонны доносились окрики, отстающих подгоняли прикладами. Товарищи вели ослабевших под руки. Подоспели поздние сумерки, когда колонна втянулась в каменные ворота. Судя по воротам и по солидным запорам, это не скороспелый лагерь, а какая-то тюрьма. В полутьме двора всю колонну разделили на группы, и душ сорок набилось в большую камеру, в темноте все повалились на нары. Утром Этьен огляделся. То ли дверь, окованная железом, то ли параша, то ли тюфяк, то ли решетка на окне – что-то показалось ему щемяще знакомым. И очень скоро он, к ужасу своему, убедился, что путь-дорога снова привела его в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия. 98 В камере теснее тесного, но у каждого – топчан и тюфяк. Тюфяк – единственная спальная принадлежность на голых досках. К каждому топчану наклонно прибита доска в изголовье. Арестанты распоряжались тюфяком по своему усмотрению: подстилать тюфяк под себя или укрываться им. На следующее утро Этьен с тревогой узнал, что не весь тюремный персонал здесь обновился. Он увидел несколько старых надзирателей; увидел в тюремном дворе негодяя Брамбиллу, того, кто сидел на втором свидании с адвокатом в роли «третьего лишнего»; работал на своем старом месте все такой же мрачный Рак-отшельник. Но Этьен уже не заговорит с ним! К счастью, не видать фашиста «Примо всегда прав», Этьен больше всего боялся встречи с ним. А Карузо через день дежурит в коридоре. Нельзя попадаться ему на глаза! Нужно держаться всегда в отдалении, в группе заключенных. Как же Этьен катастрофически изменился, как постарел, если Карузо его не узнал! Тогда у Кертнера были длинные седеющие волосы, он зачесывал их назад, оставляя открытым лоб. Волосы и орлиный нос дали когда-то основание капельдинеру театра «Ла Скала» сказать, что синьор из шестого ряда похож на Франца Листа. Наверное, сыграла свою роль седая щетина, которой Этьен зарос по самые глаза и уши. И ему очень кстати побрили голову. Среди глубокой ночи их повели в баню. В дверях камеры стоял Карузо со списком и выкрикивал фамилии, рядом стоял незнакомый надзиратель с фонарем в руке. Если надзиратель сейчас посветит в лицо и Карузо его узнает – Этьен погиб. Спотыкаясь на каждом слоге, Карузо произнес фамилию: «Ста-рост-тин». Этьен поднялся с нар и подошел ближе. В угольно-черных глазах Карузо зажглось какое-то подобие любопытства. Но тут же глаза его под густыми, нависшими седыми бровями потухли, исчез промельк удивления. Карузо вновь глядел на Старостина невидящим взглядом, будто оба глаза у него стеклянные. Старостин прошел мимо Карузо, не опуская головы, но лицо его было затемнено. Можно поблагодарить судьбу за то, что фонарь опущен, а Карузо так ненаблюдателен. Сильно изменился Карузо за последние годы. Он и прежде слегка сутулился, а сейчас время согнуло его еще круче и жестче. Сивая бородка, лицо сморщилось, как печеное яблоко, и весь он скривился. Правое плечо стало ниже, правую руку он держит на отлете все время согнутой, – вот так бывает согнуто туловище у надзирателя в момент, когда он открывает-закрывает тугой замок. Карузо успел состариться и одряхлеть за семь лет. Глядя на постаревшего Карузо, Этьен, может быть, впервые так отчетливо представил себе всю массу времени, утекшего сквозь решетки. Этьен привык судить о протяженности времени по тому, как слабел сам и как старели его соседи, тюремные товарищи. Но им, людям, лишенным общения с природой, тем, кто получал нищенский паек свежего воздуха и солнца, кто жил впроголодь, преследуемый невзгодами, кто отъединен от близких, обречен на долговечное одиночество, разлучен со своими занятиями, интересами, увлечениями, симпатиями, не знает удовольствий, – таким людям и полагается быстро стариться, утрачивать свой первоначальный облик. Но если тюремщик успел одряхлеть, – значит, действительно утекла уйма времени, утекла безвозвратно. Этьен, так и не узнанный тюремщиком Карузо, осмелел и теперь внимательнее наблюдал за старым знакомым, с которым они когда-то отводили душу, обращаясь воспоминаниями и чувствами к музыке. А испытал ли на себе Карузо, пожизненно влюбленный в музыку, ее благотворное и благородное влияние? Карузо вел по коридору группу заключенных, а позади с фонарем плелся второй надзиратель. Карузо шел, нагнув голову, на подгибающихся ногах. Казалось, его длинные, слегка вихляющиеся руки удлинились. Спина стала выпуклой, корпус при ходьбе сильно наклонился вперед, так что сбоку он походил на вопросительный знак. Встреча с постаревшим Карузо заставила Этьена подумать о незавидной судьбе людей, которые всю жизнь сторожат других людей. «Как часто я за железной решеткой чувствовал себя более свободной личностью, нежели ты, потому что мог думать о чем угодно. А ты, со связкой ключей в руке, лишен такой возможности, потому что все время должен стеречь меня». Иногда Этьену казалось, что Карузо и другие старые надзиратели сами подавлены тем, что происходит в тюрьме. Из карцера теперь часто доносились стоны, крики истязуемых, в тюремном дворе чуть ли не каждый день раздавались выстрелы, и там же под окнами гоготали, играли на губных гармошках эсэсовцы. Они и на местных тюремщиков смотрели как на будущих заключенных – просто, мол, еще не дошла до этих итальяшек очередь, скоро их тоже посадят под замки, ключи от которых оставлены им временно. Этьен много знал о природе и сущности фашизма, но никогда не заглядывал в его черную душу, не проникал взглядом до самого дна, не знал, как за последние годы преуспело, расплодилось племя садистов-палачей. Рассказы соседей по вагону, по камере дополняли друг друга – пережитое, увиденное, выстраданное. Этьена учили, как всех, почтительности к своим охранникам и палачам. Когда нужно снимать шапку при встрече с наци? За десять метров. Держать шапку при этом полагалось в опущенной книзу руке, опустив голову и наклонив верхнюю часть туловища. «Мютцен аб! Мютцен ауф!» – «Шапки долой! Шапки надеть!» – эта церемония репетировалась много раз подряд. До чего все-таки изощрен злой ум человекоподобного арийца, воспитанного Гитлером! До чего дошла порочная изобретательность палачей, какие только издевательства не придумывают немцы в отношении пленных антифашистов, партизан, поляков, евреев! Военный комендант в Лодзи переставлял вперед часовые стрелки, чтобы был повод арестовать побольше пешеходов, якобы нарушивших комендантский час. В Освенциме и Дахау заставляли бить своих товарищей, а за отказ расстреливали. В Вене заставляли чистить мостовую зубными щетками. В Маутхаузене очень популярен ледяной душ. Под ним коченеют узники в одежде. Эсэсовцы называют это «баней». В Гузене в бараке для пленных офицеров ввели премирование: за сто пойманных блох капо выдавал сигарету. В Мельке узников, которые еле держатся на ногах, заставляли карабкаться на деревья, разорять птичьи гнезда, доставать яйца. И горе тому, кто, спускаясь, раздавит хотя бы одно яйцо. В Гросс-Розене и Заксенхаузене заключенным делали ядовитые уколы, проверяя действие ядов и уточняя смертельные дозы… Кое-что Этьен слышал прежде, а многое узнал, когда в камере зашел спор о нутре и обличье фашизма. Началось с того, что бронебойщик Зазнобин, дяденька богатырского телосложения, назвал немцев фашистской нацией. Кастусь Шостак возразил – такой нации нет. И напомнил про немцев-антифашистов, которые сидят в концлагерях. Но Зазнобин стоял на своем и все твердил басом вполголоса: одних только эсэсовцев насчитывается больше миллиона, миллионы немцев пользуются рабским трудом, и миллионы спокойно нюхают дым, который подымается из труб крематориев и воняет горелым мясом. Этьена в тот день мучили приступы кашля, и потому в спор он не вступал. Его не так интересовало – можно называть немецкий народ фашистской нацией или нельзя, но преследовала мысль: хватит ли немцам одного поколения, чтобы из сознания вытравилась вся гнусная мерзость и гадость, привитая фашизмом, все нечистоплотные идеи, которые Гитлер втемяшил в головы «сынам арийской расы»? Каждый день пребывания в Кастельфранко чреват смертельной опасностью: не все такие ротозеи, как старый Карузо. И не всегда успеешь отвернуться, спрятаться за спиной рослого соседа или низко опустить голову. Но и скорая эвакуация ничего хорошего не сулит. Старостина вызвали в тюремную контору: брали на специальный учет генералов и полковников. В комнате, где ждали вызванные на регистрацию, он увидел белобрысого летчика-англичанина. Тот исхитрился подойти вплотную и передал, что через неделю после совещания в Каире в Тегеране встретились Рузвельт, Черчилль и Сталин. – А второй фронт? – шепотом спросил Этьен. – Ничего не слышно. – Рано или поздно ваши высадят десант. Но, видимо, Черчилль считает, что русских перебито еще слишком мало. Англичанин промолчал. В комнате, где допрашивали Старостина, валялись на полу окровавленные тряпки, их нарочно не убирали. Допрашивал штурмбанфюрер со значком за тяжелое ранение; значок позолоченный, с лавровым венком и скрещенными мечами. Когда штурмбанфюрер выходил из-за стола, то сильно пошатывался, и не только из-за хромоты. Допрос был скоротечный, переводчик не потребовался. Старостин отвечал по-немецки. После того как штурмбанфюрер узнал, что оберст находится в плену с начала войны, а на фронте занимался противогазами, немец состроил презрительную гримасу, безразлично отвернулся и скомандовал: «Увести назад, в камеру». И надо же было так случиться, Старостину предстояло возвратиться в камеру под конвоем Карузо. Как он тут очутился? Ведь на допрос его привел другой надзиратель. Когда шли тюремным двором – Этьен чуть впереди, Карузо следом, – конвойный вдруг ускорил шаг, поравнялся с конвоируемым, повернулся к нему и сказал. – Я тут подумал… Джильи все-таки прав, когда «Плач Федерико» из второго акта заканчивает чистым си. Здесь так и просится драматическое, напряженное крещендо. Это же кульминация всей оперы! – А я по-прежнему считаю, – неторопливо, сдерживая сердцебиение, ответил Этьен, – что всякий певец должен строго придерживаться партитуры. Даже Джильи не имеет права вносить свои поправки. Украшать арию выигрышными нотами! А для чего? Только для того, чтобы еще раз вызвать овацию слушателей! – А какая была овация! Браво, брависсимо!! – Карузо оглянулся и добавил шепотом, будто поверял самую большую тайну, какой только предстояло стать известной заключенному за все триста лет существования тюрьмы: – Я слушал Джильи в «Арлезианке». А насчет чистого си в «Плаче Федерико», когда он поет: «Ты столько горя приносишь мне, увы!..», будем считать, что каждый из нас остался при своем мнении. – Карузо вовремя умолк: мимо прошагали двое заключенных, они пронесли на носилках труп со связанными руками. А спустя минуту Карузо добавил: – Желаю вам, синьор Кертнер, навсегда потерять меня из виду. Наша третья встреча будет, пожалуй, лишней. Тогда австрияк, теперь русский… Скажите по секрету, с кем я буду иметь дело в следующий раз? – Карузо глубоко вздохнул. – Впрочем, в третий раз вы меня здесь не найдете… 99 Ночью колонну арестантов гнали через безлюдную, притихшую, затемненную Вену. Мигали карманные фонари конвойных. Или ночью конвойных больше, чем днем, или каждый движущийся светлячок бросается в глаза? Так или иначе, колонна двигалась, густо оцепленная мерцающими огоньками. Эшелон разгрузили на задворках Южного вокзала после полуночи, потом часа три топтались на аппеле, потом разбивали на группы, потом опять пересчитывали арестантское поголовье. В разворошенной памяти Этьена все отчетливей возникали знакомые когда-то перекрестки, и он быстро сориентировался в городе. За спиной у него, неподалеку от Южного вокзала, на тихой Райзенштрассе, осталось советское посольство. Этьену и в Вене не пришлось побывать в посольстве, но в давние времена он не раз проходил мимо. Сейчас в Вене не увидеть и клочка снега, но с гор доносилось зимнее дыхание. Когда-то в мирные довоенные субботы, по таким же бесснежным улицам Вены, длинными вереницами ехали утром автомобили, все в западном направлении, в сторону гор. На крышах машин лежали лыжи или торчали стоймя на запятках, они казались чужеродными, будто их везли из другого времени года. На этот раз англичанин оказался в одной колонне со Старостиным. Они топтались рядом на аппеле, а сейчас брели локоть к локтю, переговариваясь по-английски. Англичанин делился со своим соседом всеми известными ему подробностями о неудачных боях союзников в Италии. Рассвет набирал силу, и город все лучше просматривался. Справа показались голые деревья Шубертринга. Дальнозоркому англичанину первому удалось прочесть вывеску вдали и уличную табличку на угловом доме. Вена провожала их огромным количеством и бесконечным разнообразием торговых домов, магазинов, лавок. Оголодавшие пришельцы остались совершенно равнодушными к банкам и Домам моды, к ювелирам. Но их взгляды как магнитом притягивали бакалейные лавки, колбасные, гастрономические магазины, кафе, рестораны, пивные, возле которых, по стародавнему венскому обычаю, на тротуаре стояли бочки, – привлекало все, где продавалось съестное, где когда-то можно было наесться досыта. Оба обратили внимание на кондитерскую, – на золоченом кренделе указано: фирма основана в 1835 году. Этьен даже чуть-чуть замедлил шаг. Шутка сказать, больше ста лет подряд здесь выпекали знаменитые венские булочки и пирожные. Трудно даже вообразить себе, сколько сытной, вкусной всячины напекли булочники и пекари за столетие! Хватило бы кормиться всей колонне голодных арестантов до конца их дней. Тем временем колонна втянулась в узкие улочки старого города. Здесь топот и шарканье сотен ног сделались громче. Из-за крутых черепичных крыш то показывался, то прятался за ними шпиль собора святого Стефана. Уличные таблички указывали, что их ведут по Лихтенштейнштрассе, и Этьен поделился с англичанином догадкой, что скорей всего их ждет тюрьма, которую в Вене испокон века называют «Ландесгерихт» – «Суд страны». Прошло полчаса, и Этьен убедился, что был прав в невеселой догадке. Мартовский утренник так сердит или приближение к тюрьме заставило его зябко ежиться в своем дырявом ватнике? Этьен держался близко к саперу Шостаку, своему спасителю. С содроганием подумал Этьен, что было бы с ним, если бы товарищи не пришли к нему на помощь той ночью, в арестантском вагоне… Конрад Кертнер шагал бы прямо на расстрел… А сейчас, как Старостин ни был изможден, с каким трудом ни волочил ноги, он чувствовал себя солдатом в строю, он не потерял присутствия духа, стойкости, готовности к борьбе и веры в победу. Лишь ранней весной полковника Старостина в группе военнопленных офицеров повезли из «Ландесгерихт» на Морцинплац, там помещалось управление политической полиции и гестапо. Это зловещее большое здание находится возле набережной Донау-канала. Морцинплац пользовался плохой славой. Там, в подвалах, пытали, избивали во время допросов. Английский летчик, когда его уводили, трижды перекрестился и поцеловал ладанку, висевшую на шее. Допрос, который устроили полковнику Старостину, прошел вполне благополучно. Он уверенно отвечал на вопросы, и «легенда» его не вызвала подозрений. Когда-то на Санто-Стефано он испугался, что становится тяжкодумом. Но в минуты допроса на Морцинплац к нему вернулась молодая стремительность мысли. Благополучный исход допроса был прежде всего результатом его сообразительности. Будь Старостин помоложе и поздоровее, он мог бы рассчитывать, что его отправят на военный завод, или на шахту, или на ремонт железнодорожных путей, разрушенных бомбардировкой, или в помещичье именье на скотный двор. Лишь бы из тюрьмы «Ландесгерихт» не погнали к пристани Дуная. Путь тех, кого ведут к пристани, лежит в лагерь смерти, расположенный выше по Дунаю. Сбылись самые худшие предположения. Их погрузили на арестантскую баржу, и буксир потащил их вверх по течению. Мелкие льдины терлись о борта баржи, царапали обшивку и крошились с легким шуршанием. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ  100 Этьен хорошо и надолго запомнил день, когда в Маутхаузен прибыли итальянцы. Это были солдаты и офицеры, которые после выхода Италии из войны отказались сражаться заодно с нацистами, бросили оружие, потребовали возвращения на родину. Вчерашние союзники Гитлера стали смертниками. Тюремные ворота раскрыты настежь, итальянцы шли по пять человек в ряду. Они были в военной форме, им даже разрешили оставить знаки различия и ордена. Впереди колонны шел генерал, за ним шагали офицеры в некогда нарядных мундирах. Особенно жалко выглядели солдаты в шляпах с выщипанными перьями. Поначалу итальянцы старательно работали в каменоломне. «Работа приносит свободу!» Недоразумение вот-вот выяснится и их освободят за добросовестную работу. Но день за днем иссякали силы, улетучивалась вера в посулы, ветшали желто-зеленые мундиры и шинели, которые выделялись среди пестрого одеяния остальных узников. Вскоре от итальянской формы остались пестрые отрепья, обноски. Брюки и мундиры казались мешковатыми, особенно бросались в глаза непомерно широкие воротники. Будто какой-то сумасбродный портной специально обшивал и одевал итальянскую армию в форму не по размеру. Почему Этьена так сильно тянуло к итальянцам? Ведь они столько лет держали его за решеткой? Да, но за той же решеткой сидели итальянские антифашисты. Ему нравился итальянский характер, которого не смог испортить даже Муссолини. Хотя итальянский фашизм старше немецкого, он не проник так глубоко во все слои общества и не оказал столь растлевающего влияния на народ. Этьен, например, был уверен, что в Италии не могли бы возникнуть концлагеря для массового истребления пленных. Соседи по нарам, поляки с Западной Украины, рассказывали, что итальянцы не участвовали в актах террора против населения, в обысках, облавах, экзекуциях. Возможно, итальянцы еще не забыли о своей борьбе за освобождение, немцы же издавна ведут завоевательные войны. Но откуда же тогда брались тюремные надзиратели Кактус, «Примо всегда прав»? Они подошли бы для любой зондеркоманды, сделали бы неплохую карьеру у Кальтенбруннера и могли бы дослужиться до лагерфюреров. Откуда взялись черные рубашки, которые насильно поили арестованных рабочих касторкой? Да, в семье, как говорится, не без урода. И наивно, конечно, предполагать, что какие-то черты национального характера обязательно распространяются на каждого. В сочельник итальянцы испросили разрешения провести молебствие – в такие дни даже эсэсовцы бывают сговорчивее, хотят показаться богу приличными людьми. Только что в лагерь пригнали партию итальянцев, задержанных при облавах в Милане. С этой партией прибыл и молодой падре Андреа. Он не был истощен, как старожилы лагеря, был в силах провести богослужение. Рождественский праздник – удобный предлог, чтобы почтить молитвой все жертвы эсэсовцев и одновременно провести траурный митинг. Старостина предупредили об этом итальянские друзья и помогли пробраться к ним незамеченным. Месса шла в полутьме. На падре Андреа сутана, крылатка, из каторжного одеяния на нем был только полосатый берет, который он снял, войдя в блок. При входе стоял и благосклонно ухмыляйся эсэсовец. Падре Андреа спел «Аве Мария», многие плакали. Этьен тоже был потрясен скорбным пением. Звучный тенор красивого тембра проникал во все закутки барака. После мессы эсэсовец разрешил и светское пение. Может, эсэсовец сам не прочь послушать неаполитанские песни в таком прекрасном исполнении? Он непроизвольно подчинился властной силе голоса, тоскующего по свободе и родине… Пользуясь невежеством конвойного, спели и гарибальдийский гимн, трагически прозвучала первая строчка: «Раскрываются могилы, встают мертвецы!..» Старостин прятался на третьем ярусе, за тесно сидевшими итальянцами. Рядом с ним сидел молодой человек, судя по тому, как он согнулся в три погибели, очень рослый. Неожиданно Старостин потянул его за рукав: – Не узнаете? – Нет. – Капрал? Карабинер? – Это было так давно… – Чеккини? – Да. Молодой человек не мог совладать со своим удивлением, усидеть на месте. – Вы меня везли из Турина в «Реджина чели». Помните наш обед в вагоне? Булочки с ветчиной. Четверть цыпленка с картофелем. Пасташютта в бумажном кульке. Сыр «бельпаэзе». Несколько груш. И, кажется, бутылочка фраскатти. – Ах, синьор, не будьте жестоким. Перечислять все подряд! Пища для богов… – А наш ужин? Помните, я тогда охранял сон ваших карабинеров? – Как же вы меня узнали? – Чеккини растерянно провел рукой по лицу: он давно не похож на самого себя. – И даже фамилию вспомнили… – У меня хорошая память. Я не имею права ничего забывать… Ну, а то, что вы меня не узнали, – тем более объяснимо, я бы сам себя не узнал… Чеккини внимательно поглядел на своего бывшего подопечного. Седые, отросшие волосы зачесаны назад. Скулы туго обтянуты кожей. У носа глубокие складки. Серо-голубые глаза смотрят настороженно и устало. Он то и дело покашливал. Ото лба до затылка Старостин прострижен машинкой («гитлерштрассе»), но все же облик у него одухотворенный. – Может, вам нужно было в ту ночь совершить побег? – задумался Чеккини. – Австрийская граница была близко. Перейти границу – и дома. – Мой дом подальше. Тогда вы конвоировали австрийца, а теперь я живу под русской фамилией. Этьен рассудил, что безопаснее самому завести разговор с Чеккини, потому что тот мог узнать его и позже. Разумнее самому признаться, что он русский, нежели оставаться в глазах Чеккини австрийцем. Тот мог случайно обмолвиться на этот счет, вовсе не имея в виду навредить Старостину. Чеккини удивленно поднял красивые брови и торопливо кивнул, давая понять, что он принял новые условия их знакомства. А Этьен смотрел на него и про себя удивлялся: как молодому человеку удалось в Маутхаузене остаться таким красивым? Впрочем, выяснилось: еще две недели назад Чеккини был на свободе. Он сражался в 106-й бригаде гарибальдийцев, которая действовала в окрестностях Милана. В начале октября 1944 года Чеккини участвовал в операции по взрыву опорных мачт высоковольтной линии электропередачи возле Гарбаньяте. Удалось сорвать работу на нескольких военных заводах. Явку в Милане устроили в церкви на улице Копернико. Обычно в той церкви царит полумрак. Свечи, зажженные по обе стороны алтаря, бросают тусклый свет. На скамейках сидели и молились женщины, среди них скрывалась иногда и синьорина. – Знаете, почему ту синьорину называли Рыбкой? – Чеккини произнес ее прозвище с нежностью. – Она частот просила пить у немецких часовых, у патрулей, стоявших на мосту, возле ворот казармы, на станции или на контрольно-пропускном пункте. Всюду, где ей нужно было задержаться, осмотреться, понаблюдать дольше… Рыбка приходила в церковь на улице Копернико вместе с подругой. Помню, в тот день обе вошли с сумками и стали рядом с нами, мужчинами, а сумки свои поставили на мраморные плиты. Синьорины оставались до конца молитвы, а мы на цыпочках вышли из полутемной церкви и вынесли сумки, там лежали мины замедленного действия. Вы ничего не слышали про зал офицерского клуба в Милане? (Старостин отрицательно покачал головой.) Четыре бомбы… 11 августа 44-го года, в 20 часов 50 минут… Ах, милая и храбрая Рыбка! Сколько раз она приходила на ту явку в церковь на улице Копернико! А до того как войти в церковь, синьорины несли свои сумки чуть ли не через весь город, мимо патрулей, рискуя попасть в облаву, подвергнуться обыску… Для всех нас церковь была просто местом явки, а Рыбка каждый раз успевала еще усердно помолиться. Она молилась за всех нас, и – кто знает! – не поэтому ли наш отряд оставался неуловимым? – А как звали вашу синьорину? – В том-то и дело, – тяжело вздохнул Чеккини. – Поэтому я и зову ее Рыбкой. Во сне и наяву. – А откуда родом безымянная синьорина? – Кажется, из Милана. – Я долго жил в Милане, – оживился Старостин. – Там много добрых людей. Одна миланская девушка сделала мне много добра… Чеккини не заметил волнения Старостина, не заметил, что тот хочет сказать еще что-то; молодой человек оставался во власти счастливых воспоминаний, а счастье, как известно, эгоистично и ненаблюдательно. Как Чеккини попал в гестапо? По глупой случайности! Разве не обидно уцелеть в таких переделках и угодить в обычную облаву? В тот день, 10 декабря 1944 года, в Милан приехал Муссолини, с утра начались предупредительные репрессии. Чеккини не подвергали особо строгим допросам, пыткам, его сочли заурядным дезертиром. Может, неосторожно было завести разговор с Чеккини, довериться ему, посвятить его в происшедшую метаморфозу? Но Этьен полагался на свою интуицию. Ответная откровенность бывшего карабинера подтвердила, что Этьен не ошибся и на этот раз. Они распрощались, как старые друзья, нашедшие друг друга после случайной разлуки. 101 Аппель затянулся. Озябли все, за исключением мертвецов, которые тоже принимали участие в вечерней поверке: по канцелярским спискам мертвецы до следующего утра числились живыми, а умерший в субботу продолжал «жить» до понедельника. Их выносили для точного счета. Часовой б ближней наблюдательной вышки следил за полуголыми узниками, кутаясь в шубу. Чтобы часовые на вышках не мерзли, будочки застеклены. На вышке стоит печка, и в предвечернем белесом небе виден дымок, идущий из маленькой трубы. Когда взгляд падает на часового, Этьену становится еще холоднее. Дымки над караульными вышками почти незаметны в соседстве с клубами дыма, густо валящими из трубы крематория. Тошнотворное зловоние уносится поверх голов куда-то к Дунаю, а когда темнеет, видны отблески пламени над трубой. Сколько раз Старостин уже выходил на аппельплац, сколько раз ждал команду: «Мютцен аб!»? Сколько сотен часов простоял он с непокрытой головой, держа руки по швам? Его можно назвать опытным, видавшим виды «хефтлингом», то есть заключенным. Житейский опыт подсказывал ему, что в умывальной нельзя выпускать из рук вещей – сопрут; безопаснее держаться подальше от капо, от конвойных! Не суйся на марше колонны ни в первый, ни в последний ряд; становясь в очередь за обедом, рассчитай, куда встать, чтобы подойти, когда выскребают дно бидона, где баланда погуще; считай каждый свой шаг, избегай лишних движений, научись экономить на каждом движении мышцы; в жару работай в тени, а в холод – на солнце; умей использовать каждую минуту отдыха, покоя; научись делать вид, что ты работаешь, но не утомляйся при этом; защищай от тех, кто стал зверьми, свою еду, свое тепло, свой сон. Старостин долго лежал в ревире, его устроили туда верные товарищи. Мало было надежды, что ему удастся там подлечиться. Но лишняя пайка хлеба, лишняя кружка эрзац-кофе и полуторная порция баланды – тоже не пустяк в его положении. В истории болезни появились фальшивые записи о ходе лечения; товарищи позаботились, чтобы там не значился верный диагноз. Лекарств Старостин не получал, их заменяли радостные сообщения, которые товарищам по подполью удавалось подслушать по радио. Там, в ревире, хотя и с опозданием, он узнал о том, что освобождены его родная Белоруссия, Литва, Латвия и что советские солдаты уже ступили на прусскую землю. Подпольщики ловили 7 ноября радиопередачу из Москвы, однако ее поймать не удалось, а вместо Москвы заговорил Лондон. В тот день Черчилль признал в палате общин, что на плечах России лежит главная тяжесть войны, что России принадлежит главная заслуга в разгроме Гитлера. Перед тем как выписаться из ревира, Старостин узнал, что советские и польские войска освободили Варшаву… Когда Старостин вернулся в свой блок, там оставалось мало знакомых лиц. Пришел эшелон из Байрейтской тюрьмы. Бараки № 11 и 12 битком набили вновь прибывшими. Рядом со Старостиным на аппеле стоял какой-то кавказец. Почему он так внимательно приглядывается? И почему так охотно назвал себя? Сергей Мамедов снова очутился на аппеле рядом, по-видимому, не случайно. В тот день мимо строя провезли арестанта на тачке. Тачка двигалась под аккомпанемент веселого марша, а табличка на груди, сочиненная лагерфюрером, гласила: «Мне хотелось погреться. Погреюсь в крематории». Как стало известно, везли несчастного, которому не удался побег. Через несколько дней, после очередной перерегистрации и переселения, Мамедов и Старостин оказались на одних нарах в блоке № 17. Прошла перерегистрация, и Старостину а помощью писаря-подпольщика удалось получить номер, как вновь прибывшему, – R-133042. После возвращения из ревира, где Старостин был у начальства на плохом счету, у него были основания считать операцию с получением нового номера большой удачей. Однажды, проснувшись ночью, Мамедов увидел, что его сосед сидит на нарах и пишет, подложив под листок копировальную бумагу… Но Мамедов не знал, сколько конспиративных нитей тянется к Старостину, со сколькими узниками, незнакомыми между собой, но кровно связанными друг с другом общей задачей, регулярно встречается Старостин. Уже несколько раз в их блок пробирались к Старостину незнакомые русские, чаще других – парень богатырского сложения, говоривший хриплым басом, а с ним товарищ, судя по говору, белорус. Старостин помалкивал, скрытничал, не собирался откровенничать с Мамедовым – не поверил, когда тот назвался майором интендантской службы. – Ну никак не могу тебя представить в фуражном складе или в вещевой кладовой. -Старостин прищурил глаз и погрозил пальцем. – Ничего общего ты, друг, с интендантством не имеешь… – Яков Никитич, откуда ты знаешь языки? – Окончил военную академию. – Но там учат только один язык. Не слышал, чтобы там преподавали итальянский. – Я успел еще до войны записаться в дипломаты. Думал, не придется больше воевать. – И где же тебе пришлось воевать? На каком направлении ты попал в плен? – Был на дипломатической работе. – И не успел выехать? – Вот именно, не успел. – Из какой же страны не успело выехать наше посольство и дипломат попал в Маутхаузен? – Сказать, Мамедов, в чем твоя ошибка? Твои вопросы слишком квалифицированные. Ты, случайно, к следственным органам отношения не имел?.. В те дни Старостин рад был узнать, что в каменоломне начали изготовлять могильные плиты, надгробья и постаменты для немецких кладбищ. Каждый день эсэсовцы сталкивали со скалы в пропасть нескольких заключенных, их называли «парашютистами». Был случай, когда в каменоломне начали взрывать шпуры, не предупредив никого и не выведя оттуда работающих. Иногда всех заставляли бессмысленно переносить камни туда и обратно, туда и обратно. Тем, кто не мог скрыть возмущения и раздражения, Старостин сказал: – Это издевательство, но пусть никто из нас не будет подавлен, раздражен. Пусть нами владеет сознание, что мы не приносим никакой пользы фашистам. Такие же бессмысленные злодейства совершались в лагере в конце прошлого лета, после неудачного покушения на Гитлера. Работать в каменоломне зимой намного трудней, чем летом. А кроме всего прочего, летом, когда арестантов гнали через лес, многие отдирали кору молодых деревьев и грызли, жевали ее. Каждый день Старостин пересчитывал ступеньки, ведущие в гору, в лагерь. Сто восемьдесят шесть ступенек. И горе, если он не сможет с ними совладать! 
В один из стылых февральских вечеров, когда ветер дул со стороны невидимого, заледеневшего Дуная, ноги были налиты таким свинцом усталости, что каждая ступенька давалась Этьену с трудом. Двадцать девятая ступенька, тридцатая, тридцать первая, тридцать вторая, тридцать третья… Он вдруг почувствовал, как его с обеих сторон крепко взяли под руки. Вот это встреча! Он сразу потерял счет ступенькам. Справа его поддерживал сильной рукой рослый, по-прежнему могучий Зазнобин, слева – душа-парень Шостак. Бронебойщик шел молча, а Шостак не удержался: – Ты самый последний приказ не получил, земляк? – Какой? – Приказ – голов не вешать и глядеть вперед!.. – Потише приказывай, Кастусь, – пробасил Зазнобив, не замечая, что предостережение его прозвучало громче, нежели присказка товарища. Этьен не успел вдоволь обрадоваться и вдоволь удивиться, как дружеские руки вознесли его на самый верх лестницы. При дневном свете такая помощь была бы немыслима: можно насмерть подвести ослабевшего, эсэсовцы уже не раз сбрасывали таких доходяг со скалы. Зазнобин и Шостак также мыкались в штайнбрухе. И с того вечера они не раз при окончании работы «случайно» оказывались у подножия лестницы рядом со Старостиным и, можно сказать, несли его над ступеньками, он лишь касался их колодками. Какое он чувствовал облегчение, когда ступал ослабевшими ногами на последние ступеньки и оказывался перед воротами в лагерь. Тут уж можно надеяться, что дойдешь до барака. Осталось подняться в самом лагере на четыре ступеньки между первым и вторым рядом бараков и еще на пять ступенек между вторым и третьим рядом бараков. Ну, а если ему трудно будет забраться к себе на нары, на третий ярус, – Мамедов поможет… «Мамедов не был со мной откровенен, не интендант он, – размышлял Старостин, лежа на нарах. – Но можно было не обижать его своим недоверием. Он с Леонидом Панасенко спасал здесь смертников в 13-м блоке, подменяя жестяные браслеты с номерами. – Знаешь что, Сергей, – неожиданно сказал Старостин, повертываясь лицом к соседу. – Никто из нас не знает, останется он в живых или нет. Пришло время узнать друг о друге побольше. – Давно согласен. – Ты вот удивляешься, почему я вожу дружбу с итальянцами, откуда знаю столько языков… Понимаешь, после войны в Испании пришлось застрять в Европе. А перед тем как меня судил специальный трибунал по защите фашизма, выдал себя за австрийца. – Как же тебе удалось снова стать Старостиным? – насторожился Мамедов. – Это уже когда везли в Австрию. Товарищи похоронили того австрийца в дороге. А я назвал свою фамилию. И воинское звание, полковник. – Может, опять взял напрокат чужую фамилию? Может, я после войны и не найду тебя нигде? Может, и не жил никогда в Москве такой человек – Старостин? – Даю слово, найдешь в Москве Якова Никитича Старостина. И мы обязательно увидимся. Конечно, – Этьен вздохнул, – при одном маленьком условии. Если оба останемся в живых. 102 По вечерам, когда узники возвращались из штайнбруха, над входом-маяком и на караульных вышках по углам лагеря светили прожекторы. Старостину не нужно было видеть каменную стену, он помнит, что камни там уложены в четырнадцать рядов, а поверх камней – пять ниток колючей проволоки. А там, где не тянется сплошная стена, где стоят вогнутые внутрь железные кронштейны с изоляторами, – двадцать пять ниток проволоки. Старостин сам пересчитал все эти нитки, когда однажды утром его послали убирать снег совсем близко от проволочного заграждения. Его длинная тень смело перешагнула тогда через все колючки, столбы, изоляторы, через проволоку под высоким напряжением. Сам он остался в неволе, а тень его касалась свободы. На арке первых ворот распластался над свастикой уродливый бронзовый орел. Сколько жизней унес он в своем хищном клюве? Застекленная башня над вторыми воротами похожа на маяк, только маяк этот указывает дорогу в царство теней. Поскрипывает жестяной флаг, на котором намалеваны скрещенные кости и череп. Черный флаг несет обязанности флюгера, он всегда поворачивается по ветру, он всегда в зловещем согласии с дымом, который вырывается из трубы крематория. В ту ночь с 17 на 18 февраля их колонна долго торчала перед воротами в лагерь. Было не меньше двенадцати градусов мороза, и каждый градус мучительно ощущали ноги, обернутые в тряпье, в деревянных колодках. Лишь ночью открыли ворота в лагерь, и узники прошагали под скрипучим флюгером; казалось, стучит на ветру череп с костями. Поблизости в лагере слышались исступленные крики и стоны. Их заглушал неясный шум. Громкое журчанье? Гул водопада, невесть откуда взявшегося среди зимы, вдали от Дуная? Узники из блока № 17 стали в затылок другой колонне. Судя по обрывкам речи, впереди стояли французы и англичане. Среди тех, кого Старостин узнал, был и белобрысый английский летчик, с которым не раз оказывался рядом в штайнбрухе. Обе колонны снова были остановлены неподалеку от ворот. Старостин стоял правофланговым в ряду из пяти полумертвецов и все видел. Правее лагерных ворот около каменной стены метались по ледяному катку голые люди, их было не менее пятидесяти. Голые люди скользили, ковыляли или ползли из последних сил между выходом из бани, каменной стеной и шеренгой эсэсовцев с брандспойтами в руках. Вода шла под большим напором и сбивала с ног тех, кто не упал прежде под ударами резиновых дубинок. Те, кто только что нагишом выбежал, вернее сказать, кого вытолкали из бани, еще жили в облачках пара. Облачка быстро испарялись, и тогда при свете прожекторов, направленных с вышки, видны были багрово-синие полосы на голых телах. Исполосованные резиновыми дубинками, уже в полубессознательном состоянии, страдальцы попадали под ледяные струи. Иные так и не поднимались из застывающих луж, иные сопротивлялись ударам воды, сбивающей с ног, и все ближе прижимались к каменной стене. Старостин уже понял, что колонны тут держат для устрашения. Каждого может постигнуть такая же участь. Пусть сегодняшняя казнь послужит для всех предупреждением. Невысокий седовласый человек, держась за каменную стену, быстро и горячо говорил что-то. Он задыхался, хрипел, пытался перекрыть голосом шипение воды, крики палачей и стоны, проклятья полуобледеневших. Сперва Старостин разобрал только, что старый человек говорит по-французски. Затем он различил слова «немцы», «фашисты» и понял смысл фразы – это два разных понятия. Потом старик, с трудом стоящий на ногах, сказал что-то по-русски. Старостин разобрал слова «Советский Союз» и «освобождение». Кто же этот пожилой человек, который опирается о каменную стену и говорит по-русски и по-французски? Рядом со Старостиным стоял Мамедов. Он узнал невысокого седого человека с немигающим взглядом черных глаз. – Генерал Карбышев, Дмитрий Михайлович. Еще с Хаммельсбурга знакомы. Друг генерала Митрофанова. Вместе мы сидели… В этот момент эсэсовец опустил шланг, шипение и журчание стихло, и до Старостина донеслось: – Бодрей, товарищи! Думайте о своей родине, и мужество вас не покинет. К эсэсовцу, который стоял с опущенным шлангом, подбежал палач чином повыше, оттолкнул, выхватил шланг из рук, отрегулировал брандспойт и сильной струей ледяной воды, направленной в упор, сбил с ног говорящего. Седой человек пытался приподняться, цепляясь, как слепец, рукой за стену, но сил никаких не осталось, тело покрывалось ледяным панцирем, и последние капли жизни были заморожены. 103 Тот же самый жидкий суп из кормовой брюквы, та же баланда, та же кружка эрзац-кофе и такой же кусочек черного хлеба, похожего на торф; в нем столько отрубей и опилок, что, если его поджечь, он сгорит без остатка. И та же самая теснота в бараке. Под голову подложены деревянные колодки, а лежать нужно на боку, слегка подогнув ноги в коленях. Сосед укладывается точно так же, только головой в другую сторону. При такой системе на одном тюфяке помещаются четверо. Французы это называют «спать сардинками». К стене барака прибиты засохшие, обесцвеченные временем букетики цветов. Незабудки, ромашки, красный клевер были сорваны еще в Маутхаузене 14 июля – в день взятия Бастилии. Незабудки, ромашки, красный клевер – три цвета французского флага. И крематорий в Мельке мало чем отличается от крематория в Маутхаузене. Труба сужается кверху уступами, в трубу вбиты железные скобы. Впрочем, в Мельке загрузка крематория поменьше, а прячется он в зелени, рядом раскидистые плакучие ивы. Едва полковник Старостин появился в концлагере Мельк, как уже был озабочен делами. – Что у вас здесь, в Мельке, вырабатывается? – спросил вновь прибывший у незнакомого соседа по нарам. – У нас здесь ничего не вырабатывается, кроме смерти. – Все-таки что вы здесь, в штольнях, делаете? – Главным образом умираем. – Умираем не только здесь. Но боремся, – поправил его вновь прибывший. Он связался с французскими коммунистами, с немецким адвокатом Германом, который защищал коммунистов на процессе после поджога рейхстага. Он установил также контакт со смертником Тимофеем Рымаревым. На куртке того, на спине, намалеван красный круг; такие же круги на левой стороне груди и на правой штанине, на бедре, – чтобы легче было целиться, если живая мишень вздумает бежать. Вскоре Старостин встретил своего знакомого по Маутхаузену, офицера Архипова. Александр Архипов вместе с политработником Иваном Додоновым и Мамедовым прошли школу подполья в штрафном лагере Оксенфурте, в Эбельсбах-Эльтена в Хаммельсбурге выполняли поручения Карбышева. Старостину было приятно узнать, что Архипов и Додонов родом из Куйбышева, бывшей Самары. Почти земляки! Не исключено, что во время разрухи, когда Самара оказалась без топлива, они участвовали в одних субботниках, разгружали одну и ту же баржу с дровами на реке Самарке. – А не слышали, земляки, про волжскую нефть? – неожиданно спросил Старостин. – Кто ж про нее не знает? – удивился Архипов. – И школьников учат. Богатейшее месторождение! Второе Баку, иначе нас теперь и не называют. Французские товарищи знали, что каменистая пыль, газы динамита после взрывов, копоть и чад из выхлопных труб моторов в штольне – все это смертельно для больных легких. И Старостин с помощью Германа не попал в штольню, а оказался в группе заключенных, которые работали на воздухе: расчищали дорогу к воинским складам, размещенным в монастыре. Светло-желтое здание монастыря и церковь были видны от самых ворот лагеря. Круглая церковная башня, чуть пониже две колокольни, обращенные к западу. Над воротами железные часы. Сколько времени уже стоят стрелки? День? Месяц? Год? Пять лет? Засыпан снегом старый фонтан во дворе монастыря. Старостину дали лопату, он весь день отгребал ноздреватый снег, тронутый мартовской чернотой. Десятник был из своих. Никого не заставлял работать через силу, а высокие стены монастыря прятали от холодного ветра. Старостин возвращался в барак, не замерзнув и не измучившись. И однако же когда Старостин поздно вечером встретился с подпольщиками, он потребовал, чтобы его перевели, хотя бы временно, на работу в штольню. Он просил определить его на такую работу, при которой он мог бы осмотреть как можно больше и ознакомиться с обстановкой в подземных тоннелях. Он расспрашивал, как идет сооружение подземного завода шарикоподшипников. Ему необходимо было знать, какое там оборудование. Больше всего Старостин интересовался электропроводкой, освещением, вентиляцией и запасными выходами из подземелья. Старостин был встревожен тем, что монтаж подземного завода идет успешно, и, подводя итоги тайного совещания, спокойно сказал: – Завод должен быть уничтожен. Такова наша задача. Он выразил беспокойство по поводу того, что Центр недостаточно хорошо знаком с расположением штолен. Подпольщики не знают всех входов в цехи и выходов, плохо ориентируются в подземном лабиринте… Прошла неделя, и в одном из цехов подземного завода среди ночи возник пожар. Дым повалил из центральной штольни. Меры, принятые немцами, были тщетны, пожар потушить не удалось, и только по чаду можно было установить, что горело масло, краска и резиновая проводка. В официальном акте, составленном лагерной комиссией, было указано, что пожар произошел от короткого замыкания. Но несколько узников имели свое особое мнение на этот счет. К ним относились руководители подполья, в их числе Тимофей Рымарев, который ходил по лагерю живой мишенью, а также заключенный R-133042. Лишь несколько человек в лагере знали, что под этим номером живет и борется полковник Старостин. Заключенных, в том числе Старостина, перегнали из Мелька в соседний концлагерь Эбензее; подземный завод не подавал больше признаков жизни. 104 Левая рука Старостина и правая рука Мамедова схвачены одними наручниками, и точно так же скованы кандалами их ноги. Сквозь все наручники продет длинный канат. Один конвоир держит его в начале колонны, в конце колонны – другой. Таким образом, два конвоира ведут на поводке полтораста узников лагеря Эбензее. Вот почему по бокам длинной вереницы, позвякивающей цепями, шагают всего четыре конвоира с овчарками. Овчарки научены бросаться на тех, кто сбивается в сторону и ломает строй. Тем, кто шагает в голове колонны, чаще удается подобрать на дороге окурок. А бывает, заключенные находят на дороге завернутые в бумагу хлебные корки или картофелины. Такие «передачи» приносят ночью и оставляют на пути лагерников сердобольные жители. Конвойные знают об этих подаяниях и обычно не препятствуют, когда их подбирают. Но вчера какой-то заключенный, по виду татарин, нарушил порядок. Окурок лежал не под ногами, а на обочине. Татарин резко метнулся в сторону, насильно увлекая за собой напарника, нагнулся, чтобы подобрать окурок, и в этот момент на него набросилась овчарка. Татарин стал отбиваться, ему удалось свободной ногой так ударить овчарку, что она полетела кубарем, и тогда конвоир застрелил татарина. Заодно избили напарника – почему поддался, не оттянул соседа назад? А теперь, по милости застреленного, у конвоя столько хлопот: от наручников один ключ, а кандалы можно открыть лишь другим ключом. Прошло минут пятнадцать, прежде чем позвякивающая колонна двинулась. На обочине дороги остался лежать труп татарина. Дорога под уклон, справа подножие горы. Вдоль дороги тянется железнодорожная колея, она берет начало у штольни. Первые метры колеи ржавые, там рельсы не знают прикосновения колес. Извилистая дорога то отступает от горы, то придвигается к ней вплотную. Уже миновали железнодорожный переезд со знаком «X» на шлагбауме. Путь лежит на станцию, колонне предстоит пройти через городок. Серый предутренний час, окна и двери домов закрыты. Когда ветер дует со стороны лагеря, жители в городке закрывают окна, чтобы уберечься от зловонного дыма, вырванного ветром из трубы крематория. Этьен может считать, что ему повезло, невероятно повезло: в Эбензее его не направили в штайнбрух, а определили в команду, которая разгружает, сортирует картошку на станции. Можно вдоволь погрызть сырой картошки. Конечно, это не было слепым везением. Писарь Драгомир Барта перевел узника R-133042 на разгрузку и сортировку картошки, выполнив тем самым специальное задание. Подпольный центр с помощью преданных людей добивался перевода ослабевших на более легкую работу, а кое-кого подкармливали. Тем более это относилось к «офицеру из Мелька» – так называли Старостина французы и, в частности, один из вожаков интернационального подполья – Жан Лаффит. Он быстро установил контакт с французами, прибывшими 14 апреля в одном эшелоне со Старостиным. Старостин в первый же день встретился с Костиным, военным руководителем русских. Тот выделялся и высоким ростом и своим непреклонным мужеством, командирской волей, умной дальновидностью. От самого Костина он узнал, что настоящая его фамилия Соколов, зовут Владимиром Сергеевичем, сибиряк. Старостин был счастлив найти в подпольном центре Эбензее такого надежного соратника. Вчера узники, бредущие на поводке, тоже работали на разгрузке картошки, и все досыта ею полакомились. Почти каждый умудрился принести по нескольку картофелин товарищам. Вчера дорога была сухая, шли босиком, несли в свободной руке деревянные колодки. Если болят ноги, колодок лучше не надевать, даже когда бредешь по каменистой дороге. Вчера было теплое, погожее утро, не верилось, что только середина апреля. Когда дорога шла лугом, узники затеяли разговор о съедобных травах. Кто-то, кажется Донцов, с большим знанием дела принялся их перечислять. Еще мальчонкой он гонял тощую скотину на поля за подножным кормом, а заодно бродил в поисках этих трав. Может, они растут только в средней полосе России? Или здесь съедобные травы уже все съедены? Этьен прислушивался к этим разговорам и поймал себя на том, что и сам он, живя впроголодь, стал совсем иначе воспринимать окружающий его животный и растительный мир; весь этот мир отныне делился на две половины – съедобную и несъедобную. Вчера солнышко грело им спины. Крыши домов, мимо которых они проходили, бурно высыхали, над черепицей подымался парок. Ах, если бы их лагерь находился под защитой гор на северной стороне долины, если бы их бараки не оставались так долго в морозной тени! А то солнце уже давно освещает склоны гор на севере долины, а лагерь по-прежнему в тени, апрельскому солнцу не под силу раньше десяти утра перевалить через высокий хребет, закрывающий лагерь с юга. А есть горные склоны, куда солнце заглядывает мимолетно, – вот так же отблеск солнца недолго лежал когда-то на полу его камеры в «Реджина чели»… Сегодня, когда колонна вышла из ворот лагеря, над долиной стлался промозглый туман. Едва узники успели пройти через городок, припустил дождь, да еще холодный. Они шлепали босиком по лужам и все поглядывали на низкое небо: надолго ли такой душ? И ветер пронизывает до костей. Быстрее всего намокают плечи. Проклятая лагерная одежда вбирает воду, как губка. Мучительный холодный компресс! Что толку, если воротник поднят? С него все равно стекает холодная вода. Что толку, если руку засунул в карман? Карман мокрый, и рука мокрая. Мало надежды, что вскоре распогодится. Тучи низко висят над долиной, гребни гор смутно угадываются. Дождь не унимался, а когда они подошли к пакгаузу, превратился в ливень. Конвоиры с собаками спрятались под навесом, а думпкары стояли под открытым небом, и картошку полоскал дождь. – Русские не боятся дождя! – весело сказал долговязый конвоир, стоя под навесом. Конвоир был в плащ-палатке с капюшоном, и поверх нее висел автомат, блестевший так, будто был отлакирован или смазан жиром. – А русские вообще ничего не боятся, – отозвался Старостин по-немецки. – Не боятся ни воды, – и добавил, кивнув подбородком на автомат, – ни огня. Долговязый что-то сказал своему низенькому товарищу. Этьен расслышал слова «фойер», «крематориум», и оба захихикали, а потом долговязый сказал: – Для таких русских, которые не боятся ни воды, ни огня, есть еще виселица. – Никого нельзя повесить выше виселицы! – с вызовом сказал Старостин. – Слабое утешение для того, кто уже висит. И твоя русская пословица ему не поможет. – Это не русская пословица, это – Фридрих Шиллер. Пьеса «Заговор Фиеско». А говорит тот самый мавр, который сделал свое дело… – Где ты так хорошо научился говорить по-немецки? – О, это было очень давно. У меня тогда тоже был макинтош, и я имел право переждать сильный дождь под крышей. Конвойные перебросились несколькими словами, после чего последовала неожиданная команда: прекратить работу, спрятаться под навесом и смирно стоять. Долговязый поманил к себе пальцем образованного русского. Потом они стояли рядом и вели разговор на литературные темы. Немец с интересом слушал про Шиллера, про романтическую школу «Штурм унд Дранг», а у русского при этом был вид профессора: с таким достоинством он держался и такой тонкой эрудицией блистал. Дождь поутих. Картофель рассортировали и выгрузили. Продрогших, промокших до нитки лагерников снова нанизывали на длинный мокрый канат, и все зашлепали по лужам обратно в лагерь. У Этьена окоченели плечи и сильно болела спина под лопатками, не повезло ему с сегодняшней прогулкой на станцию. Хотя он научился согласно шагать с Мамедовым не в ногу, ходить на поводке по скользкой дороге очень утомительно. Вот если бы на запястьях и на щиколотках было побольше мяса! А то кажется, железо сквозь тонкую кожу трет кости. Он не может сказать про себя, что худеет, худеть уже невозможно, но он продолжает терять в весе. Сколько же он теперь весит – 45, 40 килограммов или еще меньше? Никогда еще одышка не мучила Старостина так сильно, как сегодня. Потому, может быть, что обратная дорога идет в гору? Но вот же Мамедову и тем, кто шагает рядом, подъем вовсе не кажется крутым! Старостин шел с трудом, сдерживая кашель. Каждая лужа, в которую он ступал ногами в разбитых колодках, становилась все холодней и холодней… Он так измучился, что с трудом волочил даже свой взгляд, и видел только лужи под ногами. Он мечтал об одном – дойти, дойти, дойти до лагерных ворот. Никогда раньше не поверил бы, что будет с вожделением и надеждой думать о воротах, ведущих за проволоку. Утром Старостин не мог спуститься с нар. Он то метался в жару, то дрожал от озноба и надсадно кашлял. О болезни заключенного Я-133042 никому не доложили, но и на работу не выписали; помог писарь Дементьев. Трое суток Старостин не вставал. Товарищи из подпольного центра переправляли ему хлеб и баланду сверх рациона, а Барте удалось даже достать сульфидин в аптеке для эсэсовцев – новое чудодейственное лекарство, которое спасает при воспалении легких. Какая обидная неудача! Спасли Старостина от каменоломни, направили на легкую работу, а она привела за собой беду. Каждый раз, когда Старостина мучил надрывный кашель, он сплевывал кровь. Этого не должны заметить чужие, недружелюбные глаза. Мамедов достал Старостину старую чистую тряпку. Он прикладывает ее к губам, пытаясь унять кашель. Он страдал и оттого, что болел, и оттого, что понимал – может заразить соседей по нарам, того же Мамедова. Он не пользовался чужой ложкой и котелком. Он помнил: фашисты нарочно оставляли в бараках больных с открытой формой туберкулеза, чтобы те заражали своих соседей. Мамедов никогда не показывал, что боится этого, накрывал Старостина своим одеялом и грел его спиной. «Пожалуй, я сам виноват, что сразу не вошел в полное доверие к Старостину, – размышлял Мамедов, лежа на нарах, – не нужно было играть с ним в жмурки, называть себя интендантом. Он при своей сверхпроницательности почуял неправду. У меня не было оснований скрывать от него что-нибудь…» Глубокой ночью, когда все в бараке спали, Мамедов повернул к соседу лицо и зашептал ему в ухо: – Верно ты сказал тогда, в Маутхаузене. Давно пришло время знать друг о друге больше. Нюх у тебя тонкий. Никакой я не интендант, а работал в Особом отделе корпуса. И фамилия моя подложная. Имя тоже взял напрокат. Если по совести, то я – Айрапетов Грант Григорьевич. А по званию майор. – Отвернись от моего кашля и спи. 105 Темнота быстро сгущалась и вскоре поглотила лагерь. Вдоль колючей ограды светились синие лампочки, и горели прожекторы над воротами. Самый мощный прожектор стоял на караульной вышке, высоко на горе, и время от времени обшаривал лагерь слепящим, ищущим лучом. Полнолуние оказалось вовсе некстати. Следовало собраться на первомайский вечер и провести его быстро. А разойтись по своим блокам самое позднее в 9 часов 40 минут вечера. Несколькими минутами позже из-за гор появится луна, она заливает лагерь таким ярким светом, что эсэсовцы на несколько часов выключают прожекторы. Вечер должен был состояться в блоке № 15, где находился Старостин и где блоковой из своих, член ЦК Испанской компартии. По решению подпольного центра, каждый блок направил на первомайский вечер делегатов. Аппель вечером 30 апреля сильно затянулся, и до появления луны оставалось немного. У каждого блока стоял пикет, он следил за немецкими патрулями и подсказывал делегатам момент, когда удобнее выскользнуть из двери; нужно использовать каждое мгновение, пока не горит прожектор на вышке. Из разных концов лагеря, одновременно крадучись, пробирались делегаты к блоку № 15. В барак втиснулось больше ста гостей. Когда подпольный центр решал, кому поручить доклад, выбор пал на Старостина. Во-первых, он может сделать доклад на нескольких языках. Во-вторых, он пользовался авторитетом. Была в нем спокойная духовная сила, ее питало сознание повседневного и постоянного служения своей идее. Одухотворенность и целеустремленность рождали энергию, действенную и необыкновенно заразительную. В круг влияния Старостина попадали почти все, кто с ним соприкасался. Будто, при всеобщем бесправии узников, у него в лагере были особые права. Людям слабым рядом с ним было не так страшно, потому что ему верили. Он умел терпеть, обладал достаточным мужеством, чтобы страдать, но не умел при этом вести себя покорно. Лишь бы не разлучиться с собственной душой, не утратить вкуса к свободе и борьбе! Пусть нас пытают унижением, мы спасемся надеждой, ненавистью к палачам и юмором, да, да, юмором… И чем больше душевных сил отдавал Старостин товарищам по лагерю, тем становился богаче, бодрее. Он обладал мягкой властью – мог разнять ослепленных злобой драчунов, умел пробудить совесть в заскорузлой душе, заставлял подчиняться себе самых строптивых. Но даже когда он ощущал свое явное превосходство над другими, Старостин ничем это превосходство не выказывал, наоборот, даже скрывал. Пусть тот, кто с ним спорит, чувствует себя равным, пусть его не угнетает чужая эрудиция. Авторитет рождается еще и потому, что человек не подавляет никого своим авторитетом. В-третьих, он умело держался в тени, и в нем не подозревали одного из вожаков подполья; сказывался опыт конспиратора. В-четвертых, он был хорошо информирован о последних событиях, он был одним из немногих, кто последние вечера тайно приходил в склад обмундирования и лагерной одежды к Конраду Вернеру (Куно) и вместе с Мацановичем, Лаффитом, Бартой, Соколовым слушал радиопередачи. Чаще всего слушали на разных языках передачи из Лондона. Ну, а когда садились аккумуляторы и никакой станции, кроме немецкой, поймать нельзя было, все поневоле слушали дикторов из ведомства Геббельса. 20 апреля, в день рождения Гитлера, услышали обрывок истерической речи самого Геббельса. «Фюрер – храбрейшее сердце Германии». В тот день русские войска стремительно приближались к пригородам Берлина, а вся Третья империя сузилась до коридора в 120-150 километров между русскими и англо-американцами. Охотно слушали и сводку погоды. Их мало интересовал уровень воды в реках и какая погода в Берлине, Мюнхене, Зальцбурге, а вот сильный ли ожидается ветер, откуда он дует, на каком уровне лежит снег в горах – очень важно тем, кто мерзнет. Метеосводку слушали тогда, когда не удавалось принимать сводку фронтовой погоды… Перед тем как начать свое праздничное слово, Старостин на нескольких языках призвал к вниманию: «Ахтунг!», «Увага!», «Аттеншн!», «Внимание!», «Атансьон!». Старостин вскарабкался на нары, на третий ярус, чтобы его лучше было слышно. Он кратко сообщил последние радионовости. 28 апреля итальянские партизаны казнили Муссолини. Сегодня днем появилось первое, правда пока еще не проверенное, сообщение о смерти Гитлера – не то он застрелился, не то отравился у себя в имперской канцелярии. Советские войска на окраинах Берлина. Сжатая информация Старостина вызвала такое шумное ликование, такой громогласный восторг, что докладчику пришлось призвать к тишине и осторожности. Строгий окрик возымел действие, и Старостин в относительной тишине продолжал свое слово. Он непринужденно переходил с одного языка на другой. Стало известно, что в один из близлежащих лагерей союзники сбросили продукты. Парашют раскрылся над территорией лагеря. Но когда узники побежали к тюку с продуктами, эсэсовцы их расстреляли. Далее Старостин предупредил, что возможны провокации – не поддаваться им! Если эсэсовцы попытаются всех вывести из лагеря – не выходить! По дороге к железнодорожной станции Эбензее, как всем известно, глубокий овраг. Эсэсовцы могут установить там пулеметы и устроить массовый расстрел. Если охрана сбежит, нужно спасти продовольственные склады от грабежа, а то дистрофики набросятся на еду и перемрут. Нужно предупредить возможную анархию и тем самым избежать напрасных жертв в последние дни войны. Если медперсонал сбежит, больных в ревире не оставлять без помощи. Об этом предупреждены все наши врачи в блоках. Дежурные у окошек следили за темным небосклоном – вот-вот покажется луна. Настороженно поглядывали на едва различимый горный хребет те, кто стоял в пикетах. Старостин с трудом откашлялся, а под конец сделал еще одно важное сообщение: сегодня дали расчет итальянским, югославским мастерам, которые работали в штайнбрухе по найму. Значит, скорее всего завтра в штольню на работу не поведут. Перед тем как слезть со своего места на третьем ярусе, Старостин торжественно произнес на нескольких языках: – Счастье улыбнулось нам в день международной солидарности. Так будем достойны праздника и покажем, что значит настоящий интернационализм! – Потом добавил совсем будничным тоном по-русски: – А теперь, хлопцы, сматывайтесь поодиночке. Чтобы духу вашего здесь не было. И чтобы ни один часовой вас не увидел! После этого он дал команду разойтись еще на нескольких языках. Уходили возбужденные. Старостин постоял в дверях блока № 15, прислушиваясь: не раздастся ли где лающий окрик «Хальт!», не прогремит ли очередь из автомата. Но в лагере тихо, и можно надеяться, что все благополучно добрались до своих нар. Спустя минут десять над долиной Эбензее взошла луна, уже безопасная. В ту ночь взбудораженный блок № 15 долго не спал, и Этьен подумал, что, наверное, такая же счастливая бессонница пришла и в другие бараки, где обсуждаются новости, вырабатывается план действий. Наутро Первого мая не прозвонил лагерный колокол, в блоке не раздалась команда: «Ауфштеен!», никто не вышел на работу. Но часовые на вышках по-прежнему дежурили у своих пулеметов. 106 Старостин стоял так близко от помоста, что отлично видел лицо лагерфюрера Антона Ганца: утиный нос, широкие и короткие усы «а-ля фюрер», тонкие, почти невидимые губы, глубокие складки вокруг рта, близко сведенные брови, глубоко посаженные глаза со стальным блеском. На мундире две планки с ленточками, слева на поясе – расстегнутая кобура с «вальтером». Ганц впервые пришел сегодня на аппельплац без своего дога, который помог лагерфюреру приобрести репутацию палача. Перед глазами Старостина прошла одна из жертв Ганца – девятнадцатилетний Даниэло Веронезе, тонкий и хрупкий юноша. Он пытался бежать, но убежать от дрессированного пса невозможно. Итальянец просил Ганца сжалиться, упал перед ним на колени, но тот был неумолим. Дог терзал беглеца, пока не загрыз насмерть. И вот этот самый лагерфюрер явился прошедшей ночью в шрайбштубе к Драгомиру Барте и мягким, почти заискивающим тоном сообщил, что завтра никого на работу не пошлют, но всех вызовут на аппельплац для важного сообщения. Антон Ганц отвечает за жизнь каждого заключенного и поэтому, чтобы избежать лишних жертв, отдаст завтра утром приказ: всем заключенным укрыться в штольне № 5, чтобы спастись во время предстоящего обстрела и бомбардировки лагеря. От глаз Барты не укрылось, что Антону Ганцу нелегко давался спокойный тон, он был необычайно бледен. Той же ночью собрался подпольный центр, чтобы выработать план действий. Антон Ганц не подозревал: подпольщики уже получили несколько сигналов о том, что штольни, в частности штольня № 5, заминированы. Нет другого более удобного места, чтобы избавиться сразу от всех свидетелей, от всех мстителей. Несколько подрывников легко управятся в штольне с десятью-одиннадцатью тысячами узников. Всю ночь подпольщики обходили бараки, предупреждая о замышляемом злодействе. Эти ночные обходы таили в себе немалую опасность, потому что приходилось нарушать конспирацию и входить в контакт с теми, кто и не подозревал прежде о существовании подпольной организации. Плохо будет, если Антон Ганц под угрозой оружия утром на аппеле добьется всеобщего послушания и колонны, ведомые старостами бараков, втянутся в длинный коридор, огороженный сеткой из колючей проволоки. Коридор этот ведет из лагеря к входу в штольню. Узники называют его «лёвенганг» – выход для львов, по аналогии с узким зарешеченным тоннелем, по которому дрессированные хищники проходят в большую клетку, установленную на цирковой арене. Югославский художник Милош Баич сделал план всего лагеря, над ним долго сидели Жан Лаффит, Барта, Мацанович, Соколов, Старостин и еще несколько вожаков подполья. Давать отпор на самом аппельплаце рано: место там открытое, и туда направлены пулеметы с вышек. Давать отпор в проволочных коридорах, ведущих в штольню, – поздно, там силы будут разобщены. Выгоднее всего оказать эсэсовцам вооруженное сопротивление в те минуты, когда заключенных поведут по лесу, поблизости от их бараков, – если уж их погонят в штольню. Здесь на конвой нападут по сигналу две боевые группы, в их распоряжении девять револьверов, гранаты и холодное оружие. Но силы слишком неравны, и поэтому нужно сделать все для того, чтобы на аппеле не подчиниться лагерфюреру, воспротивиться угону в штольню. Ночной визит Антона Ганца в шрайбштубе утвердил Старостина, так же как и Барту, в самых худших догадках. Они слишком хорошо помнили слова лагерфюрера, которые на днях подслушал Мацанович и передал им: «Ни один из них не выйдет из лагеря живым»… Этьен вглядывался сейчас в лицо Ганца и тщился угадать: какому насилию он решится подвергнуть узников, если его лживое добродушие будет оценено по достоинству? Ганц попытается использовать то обстоятельство, что узники уже не раз по сигналу воздушной тревоги послушно прятались в штольне, когда над лагерем появлялись американские самолеты. Но тогда подземные заводы еще работали, ценное оборудование было на ходу, тогда немцы не собирались взрывать штольни. Сейчас, когда лагерь доживает последние дни, а штольни бездействуют, они могут стать удобным кладбищем. Ганц ждал на помосте, к нему подошел Мацанович, позади тесной кучкой стояли офицеры, а за ними в нескольких метрах один от другого полукругом стояли эсэсовцы с автоматами. Цепь эсэсовцев, не очень, впрочем, густая, стояла и перед помостом. Такую картину можно было наблюдать на аппельплаце очень редко, чаще всего, когда устанавливали виселицу и эсэсовцы вызывались для устрашения всего лагеря. Наконец Антон Ганц заговорил. Он начал словами «Мои господа», никогда прежде такое обращение в лагере не звучало. Мацанович перевел эти два слова, умело пряча радость, – впервые он произнес на аппельплаце «господа»! В ту торжественную минуту иные уже перестали чувствовать себя узниками. Сияли счастливые глаза, увидевшие первый проблеск свободы. А ликование Этьена было безграничным. Два раза фортуна его жестоко обманула – в Кастельфранко и в Гаэте. Наконец-то на третий раз фортуна повернулась к нему лицом! С тем большей решимостью нужно отстоять близкую свободу, не позволить себя и товарищей умертвить или обмануть. – Война не окончена! – говорил Ганц. – Когда-нибудь мы возьмем реванш у большевиков. Но тогда уже не повторим ошибки. Будем воевать против них заодно с американцами. Мацанович переводил речь лагерфюрера на французский, русский, итальянский, польский и сербскохорватский. Антон Ганц повторял то, о чем вел речь ночью в шрайбштубе. Он и вверенные ему офицеры, а также солдаты войск СС будут сражаться до последней пули с теми, кто раньше достигнет Эбензее, – с американцами или с русскими. Лагерь станет полем ожесточенного сражения, его наверняка будут бомбить. Теперь он несет полную ответственность перед государствами, чьи граждане здесь находятся, он не хочет бессмысленных жертв, а потому приказывает всем укрыться в штольне № 5. – Мне дан приказ, – продолжал Ганц, – перебить всех заключенных. Я отказался выполнить такой приказ. Считаю его преступным. Но хочу избавить вас от опасности. Ганц говорил будничным тоном, в его приказании нет ничего, могущего вызвать недоверие. Ведь беспрекословное подчинение его приказу в интересах самих узников! Ганц повторил свое приказание и показал рукой в сторону штольни. Идти в штольню следует, как обычно, по пять человек в ряду, подчиняясь старостам, соблюдая орднунг. При словах Ганца Старостин непроизвольно повернул голову и глянул в ту сторону – штольня близко, но за бараками и за лесом ее черный портал не виден. И не доносится сегодня с той стороны подземный гул бурения. Затем он внимательно поглядел на караульные вышки с пулеметами, направленными на аппельплац. Какой приказ дан немецким пулеметчикам на случай, если Ганц не сможет подчинить себе надвигающиеся события и лагерь выйдет из его повиновения? Пока Мацанович переводил последние слова Ганца на несколько языков, Старостин не спускал глаз с лагерфюрера. Никогда не видел его таким возбужденным, хотя внешне это почти не проявлялось и о волнении Ганца можно было судить только по тому, с каким огромным трудом ему удавалось казаться спокойным. Старостин не слышал разноязычного перевода, а вслушивался в тишину, повисшую сейчас над толпой заключенных. Сколько пришло на аппельплац лагерников, сколько их стояло сейчас на полдороге между жизнью и смертью? Девять, десять, одиннадцать тысяч? Но решалась судьба и всех тех, кто уже не вставал с нар, кто лежит в лазарете. Сейчас Мацанович закончит перевод на сербскохорватский, вот он уже умолк. И на аппельплаце воцарилась на какие-то мгновения мимолетная, непрочная тишина. Колеблются чаши невидимых весов, счет идет на мгновения, и каждое мгновение может обернуться к спасению людей и к их гибели. Отзвучал перевод на сербскохорватский, Антон Ганц уже собрался сойти с помоста. Аппельплац замер в настороженной, пугливой тишине. Старостин решительно шагнул вперед и прокричал по-немецки: – Никто в штольню не пойдет! Вы хотите там всех похоронить! Мы останемся здесь! Ни шагу из лагеря! Генрихов, Мамедов, Шаповалов, Архипов, Додонов, Шахназаров и несколько итальянцев подались вперед и заслонили собой Старостина. Автоматчики уже взяли его на прицел, ожидая команды. Свои короткие призывы Старостин выкрикивал без пауз по-русски, по-французски, по-итальянски, по-польски, по-испански. Сотни людей многоязычными выкриками поддержали Старостина. Антон Ганц пытался еще что-то говорить. Мацанович переводил, но оба открывали рты совершенно беззвучно. Антон Ганц судорожно ощупал кобуру, но сделал вид, что только поправил ее на поясе, не решился достать свой «вальтер». – Не пойдем! – грозно и негодующе гремело на разных языках. Строй в колоннах сломался. 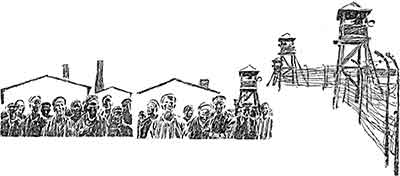
Тех, кто стоял в первых рядах, подталкивали сзади, и все вместе угрожающе подступали к помосту. Расстояние между цепью эсэсовцев и толпой сократилось, и стало ясно – сколько бы бунтовщиков ни перестреляли сейчас по команде из автоматов, эсэсовцы не уцелеют, будут смяты, растоптаны прежде, чем пулеметы с вышек рассеют заключенных. Эсэсовцев забросают, забьют деревянными колодками. Заключенные разуты, воинственно держат в руках колодки – свое единственное оружие. Но это не такое уж безобидное оружие, когда колодок тысячи, а на карту поставлена жизнь. Вожаки интернационального подполья знали, где в этот момент стоят боевые группы; они готовы к ближнему бою, к рукопашной по пути в штольню. Но весь их арсенал – девять револьверов и несколько гранат. Ганц стоял на помосте бледный, с окаменевшим лицом. Видимо, он еще не решил, как поступить. Обернулся к группе своих подчиненных и обменялся с ними несколькими словами. Старостин был счастлив подсмотреть напускное спокойствие Антона Ганца. В глазах животный, панический страх – он явно боялся самосуда. Антон Ганц властно поднял руку, почти как в фашистском приветствии, и, перекрывая грозную разноголосицу и возбуждение толпы, пытаясь держаться прежде взятого спокойного тона, осторожно выбирая слова и скрывая озлобление, принялся убеждать… Он отдал приказание, руководствуясь соображениями гуманности. Он пытался избежать лишних жертв. Ну, а если господа не хотят прятаться в штольне, – ответственность за все, что может произойти, когда бой перекинется на территорию лагеря, ляжет на тех, кто выразил несогласие с его распоряжением. Сказав это, он разрешил разойтись по своим баракам. Разрешение он отдал тоном приказа, чтобы показать – он остался хозяином положения. Антон Ганц знал, что сейчас заключенные охотно послушаются, это и в их интересах. И послушное выполнение последнего его распоряжения сгладит впечатление от того, что лагерь не подчинился его предыдущему приказу. Сошел с помоста Антон Ганц, за ним ретировались его подчиненные. Пятилась шеренга автоматчиков от помоста. Эсэсовцы отходили медленно, держа автоматы наготове. Помост опустел, на нем остался только счастливый Мацанович. Все расходились с аппельплаца, радуясь победе. Старостин мучительно раздумывал: «На самом деле Антон Ганц подчинился всеобщему протесту и сдался? Или он только коварно отступил и замышляет расправу, будет вызывать себе подмогу?» Но при всех обстоятельствах Старостин был доволен, что вооруженное столкновение не началось здесь, на открытом аппельплаце, под дулами пулеметов, направленных с вышек. Здесь шансов на конечный успех было все же меньше, чем в рукопашном бою в лесочке возле бараков, как это предусматривал план восстания… Он надсадно кашлял. Сорвал себе голос, выкрикивая слова протеста, призывая к неповиновению. Наконец удалось унять кашель, но это потребовало таких усилий, что он еще больше ослабел: сейчас сбить с ног его можно было и шапкой. Старостин медленно побрел к блоку № 15, товарищи бережно вели его под руки. К нему подбегали узники из других бараков, благодарили всяк по-своему, трясли руки, а экспансивные итальянцы обнимали. Их привел старый знакомый Чеккини, крайне изможденный, но все еще красивый, как в первые дни неволи в Маутхаузене. Старостину рассказали, что около полудня в барак № 1, в шрайбштубе к Драгомиру Барте, вошла группа эсэсовцев. Последовал приказ: все документы изъять. Набили бумагами мешки, погрузили их на тачку и повезли к крематорию. В тот момент в шрайбштубе, кроме Барты, был еще Серж де Мюссак, младший писарь. Барте удалось скрыть от эсэсовцев и спрятать самые важные документы – списки погибших, перечень всех транспортов и команд заключенных, которые прибывали в Эбензее. Барта улучил момент и засунул эти бумаги под куртку, под рубашку. Не успели эсэсовцы довезти мешки до крематория, как документы были перепрятаны Мюссаком и двумя югославами – Милошем Баичем и Любомиром Зецевичем. Опорожнили огнетушитель, туго набили его документами и закопали за бараком. Эсэсовцы в спешке сожгли бумаги, так и не узнав, что исчезли самые важные… В три часа мимо барака, где лежал Старостин, прошли два эсэсовца, они направлялись от пекарни к воротам. Каждый держал руку на кобуре. Старостин видел в окно, что ни один лагерник не отдал приветствия и не снял перед ними полосатого берета. Перед вечером испанцы, которые прибирали в домах у начальства, дали знать: Антон Ганц сел в машину со своим догом и уехал. Судя по тому, как он собирался, – возвращаться лагерфюрер не намерен. Говорили, будто он пытался вызвать подмогу по телефону, но убедился, что командованию не до него. Наоборот, у него стали требовать эсэсовцев для обороны какого-то моста. Сюда же прислали только жиденький взвод фольксштурма. Эсэсовцы грузятся на машины и покидают лагерь. Теперь у пулеметов на караульных вышках торчат пожилые фольксштурмисты. Но в лагерь никто из них входить не решается. Старостин уже успел отлежаться, когда в барак вбежал испанец Антонио, он только что прибежал из пятой штольни. – Ну и что же? – Но именно в ту штольню хотел всех загнать Ганц! – Да, в пятую. Ну и что же? – А то, что при входе стоит паровоз, а к нему тянется шнур, тщательно засыпанный щебенкой. Поздно вечером подпольному комитету стали известны подробности, их сообщили итальянцы. По приказу Ганца в штольню № 5 пригнали паровоз и оставили стоять близ входа, якобы из-за неисправности. Так вот, паровоз можно назвать одной огромной миной: и холодная топка его, и тендер битком набиты взрывчаткой. Чеккини, который проведал Старостина, хорошо знаком с саперным делом. Он посчитал – взрывчатки в десять раз больше, чем ее требуется, чтобы засыпать выход из штольни. – Хватило бы обрушить половину горы. Каменная братская могила! Можете мне поверить, – возбужденно уверял Чеккини. – Я играл в такие игрушки… 107 Рано утром на дороге, ведущей к городку, появился танк. Старостин видел, как неторопливо, осторожничая, он прошел к окраине городка, но въезжать на узкие улицы не решился и повернул обратно. Сотни глаз наблюдали за танком сквозь густую колючую проволоку. В изгороди проделали несколько дыр. Кто-то, цепляясь полосатым одеянием за колючки, то и дело пролезал туда и обратно. Узник никак не мог насладиться самой возможностью ходить по той зоне, где прежде его настигла бы пулеметная очередь. Иные падали на колени, целовались, тряслись от неудержимого смеха, плакали. Где взять силы, чтобы пережить такое? Когда радость безмерна, в первые минуты она причиняет острую боль. Кричали всяк на своем языке, но танкисты и не подозревали о лагере, притулившемся у подножия лесистой горы, ничего не видели и не слышали. Трое заключенных ушли вниз в долину, чтобы найти танкистов, но вернулись ни с чем – дорога опять пустынна. Перед полуднем в долине показались бронетранспортеры, следом за ними еле слышно погромыхивали танки. Легкий ветерок колыхал флаги, которыми были расцвечены дома. Красно-бело-красные австрийские флаги развевались сегодня впервые: больше семи лет жила Австрия под игом Гитлера. В два часа дня на плац въехал легкий танк. Второй раз Этьена освобождают американцы, и это не случайно – его загнали на запад, как можно дальше от своих. 
Вслед за первым появился второй легкий танк. Заключенные обступили их так тесно, что танкистам некуда было спрыгнуть. Позже появился джип, за ним пришли машины с продуктами и машина с душем. Походные кухни непрерывно варили кашу. Несколько санитарных машин курсировали между городком и лагерем, увозя больных. Товарищи уговаривали Старостина лечь в лазарет, но он не хотел расстаться со своими. В тот же день началась эвакуация лагеря. Первыми увезли американцев, англичан, к ним присоединились китаец и бразилец, неведомо какими путями попавшие в Эбензее. Далекая, однако, у них путь-дорога на родину! Наступила очередь французов. Они построились в колонну. Над ней реяло сине-бело-красное знамя. К концу дня стало известно, что местные власти предоставили в распоряжение советских офицеров трехэтажный Спорт-отель в Штайнкоголе. Это по соседству, на берегу реки Зее, завтра все туда переберутся. Вечером лагерь был подобен огромному бивуаку. У иных бараков горело по нескольку костров, а бараков четыре десятка. Эсэсовцы нарочно расселяли по разным баракам людей одной национальности, чтобы меньше было контактов между ними, чтобы люди хуже понимали друг друга. А теперь в лагере шло великое переселение народов. Сселялись вместе итальянцы, испанцы, русские, югославы, венгры, поляки. Электричество погасло, воды нет. В холодной пекарне не осталось ни горстки муки. Каждому заключенному насыпали муку в котелок, выдали несколько порций эрзац-кофе, немного повидла и маргарина. Продукты развозили на ручных тележках под охраной. Аппетитные запахи доносились от костров, где русские пекли блины. И пусть блины из темной муки, смешанной с отрубями, – нет и никогда не было блинов вкуснее! Русские пекли блины и пели. Их голоса разносились в тишине теплой майской ночи. Художник Милош Баич подошел к костру и принялся угощать сигаретами из посылки Красного Креста. Старостин отказался: он давно некурящий. – А вас чем угостить? – спросил Старостин. – Русскими песнями. Пели «По долинам и по взгорьям», «Стоим на страже всегда, всегда», затем кто-то робко и неуверенно затянул про девушку Катюшу. Старостин этой песни никогда не слышал, но вокруг ее подхватили. Едва песня зазвучала громче, к костру подошли итальянцы. Они включились в хор, заглушив голоса русских. Старостин разобрал слова припева: «Пусть развалились сапоги, но мы идем вперед». Кто-то из итальянцев удивился: откуда русские знают их партизанскую песню «Дуют ветры»? И начал горячо доказывать, что это боевая песня бойцов Сопротивления Ломбардии. Старостин увидел Чеккини, помахал ему рукой и предложил место рядом. Итальянцы спели песню заново и по-своему – они и не знали, что военные ветры занесли к ним эту мелодию из России. Затем они разбрелись кто куда, у костра стало тихо. – Хотел спросить вас, Чеккини, еще тогда. Не воевал ли в вашей бригаде невысокий парень с партийным именем «Бруно»? Его подлинное имя Альбино. Родом из Новары. – Бруно, Бруно… – Чеккини пожал худыми плечами и сказал раздумчиво: – Какой-то Бруно командовал отрядом в провинции Модена. – Я старый житель провинции Модена. Три года без малого прожил в Кастельфранко дель Эмилия. – Отряд Бруно выполнял самые важные приказы нашего командующего, – продолжал вспоминать Чеккини. – Взрывали мосты. Нападали на склады и обозы. Карали карателей. Помнится, командир Бруно был невысок ростом, крепок в кости, носил испанскую шапочку, заломленную набок… А долго ваш приятель сражался в Сопротивлении? – Этого я не знаю. Но знаю, что такой парень не мог ни одного дня оставаться в стороне от войны с нацистами. Чеккини с гордостью рассказал, как храбро воевали в Модене русские военнопленные солдаты и офицеры, сбежавшие из концлагерей. Они особенно отличились при штурме средневекового замка Монтефиорино. Самым умелым, самым дерзким, самым храбрым был русский офицер Владимир Переладов. Позже под его командой воевали больше ста русских солдат и офицеров. В селах провинции по соседству с партизанской зоной фашисты расклеили тогда приказ коменданта Модены, отпечатанный в типографии: «300 тысяч лир предлагает немецкое командование за голову сталинского шпиона, заброшенного в Италию с целью установления Советской власти, капитана Владимира Переладова. Вознаграждение будет выплачено немедленно тому, кто живым или мертвым доставит в военную комендатуру Модены этого русского бандита». С тех дней, когда батальон Переладова вместе с гарибальдийской бригадой и отрядом «Стелла Росса» штурмовал в первых числах июня городок и средневековый замок Монтефиорино, и до тех трагических дней, когда партизаны, окруженные карателями, вынуждены были оставить свою партизанскую столицу, русские были товарищами по оружию, и с той поры Чеккини числит себя их другом. Оба помолчали, не отводя глаз от костра, и Старостин неожиданно спросил: – Она была очень набожная, та синьорина из Милана, о которой вы мне рассказывали? – Да, молилась за весь отряд… Говорят, влюбленные не верят в горе, у них притупляется чувство страха. Вот так было и со мной. Как рисковал! И всегда ходил на диверсии вдвоем с удачей. Все у меня получалось! У меня тогда будто крылья выросли за плечами. – Он покосился на свое исхудавшее плечо, которое просвечивало сквозь жалкие лагерные отрепья. – А потом вдруг черные рубашки схватили наших перед диверсией. Ясно, каратели раньше пронюхали обо всем. И тут выяснилось: доверчивый партизан Джанкарло исповедался накануне святому отцу, а тот нарушил тайну исповеди и донес. Невесело было идти на новую операцию после такого провала. Мы с Рыбкой рядом на коленях стояли в церкви. Я, помню, шепнул ей: «Помолитесь за меня, Рыбка, вы набожная». Портфель мой лежал на мраморном полу, прямо из церкви мы уходили на задание. Рыбка мне говорит: «Боюсь, после расстрела Джанкарло и других мои молитвы бог уже не услышит… Можно отмолить любой грех, но как отмолить само сомнение? У кого просить прощения, когда сомневаешься в самом существовании святого духа?» И вот, слышу, молится она. Только не так, как нас учили на уроках закона божьего, а по-своему: «Боже, если ты есть! Спаси наши души, если они есть!» Взял я свой портфель с динамитом, вышел из церкви, и больше мы никогда с Рыбкой не виделись. – Как? Как она молилась? – Спаси, боже, если ты есть, наши души, если они есть, – повторил Чеккини. – Она так и не сказала вам своего имени? – О, я был бы счастлив его знать. – Может быть, Джаннина? – Право, не знаю. – Красивая девушка? – О, настоящая мадоннина. – Как она выглядит? – Легче описать внешность, когда есть хотя бы маленький изъян, Труднее описывать очень красивую. – А сколько ей лет? – О, она не девчонка, Года двадцать два – двадцать три. Говорили, у нее был жених, но она от него отказалась… – Боже, если ты есть! – совсем неожиданно сказал Старостин. – Спаси ее душу, если ты не разучился уберегать людей от гибели и делать добро. Они беседовали так долго, что рассвет уже обесцветил и превратил в желтые плошки все негасимые костры и костерки. Около них по-прежнему полусидели-полулежали те, кто впервые ночевали на свободе. – Лишь бы она осталась жива, – твердил Чеккини, перед тем как понуро отошел от костра. Костер погас, золу и угли покрыла чернота остывания. Предутренний холод заставил всех искать приюта в бараках, на своих нарах. Но разве заснешь в первую свободную ночь? Старостин и Мамедов вышли из барака, и они не были единственными, кто бродил сейчас между бараками. Сегодня их переведут в Штайнкоголь, в Спорт-отель, и Старостин решил напоследок пройтись по лагерю. Страшное зрелище открылось в северо-западном углу лагеря. Рабочие крематория разбежались, печи погасли, и возле них – сотни и сотни несожженных трупов. Старостин чувствовал себя так, будто попал в преисподнюю. Он сильно разволновался, на впалых щеках ходили желваки, искусал себе губы. На стене крематория было краской по штукатурке аккуратно выведено? Прожорливым червям я не достанусь, нет! Меня возьмет огонь в своей могучей силе. В сей жизни я всегда любил тепло и свет, – Предайте же меня огню, а не могиле[2]. Последнее, что мог прочесть на этом свете каждый, кого гнали в крематорий. Издевательством звучало и то, что это было написано от имени обреченного, будто он сам просил о сожжении, «любил тепло и свет». Эсэсовцы пытались засадить за колючую проволоку и музу поэзии Евтерпу! Старостин несколько раз подряд прочел четверостишие, как бы присыпанное человеческим пеплом… Потом торопливо сказал Мамедову, стоявшему рядом: – Идем отсюда скорей. Нечем дышать. Не могу здесь больше… Безветренной, тихой ночью не так слышен был трупный запах, а сейчас, когда подымалось майское солнце, долго стоять возле крематория было невмоготу. Старостин вышел за лагерные ворота без конвоя и зашагал вдоль колючей изгороди, с внешней ее стороны. Такие же чувства владели им, когда он в компании с Лючетти и Марьяни обходил вокруг эргастоло на Санто-Стефано. Слышно, как шумит водопад у озера, из леса доносятся птичьи голоса. Старостин шел и прислушивался: не доносится ли канонада с востока? Он наслаждался жизнью и жадно впитывал впечатления нового дня. Альпийские луга уже зацветали и расцвечивались. Все вызывало его восторженное внимание – и козы в долине, и альпийский колокольчик на ошейнике у коровы, и цветы в палисаднике опустевшего дома, откуда сбежали эсэсовцы. Несколько раз он предлагал Мамедову: – Может, отдохнем? Торопиться-то нам некуда. Даже медленная ходьба вызывала одышку, он останавливался, жадно лакомился свежим воздухом и часто закашливался: видимо, все-таки продрог ночью… Утро прошло в прощаниях и проводах. Уехали испанцы, за испанцами оставили лагерь итальянцы. Несколько итальянцев нарочно уехали в отрепьях, смутно напоминавших военную форму. Не думал Старостин, что так разволнуется, прощаясь с Чеккини. Старостин был счастлив за этого красивого молодого человека. На днях он увидит родных, близких и, может быть, найдет синьорину, которую мечтает назвать своей возлюбленной. Чехи раздобыли повозку, запряженную лошадью, сложили свои пожитки, посылки Красного Креста и двинулись за повозкой, над которой водрузили самодельный национальный флаг. Часа в три дня Старостин распрощался с Драгомиром Бартой и снова был счастлив за хорошего парня, он вернется в Прагу, как с того света. День теплый, однако Старостин чувствовал озноб и не снимал макинтоша, который ему подарили французы. Он застегнулся на все три пуговицы, поднял воротник, руки засунул в карманы. И все-таки зябко. Перед вечером покинули лагерь русские. Старостин был в группе офицеров, которым предстояло перебраться в Штайнкоголь. Путешествие в несколько километров не должно его особенно утомить: дорога почти все время идет под гору. Уходя, Старостин проверил – известно ли остающемуся дежурному по лагерю их будущее местонахождение. Он все ждал, что с часу на час приедет представитель Советского командования, и боялся, что их не сразу найдут. 108 Вечером он принял горячую ванну, лег спать на кровать с пружинным матрацем, положил голову на мягкую подушку и укрылся одеялом; на нем чистое белье из посылки Красного Креста. Большая комната в три окна, восемь кроватей. Соседи встали, а он неприлично заспался. Оделся, позавтракал, распахнул настежь окно и сел у подоконника. Из окна виднеются елки, левее три молоденькие березки. Благодатное утро, а ему так трудно дышать. Может, в комнате духота, накурили? Он решил немного прогуляться. Солнце припекало по-летнему, оно высушило росу на альпийском лугу. Этьен попросил кого-то из своих вынести матрац, одеяло и подушку, благо их комната на первом этаже. Ему безудержно захотелось полежать на молодой изумрудной траве, вдоволь надышаться запахами прогретой земли, трав, полевых цветов, новорожденной листвы. Так он скорее избавится от озноба, который никак не отставал от него в бессолнечной комнате. Над головой – нетронутое, отныне безопасное майское небо. Одно-единственное облачко оттеняет его голубизну. Этьен прилег, накрылся. Но как согреться? Это началось после того, как их гнали на станцию, на разгрузку картошки, недели две назад. Кажется, он продрог под тем холодным дождем навсегда. Не найти в траве того, что потерял в студеных лужах, в стылых карцерах, на окровавленном снегу лагеря… А может, если ему начнут давать хорошие лекарства, удушье отстанет? Теперь делают какие-то спасительные операции легочникам, он даже слыхал, как называются эти операции: торакопластика. Но надо еще додышать, добраться, доковылять до того магического операционного стола, дожить до операции и выжить после нее… Мечтая о жизни, он одновременно каким-то краешком сознания понимал, что занимается самообманом, убаюкивает себя надеждами. В последние дни обозначился рубеж между ним и соседями по нарам, а сейчас – по комнате, такими же дистрофиками, как он. Изможденные люди быстро набирались здоровья. Его кормили даже лучше, но он оставался во власти каких-то недобрых сил, которые не позволяют поправляться. Этого почему-то не замечают даже близкие товарищи. Или делают вид, что не замечают? Он признался себе, что весна не пробуждает в нем новых сил, как бывало прежде, и не радует. Наверное, потому, что каждая прожитая весна бывала очередной весной, а сейчас он чувствовал, что эта весна – последняя. Он любовался окружающим его альпийским пейзажем, жадно вслушивался в пение, гомон и щебетание птиц – они доносились с той стороны, где на краю луга, напротив их окна, растут три несовершеннолетние березки совсем русского обличья. И травы совсем нашенские, русские – вот клевер, вот пырей, вот одуванчик, – будто лежит он где-то на лужайке в белорусском Заречье или на берегу реки Самарки. Он благословлял в поле каждую былинку. Но расцветающая природа, все богатство красок, запахов и звуков не вызывали в нем душевного подъема, какой являлся прежде в такие минуты… Из-за скверного самочувствия увядали мечты, таяли надежды и планы, обрывала свой полет мысль. Он вгляделся в бело-желтые цветы земляники и уличил себя в мысли, что ягод уже не увидит и не полакомится ими: поспеют через месяц, полтора. Снег лежит на причудливом силуэте горы. Она так похожа сегодня на один из отрогов Кавказского хребта. Горная цепь совсем такая, какой он любовался с аэродрома под Тифлисом. Далекие-далекие белые пятна, а вот сожмет ли он когда-нибудь в руке комок податливого снега, услышит ли его веселый скрип под ногами, ощутит ли запах снега, схожий с запахом арбуза, придется ли ему в жизни еще померзнуть? Хорошо бы! Это означало бы, что он доживет до будущей зимы, может быть, до многих зим. Последние зимы, прожитые в тюрьмах Италии и в Австрийских Альпах, были отравлены вечной невозможностью согреться. Холод здесь приносил только страдание. А когда-то он любил русскую зиму и скучал по ней, если судьба забрасывала его зимой на юг. Вот бы еще раз в жизни почувствовать, как мороз щиплет уши, нос, пальцы ног! Не хотелось, ох как не хотелось признаться себе, что ты – доходяга, что жизнь уже израсходована. Тебе уже трудно представить ощущения здорового человека. Ты забыл о том, каково бывает людям при хорошем самочувствии. И как сумел ты притерпеться к голоду, так привык сейчас к непроходящей боли в груди и привязчивой, Неотступной слабости. А если сегодня ты страдаешь меньше, чем накануне, то лишь потому, что у тебя не осталось сил для страдания. Пришли на ум строчки, которые еще юношей он слышал от старшего брата. Кто знает, из какой царской тюрьмы или сибирской «пересылки», с какого этапа, из какого каторжного централа родом эти слова? «В кровавом зареве пожарищ погиб еще один товарищ!..» На похоронах Джино Лючетти он сказал: «Жестокая, несправедливая смерть». Он мог бы произнести эти слова о самом себе. Дождаться свободы, когда совсем не осталось сил, когда нечем жить, – разве справедливо? Был ли смысл в том, чтобы из последних сил, надрываясь, прожить несколько дней на свободе? Жить, когда не осталось сил чувствовать себя счастливым самому и ты настолько бессилен, что не можешь дать счастье близким, а принесешь им только страдание? Может, было бы менее мучительно – вовсе не выйти из лагеря, не бередить себе душу прикосновением к свободе, уже недосягаемой, недоступной? Нет, все-таки прожить несколько дней на свободе!!! Какая несправедливость! Когда открыты все замки, за которыми его держали восемь с половиной лет, у его изголовья появился самый жестокий, самый несговорчивый ключник. Как там у Данте в его «Пире»? «И смерть к груди моей приставила ключи». Он задумался о судьбе Антонио Грамши, который после долгих лет тюрьмы прожил на свободе всего несколько дней. Этьен прикинул: ему сейчас столько же лет, сколько было Грамши, когда тот умер, – сорок шесть. Один и тот же судья Сапорити судил его и Грамши в Особом трибунале по защите фашизма. Сколько лет прошло между приговорами? Около восьми. Сколько же Сапорити пришлось вынести приговоров для того, чтобы дослужиться до корпусного генерала? Этьену еще повезло с амнистиями. Только в связи с рождением внука Виктор-Эммануил обещал Этьену четыре года жизни. Но даже если тот отпрыск королевского рода переживет своего дедушку и папашу, он уже не вскарабкается на итальянский престол, придется доживать в эмиграции. Сколько же сейчас лет младенцу-спасителю? Лет шесть-семь. Если малолетнее высочество не тупица, оно уже научилось читать и писать. Как бы то ни было, принцесса разродилась ко времени… Впрочем, амнистия-то осталась на бумаге… Нет человека на белом свете, кому была бы известна вся тюремная география Этьена: Милан – Турин – римская «Реджина чели» – Кастельфранко дель Эмилия – пересыльная тюрьма в Неаполе – Санто-Стефано – крепость в Гаэте – снова Кастельфранко дель Эмилия – Вена – Маутхаузен – Мельк – Эбензее… И сколько его память, пребывавшая за решетками, засовами, запорами, замками и колючей проволокой, хранит примеров человеческой низости и человеческого благородства, бескорыстия и алчности, предательства и дружбы. Из друзей в серо-коричневой одежде он чаще всего с любовью и нежностью вспоминал Бруно, Лючетти, Марьяни. И всех троих он незаслуженно обидел, не сказав им всей правды о себе, правды, которую друзья тысячу раз заслужили. Вот уж кому не угрожает известность, а тем более слава, так это военному разведчику. И закономерно, что наш народ не знает людей той профессии, к которой принадлежит Этьен. Да и как народу знать их фамилии, когда они сами нередко вынуждены забывать свои имена, фамилии, адреса, отказываются от одних, заменяют другими? Лет двадцать назад отец сказал ему при прощании: «Приезжать сюда, в Чаусы, в отпуск ты не можешь. Но хоть какой-нибудь адрес у тебя есть? Или адрес так быстро меняется, что мое письмо тебя не сможет догнать?» «Адрес у меня как раз постоянный, – отшутился Левушка. – Земля, до востребования». Стало стыдно, что он так редко вспоминал отца. Ему рассказывали, что отец в последние дни жизни сильно тосковал, все хотел повидаться с младшим сыном, проститься, а Левушка уже давно стал Этьеном и был за тридевять земель от родных Чаус. Он уже не помнит, где тогда был – в Китае или во Франции, в Маньчжурии или в Германии, в Швейцарии или в Италии? Сколько лет назад он в последний раз получил обыкновенное житейское письмо, в котором не было никаких иносказаний, недомолвок, намеков, ничего не нужно было читать между строк? И чтобы на конверте были написаны его имя и его адрес? Прежде он был убежден: нет ничего трудней, чем воевать в безвестности, как пришлось ему и его однокашникам, коллегам. Но он познакомился на лагерных нарах с партизанами, подпольщиками и узнал, что бывает испытание еще горше. Такому испытанию подвергался тот, кто оставался в тылу врага и, если требовало святое дело борьбы, становился немецким старостой, ходил в бургомистрах, выслуживался в полицаях, приобретал грязную репутацию иуды. Прежде Этьен думал, что самое трудное – бороться в одиночку, на чужбине, в окружении чужих людей, говорящих на чужом языке. Но еще тяжелее судьба того, кто воюет на своей земле, среди своих, но вынужден до поры до времени притворяться предателем, вызывая к себе ненависть и презрение честных людей, даже самых близких. Никогда товарищи по лагерю так много не думали и не говорили о будущей жизни, как в последние дни, ступив на порог свободы. Их прошлое пристально и страстно вглядывалось в будущее, а настоящего как бы и вовсе не было. Когда же сам ты не смеешь строить планы на будущее, то непрестанно возвращаешься мыслями к прошлому, перелистываешь его, зорче вглядываешься, правильнее оцениваешь. Когда ты лишился возможности исправить ошибки прошлого, то особенно упорно думаешь о каждом промахе, каждой глупости своей, которых можно было остеречься, избежать. Он слабел, но память его не тускнела, сохраняла тренированную остроту и точность. Память оставалась его силой, его единственной силой. В Маутхаузене, Мельке и Эбензее он, в дополнение к шести языкам, которые знал раньше, начал говорить по-чешски, по-польски, по-сербски. Он помнил чуть ли не каждую радиопередачу, принятую в бараке у Вернера (Куно). Он все еще помнил шифр, каким пользовался в последние дни перед арестом, а также в Кастельфранко. Шестьсот узников прозябало в бараке № 15 в Эбензее, и больше половины их он помнит по именам и номерам. Он заучивал наизусть протоколы подпольного центра. Жаль, нельзя наделить своей памятью никого другого, память нельзя подарить, передать по наследству молодому разведчику, который его когда-нибудь заменит на посту. Со всех сторон окружали сегодня воспоминания. Они подступали к самому сердцу, удивительно ясные, отчетливые, стойкие, и подолгу не ускользали из сознания. Вспомнилась и последняя записка, которую он послал домой: «Надюша, милая, береги себя. Может все случиться в моей жизни, и тебе придется одной воспитывать нашу дочь. Воспитай ее честным, правдивым человеком, настоящим коммунистом». Несколько дней живет на свободе Яков Никитич Старостин. Но после освобождения Этьен все в меньшей степени ощущал себя Старостиным, не всегда ощущал себя даже Этьеном и все больше становился самим собой. Может, это объяснялось тем, что сейчас он думал о своей жизни с самых юных лет? Или дело тут в том, что комбриг Маневич вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья? Кем он был в последние годы? Этьен. Конрад Кертнер. Узник № 2722. Чинкванто Чинкве. Арестант № 576. Яковлев, который прожил несколько предутренних часов в арестантском вагоне, пока в гестаповском списке не появился Яков Старостин. Заключенный R-133042. А последние три дня – снова Яков Никитич Старостин. Но сам-то он знает, что не освобожденный из неволи R-133042 израсходовал свою жизнь без остатка, а Лев Маневич. Жизнь вызвала его на очную ставку с самим собой, независимо от того, как его сейчас называют окружающие и под какой фамилией он живет на белом свете. Когда-то, будучи совсем молодым человеком, комиссаром бронепоезда или слушателем первых курсов военной академии, он говаривал не без юношеской рисовки: «Я – выходец из прошлого века». А сейчас он ощущает на своих согбенных плечах тяжесть всех лет. Кто знает, будь он вдвое моложе, у него хватило бы сил превозмочь недуг? Он вновь вспомнил милого парня и дерзкого подпольщика из шрайбштубе Драгомира Барту. Столько перестрадал, приехал в Эбензее с самой первой партией заключенных, до того сидел в Маутхаузене. А вернется в свою Злату Прагу двадцати четырех лет от роду. Хорошо, что дома, в Москве, нет и не будет его фотографии последних лет. Пусть Надя и Таня вспоминают его таким, каким он уехал тогда с Белорусского вокзала, в международном вагоне Москва – Негорелое – Берлин. Пусть близкие не увидят его на фотографии сутулым, седым, с залысинами, с обострившимся носом, с острыми скулами, с запавшими щеками и таким худым, что вес его немногим отличается от веса скелета, а сквозь живот можно, кажется, прощупать позвоночник. На снимке, который остался висеть дома, он – молодцеватый, непринужденная поза, в прекрасно сшитом костюме и в модной шляпе борсалино, надетой, как того требовали правила хорошего тона, чуть-чуть косо. Пришлось повозиться со шляпой после всех кожаных картузов, фуражек, буденовок, танковых и лётных шлемов. А тем, кто не привык к цивильной одежде, не научился как следует носить шляпу и не освоил штатскую походку, Старик вообще запрещал носить форму и ходить в сапогах, чтобы раз и навсегда сбить ребят со строевого шага. Вот уж что у тебя сейчас, товарищ комбриг, никак не проглянет, так это военная выправка. Он повернулся на бок и поискал глазами свою палку – лежит рядом на траве, стоит только протянуть руку… А растут ли на этом лугу съедобные травы? Только этой весной он научился узнавать, находить их – дикая мята, щавель, цикорий, подорожник, заячья трава. Сорвал пучок сочной травы. Когда и где он уже вглядывался так внимательно и долго в травинки? Вспомнил! Клочок лётного поля, вырванный колесом шасси в момент взлета и унесенный ввысь. Летит авиатор Маневич, наблюдает за землей, а нет-нет и взглянет краешком глаза на зеленый пучок травы, прицепившийся к колесу. Недолго вращалось колесо в воздухе после разбега по земле… Он отдавал себе отчет, что многое в его донесениях устарело, так хотелось думать, что наши военные изобретатели не отстали от немецких. Он снова и снова напряженно возвращался мыслью к вопросу: какой ценой добыта Победа? Больше всего жертв принес советский народ, он вынес на своих плечах самую тяжелую ношу. Потери победителей неизмеримо больше, чем побежденных, – может быть, в три-четыре раза больше. Но сколько бы дней ни осталось ему прожить, Этьен счастлив, что дожил до Победы и пережил Гитлера, которого и человеком-то нельзя назвать. Человекообразный зверь, у которого «дикарь-камень вместо сердца», как говорил сапер Шостак. В прошлом году, в день рождения Гитлера, 20 апреля, всем им в Маутхаузене выдали по лишней порции баланды с ломтиком хлеба. А в этом году эсэсовцы в Эбензее сами забыли отметить дату – не до того было. Гитлер отпраздновал свадьбу с Евой Браун на следующий день после того, как был расстрелян Муссолини. А через два дня новобрачные покончили самоубийством. Гитлер умер бездетным, но сколько он оставил после себя духовных наследников! В польском языке есть такое точное слово, им называют ребенка, родившегося после смерти отца, – «погробовец», ни по-русски, ни по-немецки так точно не скажешь. Будут «погробовцы», те, кому изуверские идеи разных фюреров полюбятся позже. Может быть, много лет спустя. В начале тридцатых годов Этьен видел в Гамбурге, как штурмовики избивали бастующих, и рвался на их защиту. В Испании он жаждал защищать от франкистов молодую республику. Позже, в Италии, он мечтал участвовать в движении Сопротивления, воевать в рядах гарибальдийцев. Узнавая плохие новости с Восточного фронта, он всеми мыслями и чувствами был в числе командиров Советской Армии на поле боя. А после того как прошел все девять кругов фашистского ада, он не мог бы мстить за один народ. Фашизм не щадит все народы, в том числе и немецкий, фашизм – враг человечества и всего человеческого в человеке. Для Гитлера и его «погробовцев» человек – сперва мишень, неподвижная или движущаяся мишень, а потом топливо для крематория… Как Этьен счастлив, что дожил до свободы, лежит на альпийском лугу, вдыхает его ароматы. Воздух сегодня не отравлен зловонием крематория, потухла, остыла адская труба в Эбензее и во всех других лагерях… Несколько раз к Старостину, который грелся на солнце и никак не мог согреться, подходили товарищи. Кто-то сообщил, что скоро к нему привезут самого лучшего врача из соседнего городка. Кто-то делился последними радионовостями. А Старостина больше всего беспокоило, не появился ли представитель советских войск: по всем расчетам выходит, что наши где-то совсем близко. На этот случай были бы очень кстати его старые документы. Лежат они себе в узкой нише, под мраморным подоконником в траттории «Фаустино» в доме номер 76, на улице того же названия, в Гаэте. Найдутся ли они когда-нибудь? И в чьи руки попадут?.. Он позвал Донцова, попросил его и Мамедова заняться картотекой, которую они утаили от немцев. Сколько военнопленных привезли в Эбензее? Сколько осталось в живых? На многих карточках стоят условные значки, их надо расшифровать. Выяснить, кто сотрудничал с гитлеровцами. День прохладнел, и Этьен начал собираться к себе в отель. Он принес в комнату пучок травы и полевых цветов. После обеда почти все товарищи разбрелись кто куда: не сиделось на месте в день, когда так явственно слышалась величественная поступь истории, когда планета обретала мир. Вернулся Мамедов, спросил у Старостина, как дела, не нуждается ли в чем-нибудь. – Все хорошо. А чувствую себя плохо. Мамедов дотронулся до лба – жар, да еще какой. Старостин заходился в кашле, был бледен, но острые скулы розовели так, будто в комнату проник свет преждевременного заката. Мамедов принялся что-то торопливо врать про близость снежных вершин, от них несет холодом, как только садится солнце. Но, произнося все эти утешительные слова, Мамедов сидел у раскрытого окна в непривычно белой рубахе и почему-то холода не ощущал. – Как говорят у нас в Белоруссии, старая баба и в петров день на печке мерзнет. -Старостин несмело улыбнулся, шумно передохнул и попросил: – Накрой меня. Мамедов набросил свое одеяло, но Старостин и под двумя одеялами стучал зубами. – Пить! – снова и снова просил Старостин. Он сделал несколько глотков и притих, кашель унялся. Быстро наступили сумерки – во все три окна комнаты вставили темно-синие стекла. За домом не умолкали крики, веселый гам, доносились отзвуки бессонной праздничной кутерьмы. Позже в комнату ворвалась толпа орущих, ополоумевших от счастья людей – только что по радио передали о полной и безоговорочной капитуляции Германии. От громкоговорителя в вестибюле не расходилась толпа. Одновременно в раскрытые окна донесся колокольный звон – благовест Победы. Раздались далекие орудийные залпы, а где-то по соседству загремели автоматные очереди. И через любое из трех окон можно было увидеть отсветы салюта, возникшего внезапно. Зачем беречь ракеты, когда и кому они еще понадобятся? За окнами долго бушевала оглушительная, ослепительная буря восторга. Майский вечер, а за ним и ночь не могли вернуть себе первобытной черноты, подсвеченные зарницами и отсветами торжества. Мамедов не стал тревожить Старостина, оставил ему одеяло, а сам накрылся шинелью. Погасил тусклую лампочку: все равно накал слабый, виден каждый волосок. – Держись, Яков Никитич, завтра праздник Победы, – сказал Мамедов и, едва положив голову на подушку, заснул. Проснулся Мамедов, когда рассвет уже заглядывал в окна. Спросонья померещилось, что лежит на нарах в блоке № 15 и его кто-то душит. А это Старостин приподнялся на своей кровати, перегнулся и тянул Мамедова за воротник рубахи. – Сергей… – Что случилось, Яков Никитич? – Не увижу… Не вернусь… Будешь в Москве, зайди… – Он задыхался, каждое слово давалось с трудом, тянулся к Мамедову и наконец решился: – Передай, что я – Этьен… Чтобы семью не оставили… Сделал, что мог… Запомни – Этьен… Наде и Тане… Он лежал возле окна, и Мамедов хорошо видел его бескровное лицо. Он с трудом поднял веки, попытался сказать еще что-то, но не смог – кровь хлынула горлом. Голова Этьена покоилась на руке Мамедова. В предрассветную минуту кровь казалась не алой, а темной, она растекалась по белоснежной рубахе. Этьен поник головой, в глазах угасли и боль и тревога, будто он преодолел самое трудное в жизни. 109 Утром 9 мая 1945 года начались печальные хлопоты. Для всех близких друзей Старостина День Победы принес не только радость, но глубокое горе. Кругом шло ликование, а в Спорт-отеле был траур. Выставили почетный караул. Шли и шли бывшие узники из соседних поселков, разбросанных в долине. Близкие друзья вынесли гроб из Спорт-отеля. Траурная процессия двинулась из Штайнкоголя, перешла по узкому мосту на другой берег реки. За гробом шло много народа. Возле моста гроб установили на открытой грузовой машине… Траурный митинг открыл генерал Митрофанов. Потом слово было представлено Мамедову, «другу Старостина по нарам», как выразился генерал. «Мы еще не знаем, кто из нас – кто, – сказал Мамедов. – Но всем нам ясно, что Яков Никитич Старостин был выдающимся человеком. Он спас многим из нас жизнь, которая теперь вновь стала свободной… Стоя у могилы, даю товарищам клятву, что священное поручение, которое Старостин доверил мне перед смертью, я выполню. Можешь об этом не тревожиться, дорогой Яков Никитич!» Друзья возложили на свежую могилу венок из альпийских роз. И на кресте – бургомистр, не зная наших обычаев, прислал крест – написали: «Здесь покоится советский полковник Старостин Яков Никитич». Двадцать лет спустя был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий Советского правительства перед второй мировой войной и в борьбе с фашизмом, присвоить полковнику МАНЕВИЧУ ЛЬВУ ЕФИМОВИЧУ звание Героя Советского Союза посмертно». И только в тот день, когда Указ был обнародован, умерла старая «легенда». Вскоре останки героя перенесли из долины реки Зее в город Линц, на кладбище Санкт-Мартин, где покоятся павшие советские воины. С тех пор на могильном памятнике значится: «Герой Советского Союза полковник Л. Е. Маневич». Мы и сегодня числим его на действительной бессрочной службе в Советской Армии. 1966-1970. Примечания 1 OVRA (Opera volontaria repressione antifascista) – тайная полицейско-шпионская и террористическая организация. 2 Перевод с немецкого А. Смоляна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
|||||||