 |
|
Популярные авторы:: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек :: Лесков Николай Семёнович :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Миша Ласкин :: Арестант :: Шипы и розы (Шепот роз) :: Война и мир. Том 1 :: Дюна (Книги 1-3) :: Покупаем Юпитер :: Лебединая песня :: Лучшее из времён :: Справочник по реестру Windows XP :: The Beach |
Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельникModernLib.Net / Современная проза / Воннегут Курт / Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник - Чтение (стр. 8)
Вейн скучал без этого шуршащего голоса. Он скучал без грохота стальных дверей. Он скучал без хлеба и супа, без полных кружек кофе с молоком. Он скучал и без всяких извращений, без всего того, что с ним вытворяли его сокамерники и что он вытворял с ними и даже с коровами на скотном дворе, — для него это все и было нормальной жизнью на нашей планете. Вот какой памятник подошел бы Вейну Гублеру:  Молочное хозяйство тюрьмы поставляло молоко, масло, сливки, сыр и мороженое не только для тюрьмы и городских больниц. Молочные продукты продавались повсюду. Но на фирменной марке тюрьма не упоминалась. Вот какая была марка:  Вейн почти не умел читать. Например, слова «Гавайи» и «гавайский» стояли рядом с более знакомыми словами и знаками на многих витринах и даже ветровых стеклах некоторых автомобилей. Вейн старался разобрать таинственные слова фонетически, но ничего не выходило. — У-вай-ии, — читал он, — ву-уу-хи-уу-хи... И так далее. Вейн Гублер вдруг ухмыльнулся — не потому, что он был чем-то доволен, хотя и бездельничал, а просто потому, что ему приятно было скалить зубы. Зубы у него были превосходные. Исправительная колония для взрослых в Шепердстауне гордилась своими зубоврачебными достижениями. Колония была настолько знаменита своим зубоврачеванием, что об этом писали в медицинских сборниках и даже в «Ридерс дайджест», самом популярном журнальчике на этой умирающей планете. В основу этой зубоврачебной программы легла та мысль, что по выходе из тюрьмы многие бывшие заключенные не могли или не умели получить хорошую работу оттого, что у них была непривлекательная внешность, а внешность становится привлекательной прежде всего благодаря красивым зубам. Зубоврачебные достижения колонии были настолько широко известны, что полиция, даже в соседних штатах, поймав какого-нибудь несчастного с великолепными и дорогими коронками, мостами и пломбами, почти сразу спрашивала: — Ладно, старик, сколько лет просидел в Шепердстауне? Вейн Гублер слышал, как официантка выкрикивала заказы бармену в коктейль-баре: «Гилби, с хинной водой, да закрути!» Он понятия не имел, что это значит: не то «Манхэттен», не то «Бренди Александр», не то лимонад с джином. «Один „Джонни Уокер“ с „Роб Роем“!» — кричала она. — И «Южную усладу» со льдом, и «Кровавую Мэри» с волфсшмитовой». Для Вейна понятие «спиртное» было связано либо со всякими жидкостями для чистки — он их пробовал пить, либо с мазями для башмаков — он их пробовал есть. Он не любил спиртного. — «Блэк-энд-Уайт» да разбавь! — услышал он голос официантки. Надо бы Вейну навострить уши. Как раз этот напиток предназначался не кому попало. Он предназначался человеку, который создал все теперешние горести Вейна, тому, кто мог его убить, или сделать миллионером, или вновь отправить в тюрьму — словом, мог проделать с Вейном любую чертовщину. Этот напиток подали мне. Я приехал на фестиваль искусств инкогнито. Я решил посмотреть на конфронтацию двух человеческих существ, созданных мной, — Двейна Гувера и Килгора Траута. Я не хотел, чтобы меня узнали. Официантка зажгла фонарик на моем столе. Я потушил свечу, прижав фитиль пальцем. В филиале гостиницы «Отдых туриста» в Аштабуле, штат Огайо, где я переночевал, я купил темные очки. Сейчас я их надел, хотя было темно. Вид у них был такой:  Стекла были посеребрены, так что в них отражались как в зеркале все, кто на меня смотрел. Если кто-то хотел заглянуть мне в глаза, он или она видели лишь собственное отражение. Там, где у других людей в коктейль-баре были глаза, у меня были две дырки в другой мир — в Зазеркалье. У меня были «лужицы». На моем столе, рядом с сигаретами «Пэл-Мэл», лежала коробка спичек. Вот послание, написанное на этой коробке, — я прочел его через полтора часа, когда Двейн уже бил Франсину Пефко смертным боем: «Как заработать 100 долларов в неделю, в свободное время знакомя друзей с обувью фирмы „Мэйсон“ — удобной, модной, недорогой. ВСЕМ нравится обувь „Мэйсон“ особым кроем, создающим комфорт! Посылаем БЕСПЛАТНО набор для демонстрации, можно много выручить, не выходя из дому. Вы узнаете, как ДАРОМ получить для себя прекрасную обувь — премию за выгодные заказы». И так далее. «Ты пишешь очень плохую книгу», — сказал я самому себе, прячась за темными очками. «Знаю», — сказал я. «Боишься, что покончишь с собой, как твоя мать?» — сказал я. «Знаю», — сказал я. В этом коктейль-баре глядя сквозь темные очки на мною же выдуманный мир, я жевал и перекатывал слово «шизофрения». Много лет звук и вид этого слова завораживали меня. Мне оно виделось и звучало для меня так, будто человек отфыркивается в завихрении мыльных хлопьев. Я не знал и до сих пор не знаю наверняка, сидит во мне эта болезнь или нет. Одно я знал и знаю: я создаю для себя невыносимые условия жизни оттого, что не умею сосредоточить внимание на мелочах, которые важны в данную минуту, и отказываюсь верить в то, во что верят мои соседи. Теперь мне лучше. Честное благородное слово — мне куда лучше. Мне было действительно очень не по себе, когда я сидел в этом придуманном мной коктейль-баре и глядел сквозь очки на белую официантку моего изобретения. Я дал ей имя: Бонни Мак-Магон. Я велел ей подать Двейну Гуверу его обычное питье — мартини «Палата лордов» с лимонной корочкой. Бонни была старой знакомой Двейна. Ее муж служил надзирателем в исправительной колонии для взрослых, в секторе сексуальных преступлений. Бонни приходилось работать официанткой, потому что ее муж вложил все свои деньги в автомоечную станцию в Шепердстауне и разорился. Двейн советовал им не заниматься этим делом. А познакомился Двейн с Бонни и ее мужем Ральфом так: за шестнадцать лет они купили через него девять «понтиаков». — У нас вся семья — «понтиаковцы», — шутили они. И сейчас Бонни пошутила, подавая Двейну «Мартини». Каждый раз, подавая кому-нибудь «Мартини», она повторяла ту же шутку. — Завтрак для чемпионов, — говорила она. Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Дженерал миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев. Заглавие данной книги, совпадающее с этим названием, а также и повторное упоминание его по ходу действия никак не связано с акционерной компанией «Дженерал миллз», не служит ей рекламой и ни в коей мере не бросает тень на ее отличный продукт. Двейн очень надеялся, что кто-нибудь из почетных гостей — все они остановились в этой гостинице — зайдет и в коктейль-бар. Ему хотелось, если возможно, поговорить с ними, разузнать, известны ли им какие-нибудь истины о жизни, каких он до сих пор еще не слыхал. Вот на что он надеялся: узнать какую-то новую правду, которая помогла бы ему смеяться над своими неприятностями, жить спокойно, а главное: не попасть в северный корпус Мидлэндской городской больницы, где содержались душевнобольные. Ожидая появления какого-нибудь деятеля искусств, он черпал утешение а единственном художественном произведении, хранившемся в его памяти. Это было стихотворение, которое его заставили выучить наизусть в старшем классе средней школы на Сахарной речке — в то время это была привилегированная школа для белых. Теперь она стала простой негритянской школой. Стихи были такие: Рука начертит знаки и уйдет — Ее никто назад не повернет: Ни мудрый ум, ни слезы, ни моленья, Ничто строку не смоет, не сотрет. Вот это стих! Двейн настолько был готов к восприятию новых истин о смысле жизни, что легко впадал в транс. Вот и сейчас, глядя в стакан с «Мартини», он был загипнотизирован мириадами мигающих глазок, плясавших на поверхности его напитка. А эти глазки были просто капельками лимонного сока. Двейн не заметил, как два почетных гостя фестиваля искусств вошли в бар и сели на табуретки у рояля Кролика. Они были белые. Это были Беатриса Кидслер, автор романов-тайн, и Рабо Карабекьян, художник-минималист. Рояль Кролика — маленький кабинетный «Стейнвей» — был покрыт пластиком дынного цвета и окружен табуретками. Посетители могли пить и есть прямо с деки рояля. В прошлый День благодарения семье из одиннадцати человек подавали обед на рояле. А Кролик им играл. — Я так и думал, что этот городишко — задница вселенной, — сказал Рабо Карабекьян, художник-минималист. Беатриса Кидслер, автор романов-тайн, выросла в Мидлэнд-Сити. — Я просто окаменела, когда вернулась сюда после стольких лет, — сказала она Карабекьяну. — Американцы всегда боятся возвращаться домой, — сказал Карабекьян. — И позвольте заметить, не без оснований! — Раньше у них, конечно, были основания бояться, а теперь нет, — сказала Беатриса. — Прошлое перестало быть для них опасным. Я бы сказала каждому американцу, разъезжающему по стране: «Ну, конечно, вы теперь можете возвращаться домой сколько угодно и когда хотите. Любой дом стал просто мотелем». На той стороне автострады, где машины шли на запад, движение остановилось примерно на милю к востоку от новой гостиницы «Отдых туриста», потому что на выезде № 10А произошла катастрофа. Водители и пассажиры вышли из машин — размять ноги и по возможности узнать, что там стряслось впереди. Килгор Траут тоже вышел со всеми. Ему сказали, что до новой гостиницы «Отдых туриста» легко можно дойти пешком. Он забрал свои узелки из кабины «Галактики», поблагодарил водителя, чью фамилию он забыл, и поплелся пешком. По дороге он стал мысленно строить систему доказательств, которая помогла бы ему выполнить свою нехитрую миссию среди обывателей Мидлэнд-Сити, склонных к возвеличиванию всякой творческой деятельности: он хотел показать им человека больших творческих возможностей, терпевшего неудачу за неудачей. Он приостановился и взглянул на себя в зеркальце грузовика, застрявшего среди других машин. Грузовик тащил два прицепа вместо одного. Вот что, по воле собственников прицепа, вопили надписи в лицо всем встречным и поперечным:  Как и надеялся Траут, вид у него в зеркальце-«лужице» был ужасающий. Он ни разу не мылся после того, как его пристукнула банда «Плутон», и кровь засохла на кончике уха и под одной ноздрей. На рукаве пиджака был след от собачьей кучки: после ограбления Траут угодил в эту кучку, упав на площадке под мостом Куинсборо. По невероятному совпадению кучку сделал один несчастный пес, доберман-пинчер, — я хорошо знаком с его хозяйкой. Эта девушка — хозяйка пса — работала помощником осветителя в труппе, ставившей музыкальную комедию на сюжет из американской истории. Она держала своего несчастного пса — звали его Лансер — в однокомнатной квартирке, шестнадцать на двадцать шесть футов, на шестом этаже без лифта. Вся его собачья жизнь состояла в том, что он должен был делать кучки в положенное время и в положенных местах. А положено ему было два места: либо спуститься на семьдесят две ступеньки вниз, к обочине мостовой, где проносились сотни машин, либо сделать свои дела на старой сковородке, которую хозяйка оставляла около холодильника «Вестингауз». Мозг у Лансера был очень небольшой, но и у него, по всей вероятности, точь-в-точь как у Вейна Гублера, иногда мелькало подозрение: а не произошла ли с ним какая-то страшная ошибка? А Траут все топал и топал — чужой в чужих краях. Но он был вознагражден за это паломничество, узнав то, чего ему никогда не узнать бы, останься он в своем подвале в Когоузе. Он получил ответ на вопрос, который в ту минуту задавали себе многие люди: «Что задерживает движение на западной половине автострады, по дороге в Мидлэнд-Сити?» Пелена спала с глаз Траута. Ему все стало ясно: грузовик молочной фирмы «Королева прерий» лежал на боку, преграждая путь потоку машин. Его жестоко ударил свирепый «шевроле», двухместная модель 1971 года. Этот «шевви» перескочил разделительную полосу. Пассажир «шевви» сидел без предохранительного пояса. Его швырнуло прямо сквозь плексигласовое ветровое стекло. Теперь он лежал мертвый в цементном желобе, где протекала Сахарная речка. Водитель «шевроле» тоже погиб. В него ввинтилась ось руля. Из мертвого пассажира «шевроле» текла кровь прямо в Сахарную речку. Из грузовика с молоком текло молоко. Скоро эту кровь и это молоко вода унесет в Пещеру святого чуда и эта смесь попадет в состав вонючих пузырей, похожих на мячики для пинг-понга, которые возникали в недрах этой самой пещеры. Глава девятнадцатая В полумраке коктейль-бара я стал соперничать с Создателем вселенной. Я смял всю вселенную в шар диаметром точно в один световой год. Потом я ее взорвал. Потом снова развеял в пространстве. Можете задавать мне вопросы, любые вопросы. Каков возраст вселенной? Ее возраст — полсекунды, но эти полсекунды пока что длились один квинтильон лет. Кто ее создал? Никто — она существовала всегда. Что есть время? Это змей, кусающий собственный хвост. Вот так:  Однажды этот змей развернулся, чтобы дать Еве яблоко, которое выглядело так:  Что это было за яблоко, которое съели Адам и Ева? Этим яблоком был Создатель вселенной. Ну и так далее. До чего же красивая штука — всякая символика! Слушайте. Официантка принесла мне еще вылить. Она хотела опять зажечь фонарь на моем столике. Но я не позволил. — Разве вам что-нибудь видно тут, в полутьме, да еще через темные очки? — спросила она. — Главное действие разыгрывается у меня в голове, — сказал я. — Да ну? — сказала она. — Я и судьбу умею предсказывать, — сказал я. — Хотите, и вам предскажу? — Только не сейчас, — сказала она. Она пошла к бару и о чем-то заговорила с барменом — наверно, про меня. Бармен несколько раз встревоженно оборачивался в мою сторону. Но кроме черных очков, закрывавших мои глаза, он ничего не видел. А я и не беспокоился, что он меня выставит из бара. Создал-то его я сам. И имя ему я придумал: Гарольд Ньюком Уилбур. Я наградил его Серебряной звездой, Бронзовой звездой, Солдатской медалью, медалью «За примерное поведение и службу» и медалью «Пурпурное сердце» с двумя пучками бронзовых дубовых листьев, так что в Мидлэнд-Сити среди ветеранов он был на втором месте по количеству регалий. Я спрятал все его награды у него в шкафу под носовые платки. Все эти медали он заработал во второй мировой войне, которую затеяли роботы, чтобы Двейн Гувер, как существо со свободной волей, мог отреагировать на эту бойню. Эта война велась с таким размахом, что на земле почти не осталось ни одного робота, не принимавшего в ней участия, Гарольд Ньюком Уилбур получил все свои награды за то, что убивал японцев — желтых роботов. Горючим для них служил рис. Он продолжал глазеть на меня, хотя мне уже не терпелось его остановить. Но я не вполне мог управлять созданными мной персонажами. Я мог только приблизительно руководить их движениями — слишком большие это были животные. Приходилось преодолевать инерцию. Я был, конечно, связан с ними, но не то чтобы стальным проводом. Скорее было похоже, что нас связывала изношенная, пересохшая резиновая передача. Тогда я заставил зазвонить зеленый телефон, висевший за стойкой. Гарольд Ньюком Уилбур, не сводя с меня глаз, взял трубку. Мне надо было быстро придумать — кто там на другом конце провода. И я поставил туда первого по количеству орденов среди ветеранов в Мидлэнд-Сити. Он получил ордена за войну во Вьетнаме. Раньше он тоже дрался с желтыми роботами, которые работали на рисе. — Коктейль-бар, — сказал Гарольд Ньюком Уилбур. — Гарольд? — Да? — Это Нед Лингамон. — Я занят. — Не вешай трубку. Полиция меня засадила в городскую тюрьму. Разрешили сделать только один звонок. Вот я и звоню тебе. — Почему мне? — Из всех друзей ты один только и остался. — За что тебя взяли? — Говорят, убил своего ребенка. И так далее. У этого белого человека были все те же ордена, что и у Герольда Ньюкома Уилбура, плюс самая высокая награда, какую мог получить американский солдат за героизм. Выглядела она так:  И вместе с тем он совершил сейчас самое гнусное преступление, какое может совершить американец, то есть убил своего собственного ребенка. Звали младенца Синтия-Энн, и жила она совсем недолго, пока снова не ушла из жизни. Убили ее за то, что она плакала и плакала без конца. Сначала ее семнадцатилетняя мать сбежала от нее, потому что ребенок слишком много требовал. А потом отец убил ее. И так далее. Что же касается судьбы, которую я мог бы предсказать официантке, то вот она: «Вас облапошат дезинсекторы, уничтожающие термитов, но вы ничего не заметите. Вы купите шины со стальным ободом для передних колес вашей машины. Вашу кошку переедет мотоциклист по имени Хэдли Томас, и вы заведете другую кошку. Артур, ваш брат из Атланты, найдет одиннадцать долларов в такси». Я мог бы предсказать судьбу и Кролику Гуверу: «Ваш отец очень серьезно заболеет, и вы так странно отнесетесь к его болезни, что пойдут разговоры: не поместить ли и вас в психушку? В приемной психбольницы вы будете устраивать сцены докторам и сестрам, утверждая, что вы виноваты в болезни отца. Вы будете винить себя за то, что столько лет пытались убить его ненавистью. Но потом вы переключите свою ненависть. Вы станете ненавидеть вашу покойную мать». И так далее. А черного Вейна Гублера, бывшего арестанта, я заставил уныло стоять у мусорных контейнеров на задворках новой гостиницы и смотреть на ассигнации, выданные ему у ворот тюрьмы нынче утром. Больше ему делать было нечего. Он долго рассматривал пирамиду с недремлющим оком на верхушке. Как ему хотелось побольше узнать и про пирамиду, и про недремлющее око! Сколько надо было еще учиться! Вейн даже не знал, что Земля вращается вокруг Солнца. Он думал, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что с виду это было именно так. Грузовик пронесся по автостраде со свистом, будто вскрикнув от боли из-за того, что Вейн прочел надпись на борту фонетически. Грузовик как будто крикнул Вейну: «Какая мука — возить взад и вперед всякие грузы».  Вот как Вейн прочел надпись «Герц» на борту грузовика [13]: ...ХХХ-РРР-ЦЦЦ... А вот какая история случится с Вейном дня через четыре, потому что я захотел, чтобы с ним так случилось. Его задержат и допросят в полиции, оттого что он вел себя подозрительно у боковых ворот «Бэрритрон лимитед», где делали что-то, связанное со сверхсекретным оружием. Сначала полиция решит, что он только притворяется неграмотным дурачком, а на самом деле он — хитрый разведчик, работающий на коммунистов. Но проверка отпечатков его пальцев и превосходные зубные коронки докажут, что он именно тот, за кого себя выдает. Но тем не менее ему придется еще кое-что объяснять. Откуда у него членский билет во всеамериканский клуб «Плейбой», выданный на имя Пауло ди Капистрано? Окажется, что он нашел билет в мусорном ящике на задворках новой гостиницы «Отдых туриста». И так далее. А теперь пришла пора заставить Рабо Карабекьяна, художника-минималиста, и писательницу Беатрису Кидслер что-то сказать и сделать для моей книги. Мне не хотелось глазеть на них — зачем их стращать? — и я сделал вид, что с увлечением рисую мокрым пальцем какие-то картинки на столе. Сначала я нарисовал земной символ, означающий «ничто». Вот он:  Потом я нарисовал земной символ, означающий «все». Вот он:  И Двейн Гувер, и Вейн Гублер знали первый символ, но не знали второго. А потом я нарисовал еще один символ в туманном облаке, и этот символ был печально известен Двейну, но неизвестен Вейну. Вот он:  И я нарисовал еще один символ — значение его Двейн несколько лет учил в школе, но потом совсем забыл. Вейну этот символ, наверно, напомнил бы конец стола в тюремной столовке. Этот знак выражал отношение длины окружности к ее диаметру. Отношение также можно было выразить числом, и даже в то время, когда и Двейн, и Вейн, и Карабекьян, и Беатриса Кидслер, и вообще все мы занимались своими делами, земные ученые монотонно радировали это число в космос. Замысел был такой: показать обитателям других планет — если только они нас слушают, — какие мы умные. Мы до тех пор пытали окружности, пока не выпытали у них тайный символ их существования. Назывался он «пи»:  И еще я нарисовал на пластиковом столике невидимую копию картины Карабекьяна под названием «Искушение святого Антония». Копию я, конечно, сделал в миниатюре и не в цвете, как подлинник, но я верно схватил и форму картины, да и ее содержание тоже. Вот что я нарисовал:  В ширину оригинал имел двадцать футов, в высоту — шестнадцать. Фон был загрунтован краской «гавайская груша» — зеленой масляной краской, изготовлявшейся фирмой «Краски и лаки О'Хейра» в Хеллертауне, штат Пенсильвания. Вертикальная полоса представляла собой наклейку из оранжевой флюоресцентной ленты. Картина была одним из самых дорогих произведений искусства в городе, конечно, не считая всяких зданий и памятников и не считая статуи Линкольна перед негритянской школой. Просто стыдно сказать, сколько стоила эта картина. Это была первая вещь, купленная для постоянной выставки в Центре искусств имени Милдред Бэрри. Фред Т. Бэрри, председатель правления компании «Бэрритрон лимитед», выложил за картину пятьдесят тысяч долларов своих кровных денежек. Весь Мидлэнд-Сити был возмущен. И я тоже. Да и Беатриса Кидслер тоже была возмущена, но она скрывала свое неудовольствие, сидя у рояля рядом с Карабекьяном. На Карабекьяне была фуфайка с портретом Бетховена. Он знал, что окружен людьми, которые ненавидят его за то, что он ухватил такую огромную сумму за такую ничтожную работу. И его это забавляло. Как и все в коктейль-баре, он себе размягчал мозги алкоголем. Это было вещество, которое вырабатывалось крошечным существом, называемым «дрожжевой грибок». Дрожжевые микроорганизмы поедали сахар и выделяли алкоголь. Они убивали себя, отравляя собственную среду своими же экскрементами. Килгор Траут однажды написал рассказик — диалог между двумя дрожжевыми грибками. Они обсуждали, что следовало бы считать целью их жизни, а сами поглощали сахар и задыхались в собственных экскрементах. И коль скоро их умственный уровень был весьма низок, они так и не узнали, что изготовляют шампанское. Вот и я заставил Беатрису Кидслер сказать Рабо Карабекьяну, когда они сидели у рояля, в баре: — Мне очень стыдно признаться, но я не знаю, кто такой святой Антоний. Кто же он был и почему кому-то захотелось его искушать? — Да я и сам не знаю, и мне противно узнавать, кто он такой. — Значит, вам правда не нужна? — спросила Беатриса. — А вы знаете, что такое правда? — сказал Карабекьян. — Это всякая дурь, в которую верит ваш сосед. Если я хочу с ним подружиться, я его спрашиваю, во что он верит. Он мне рассказывает, а я говорю: «Верно, верно, ваша правда!» Никакого уважения ни к творчеству этого художника, ни к творчеству этой писательницы я не испытывал. Я считал, что Карабекьян, со своими бессмысленными картинами, просто стакнулся с миллионерами, чтобы бедняки чувствовали себя дураками. Я считал, что Беатриса Кидслер, заодно с другими старомодными писателями, пыталась заставить людей поверить, что в жизни есть главные герои и герои второстепенные, что есть обстоятельства значительные и обстоятельства незначительные, что жизнь может чему-то научить, провести сквозь всякие испытания и что есть у жизни начало, середина и конец. Чем ближе подходило мое пятидесятилетие, тем больше я возмущался и недоумевал, видя, какие идиотские решения принимают мои сограждане. А потом мне вдруг стало их жаль: я понял, что это не их вина, что им свойственно вести себя так безобразно да еще с такими безобразными последствиями просто потому, что они изо всех сил старались подражать выдуманным героям всяких книг. Оттого американцы так часто и убивали друг дружку. Это был самый распространенный литературный прием: убийством кончались многие рассказы и романы. А почему правительство обращалось со многими американцами так, словно их можно было выкинуть из жизни, как бумажные салфетки? Потому что так обычно обращались писатели с персонажами, игравшими второстепенную роль в их книгах. И так далее. Как только я понял, почему Америка стала такой несчастной и опасной страной, где у людей никакой связи с реальной жизнью не было, я решил отказаться от всякого сочинительства. Я решил писать про жизнь. Все персонажи будут иметь абсолютно одинаковое значение. Все факты будут одинаково важными. Ничто упущено не будет. Пускай другие вносят порядок в хаос. А я вместо этого внесу хаос в порядок вещей, и, кажется, теперь мне это удалось. И если так поступят все писатели, то, может быть, граждане, не занимающиеся литературным трудом, поймут, что никакого порядка в окружающем нас мире нет и что мы главным образом должны приспосабливаться к окружающему нас хаосу. Приспособиться к хаосу ужасающе трудно, но вполне возможно. Я — живое тому доказательство. Да, это вполне возможно. Приспособляясь к хаосу в коктейль-баре, я сделал так, чтобы Бонни Мак-Магон — такой же важный персонаж, как любое существо во вселенной, — принесла Беатрисе Кидслер и Рабо Карабекьяну еще порцию дрожжевых экскрементов. Карабекьяну она принесла сухой «Мартини» на виски «Бифитер» с лимонной корочкой и при этом сказала: «Завтрак для чемпионов». — Вы это уже говорили, когда подали мне первую порцию «Мартини», — сказал Карабекьян. — Всякий раз так говорю, когда подаю «Мартини», — сказала Бонни. — И не надоедает? — сказал Карабекьян. — А может, люди нарочно забираются в такие богом забытые городишки, как ваш, чтобы никто не мешал им повторять те же остроты, пока светлый Ангел Смерти не заткнет им рот горстью праха. — Да я же просто хочу развеселить людей, — сказала Бонни. — Никогда в жизни не слышала, что это преступление. Извините, пожалуйста. Я никого не хотела обидеть. Бонни ужасно не нравился Карабекьян, но разговаривала она с ним сладким, как пирожное, голоском. Она твердо соблюдала правило; никогда не показывать, что тут, в коктейль-баре, ее что-то раздражает. Ее заработок складывался главным образом из чаевых, а чтобы получать на чай побольше, надо улыбаться, улыбаться и улыбаться, несмотря ни на что. Теперь у Бонни были только две цели в жизни. Ей надо было вернуть все деньги, которые ее муж потерял на мойке для машин в Шепердстауне, и ей до смерти хотелось купить шины со стальным ободом для своей машины. Тем временем ее муж сидел дома, смотрел по телевизору, как играет в гольф профессиональная команда, и отравлялся экскрементами дрожжевых грибков. Кстати, святой Антоний был египтянином, основавшим самый первый монастырь — так называлось место, где люди могли вести простой образ жизни и часто возносить молитвы Создателю вселенной, не отвлекаясь мирской суетой, любострастием и экскрементами дрожжевых грибков. Святой Антоний еще смолоду продал все свое имущество, ушел в пустыню и прожил там двадцать лет. В эти годы полного одиночества его часто искушали видения всяких удовольствий, которые ему могли бы доставить еда, и друзья, и женщины, и ярмарки, и все прочее. Его биографию создал другой египтянин, святой Атанас, чьи теории о Троице, воплощении и божественной сущности Духа Святого, написанные через три столетия после убийства Христа, все католики считали непререкаемыми, даже во времена Двейна Гувера. Кстати, католическая средняя школа в Мидлэнд-Сити была названа в честь святого Атанаса. Сначала ее назвали в честь святого Христофора, но потом папа римский, глава католической церкви во всем мире, объявил, что никакого святого Христофора, по-видимому, никогда не было, так что в его честь ничего называть не надо. Черный человек, мывший посуду на кухне гостиницы, вышел подышать свежим воздухом и выкурить сигарету «Пэл-Мэл». На его пропотевшей фуфайке красовался значок. Вот что на нем было написано: 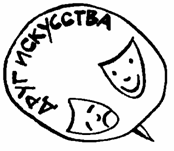 Повсюду в гостинице стояли подносы с такими значками — бери, кто хочет, и негр-судомойка тоже взял для смеха такой значок. Никакие произведения искусства, ничего, кроме всяких дешевых, а потому и непрочных поделок, ему нужно не было. Звали его Элдон Роббинс, и был он мужчина хоть куда. Элдон Роббинс тоже отсидел какое-то время в исправительной колонии и сразу узнал, что Вейн Гублер, стоявший у мусорных контейнеров, был только что выпущен оттуда же. — С возвращением на свет божий, братец, — ласково, вполголоса сказал он Вейну с кривой усмешкой. — Когда поел в последний раз? Нынче утром, что ли? Вейн робко кивнул: это была правда. И Элдон провел его через кухню к длинному столу, за которым ела кухонная челядь. Там даже стоял телевизор, и Вейну показали казнь шотландской королевы Мэри. Все были во что-то переряжены, и королева Мэри добровольно положила голову на плаху. Элтон устроил для Вейна даровой обед: бифштекс с картофельным пюре и мясной подливкой и вообще все, что ему захотелось, — обед готовили тоже черные люди. На столе стоял поднос с фестивальными значками, и перед обедом Элдон приколол такой значок Вейну. — Ты его не снимай — и тебя никто не тронет, — сказал он Вейну строгим голосом. Элдон показал Вейну глазок, который кухонные работники пробуравили в стенке, прямо в коктейль-бар. — Наскучит смотреть телик, можешь поглядеть на зверье в зоопарке, — сказал он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
|||||||