 |
|
Популярные авторы:: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Лесков Николай Семёнович :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Сименон Жорж Популярные книги:: The Boarding House :: Долгожданное возвращение :: Опасайтесь лысых и усатых :: Упражнения по стилистике русского языка :: Эсперанса :: Муму :: Старик-годовик :: Дюна (Книги 1-3) :: Корней Васильев :: Рождественский сюрприз |
Три девочки [История одной квартиры]ModernLib.Net / Детская проза / Верейская Елена Николаевна / Три девочки [История одной квартиры] - Чтение (стр. 8)
– Да, да! И вот эта «ниточка» и пойдет по льду? Доктор глубоко передохнул и заговорил быстро и взволнованно: – Это очень смелый, очень дерзкий план Военного Совета! Лед еще не крепок. Да никто никогда и не знал, каков он в этой части озера. Не к чему было!.. Первые смельчаки пошли обследовать пешком. С риском провалиться… Погибнуть… Пошли от деревни Кокорево на западном берегу озера до села Кобона на восточном. А Кобона – это уж «Большая земля»… – Погодите! – снова перебила Софья Михайловна. – Слушайте, все равно ни вам, ни мне не уснуть! Вы оденьтесь потеплее, а я пойду принесу из нашей комнаты карту. – Несите! Дети спали. Софья Михайловна зажгла коптилочку и, защищая ее ладонью, осторожно прошла через холодные «классную» и прихожую в свою комнату. Там стоял мороз. Балконная дверь была забита листами фанеры, – все стекла вылетели еще осенью при первых бомбежках. Софья Михайловна поставила коптилку на стол, сняла со шкафа рулон с большими картами всех областей Союза. «Боже мой, – подумала она, – я здесь, в помещении, за одну минуту закоченела, а те там… на льду… на ветру… в пургу… герои!» 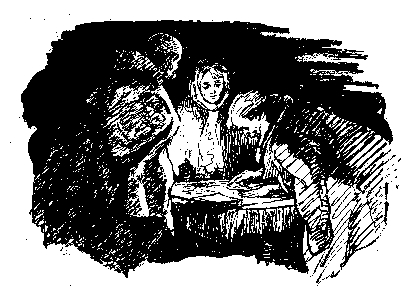 К счастью, карта Ленинградской области попалась ей быстро. Она вытянула ее из рулона и, не убирая остальных карт, поспешила обратно. Доктор, уже укутанный, сидел у стола и ждал ее. На столе горела вторая коптилка. Софья Михайловна передала карту доктору и, пока он раскладывал ее, отогревала дыханием закоченевшие пальцы. – Карта – точно ледяная, – прошептал доктор. – Я уже думала; а каково им там! – ответила Софья Михайловна, присаживаясь рядом с ним. Доктор молча положил на все четыре угла по книге, чтобы карта не скручивалась, а обе коптилки поставил прямо на голубое поле Ладожского озера. – Ну, давайте искать! Две головы склонились над картой. – Вот, – прошептал доктор, – смотрите! Кокорево на западном берегу, – он водил пальцем по карте, – вот и Кобона на восточном. А вот – канал, о котором вы говорили. Тут стоят немцы. Совсем близко от будущей дороги… Ну, глядите дальше. От Кокорева до Кобоны тридцать километров. Это – если по прямой линии. Но прямой линии быть не может. – А почему? – удивилась Софья Михайловна. – Мне мои больные всё объяснили, – продолжал доктор. – Вот где-то тут бьют со дна теплые ключи. И прямой путь пересекает майна – участок незамерзающей воды. Надо искать надежного обхода, – понятно? – Ну, дальше, дальше! – Где-то вот тут… ищите!.. на линии Северной железной дороги должна быть станция Подборовье… К ней подвозят грузы для нас… – Нашла! Вот она! – Софья Михайловна показала пальцем. – Вижу. Теперь смотрите: от Кобоны к этому самому Подборовью – никаких путей. Тут леса, болота, глушь… И тут спешно прокладывается дорога… – Кто? Наши войска? – Да. И тысячи добровольцев. Ленинградцы, перебравшиеся по льду через озеро. Колхозники с «Большой земли». Выехали с лошадьми, с санями. Работа идет круглые сутки. Ночью – при свете костров. – Так враг же совсем близко! Он может увидать эти костры! – испуганно прошептала Софья Михайловна. – Конечно, видит. И обстреливает. Но в стороне от этой дороги раскладывают ряд еще больших костров, чтобы сбить с толку… И все же… – Доктор поднял голову и посмотрел на Софью Михайловну глубоко запавшими, измученными глазами. – Нет, вы только подумайте, – зашептал он, захлебываясь словами, – всё, всё делается, чтобы спасти Ленинград!.. Эх, будь я моложе… сильнее!.. Спасти во что бы то ни стало!.. Дерзкий, смелый план! – горячо повторил он. – Люди гибнут от обстрелов, проваливаются под лед, замерзают, а добиваются и добиваются своего! На смену идут новые! Изголодавшиеся, истощенные, работают сутками напролет… – Да. Сутками напролет! Оба вздрогнули и оглянулись. Над ними, закутанный в ватное одеяло, в валенках, стоял Яков Иванович и тоже смотрел на карту. – Яков Иваныч! Мы вас разбудили! Простите, дорогой… – смущенно пробормотала Софья Михайловна. – Ну чего там! Мне и самому не больно спится, – вздохнул старый мастер. – Вам все это, конечно, уже известно, – сказал доктор, проведя ладонью по карте. Яков Иванович горько улыбнулся. – Кому и знать, как не мне, – снова тяжело вздохнул он. – От нас же, от завода, идут и идут добровольцы. И мои – понимаете, мои ребята тоже! – Яков Иванович стукнул себя кулаком в грудь. – Мои!.. Слесари, только что обученные… Остаюсь как без рук… Новых обучать буду. А удерживать нельзя, сам знаю, – много людей туда нужно, ох много! – А зачем же там слесари? – недоумевающе спросила Софья Михайловна. – Все там нужны. Вехи вдоль пути ставить надо? Надо. Ведь пурга, снегом все заносит. Плотники-мостовщики нужны, мосты на трещинах налаживать. А регулировщики? А врачи, санитары? Все нужны! Пока лед не больно крепок, конной тягой с «Большой земли» нам хлеб уже повезли. Да и то с опаской: тонок лед, еле держит коня да розвальни с двумя мешками. И те порой проваливаются. А как лед нарастет, машины пойдут… Путь-то нелегкий. Кто будет машины налаживать да ремонтировать? – Я только сегодня об этом узнала, – виноватым тоном произнесла Софья Михайловна. – Да и надо помалкивать, – строго сказал Яков Иванович, – у врага везде уши. Ну, да разве теперь скроешь? Пронюхал гад! Взбесился! Сорвать хочет стройку дороги. Бомбит, расстреливает. Врешь, не сорвешь, подлюга! – Яков Иванович гневно топнул ногой. – Доведем! Пришлет нам «Большая земля» хлебушка! – Дорого достанется этот хлебушко, – задумчиво сказал доктор. – А без такой ниточки – гибель Ленинграду… – Тот же фронт, – кивнул головой Яков Иванович, – а где фронт, там и смерть гуляет. – Тот же фронт, – подтвердил доктор. – А девочки еще ничего не знают, – вслух подумала Софья Михайловна. – И незачем им пока знать, – сурово прошептал Яков Иванович. – Еще сболтнут в очереди у булочной, малы еще. – Все равно знает уж население. Легендами слухи обрастают, – устало сказал доктор. – Все же помалкивать надо, – снова строго повторил Яков Иванович. – Побеседовали сейчас, а дальше – молчок. И спать надо. Завтра вставать рано, ложитесь-ка, – приказал он и решительно пошел к двери. Доктор и Софья Михайловна послушно встали. Доктор молча последовал за Яковом Ивановичем. Софья Михайловна еще раз внимательно посмотрела карту, потом не спеша свернула ее и поставила в угол за шкаф. Она потушила коптилку, легка в остывшую постель, закуталась в одеяло, но еще долго не могла уснуть. Ладога… Мороз… жестокая снежная пурга… и люди! Много людей, выбиваясь из сил, прокладывают путь хлебу… По льду озера… по глубокому болотистому лесу… почти на глазах у озверелого врага… Рвутся снаряды… падают бомбы… – Тот же фронт, – прошептала Софья Михайловна, – а мы сами разве не на фронте?.. Леня!.. Леня, любимый, где-то ты сейчас?.. И она впилась зубами в подушку, чтобы громко не застонать. * * * В прихожей раздался звонок. Тотик уже спал, девочки раздевались, чтобы лечь. В соседней комнате было темно, – видимо, доктор уже лег. Софья Михайловна пошла открывать. Девочки прислушались. Стукнула входная дверь; в прихожей раздались голоса. Один женский, как будто Дашин, другой мужской. Жених, что ли? Вот заговорила Софья Михайловна… Голос ее странно звенел. – Что-то случилось, – встревоженно произнесла Наташа и спешно начала снова одеваться. Катя и Люся тоже молча натягивали платья. – Зайдемте в комнату, обсудим, – услышали девочки голос Софьи Михайловны уже у самой двери. – Девочки, вы одеты? – Да, – ответили девочки в один голос. Дверь открылась, вошла Софья Михайловна, за ней Даша и Жених. Наташа впилась глазами во взволнованное лицо матери. – Мама, что случилось? – Здравствуйте, девчата! – весело сказал Жених. Софья Михайловна не ответила Наташе. Она подошла к двери в соседнюю комнату и тихо позвала: – Доктор! Вы спите? – Нет, – донеслось из темноты. – А что? – Вы можете выйти сюда?.. Надо тут… обсудить… посоветоваться… – Сию минуту! – ответил доктор, и стало слышно, как он поспешно одевается. – Мама! В чем дело? – повторила Наташа. – Сейчас, Наташа… подожди… – Лицо Софьи Михайловны было бледно и растерянно. Между бровей легла глубокая складка. – В том дело, Наташа, – снова весело заговорил Жених, – что я предлагаю твоей маме увезти вас отсюда. – Увезти? Куда? – в один голос спросили девочки. – На «Большую землю». Помните, про ниточку я говорил? Протянулась ниточка! Хочешь, Наташа? – В нашу деревню, – прибавила Даша, – к моей маме. В эту минуту вошел доктор и поздоровался с Женихом и Дашей. – Доктор, – взволнованно заговорила Софья Михайловна, – вот Жених едет скоро на машине… через Ладожское озеро… за продуктами… – Хочу их увезти отсюда, – перебил ее Жених. – Чего им тут пропадать? Дашина деревня километров сорок за Подборовьем. Разрешил мне командир мамашу мою туда подкинуть. А заодно и их. Многих-то взять не могу, с полной нагрузкой ездить еще не разрешено, – лед ненадежен. Ну, а они, – он кивнул головой в сторону Софьи Михайловны, – что они сейчас весят? Перышки! Мы и хлеб пока понемногу берем. – Отличился он в работе на озере, оттого и разрешили ему мамашу… – с гордостью начала было Даша, но Жених так строго глянул на нее, что она смутилась и осеклась. Доктор опустился на стул. – Но это же… риск… – пробормотал он. – Конечно, риск. Скрывать нечего, – серьезно сказал Жених. – Оборона у нас здорово поставлена, и все же обстрелы бывают. Уж мы знаем, – скорее бы девятый километр проскочить: пристрелен он у немцев. Да и сама Ладога, – нелегко она нам далась. Пока трассу осваивали, не одна машина под лед ушла. Ну, все-таки обуздали и Ладогу. Ездим. У нас теперь шоферы говорят: «Ладога как встала, так и поехала». Риск-то конечно, да ведь риск – дело благородное. А тут оставаться не риск? – Там у нас корова. Хлеба сколько хочешь, картошки… – заговорила Даша. – А тут же Тотик, как пить дать, помрет… Доктор низко опустил голову. Софья Михайловна подошла к нему, присела перед ним на корточки и снизу вверх заглянула ему в лицо. – Доктор… скажите… – прошептала она умоляюще. Доктор поднял голову и пристально посмотрел на тахту, где мирно спал Тотик. – Да, – сказал он твердо, – поезжайте… – Ехать? – переспросила Софья Михайловна шепотом. – Из Ленинграда? – Ехать! – Доктор уверенно кивнул головой. – Жених прав. Дорога трудная, конечно… – Дорога трудная, – подтвердил Жених. – И мороз, и обстрел может быть… Софья Михайловна, казалось, не слышит ничего. Все так же, сидя на корточках, она повернула голову вбок и, уставившись глазами в одну точку, сосредоточенно думала. Наташа вдруг почувствовала, что начинает дрожать мелкой дрожью Доктор посмотрел на нее. – Поезжайте, Наташа, – снова повторил он. Наташа мертвенно побледнела. – Я не поеду, – сказала она решительно. Софья Михайловна вздрогнула и оглянулась на нее. – Что ты сказала, Наташа? – Я не поеду, – повторила она еще решительнее. – Не… поедешь? Наташа вся дрожала. – Да, мама. Как же… мы поедем… будем спасаться… А Катя?.. А Люся?.. Софья Михайловна стремительно поднялась с корточек и всплеснула руками. – Да ты с ума сошла, Наташа! Неужели же мы их оставим? Конечно, если ехать, так всем. – А мама? – А дедушка? А доктор? – в один голос воскликнули Люся и Катя. Люся заплакала. Катя стояла вся бледная, прижимая руки к груди. Доктор уже овладел собой. Он сидел теперь, выпрямившись, и лицо его было спокойно. – Послушайте меня, девочки, – заговорил он. – Конечно, вам надо ехать всем. Тяжко расставаться, не спорю. И мне самому… будет не легко. Но, во-первых, чем меньше людей останется в Ленинграде, тем легче будет оставшимся. А во-вторых, вы же знаете, с Люсей делится пайком ее мама, с Катей – ее дедушка. Если вы уедете, они будут съедать его сами. Значит, надо ехать. Ради них же. – А вы-то сами, доктор? – воскликнула Наташа. – Что вы, Наташа… Разве я доеду? Наташа закусила губу. Наступило тягостное молчание. Люся тихо плакала. Софья Михайловна снова уставилась глазами в одну точку. – А когда ехать? – хрипло спросил доктор, обращаясь к Жениху. – Завтра в это же время… Сутки вам на сборы. Ну, Даша, а теперь пошли. В эту ночь никто, кроме Тотика, не спал. * * * Спешно, в глубоком молчании, разбирали вещи. Изредка, отрывистыми фразами, советовались, что брать с собой. Доктора уговорили лечь, но все время было слышно, как он ворочался и вздыхал. Люся то и дело украдкой вытирала слезы. Среди ночи Софья Михайловна усадила ее рядом с собой на тахту. – Люся, ты говоришь, как оставить маму. Но мама сама на днях уедет… – Куда? – испуганно спросила Люся. – Ее госпиталь передвигают ближе к фронту. – На фронт?! – Не бойся, глупышка! – Софья Михайловна отвела рукой от Люсиного лба упавшую прядь волос, – ведь Ленинград – тот же фронт. Опаснее маме не будет, – а зато как она будет рада, что ты в безопасности! Люся уронила голову на колени Софьи Михайловны и так и застыла, без слез и без слов. – Слушай, Люся, – заговорила Софья Михайловна, тихо лаская ее голову, – я теперь знаю, что ты, когда надо, умеешь быть мужественной. Ты что доказала. И сейчас твой долг – поддержать маму. Мама идет на фронт с радостью. Она знает, что там она еще нужнее. Она только очень волнуется за тебя. Твое дело теперь – не расстраивать ее. Как только рассветет, ты сбегаешь к ней проститься. Обещай мне, что будешь держать себя молодцом. Помни одно: мама будет работать вдесятеро лучше, если будет знать, что ты не кислятина, а настоящий человек. Обещаешь? Люся подняла голову. Глаза ее были сухи, но лицо побледнело как бумага, и она тяжело дышала. – Обещаю, – шепнула она чуть слышно. * * * – По старому русскому обычаю… надо присесть перед дорогой, – сказал Яков Иванович и, сняв шапку, первый опустился на стул. За ним сели все – кто на стул, кто на диван, кто на узлы. Молча просидели несколько мгновений. Лица у всех были торжественные. 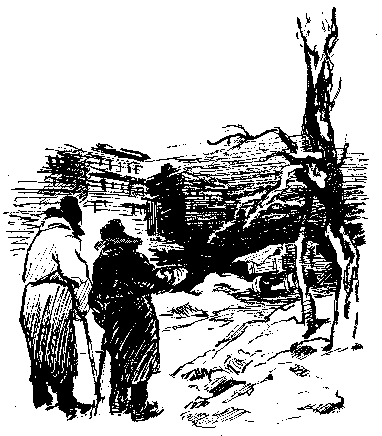 – Ну, пора, – сказал Жених, дождавшись, когда Яков Иванович первый встал со стула. – Попрощаемся здесь, – отрывисто сказала Софья Михайловна. – Прощайтесь, а мы с Дашей пока снесем вещи в машину. Даша, бери! – И Жених, взяв в обе руки по чемодану, вышел из комнаты. За ним вышла Даша с узлом. Машина стояла во дворе. В кузове, заботливо укутанная одеялом, уже сидела старушка. Софью Михайловну с Тотиком посадили в кабину. Жених влез в кузов и из чемоданов и узлов устроил у задней стенки кабины удобное сиденье для девочек. По его совету, они уселись, тесно сжавшись, и укутались в большое пуховое одеяло Софьи Михайловны. Яков Иванович и доктор стояли рядом с машиной. Доктор все заглядывал в кабину, но в темноте ничего не мог разобрать. – Готово? Можно ехать? Никто не ответил. Жених влез в кабину, машина фыркнула, тронулась и медленно стала выезжать со двора. Яков Иванович и доктор шли следом. Машина завернула, рванулась и скрылась в темноте. Когда затих стук мотора, старики молча повернулись и пошли в дом. Они очень медленно поднялись по лестнице, вошли в свою комнату, и все так же, ни слова не сказав друг другу, легли в постель. И начались для них дни тревожного, напряженного ожидания вестей… Глава XV На машине через Ладогу. Все тот же закон взаимовыручки Грузовик осторожно пробирался по темным заснеженным улицам. Девочки, тесно прижавшись друг к другу, вглядывались в темноту и изредка перекидывались короткими, ничего не значащими фразами. Дорога была неровная, ухабистая. Метели намели огромные сугробы на улицах; никто их не сгребал, и грузовик то нырял в ухаб, то переваливался с боку на бок. Девочек начинало укачивать. Старушка рядом с ними что-то бормотала, потом свернулась клубочком, закуталась с головой и, видимо, уснула. Наташа все старалась понять, по каким улицам они едут. Она усиленно напрягала зрение, но едва могла различить очертания домов. Она очень устала за последние сутки – поспать удалось совсем мало, – и голова была туманная и немного кружилась. Но спать Наташе не хотелось, – она была слишком взволнована. Она уезжает из Ленинграда… Куда?.. В какую-то неизвестную деревню, к каким-то незнакомым людям… Надолго ли?.. Может быть, навсегда… Доктор сказал: «Риск…» Удастся ли благополучно переехать Ладожское озеро?.. Ну что ж… Будь что будет… А папа и не знает, что они уезжают… Как они потом найдут друг друга?.. А шерстяные чулки она, кажется, забыла на тахте?.. Не мысли, а какие-то разрозненные обрывки мыслей лихорадочно, перебивая одна другую, неслись в голове. От тряски их сиденье разъехалось, девочки сползли вниз, навалившись друг на друга. – Давайте попробуем лечь, – предложила Люся. – Я не хочу лежать. Вы ложитесь, я вас укрою, а сама еще посижу, – сказала Наташа и, опустившись на коленки, держась за борт, выползла из-под одеяла. В темноте ничего не было видно, но ей казалось, что вдруг она увидит, узнает какое-нибудь знакомое место своего родного города. Катя и Люся долго устраивались. Наташа укутала их одеялом, а сама так и осталась стоять на коленках, держась за борт кузова. Привыкшие к тьме глаза различали очертания редких низеньких домов, деревьев. Наташа поняла, что они едут уже за городом. Ленинград позади… Прощай, Ленинград!.. От толчка она больно ушиблась коленкой о край чемодана. Ветер крепчал, пронизывал ее насквозь, но она продолжала упрямо стоять у борта, следя, как домики попадаются все реже и реже; вот проехали по мосту, вот навстречу выдвинулась черная громада леса. Наконец она не выдержала, – руки начали совсем коченеть, застыло лицо. Наташа подползла к девочкам и тоже забралась под одеяло. – Замерзла, небось? Иди залезай в середку, – сказала Катя, уступая ей место. – Тут хоть и неудобно, а все-таки теплее. – Интересно, далеко ли мы уехали? – спросила Люся. «Далеко», – хотела ответить Наташа, но оказалось, что губы ее так застыли, что даже трудно было произнести слово. Девочки сбились в кучку и укрылись с головой. Их трясло и толкало; лежать было жестко и неудобно, но усталость взяла свое, и все три задремали. Наташа не знала, сколько прошло времени, когда вдруг услышала голос Жениха. Он будил старушку мать. – Мамаша! А мамаша! В Кокорево приехали, вылезать надо! – Ох, не тронь меня, сыночек, не подняться мне… – еле слышно раздалось из-под одеяла. – Ничего, мамаша, я сам тебя возьму, – говорил Жених, разворачивая одеяло. – Девчатки, вылезайте! – Что-о? Уж Ладогу проехали?! – изумилась Наташа, сбросила одеяло и села. Проснулись и Катя с Люсей. – Больно скоро захотела! – засмеялся Жених. – Нет, Ладога еще впереди. К берегу подъехали, – говорил он, бережно поднимая мать. – Здесь питательный пункт для ленинградцев. Сейчас увидишь, как «Большая земля» заботится о вас! Покормят, обогреетесь, и дальше поедем… А ну, мамаша, держись за борт, я соскочу и тебя сниму. – Девочки, идите сюда! – раздался из темноты голос Софьи Михайловны. С трудом выбираясь из грузовика, девочки увидели, что кругом стоят еще несколько таких же машин, и возле них в темноте копошатся люди. * * * Все казалось призрачным, ненастоящим, сном… В просторной, низкой, слабо освещенной комнате было очень людно, но странно тихо. После мороза, ветра и тряски гудело в ушах, кружилась голова, говорить было трудно… Они сидели на скамье за длинным непокрытым деревянным столом среди многих таких же изможденных, молчаливых людей и жадно ели из алюминиевых мисок густой, дымящийся, необычайно вкусный суп. Каждому было дано по ломтю хлеба. Софья Михайловна, совсем измученная, передала Тотика Наташе, а сама сидела, прислонившись головой к стене и закрыв глаза. Перед ней дымилась нетронутая миска. – Мама! Ты что это?! Кушай! – встревожилась Наташа. – Да-да… Сейчас… – Мать с трудом открыла глаза и принялась за еду. Наташа и Тотик ели из одной миски. Жадно проглотив несколько ложек супу, Тотик уронил голову на плечо Наташи и заснул. Наташа оглянулась на сидящих рядом подруг. И у них слипались глаза. Наташа потянулась. Все тело ныло, настоятельно требовало покоя. Эх, лечь бы сейчас в этой теплой комнате и заснуть, заснуть!.. Все равно где, – пусть хоть на полу, пусть хоть под столом… Но отдыхать долго не пришлось. Снова – дорога… * * * Дорога! «Дорога жизни»!.. Сквозь черную тьму, сквозь бешеный ледяной ветер неслись вереницы машин с ярко светящимися фарами. Это были словно две светлые ленты, две извивающиеся линии огней; одни мчались туда, на «Большую землю», другие непрерывным потоком лились навстречу, и те и другие терялись где-то далеко-далеко в черной пустоте. И так странно было видеть эти дерзкие огни после строгого затемнения Ленинграда! Ветер бушевал. Он свистел и выл, набрасывался как будто со всех сторон; иногда казалось, что он опрокинет машину. Девочки снова сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одеялом. Наташу вдруг охватило какое-то, совсем особенное, непередаваемое состояние. Это было вроде бреда. Она отлично сознавала, что едет по льду Ладожского озера, что под ней глубокая-глубокая вода, а где-то, по обеим сторонам, совсем недалеко, фронт, немцы. Но ей вдруг представился какой-то огромный, страшный зверь, вроде тех драконов, каких она видела на картинках в сказках. Его необъятная пасть с острыми, хищными зубами широко раскрыта, но прямо в его нёбо вонзен штык; и держит этот штык ее папа, упираясь ногами в отвратительную отвислую губу чудовища. А рядом с ним Вася вонзает штык в нижнюю челюсть зверя – прямо под толстый высунутый язык. Извивается чудовище, в ярости бьет длинным чешуйчатым хвостом, но не закрыть ему пасти, – разомкнута она двумя надежными штыками… Несколько секунд длилось это почти бредовое видение, и вдруг неистовый порыв ветра вырвал из рук Наташи и затрепал угол одеяла, и она снова увидела эту сверкающую непрерывную цепь огней. Почем знать? Может быть, и правда, папа и Вася сейчас где-то тут, совсем близко от нее, не дают чудовищу сомкнуть свою подлую пасть. – Наташка, холодно, лови одеяло! – крикнула Люся. – И чего мы сели? Давайте попробуем снова лечь. С огромным усилием, борясь с ветром, который рвал с них одеяло, улеглись они на дне кузова. Борт немного защищал их от ветра. – Мне кажется, мы никогда не приедем, – уныло сказала Катя. – Так и будем ехать и ехать без конца. – Ой, не пугай! – вздохнула Люся. Вдруг машина остановилась. Девочки прислушались. Стукнула дверка кабины, – видно, шофер вышел из нее. Гудел, шуршал чем-то ветер. – Я выгляну! – Наташа выползла из-под одеяла, встала на коленки, держась за борт машины, и огляделась. Кругом была черная ночь и так же бушевал ветер и обжигал лицо. Наташа снова поспешила под одеяло. – Ну что, Наташа? – Ничего не видно, все машины стоят. – Как страшно! – повторила Люся. Они долго лежали молча, стараясь как можно плотнее прижаться друг к другу. Кузов качнулся, и они услышали голос Жениха, старавшегося перекричать шум ветра: – Мамаша, может, в кабину тебя взять? Потеснимся там как-нибудь! – Нет, сынок, тут мне лучше. В кабине сидеть надо, а мне только бы лежать и лежать… Мне все дремлется… – Ничего, скоро поправишься, мамаша!.. Ну, а вы? Живы? – И руки Жениха затрясли девочек сквозь одеяло. – Живы! – три головы высунулись наружу. – Что случилось? Почему мы стоим? – Обстрел впереди был, лед трещину дал, вот и стоим. – Девятый километр! – с ужасом крикнула Люся. – Эка вспомнила! То место давно позади. – И что же теперь будет? – спросила Наташа. – Дорожная бригада мост через трещину налаживает. Как закончат, так и поедем. – А как там моя мама? – Ничего, в порядке. Ну, прячьтесь, девчата, носы поотморозите. – И Жених выскочил из кузова. – Девочки, вы подумайте, – проговорила Наташа, – на таком морозе мост строить… – Невольно вздрогнув, они еще теснее прижались друг к другу. * * * Если бы много времени спустя девочек попросили подробно рассказать о том, как они приехали в деревню, – все три, вероятно, рассказали бы совсем по-разному. Все это было как во сне. Они смутно помнили, как их одну за другой кто-то вынимал из кузова и ставил на ноги и как затекшие ноги были словно деревянные; и кто-то вел их под руки в избу; и как старушечий голос причитал над ними, без конца повторяя жалостливые слова; и как они пили горячее, душистое топленое молоко и просили еще, но Софья Михайловна не позволяла; и как это молоко чудесным, бодрящим теплом разливалось по всему телу; и как они потом очутились все три рядышком на русской печке с мягкими подушками под головами; и пахло овчиной, и снизу снова вливалось в их тела волшебное тепло; и как им казалось, что они все еще едут на тряской машине, но это было недолго, потому что сон почти мгновенно сковал их. Когда Наташа проснулась и открыла глаза, было совсем темно. Рядом с ней ровно и глубоко дышала Люся. Все так же пахло овчиной, и снизу шло все такое же ласковое, мягкое тепло. Наташа с наслаждением потянулась и повернулась на бок. В темноте выделялись три ровных голубых квадрата. Наташа поняла, что это окна. Ей показалось, что она уже выспалась и больше не заснет. Ни о чем не думалось, было просто тихо, тепло, хорошо. Она лежала и беспричинно улыбалась, и следила, как квадраты все голубели, как в комнате начинали смутно обозначаться предметы. Вот выделился стол. На нем огромный пузатый самовар. В углу кровать под пологом. На нее, наверно, положили маму с Тотиком. Как тихо! Только ровное дыхание спящих людей. Дверь в соседнюю комнату завешена светлой занавеской. А окна все голубее и голубее. Вот уже начинают вырисовываться на них морозные узоры. И вдруг такая бурная, такая безудержная радость жизни охватила Наташу, что лежать больше было невтерпеж. Она порывисто села и тут только заметила, что спала нераздетая, – только шубку и валенки сняла. Вот все это лежит тут же, на печке. Она так спешила, точно ей нужно было поспеть куда-то к сроку. Натянула валенки, надела шубку, шапочку и осторожно, изо всех сил стараясь не нашуметь слезла с печки. Дверь в сени скрипнула громко, и Наташа замерла, прислушалась. Нет, никто не проснулся. В темных сенях она ощупью отыскала дверь, отодвинула огромный деревянный засов и вышла на крыльцо.  После духоты и тепла избы морозный воздух словно широкой струей ворвался в легкие, раздвигая грудную клетку. Уже заметно рассвело и все было ясно видно. Деревенская улица шла вдоль длинного холма. Прямо с крылечка открывался широкий вид на оснеженные поля, на леса, пушистые от инея. Избы тонули в сугробах; на крышах лежали высокие, круглые снежные шапки. При въезде в деревенскую улицу, словно два часовых, по обеим сторонам стояли две огромные березы. Кое-где над избами уже поднимались из труб тоненькие, прямые, как по линеечке, дымки. Тишина стояла такая, что Наташа слышала собственное дыхание. Она спустилась с крылечка и но тропочке вышла на совсем мало наезженную дорогу посреди улицы. Снег звонко скрипел под валенками. Где-то поблизости вдруг прокричал петух; ему сразу откликнулся второй, третий, четвертый; где-то замычала корова, заблеяли овцы, приглушенно донесся сердитый женский окрик – и снова тишина, тишина… Наташа остановилась и оглянулась назад. Небо над горизонтом ярко розовело, и снег в той стороне был весь розоватый. Грудь глубоко вдыхала морозный воздух, глаза не могли оторваться от двух пушистых голубых берез. И вдруг обе верхушки вспыхнули и стали ярко-розовыми. Наташа стояла словно зачарованная. Розовый блеск на верхушке берез спускался все ниже. Наташа снова оглянулась, – огромное совсем красное солнце уже наполовину вышло из-за горизонта, – и вот уже вся деревня словно ожила, залитая его яркими лучами. А внизу, за холмами, еще лежала голубая тень. Заскрипел снег под быстрыми шагами, и под локоть Наташи просунулась рука. Наташа повернула голову. – Катюшка! Хорошо как, правда? – Хорошо! Они почему-то говорили шепотом, словно боясь нарушить это торжественное безмолвие зимнего утра. – Ты давно встала? – спросила Катя. – Да, вышла, – еще только светало. Наши спят? – Все спят. Только хозяйка встала, пошла корову доить. – Тихо как… Катюшка, даже не верится… – Да… Ни пальбы, ни свиста снарядов… А как-то там дедушка?.. доктор?.. – И Катя глубоко вздохнула. Наташа зябко повела плечами. – А мороз-то какой! Я замерзла… – прошептала она, – и, знаешь, снова спать захотелось. – Да… И мне! Пойдем! Держась за руки, они молча пошли домой. Старушка хозяйка, мать Даши, увидев девочек, расплакалась. – Родименькие мои, – запричитала она шепотом, – болезные вы мои, да на кого же вы похожи, бедняжечки? Неужто и моя Дашутка такая страшная?.. – Нет, – прошептала Наташа, – Даша ничего… – Да чего вы это ранехонько вскочили, мои родименькие? Вам бы спать да спать… Приехали-то вчера, – наплакалась я, на вас глядючи. Ну-ко, полезайте снова на печку, дитятки вы мои… – А мы и сами хотим, – сказала Катя и полезла на печку. – Стойте-ко, стойте! – Старушка засуетилась. – Выпейте по кружечке молока парного. Еще тепленькое, душистое. Девочки с наслаждением выпили парного молока. В избе было очень тепло, и после мороза их сразу разморило. Они забрались на печку и сразу заснули. Когда Наташа снова проснулась и выглянула с печки, вся изба была залита солнцем. На столе кипел тот самый пузатый самовар, стояла тарелка с ржаными лепешками и горшок молока. За столом сидели хозяйка и Софья Михайловна с Тотиком на коленях и пили чай. Сбоку на лавке уселась немолодая женщина в полушубке и большом клетчатом платке на голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|||||||