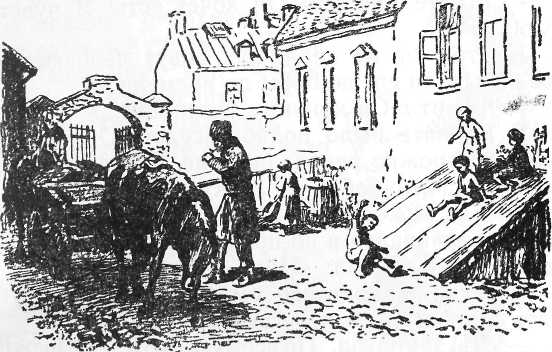Неугасимый свет
ModernLib.Net / Тайц Яков / Неугасимый свет - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Тайц Яков |
|
Жанр:
|
|
|
-
Читать книгу полностью (323 Кб)
- Скачать в формате fb2
(2,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(138 Кб)
- Скачать в формате txt
(129 Кб)
- Скачать в формате html
(2,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|
Яков Тайц
Неугасимый свет
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ
ЖИЛЕЦ
Полвека назад в городе Сморгони, Виленской губернии, Ошмянского уезда, Лебедевской волости, родился
человек.Человек этот был очень слабенький. Он лежал в цинковом корыте и жалобно верещал: «Иии!.. Иии!..» Его худенькое тельце было туго-натуго обмотано свивальником. (Свивальник — это длинная полотняная лента. Такими лентами в те годы бинтовали младенцев, и несчастные крохи не могли шевельнуть ни ручкой, ни ножкой…) Рядом, на кровати, лежала мама только что родившегося человека. Это была совсем ещё молодая женщина, с тонким, красивым лицом и тонкими, красивыми руками. Она тихо просила: — Дайте мне его! Он хочет есть! Я чувствую!.. Никто ещё не знал, как зовут человека, и все называли его до поры до времени
он.
«Онспит…
Онкричит…
Онпищит…» В комнате было полно соседок. Они взяли
егои осторожно передали маме. Мама положила
егорядом с собой на лоскутное одеяло и попробовала покормить. Но
онесть не захотел, всё отворачивался и по-прежнему тоненько, точно комарик, пищал: «Иии!.. Иии!..» Соседки жалостливо смотрели на молодую мать и вполголоса переговаривались: — Да, заморыш. По всему видать — не выживет. Не жилец на этом свете… Нет, не жилец. Молодая мать с ужасом прислушивалась к этим словам. Она просила: — Помолчите! Пожалейте!.. — А мы жалеючи… — отвечали соседки и снова принимались перешёптываться: — Не ест! Плохая примета… Не жилец… Мать зарывалась с головой в одеяло, чтобы не слышать страшного шёпота, и крепче прижимала к себе сына, точно хотела спрятать его от кого-то. А он всё тянул свою комариную песенку: «Иии!.. Иии!..» Но вот открылась дверь, и на пороге тесной комнаты показалась ещё не старая женщина в тёмном платке. Это мать молодой матери. Ещё вчера она была только матерью, а сегодня она уже бабушка. Ей, видно, нравилось новое звание. Она твёрдым шагом вошла в комнату, посмотрела на дочь, на жёлтое сморщенное личико внука, прислушалась к шёпоту соседок и сказала: — Вот что, соседушки, вы пойдите отдохните. А я тут сама всё сделаю… А жилец мой внук или не жилец—не вам судить! Соседки обиделись и ушли. В комнате стало тихо и только слышно было всё то же тоненькое, слабое попискивание. Бабушка подошла к кровати, взяла твёрдо запелёнатого, точно куколка, человека на руки и «поцокала» ему языком: — Тца!.. Тца!.. Тца!.. Ну что, глупенький? Ну что, слабенький? Зачем родился раньше времени? Куда спешил? Внук смотрел на бабушку узкими, мутными глазками и отвечал своё: «Иии!.. Иии!..» Бабушка положила его в корыто и сказала: — Тепла тебе надо побольше, дурачок, тепла! Она вытащила откуда-то из-под платка пачку ваты, распечатала её, развернула и закутала в неё внука. Поверх ваты она положила серое байковое одеяльце. Потом заправила семилинейную керосиновую лампу, зажгла её и поставила под корыто, которое лежало на перевёрнутой вверх ногами табуретке. — Вот так… Пусть погреется наш заморыш, наш первенький!.. — Она нагнулась над корытом. — Ну что, тепло тебе, дурачок? Внук попищал, попищал и затих. Бабушка внимательно следила за лампой и подкручивала её, чтобы она не чадила и не гасла. Молодая мать молча смотрела печальными глазами на тусклый свет лампы. — А ты тоже спи! — строго сказала бабушка. — Как я могу заснуть? Сердце моё за него болит. — А ты будь поспокойнее. И для сердца лучше, и для него! — И бабушка показала на корыто. Так началась борьба за жизнь ребёнка. Так начался спор между холодом и теплом: жилецли только что родившийся человек или не жилец? Шли часы. Тихо горела лампа. Над ней в корыте тихо спал человек. Он согрелся и спал сладко. Потом ему стало мокро — он проснулся, запищал и захотел есть. Мать переменила его и приложила к груди. Он чуть-чуть покормился и опять заснул. Поспал в своё удовольствие и снова потянулся к еде. На сей раз он съел гораздо больше. Наелся — и опять на боковую. Так с каждым часом, с каждым днём человек набирался сил и здоровья. И через недельку-другую всем стало ясно, что тепло победило, а холод отступил. Стало ясно, что недавно родившийся человек — жилец. Человек этот был я. Сердобольные соседки ошиблись.
НОЖКАМИ
Говорят, что жизнь человека похожа на книгу. Каждый день — это будто страница, а год, значит, — толстая глава в триста шестьдесят пять страниц.
Если так считать, то в моей книге жизни набежит уже пятьдесят с лишним глав.
И вот сейчас, когда я на досуге перелистываю свою книгу жизни, я вижу, что не все страницы в ней хороши. Нередко попадаются такие, которые хотелось бы зачеркнуть или вырвать. Но поздно: страницы эти уже, так сказать, написаны — их не вырвешь и не зачеркнёшь.
Вот, например, страница, о которой я знаю со слов матери. Сам я тогда был ещё маленький и запомнить её не мог.
Как я вам уже рассказывал, я родился раньше времени и поэтому был очень слабенький — Яша-заморыш, как меня называли.
Но меня держали в вате, согревали керосиновой лампой, всячески выхаживали, и дело кончилось тем, что я справился, стал крепнуть и набираться сил.
К трём годам Яша-заморыш превратился в толстого, ленивого, неповоротливого увальня.
И вот бывало так: мама уронит на пол шпильку или гребёнку и, показывая на неё пальцем, просит:
— Яша, подними, пожалуйста!
А я тоже показывал пальцем на пол и отвечал:
— Вера, подними, пожалуйста!
Я называл маму не «мама», а «Вера», потому что я слышал, что папа её так называет. Мама говорила:
— Яшенька, маме трудно нагибаться: у мамы болит сердце. Подними, пожалуйста!
Я отвечал:
— А у меня тоже болит сердце! Мне тоже трудно нагибаться.
Во время прогулки я, признаться, ужасно не любил ходить ножками. И хотя я был очень тяжёлый и мне было, как я уже сказал, два с половиной, а то и все три года, я всё ещё заставлял маму таскать меня на руках, особенно когда дорога шла в гору. Как только мама опускала меня наземь, я поднимал руки и требовал:
— На ручки!
Маме не под силу было таскать меня. Она отвечала:
— Яшенька, умница, поди ножками!
Но я был неумолим и коротко повторял:
— На ручки! На ручки! На ручки!.. Мама брала меня на руки, а через две-три минуты ставила на ноги и просила:
— Ну вот, а теперь ножками. Ладно, умница?
Но мне не хотелось ножками. Я застывал на тротуаре и не двигался с места.
Бывало, мама теряла терпение и оставляла меня одного. Она притворялась, что уходит домой, и удалялась далеко-далеко.
Но я был спокоен. Меня не проведёшь! Я знал, что это всё Верины хитрости и что раньше или позже она вернётся за мной. Не бросит же она меня одного на улице!
Так оно и выходило. Мама возвращалась, со вздохом брала меня на руки и, еле переводя дыхание, тащила меня, тяжёлого бутуза, вверх по крутой виленской улице.
У неё всю жизнь, с молодых лет, было больное сердце. От болезни сердца она и умерла раньше времени.
Мне стыдно и горько думать, что одной из причин её развивающейся болезни был я — кудрявый, краснощёкий увалень Яшенька, который не любил ходить ножками.
Как бы мне хотелось вырвать эту страницу из книги своей жизни!
Мне кажется, что, превратись я теперь каким-нибудь чудом опять в маленького Яшу и пойди мы с Верой гулять, я бы ни за что не стал проситься на ручки. Сколько бы мы с ней ни бродили, по каким бы крутым улицам ни поднимались, я бы всё время ходил ножками!
Но… поздно! Страница написана — её не вырвешь, не зачеркнёшь и не перепишешь.
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ
«Неугасимый свет» — так хотелось бы мне назвать маленький рассказ о самом первом своём воспоминании.
Много чего можно вспомнить за пятьдесят лет жизни — и сладкого и горького! Но это воспоминание, о котором я хочу рассказать, — оно самое первое. Скажу наперёд, что ничего в нём особенного нет и что вся его прелесть для меня только в том и заключается, что оно — первое.
Вот я закрываю глаза и довольно отчётливо вижу широкую реку и слышу чей-то голос:
— Это Днестр.
Кругом сумерки. Река блестит. Её противоположный берег теряется в туманной полумгле. Мы сидим в огромном фаэтоне, который то и дело кренится набок. Мы — это папа, мама и я. Мама держит меня на руках и крепко прижимает к себе, чтобы я не вывалился из качающегося экипажа.
Фаэтон пахнет кожей, лошадьми, дорогой… На облучке сидит возница — балагула — и всякими грубыми словами ругает ни в чём не повинных лошадей. Мне обидно за лошадей, и я сержусь на балагулу, который важно восседает на облучке, облачённый в брезентовый балахон с нахлобученным на голову капюшоном. Он ни разу даже не дал мне подержать вожжи!
Я сержусь на него и мечтаю о том, что вот, мол, когда я вырасту, я сам стану балагулой и буду весь день держать вожжи и размахивать кнутом. Но лошадей ругать я не буду, а буду разговаривать с ними по-хорошему.
Не люблю, когда ругаются. Эта черта осталась во мне до сих пор, хоть стать балагулой мне, по разным причинам, так и не удалось.
…Неуклюжий кожаный верх фаэтона поднят. Видимо, недавно был дождь. Самого дождя не помню, помню только, что верх был поднят и что из-за этого нам, сидящим в фаэтоне, не было видно ни неба, ни земли — ничего, кроме серой брезентовой спины возницы.
Потом дождь прекратился, и папа велел остановить лошадей, чтобы можно было сойти и опустить верх. Вот с этого момента, собственно, и начинается моё первое воспоминание.
Балагула натянул вожжи, крикнул «тпрру», и лошади с явным удовольствием остановились. Папа соскочил на размытую дождём дорогу, стал откидывать верх, и тут не то он, не то я прищемил себе палец.
Не помню точно, кто из нас прищемил палец. Возможно, что это произошло с папой, а я только слишком сильно воспринял ощущение боли, и мне показалось, что это случилось со мной. Как бы там ни было, верх был опущен, и всё вокруг стало видно.
Всё вокруг было светло-синее, Слева шумела серебристо-голубая река. Над головой дрожали маленькие звёзды. Справа были деревья — тёмные, густые и пышные. Лошади фыркали и храпели; над ними поднимался еле заметный пар.
Я замер на руках у матери, приглядываясь к огромному миру, который вдруг предстал передо мной, после того как папа опустил чёрный верх фаэтона. Вдруг я заметил нечто чрезвычайно поразившее меня. Справа, неподалёку от фаэтона, в траве светился чудесный зеленоватый огонёк.
Я вырвался из рук матери, соскочил с фаэтона и, по колено увязая в дорожной грязи, подбежал к невиданному огоньку. Я хотел было взять это светящееся чудо, но оно вдруг снялось с места и, продолжая светиться, перелетело, точно перышко жар-птицы, на другое место.
— Папа, что это? — закричал я вне себя от удивления.
Папа шёпотом ответил:
— Тише! Это светлячок. Не надо его ловить, а то он погаснет.
Он присел подле меня на корточки, и мы оба долго любовались на подвешенный к былинке крохотный живой фонарик, пока мама не крикнула из глубины фаэтона:
— Что с вами? Давайте скорей поедем!
Мы с папой опять залезли в фаэтон, балагула стегнул лошадей, и мы снова, качаясь, поехали вдоль серебристо-голубой реки, А фонарик остался там в траве.
И вот уже пятьдесят с лишним лет сквозь всю мою жизнь зелёным светлячком светит мне моё первое воспоминание. Этот свет не тускнеет, не гаснет и погаснет только вместе со мной. Значит, для меня, во всяком случае, он действительно неугасимый!
СЛИВОВЫЙ НОС
Я знаю, ребята, вы все хотите поскорей вырасти, поскорей стать большими… Не спешите, ребятки! Всё это придёт, никуда не денется. Мы, большие, например, иной раз хотим стать маленькими, хоть на полчасика вернуться в своё детство. Но это невозможно: жизнь идёт всё вперёд и вперёд.
Правда, мы можем вспоминать своё детство и таким образом хоть мысленно вернуться в ту далёкую пору, когда соседняя роща казалась неведомым царством, а луна казалась совсем близкой: только забраться на крышу, протянуть руку — и дотронешься до неё.
Память — удивительная вещь! Это настоящее чудо! Где-то там, у нас в мозгу, хранятся сотни тысяч картинок. Какую захочешь — такую и увидишь. Разве это не чудо!
Вот сейчас, например, я вижу одну из самых ранних картинок… Её можно назвать «Сливовый нос».
Когда мне было годика три-четыре, мы с папой и мамой поехали в далёкий, неизвестный город Хотин.
Я тогда, конечно, не понимал, зачем мы покинули родную, милую Вильну и потащились в чужой молдавский город Хотин, где у нас не было ни родных, ни знакомых.
Боюсь, что и самому папе это было неясно даже тогда, когда он укладывал все наши пожитки в огромную корзину.
Дорогая наша корзина! Вот и пришёл черёд помянуть тебя добрым словом. Папа купил тебя, чтобы не возиться с отдельными узелками. Ты поглощала всё наше имущество! Не одну ночь провёл я на тебе, свернувшись калачиком. Сам папа, случалось, почивал на твоей не очень-то мягкой крышке. С годами она прогнулась, и твоё плетёное ложе стало уютнее и даже как будто помягче. Много лет прослужила ты нам верой и правдой, дорогая корзина! Недаром сам папа написал о тебе трогательный рассказ.
Мой папа был писателем. Он писал стихи, сказки, рассказы. Но всё это приносило мало денег, и мы частенько сидели без хлеба. В таких случаях папа говорил:
«Ничего, на пустой желудок лучше пишется!»
Он садился к окошку и принимался сочинять рассказ или сказку. Он не любил писать за столом и всегда примащивался у подоконника.
И верно — чем голоднее было дома, тем красивее были папины сказки. Мама с удовольствием слушала их, но потом, оставив папу у окошка, а меня — в кроватке, убегала к соседке одолжить двугривенный на обед.
Одну сказку папа сочинил специально для меня. Он всегда мне её рассказывал, всегда одну и ту же. Он её не записал, я — тоже, и она осталась только в моей памяти, Сказка была про царя с уродливым носом.
Царь вызвал мастера и сказал: «Сделай мне другой нос!»
Мастер сделал царю сахарный нос. Царь лизал его, лизал, пока весь не слизал. Снова позвал мастера. Мастер сделал царю стеклянный нос. Царь совал его куда не следует, куда-то не в свои царские дела, и нос разбился. Тогда мастер сделал царю деревянный нос. Царь стал его ножичком подправлять, подправлять, пока весь не состругал… Я уж не помню всех носов. Дело кончалось тем, что мастер сделал царю его самый первый нос, какой был в самом начале, и его величество успокоилось.
Сказка мне очень нравилась. Я от души смеялся и помогал папе придумывать разные смешные носы.
По дороге в Хотин он, наверное, мне её тоже рассказывал. Говорю «наверное», потому что самой дороги я не помню. Помню только, как я утром проснулся на новом месте. Проснулся и никак не мог сообразить, где я нахожусь. Вижу, что лежу на нашей корзине, покрытый одеялом. Я откинул одеяло, поднял голову. Какая-то чужая тёмная комната с низким потолком. Маленькое окошко, прикрытое ставнями. Сквозь косые дырочки в них пробивается солнце, и кажется, будто от пола к окошку натянуты тугие, сверкающие золотые нити.
В углу на лавке, одетый, спит папа. У стены на железной кровати, тоже одетая, спит мама.
Где же мы? Почему нет бабушки, которая всегда поднимается раньше всех и чуть я открою глаза, подходит ко мне с ласковым словом и стаканом горячего молока?
Вдруг я спохватился. Ну да, ведь мы в новом городе, в Хотине. Ведь мы вчера поздно вечером приехали сюда. Надо поскорей посмотреть, что за Хотин такой.
Я быстро слез с корзины и босиком, в одной рубашке направился к двери. Она была заперта. Я с трудом дотянулся до ручки, но открыть её не смог.
Как быть? Надо же поскорее посмотреть на Хотин. Папу с мамой будить я боялся. Они начнут: «Спи, ещё рано! Ложись! Укройся!..»
Я тихонько подошёл к окну, поднялся на цыпочки и откинул ставни. И сразу же что-то ослепило меня. Низкое, большое, румяное, круглое, как арбуз, солнце ворвалось в комнату. Я зажмурился. У нас в Вильне я такого солнца не видал.
Потом я медленно открыл глаза. За окном рос пышный розовый куст. Розы были огромные, махровые, пурпурные, малиновые, розовые… За кустом был низенький плетень с открытой калиткой. За калиткой был сад. А в саду на разные голоса пели птицы. Они именно пели, не то что наши виленские воробьи, которые только и знают что чирикать. Они пели-распевали, причём каждая на свой лад. Кто — «пинь-пинь», кто — «тинь-тинь», кто — «фьют-фьют», кто — «чувить-чувить», кто — «чук-чук», кто — «щёлк-щёлк»… В саду шёл настоящий большой утренний концерт.
И тут меня, маленького, охватило особое ощущение, которое трудно выразить словами — ощущение того, что я попал в какой-то праздничный, сияющий, невиданный мир.
Я торопливо открыл окошко, выбрался на волю и босиком побежал по мокрой и холодной от росы траве в сад. Высокая трава щекотала мне коленки; пятки и пальцы на ногах озябли; холодок пробегал по спине. Я всё жмурился, глядя на сверкающую вокруг, на листьях и лепестках, росу, на невиданной синевы небо… Так вот он какой, Хотин! Не то что наша хмурая, пасмурная Вильна.
В саду, забрызганные с ног до головы росой, стояли деревья. Я таких никогда не видел. В Вильне на деревьях росли только листья. А здесь на деревьях росли румяные яблоки, настоящие, тяжёлые на вид, точно гирьки, груши и огромные тёмно-синие сливы, подёрнутые паром, словно кто-то ночью дышал на них.
Кто же ночью бродил по саду и дышал на сливы?
Я уж не помню, как я забрался на дерево. Помню только, что сорвал сливу и впился зубами в её сочную мякоть.
Вдруг я сквозь щебет, свист и пение птиц услышал знакомый тревожный голос:
— Яша-а-а!.. Яшуня-а-а!..
Я сижу на дереве, лакомлюсь сливами, не отвечаю. А мама всё зовёт:
— Яшу-у-у!..
Кое-как я спустился с шершавого дерева, вышел из сада и, придерживая в подоле рубашки несколько слив, остановился у плетня. Мама всплеснула руками и кинулась ко мне:
— Босой! С ума сошёл! Простудишься!
Она схватила меня на руки и потащила в дом. А я, обняв её одной рукой за шею, другой рукой совал ей в рот большую сливину и приговаривал:
— Это тебе… На, Вера, кушай… А это — папе.
Она отворачивалась, мотала головой:
— Пусти, дурачок, после, после…
Дома она уложила меня на корзину, закутала в одеяло.
А папа покосился на меня и сердитым голосом сказал:
— Ну-ка, Вера, подай ремень!
Этого я не ожидал. А я ещё хотел подарить ему самую большую сливу! Я обиделся, повернулся к стене и заплакал, и плакал довольно долго. Потом папа не выдержал, подсел ко мне на корзину, похлопал меня по спине и сказал:
— Ну ладно. Слушай! Жил-был царь. С некрасивым носом. И вот он позвал мастера и сказал ему: «Сделай мне… сливовый нос!»
Я засмеялся, повернулся лицом к папе и подхватил:
— А потом — яблочный, да?
Папа нагнулся, поцеловал меня в макушку и сказал:
— Ну, правильно!
И стал не спеша, с выражением рассказывать сказку про яблочный нос, и про грушевый, и про сливовый…
Вот и всё! Как бы мне хотелось сейчас вернуться хоть на полчасика в тот сад, побегать по его дорожкам в одной рубашке, потом сесть рядом с папой и слушать сказку про царя со смешными носами.
Но это невозможно. А впрочем, вот я сейчас вспомнил про сад — и как будто на самом деле побегал по его дорожкам и полакомился сливами, на которые кто-то ночью дышал.
Вот какое великое дело память! Ведь это просто… ну, чудо из чудес!..
СЧАСТЬЕ
Помню, когда я был ещё совсем маленьким, па нашей улице однажды появился худой, оборванный человек. Он выкрикивал:
— Счастья-а!.. А вот кому счастья-а…
Мальчишки толпой бежали за ним. Мне тогда было всего лет пять, но мне тоже захотелось счастья, и я тоже побежал за ним.
Вот он остановился, и я увидел круглый столик, окаймлённый гвоздиками. Под столиком была рейка с гусиным пером. Толкнёшь рейку — и перо побежит, защёлкает по гвоздикам, пока не остановится. И вот тут-то самое интересное.
Если оно остановится возле гвоздика, у которого лежит карамелька или мандаринка, значит, твоё счастье — ты выиграл. А если у пустого гвоздика, значит, ты проиграл.
Я быстро осмотрел весь столик и там, среди карамелек и мандаринок, увидел своё счастье. Это была ярко-красная обливная пряничная лошадка с выгнутой шеей и задранным хвостом, Я всё ясно представил себе: я толкну рейку, перо побежит мимо гвоздиков и покажет на лошадку. Я спросил:
— Сколько стоит счастье?
— Две копейки… Две копейки…
Я побежал домой и стал выпрашивать у мамы деньги. Две копейки — это всё же были деньги.
Мама не хотела мне их дать. Мы жили очень бедно.
— Зачем тебе? — спрашивала она.
— Мне надо… на счастье.
— Что за счастье за две копейки?
— А вот такое… Очень хорошее счастье!..
Я долго уговаривал её, пока наконец не выклянчил эти две копейки.
Я зажал монетку в кулак и побежал на улицу. Я боялся, что хозяин счастья уйдёт.
Нет, вот он, на углу, и мальчишки по-прежнему окружают его.
Я стал протискиваться сквозь толпу, показывая всем кулак:
— Пропустите… у меня деньги!.. Пропустите… у меня деньги!..
Мальчишки расступались передо мной. Они мне завидовали. А я думал: «Погодите, вот у меня будет лошадка, тогда вы ещё не так будете завидовать».
Я подошёл к столику и протянул кулак хозяину счастья:
— Вот!.. Можно мне?
Я боялся, что ему не понравится моя монетка, что она покажется ему старой, стёртой, фальшивой…
Нет, она ему сразу понравилась. Он бросил её в карман и спросил:
— А рука у тебя лёгкая?
Я не знал, какая у меня рука. На всякий случай я ответил:
— Нет… тяжёлая!
Он засмеялся:
— Смотри, сударик, не сломай ничего! Тут я понял, что он шутит. Я отступил на шаг, размахнулся и как толкну рейку. Она побежала с удивительной быстротой. А вместе с ней побежало перо и давай щёлкать по гвоздикам, давай стрекотать: трик-трик-трик…
Вот оно описало круг, другой, третий, потом пошло потише, миновало карамельку, несколько пустых гвоздиков, орешек, ещё несколько пустых гвоздиков и стало — трик-трик-трик — приближаться к моей лошадке.
Я приготовился.
А перо — трик-трик-трик — миновало ещё несколько гвоздиков и вдруг, чуть-чуть, на один какой-то несчастный гвоздик не дойдя до лошадки, замерло на месте.
Я не поверил своим глазам. Счастье ошиблось. Надо его поправить. Я недолго думая протянул руку и подтолкнул рейку. Но хозяин счастья был начеку. Он схватил меня за локоть:
— Нет, сударь мой хороший, ещё толкать — ещё две копейки!
До сих пор, спустя столько лет, помню, как мне стало щекотно в глазах от слёз. Я сказал:
— Только ещё чуточку!.. Ну ещё чуть-чуть… Кругом засмеялись: — Маленький, а хитрый!
— Чуть-чуть не считается…
Хозяин счастья только отмахнулся от меня. Я постоял, постоял у столика, потом повернулся и стал пробираться сквозь толпу к маме.
А моё пряничное счастье осталось там, на столике, возле гвоздиков.
Дома я дал волю слезам:
— Неправильное… неправильное счастье!.. — плакал я.
А мама стала меня утешать:
— Не плачь, сынок. Ладно, не плачь. Твоё счастье — вот оно где, смотри! — И она стала показывать на мои руки и на мой лоб.
Но я всё плакал:
— Ещё бы чуть-чуть, ещё бы один гвоздик…
И только тогда, когда я подрос и стал старше и умнее, я понял, что мама была права: твоё счастье — это твои руки, твоя сила, твоя голова. И тогда тебе не помешает никакое «чуть-чуть»…
ГРАФИНЯ
Когда-то я написал рассказ для детей «Свидание»— о том, как мальчик поехал с мамой к папе в тюрьму на свидание. Рассказ этот связан с моим детством. Когда я был маленький, я, конечно, не знал, что папа мой — революционер и борется против царя. Однажды я чуть не выдал его полиции. Дело было в Хотине, в Молдавии. Там родился мой брат. Мне тогда было три с половиной года, и мы с мамой жили одни, потому что папа, как всегда, колесил где-то по городам и городишкам, читал свои стихи и рассказы и попутно вёл революционную работу, о которой мы с мамой ничего не знали. Мама всё возилась с моим только что родившимся братом. Ни родных, ни знакомых у нас в Хотине не было, и главным маминым помощником в это трудное время был я. Забот у нас хватало. Братец мой оказался весьма горластым и непрестанным криком требовал от нас с мамой одного: «Качай!» Стоило на минуточку прекратить качание, как из глубины колыбельки раздавался негодующий, пронзительный окрик, и мама снова склонялась над колыбелью: скрип-скрип, скрип-скрип… Иной раз, выбившись из сил, она просила меня заменить её. Я охотно брался за дело. Я хорошо понимал своего брата — ведь я тогда ещё сам был не прочь, чтобы меня покачали на сон грядущий. И вот один раз, когда мама укачивала братца, а я стоял у печки и следил за тем, чтобы молоко не убежало, открылась дверь, и в комнату ввалились полицейские в чёрных барашковых шапках, в чёрных шинелях, с плетёными красными погонами и жёлтыми шнурами на груди. Урядник, прижимая к ноге шашку и называя маму «Прекрасная мадам» (а мама у нас действительно была красавицей), заявил, что ему предписано учинить обыск. Затем непрошеные гости взялись за работу. Они обшарили всю комнату, заглянули в папин стол, осмотрели чемоданы и, ничего не найдя, сказали: «До свиданья, мадам», «Очень приятно, мадам», — и ушли. Мама оставила колыбельку и вышла запереть за ними дверь. Наш крикун сразу подал голос. Я стал его, неугомонного, раскачивать — всё сильнее да сильнее, всё сильнее да сильнее, пока не случилось то, чего мама больше всего боялась. Колыбелька раскачалась и вдруг — хлоп! — перевернулась кверху ножками и погребла меня под собой. А горластый брат мой вылетел кубарем и остался лежать на полу, весьма далеко от колыбели. Тут уж он заорал действительно благим матом. А я замер под колыбелькой. Я решил, что братец мой убит и орёт он именно так, как можно орать только на том свете. Вбежала мама, подхватила младенца, поставила на ноги колыбельку, поставила на ноги меня… Я стал было объяснять ей, что колыбелька «сама, сама», но тут мы с мамой заметили валяющиеся на полу бумажки. Мама кинулась их подбирать и прятать. Это были прокламации против царя, которые папа, оказывается, спрятал в глубине колыбельки. Опрокинь я её минуткой раньше, при полицейских, нам бы с мамой несдобровать было. Однако, хотя полиция тогда и не нашла прокламаций, папа всё-таки был арестован и посажен в варшавскую тюрьму. Мама, узнав об этом, быстро собралась, взяла моего маленького горластого брата на руки, меня — за руку, и мы покинули Хотин — его сады, его солнце, его синее небо — и поехали в Вильну, к бабушке. Там мама оставила нас, а сама покатила в Варшаву хлопотать о свидании с папой. У бабушки жилось хорошо, только скучно. Комната была тёмная, в подвале, куда вели четыре ступеньки. Справа была большая печь, около неё возвышались бидоны, в которых бабушка разносила по богатым квартирам молоко из молочной. Бидоны были с меня ростом и вкусно пахли жестью и кислым молоком. Слева стоял простой некрашеный стол, на котором
тикалбудильник, только не круглый, а старинной формы — четырёхугольный, с откидной рукояточкой на крышке. Сбоку было стекло, сквозь которое был виден весь механизм — колесики, молоточки, зубчики… Часы громко тикали, а я всё смотрел на них — то сбоку, на колесики, то спереди, на большие, узорные стрелки с завитушками — и думал об одном: сколько часов осталось до приезда мамы. А часы не спеша тикали — тик-так, — и замысловатые стрелки
еле-елеползли по украшенному цветочками циферблату. Однако ждать пришлось не часы и не дни, а гораздо больше. Маме долго не давали свидания. Ей пришлось почти два месяца ждать возвращения какого-то большого начальника, чуть ли не губернатора, которого тогда не было в Варшаве. Часы успели «натикать» очень много времени, а мама всё не возвращалась. Я сильно скучал. Бабушка всячески развлекала меня. Она даже купила мне разрезную азбуку. И вот я сижу, складываю какое-то слово, и вдруг открывается дверь, и на пороге появляется высокая, статная, важная дама в длинном сером шёлковом платье с газовой вставочкой на груди. На голове у этой важной дамы шляпа со страусовым пером, на шее — меховая горжетка, на руках — белые кружевные перчатки. При виде этой дамы я сполз со стула и забился в уголок возле печки за бидонами. А даме, наверное, сразу не всё было видно в нашей тёмной комнате после яркого света улицы. Она стояла в дверях, на верхней из четырёх ступенек, ведущих в наш подвал, и летний полдень сверкал за её спиной. Потом дама стала спускаться со ступеньки на ступеньку, и длинный шлейф её платья с шелестом стал спускаться вслед за ней. Потом дама сказала: — Куда ты спрятался! Я молча, притаившись за бидонами, смотрел в упор на нарядную даму, она смотрела на меня, было тихо, и в тишине чётко и не спеша, с лёгким хрипом тикал будильник: тик-так, тик-так… Наконец дама шагнула вперёд и протянула ко мне руки в белых длинных, по локоть, перчатках: — Ну подойди же ко мне, смешной! Я не двигался с места. Я видел, что эта важная гостья похожа на мою маму — такая же красивая, и голос у неё мамин, — но непонятная робость сковала меня: я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести и всё не отрываясь смотрел на эту нарядную даму. Она нагнулась и, не снимая перчаток, обняла меня и стала целовать: — Яшенька, я видела папу! Он велел поцеловать тебя… Но я всё молчал как истукан. И только потом, когда мама сняла с себя шляпу, и перчатки, и наряд со шлейфом и надела своё всегдашнее, старенькое тёмно-коричневое платье с белым воротничком, я понял, что это на самом деле мама и больше никто, и кинулся к ней на шею: — Мама, мама, ну почему ж ты так долго!.. И заревел. Я ведь был, надо сознаться, ужасным плаксой в детстве. Потом мама объяснила: перед тем как пойти к губернатору, она через каких-то знакомых выпросила у одной сердобольной польской графини старинный парижский туалет напрокат. В этом-то туалете, в виде графини, мама явилась на приём к губернатору. В этом же наряде она навестила папу в тюрьме и в нём же приехала в Вильну. На следующее утро мама аккуратно всё сложила в большую коробку и отправила по почте обратно в Варшаву. С той поры, чуть я услышу где-нибудь хрипловатое тикание будильника, мне ясно представляется, как мама стоит в открытых дверях нашего подвала — в сером шёлковом платье с газовой вставочкой, в набок надетой шляпе с пером… Вижу, как она улыбается и протягивает ко мне руки в кружевных перчатках, а переливающийся шёлковый шлейф, как у настоящей графини, лежит на всех четырёх ступеньках бабушкиной комнаты. Частенько мы с братом вспоминаем детство, и мне жалко, что он не помнит, какой мама была графиней. Зато я рад, что он не помнит, как я вывалил его из колыбели добрых, а впрочем, неважно сколько лет назад.
ПАПИН ПАПА
У меня, как и у каждого человека, было два дедушки: папин папа и мамин папа. Сейчас расскажу про папиного папу.
Он жил в городе Вильне, на Завальной улице, в подвале. Это было давно, так давно, что даже выветрилось из памяти. Запомнилось только, что в подвал вели ступеньки, а над ними был покатый железный навес, с которого мы, малыши, скатывались точно с ледяной горки, только не на санках, а на собственных, так сказать, штанишках… Может, поэтому он мне и запомнился.
И вот сейчас, когда я решил рассказать о своём детстве, я поехал в город Вильнюс, чтобы найти Завальную улицу и дедушкин подвал.
Завальную улицу я нашёл довольно скоро, хотя она теперь называется Комсомольской и сильно перестроена. Но дедушкин подвал найти было нелегко. Наконец после долгих расспросов и поисков я нашёл всё же тёмные сводчатые ворота, под которыми проходил полвека назад, держась за бабушкину сухую, морщинистую руку. Я узнал эти ворота, узнал их древние, грубой кладки стены, позеленевшую от времени штукатурку и тяжёлую чугунную решётку. Они не изменились, они только стали гораздо ниже. Я легко дотянулся рукой до их мрачного каменного свода.
Потом прошёл во двор. Полвека назад это был узкий, длинный двор, мощённый булыжником. В глубине его всегда толпились извозчики, лошади, телеги, пахло карболкой, сеном, прелой соломой…
Сейчас двор залит асфальтом. Его окаймляют новые здания.
С некоторым волнением я посмотрел налево, там когда-то был дедушкин подвал и железный навес над ним. Посмотрел — и не мог глаз отвести. Я увидел вход в подвал и покатый железный навес над ним. А с навеса, точно с горки, скатывались дети.
Я медленно подошёл к ним. Ребята перестали съезжать с навеса и с недоумением уставились на меня. Что, мол, надо этому пожилому, седому человеку в очках?
А мне вдруг захотелось сесть на железный навес и скатиться с него. Но я на это не решился — это было бы уже полным сумасшествием. Я прошёл под навес и спустился по четырём (да, их было четыре) ступенькам в подвал. Он был заперт. На ветхой двери висел большой ржавый замок.
— Кто здесь живёт, ребятки? — спросил я.
— Здесь… никто не живёт.
— А что там?
— Там — уголь.
— А раньше что было?
— И раньше был уголь, — ответил самый бойкий из малышей.
— Нет, а ещё раньше?
— А ещё раньше тоже был уголь. Там всегда был уголь.
Всегда был уголь?! Я, точно во сне, всё дёргал и дёргал запертую дверь. Мне казалось, что, если я её открою, эту дзерь, я увижу узкую комнату, молочные бидоны у входа, стол в глубине, сидящего за столом дедушку и прислонённые возле его стула костыли. В моей памяти сразу всё ожило, точно где-то в ней зажёгся яркий свет и всё осветил. Я всё вспомнил!
Мой дедушка был калекой. У него не было обеих ног. Он не любил рассказывать о том, как это случилось, но я всё знал со слов бабушки.
Дедушка был бравым, весёлым парнем. Он любил пошутить, попеть, поплясать. Не мудрено, что бабушка влюбилась в него. Правда, она тогда ещё не была бабушкой, а была молодой девушкой с синими глазами и русой косой. Они поженились. Но вскорости дедушку забрили в армию и угнали на Крайний Север, где стоит долгая, злая зима…
Товарищи по роте полюбили дедушку. По ротный командир его невзлюбил — то ли за скрытую непокорность, которая сквозила в весёлых дедушкиных глазах, то ли за острый язык, то ли ещё за что… Он всячески истязал дедушку, мучил его, на занятиях бил, заставлял стоять часами по команде «смирно» с полной выкладкой, гонял на плацу до изнеможения. Дедушка всё терпел. Да и что было делать солдату? Посмей он ослушаться, его бы прогнали сквозь строй или сгноили на каторге. Солдат есть солдат — существо безропотное, покорное, терпеливое, бессловесное.
«Так точно, ваше благородие! Никак нет, ваше благородие!» — вот и весь его разговор.
Дедушка всё терпел и на всё отвечал как положено:
«Так точно, ваше благородие! Никак нет, ваше благородие!»
Однажды его назначили в караул. Карначом, то есть караульным начальником, к несчастью, был дедушкин ротный. Он поставил дедушку на пост у полкового склада. Дело было зимой, в лютый мороз. Два часа простоял молодой солдат с винтовкой на ветру. Пора сменяться, а смены нет!
В это время в жарко натопленной караулке сидели карнач с разводящим и вели спор: выдержит ли солдат Ефим Тайц, если его не сменить, или не выдержит? Бросит пост или не бросит?
И вот подходит время смены—дедушку не сменяют. Подходит время второй смены — дедушку не сменяют. Без конца тянулась ночь. Жестокий мороз пробирал дедушку, а он всё стоял с ружьём и всё притопывал сапогами по снегу.
Проходили мимо товарищи по роте, говорили:
— Ефим, бросай пост! Раз такое дело, ничего тебе не будет.
А он не отвечает. Часовому на посту разговаривать ни с кем нельзя. Наконец, уже к утру, явился карнач и говорит сквозь зубы:
— Ну молодец, часовой! Выстоял.
Дедушка хочет ответить: «Так точно, ваше благородие», а не может. Сдвинулся было с места и вдруг повалился ничком в снег. Тут принесли носилки, положили его и понесли в околоток. Там санитар хотел снять с него сапоги, а они не снимаются. Ноги распухли. Пришёл врач-хирург, велел разрезать сапоги, осмотрел ноги, а они уже почернели. Ну, тут сразу дедушку на стол и отняли ему обе ноги—по колено.
А бабушка ничего этого не знала. И вот приходит к ней извещение: «Встречайте мужа, он в отпуск едет».
Бабушка обрадовалась — она подумала, что её Ефим за исправную службу получил внеочередной отпуск.
Она поехала его встречать в город Вильну. Подошёл поезд, и люди вынесли из вагона бабушке не мужа, а, как ей показалось, только половину мужа. Она вскрикнула и потеряла сознание…
Так стал калекой мой дедушка…
Потом пришёл пакет с сургучными печатями. В пакете лежал серебряный кружок, похожий на рубль. На нём был двуглавый орёл и круглая надпись: «За усердие».
— Лучше бы костыли прислали! — сказал дедушка и бросил медаль в самый нижний ящик бабушкиного ветхого комода.
Меня, своего первого внука, дедушка очень любил. Он часто усаживал меня рядом с собой, доставал книжку «Азбука в картинках» и принимался учить грамоте.
— Вот смотри, это «А», — говорил он, показывая большим жёлтым пальцем на букву, похожую не то на домик, не то на шалашик.
— «А», — говорил я.
— А это аист, — показывал он на картинку, которая украшала букву «А». — Аист — это такая птица.
— Это аист, — послушно повторял я вслед за дедом. — Аист — это такая птица.
— Умница! Молодец!
Дедушка любил меня показывать знакомым и как бы хвалиться мной.
— Он у нас уже читать умеет, — говорил он.
— Не может быть! — удивлялись гости.
— Сейчас увидите!
Дедушка стучал костылём о стол. Это значило, что мне надо подойти к нему. Я подходил.
— Ну-ка, внучек, принеси-ка азбуку.
Я приносил азбуку. Он всегда открывал её на первой странице, показывал на букву «А» и спрашивал:
— Ну-ка, это что за буква?
Я смотрел на букву «А» и громко отвечал:
— Это аист. Аист — это такая птица! Гости улыбались, а дедушка гладил меня по голове и приговаривал:
— Умница! Золотая голова!
Я долго был уверен, что он меня так называет за то, что у меня были золотистые кудрявые волосы. Дедушка любил их ерошить.
— Дедушка, — спрашивал я после урока, — а можно, я возьму твою медаль?
— Можно.
Я сам открывал комод, доставал дедушкину медаль, нацеплял её на себя, выбегал во двор и становился неподвижно. Ребята окружали меня:
— Ты что делаешь?
— Ничего! Мне с вами нельзя разговаривать!
— Почему?
— Потому что я часовой!
— А что значит часовой?
— Ну такой солдат… Отойдите! Нельзя разговаривать!
— Да во что ты играешь?
— В усердие.
— В какое усердие?
— А вот в такое!.. Отойдите, а то я буду стрелять!
Но ребята не отходили. Они с завистью смотрели на меня. Я был горд — ведь ни у кого во дворе не было такой медали, как у моего дедушки, с непонятной надписью: «За усердие».
Дедушка умер рано. Я ещё был маленьким. Бабушка сильно плакала. А я не плакал. Я был уверен, что он вернётся и мы с ним снова будем учить: «Это аист. Аист — это такая птица».
Но он… не вернулся.
МАМИН ПАПА
А теперь расскажу про маминого папу. Мамин папа жил в городе Сморгони. Смолоду он работал на кожевенном заводе. Потом у него подрос сын Рафаил, мой будущий дядя, и тоже поступил на завод. Они работали вместе. Потом мой дедушка на заводе сжёг себе руку какой-то кислотой, не смог больше работать, и хозяин его уволил. Пришлось дедушке заняться торговлей. На Базарной площади тянулось низкое кирпичное здание торговых рядов. Там дедушка арендовал одну из лавчонок и стал торговать овсом, пшеном, отрубями, клюквой… Это уже было на моей памяти. Помню, у входа в лавку стояли большие десятичные весы, на которых дедушка меня частенько взвешивал. Поживиться в лавке мне нечем было — разве что клюквой. Но уж очень она была кислая. Каждый вечер дедушка приходил домой, садился за стол, доставал откуда-то из-за пазухи матерчатый кошелёк — длинный, длиной с чулок, развёртывал его и опрокидывал над столом. Из кошелька сыпались деньги — редко бумажные, а всё больше серебро и медь: рубли, полтинники, двугривенные, пятаки, трёшки, копейки, гроши, полушки… Я сидел сбоку и следил, чтобы ни одна монетка не скатилась. — Дедушка, как много у тебя денег! — Много, внучек, много, — усмехался дедушка, — целая гора. Видишь! Давай считать. Он принимался сортировать деньги: рубли к рублям, полтины к полтинам, копейки к копейкам. Получались симпатичные столбики. Казалось, дедушка играет в какую-то забавную игру. — Дедушка, не разваливай их! — просил я. — Приходится, внучек. Он медленно передвигал столбики по столу, приговаривая: — Вот этот надо отдать за аренду… Этот — за товар… Этот — налоги… Этот — дрова… Этот — исправнику… А вот этот столбик наш. — Да тут же одни копейки, дедушка! — Ничего, внучек. Иной раз и копейка годится! Дедушка рассыпал копеечный столбик, выбрал самую новенькую копейку и дал мне. — Она золотая, да? — спросил я. — А как же! — усмехнулся дедушка. — Обязательно. Я зажал монетку в кулак и выбежал на улицу. Не помню уж, что я на неё купил. Главное, что через много-много лет я вспомнил про неё и написал рассказ «Золотой грошик». Значит, дедушка был прав — копейка пригодилась. Но дело не в этом… Примерно в одно время с дедушкой домой приходил и его сын Рафаил. Он приходил грязный, усталый, от него пахло чем-то кислым, чем-то острым, похожим на спирт. Он долго умывался в просторных сенях над бадейкой, а я сливал ему из тяжёлой медной кружки с двумя ручками. Потом он заходил в комнату, вытирал руки полотенцем и, глядя, как дедушка выстраивает свои столбики, говорил: — Ну что, отец? Много наторговал клюквой? — Плохо, сынок! — отвечал дедушка. — На жизнь ничего не остаётся. А у тебя? — У меня не лучше, — отвечал Рафаил, — но я хоть восемь кож сегодня сделал. Из них люди сапоги сошьют. А ты что, отец? Купил — продал, купил — продал… Кому от этого польза? — Что делать, сынок, — отвечал дедушка и снова принимался шёпотом считать свои монетки: — Двадцать пять… двадцать шесть… двадцать семь… А я завидовал дяде Рафаилу. Мне тоже хотелось весь день делать кожи, а вечером приходить домой и подставлять руки какому-нибудь мальчику, который будет мне поливать из кружки, а потом по-хозяйски садиться за стол и ждать заслуженного обеда… В Сморгони было много кожевенных заводов — и больших и маленьких. Не мудрено, что воздух в городе был наполнен ароматом дубильных ям и котлов. Местные жители, правда, этого не чувствовали. Но приезжие всегда затыкали носы и говорили: — Да-а, букет у вас… тяжёлый!.. — Какой букет? — удивлялись сморгонцы. — Никакого букета. Воздух как воздух… Всё же все старались хоть на лето вывезти своих ребят из Сморгони в деревню. Однажды меня вывезли в деревню Личники, в девяти верстах от города. Мы поселились в избушке бедного белорусского крестьянина Петруся Кашкуревича. У него было пять или шесть белобрысых ребят мал мала меньше. Они бегали босиком по двору в длинных домотканых рубахах и то и дело просили: — Матка, исты!.. Татка, исты!.. Мы прожили там дня два. Вдруг ночью меня разбудили и сразу же стали одевать. — Скорей, скорей! — повторяла мама, дрожащими пальцами застёгивая на мне лямки от штанишек. Я спросонок не мог понять, в чём дело. Вся изба была залита красным светом. За окном всё было красное. Мама вынесла меня на двор. Рядом с нашей избой бушевало пламя. Горела вся деревня. Искры взлетали к красному небу. Пламя шуршало, шумело, гудело. Время от времени с сухим треском обваливались бревенчатые стены и превращались в груду головешек. Мычали коровы, ржали лошади, визжали свиньи, метались чёрные на фоне пожара люди. Было страшно! Петрусь Кашкуревич и его жена стояли на крыше своей избы и поливали сё водой, которую им подавали снизу — ведро за ведром, ведро за ведром… Но где им было справиться с огромным, беспощадным, языкастым пламенем! Вот подул ветер — и огонь мигом охватил соломенную крышу нашей избы. Солома горела вкусно, быстро, легко. Я не мог отвести глаза от огня. Меня посадили вместе с другими ребятами в сторонке на бугорке. Мы издали со страхом смотрели на пожар. Вдруг послышался стук колёс. В игравшем свете огня было видно, как подкатил извозчик. Из коляски вышел человек, это был мой дедушка. Он увидел в городе зарево над деревней и примчался в Личники. Найдя нас живыми и здоровыми, он немного успокоился, посадил меня с мамой на извозчика, сказал Петрусю Кашкуревичу: — Приходи. Там разберёмся, — и увёз нас домой. Утром явилась вся семья погорельцев — оборванные, жалкие, измученные. В руках у них был разный скарб — подушки, вёдра, горшки — остатки добра. — Устраивайтесь пока здесь, — сказал дедушка и показал им на сени. Дело было летом. В сенях было просторно. Так погорельцы поселились у нас в сенях. Они что-то там стряпали, что-то себе готовили… Бабушка говорила им: — Зайдите покушайте. Пускай хоть дети зайдут. Но Кашкуревич отвечал: — Спасибо, ничого! У нас тут кое-что зосталося! Вечером вернулся с работы Рафаил. Он увидел, что погорельцы хлебают почти одну горячую воду, и сказал: — Такое дело ни к чёрту не годится! Когда пришёл дедушка и вытащил, как обычно свой длинный кошелёк Рафаил одной рукой дотронулся до кошелька, а другой рукой показал на сени: — Отец, там люди… — сказал он. — Там дети… Много детей! — Что ты мне объясняешь! — сказал дедушка. — Что, у меня детей не было, что ли. Слава богу! — Он посмотрел на кошелёк. — Так вот, отец… Разреши, а! Дедушка снова посмотрел на кошелёк и подёргал себя за бороду. — Но я даже не знаю, сколько там. Рафаил взвесил на руке кошелёк: — Сколько бы там ни было. Людям строиться надо. Не век же им жить у нас в сенях… Завтра я принесу свою получку. Ну, отец… Давай! Дедушка обожжённой когда-то рукой, той, на которой пальцы не сгибались, недовольно разгладил на столе скатерть и сказал: — Ну ладно уж! Раз давай так давай… Чего уж… Он уткнул лицо в руки и стал снова теребить свою седую острую бородку. А Рафаил, зажав в ещё не мытой руке кошелёк, вышел в сени. Через минуту он вернулся. За ним шла вся семья Кашкуревичей. Они все стали благодарить дедушку — кто как умел. Сам Петрусь чуть было не упал на колени, но дедушка вовремя ухватил его за холщовую белую, кое-где прожжённую рубаху и строго сказал: — Ты что, сосед… Опомнись! А когда кончились благодарности, дедушка заулыбался и сказал: — Ну, а пустой кошелёк-то хоть я получу или нет?. Он привычным движением свернул пустой кошелёк и спрятал его куда-то за пазуху, в бездонный карман своего длинного чёрного пиджака. А дядя Рафаил сказал: — Всё-таки чувствуется бывший рабочий класс! — и чёрной широкой рукой похлопал дедушку по узкой, чуть согнутой спине.
МОЛОКО
Когда я был маленький, дедушка учил меня питать. Он сказал, что, когда читаешь, не надо каждую букву отдельно выговаривать, а надо вместе с соседней. Но у меня не получалось вместе. Они ведь отдельно стоят, каждая буква, и я выговаривал их тоже отдельно. Вот так: м… а… м… а…
И вот один раз дедушка послал меня за молоком.
Подошёл я к молочной, а там была маленькая очередь. Стою у двери, жду. И вдруг слышу, кто-то мне шепчет: «Молоко».
Я оглянулся: кто же это шепчет? Да нет, никто не шепчет, все молчат.
Я опять посмотрел на дверь. И опять кто-то мне тихо сказал: «Молоко!»
И не сразу я догадался, что это дверь мне сказала, — на ней была вывеска, и я незаметно прочитал её.
Ох, я обрадовался! Я прибежал к дедушке и закричал:
— Дедушка, мне дверь сказала: «Молоко!»
И вдруг — бутылка бац из моих рук на пол, разбилась, и всё молоко потекло.
Я заплакал, а дедушка вдруг поцеловал меля и сказал:
— Я тебя, конечно, не за то целую, что ты разлил молоко, а за то, что ты читать научился.
КАТАНЬЕ НА САНОЧКАХ
Вы все, конечно, видели, как морозным вечером в свете уличных фонарей поблёскивает снег. Он поблёскивает миллионами разноцветных, радужных искорок — синих, жёлтых, зелёных, красных…. Они играют, переливаются, вспыхивают, гаснут…
Я люблю смотреть на эти разноцветные крохотные искорки-огонёчки.
Я смотрю на них и вспоминаю далёкое-далёкое детство. Мы тогда жили в Варшаве, не то на Огородовой, не то на Сольной. Это было в девятом году, стало быть, мне было года четыре.
В Варшаве тогда был красивый, большой парк. Назывался он Саксонский сад. Да он, наверное, и сейчас там есть.
Там было много прудов, речек, ручейков. Через них были перекинуты красивые изогнутые мостики. А под мостиками плавали белые и чёрные лебеди с красиво изогнутыми шеями. Богатые дети бросали им с мостиков в воду хлебные крошки, кусочки булки, иной раз конфеты…
Мы с папой издали смотрели на это. Нам тоже хотелось бросать с мостика хлеб или булку, но у нас не было лишнего хлеба. У нас часто и нелишнего не было. А иной раз мы мечтали о том, чтобы дети бросали хлеб не в воду, а в нашу сторону. Но мы молчали и друг другу об этом ничего не говорили.
Зимой речки и пруды замерзали, и в Саксонском саду устраивалось катанье на саночках.
Там были саночки длинные и короткие, одиночные и парные, с рулями и без рулей. Были саночки в виде кресел. Дама сидит в кресле, а кавалер сзади на коньках толкает его.
За прокат санок надо было платить деньги, У нас не было ни санок, ни денег, но это ничего. Мы с папой всё равно устраивали катанье на саночках.
Я садился на корточки и протягивал вперёд руки. Папа становился ко мне спиной, чуть пригибался, брал меня за руки и тянул по снегу. И я скользил на собственных подмётках, как на саночках или, точней, как на лыжах.
Конечно, если бы мама узнала про такой способ катанья, нам обоим досталось бы как следует. Она перестала бы нас пускать в Саксонский сад. Но мы ей не рассказывали об этом.
И так как я во время катанья сидел на корточках, я близко-близко видел разноцветные радужные искорки на снегу, которые плясали под лучами газовых фонарей.
Я покрикивал:
— Папа, быстрей! Н-но…
Папа прибавлял шагу, и я быстрее скользил по покрытой снегом аллее, а радужные огонёчки так и мелькали передо мной.
Потом я кричал:
— Папа, тпру!..
Папа останавливался, я с разбегу наезжал на него; он подхватывал меня на руки и снова катал.
Вот так мы катались на «саночках» в Саксонском саду. Вот о чём мне всегда напоминают разноцветные искорки на снегу. Они как бы говорят: «Где ты там, старина? Давненько ты не катался на саночках. Садись прокатись!»
А я в ответ гляжу на них и всё вспоминаю красивый Саксонский сад с прудами и лебедями летом и катаньем на саночках зимой»
НЕПОКОРНЫЕ ВЁСЛА
Когда я был маленьким, мы жили в деревне. Там была река и лодки. Мне очень хотелось покататься на лодке. Но родители не пускали меня. Я подолгу стоял на берегу и с завистью смотрел, как люди сидят в лодочках, машут вёслами и лодочки легко скользят по воде.
Папа всегда был в городе, ему некогда было с нами кататься, а мама очень боялась реки. Но мне эта боязнь не передалась. И вот один раз я сказал брату:
— Тимка, хочешь кататься?
— С кем?
— Со мной.
Тимка подумал:
— Пойдём.
Ему было года четыре, мне — лет восемь. Ему, конечно, казалось, что я большой, почти взрослый.
Мы выкрались из дому, побежали на реку и по крутому берегу спустились к мосткам. Никого из катающихся не было. Стоял серый пасмурный день. Я попросил у старика лодочника лодку. Старик хмуро посмотрел на меня:
— Умеешь грести?
— Умею. Чего ж тут не уметь.
Он вынес вёсла и положил их в лодку. Тимка уселся на носу, я сел поближе к корме, и лодочник с силой оттолкнул нас. Лодка с приятным шелестом скользнула по воде, и мы сразу очутились на середине реки. Вот хорошо! Я окунул вёсла в воду и начал грести, то нагибаясь вперёд, то откидываясь назад. Так делали все катающиеся. Но вёсла меня не слушались. Они вырывались из моих рук, никак не поддавались мне. Лодка завертелась волчком, потом течением подхватило её и понесло.
Тимка сказал:
— Почему ж ты не гребёшь?
— А я гребу!
— Почему же мы едем боком?
— Это так надо. Сиди и держись покрепче!
Я изо всех сил толкал вёсла в воду, по-всякому ковырял ими, но толку не было. Лодку несло то боком, то кормой. Тимка сказал:
— Ладно. Я уже накатался. А теперь греби к берегу.
Я и сам захотел к берегу. Но как повернуть лодку? Я не мог понять, почему у всех катающихся вёсла так легко и красиво опускаются в воду и так легко и красиво вынимаются из воды, а меня они не слушаются!
Тимка захныкал:
— Греби к берегу, а то я маме скажу! Я сказал:
— Давай ещё покатаемся. Видишь, как хорошо!
А сам подумал: «Увидим ли мы ещё когда-нибудь маму?»
Нас уже унесло далеко. Тимка заплакал по-настоящему. Я и сам готов был заплакать.
И тут мы увидели маму. Растрёпанная, без платка, она бежала по берегу вслед за нами и кричала:
— Яша!.. Тима!..
— Мама! — Тимка вскочил, лодка качнулась.
— Сиди ты! — крикнул я. — Не хочешь кататься — не надо. Больше тебя никогда не возьму. — И я с облегчением положил непокорные вёсла на дно лодки. Я знал, что мама выручит нас.
Мама забыла о своём страхе воды, села с каким-то дядей в лодку, они подъехали к нам, привязали нашу лодку к своей… И вот мы наконец на берегу. Мама то обнимает нас, то ругает. Стала она ругать и старика лодочника, зачем лодку дал. Старик сердился на меня:
— Как же ты грёб?
Я показал ему. И оказалось вот что: я не знал, что надо вёсла вставить в уключины. Поэтому-то они меня и не слушались. Тимка сказал:
— Не знаешь — так нечего браться! Откуда же мне было знать про эти уключины.
Издали, с берега, их не видно. Сидят люди в лодочке, помахивают вёслами, и всё.
КУБ
Когда мне было лет семь, мы жили в Одессе. Вместе с нами жила мамина знакомая, девушка лет двадцати, которую все звали попросту Маша. И я вслед за взрослыми тоже называл её Маша.
Она была маминой близкой знакомой, чуть ли не подругой, и жила у нас в доме на правах родственницы. Мама очень любила её, а я просто-напросто обожал. Мне всё нравилось в ней: тихий, спокойный голос, тонкие, всегда чуть-чуть холодные руки, коса, обвитая вокруг головы, зелёные задумчивые глаза… Если можно всерьёз говорить о любви семилетнего мальчика к двадцатилетней девушке, то я, пожалуй, назвал бы своё отношение к Маше чем-то вроде первой любви.
Как только Маша уходила из дому, меня одолевала тоска. Я то сидел у окна, высматривая её, то ежеминутно подбегал к двери и всё скулил:
— Где Маша? Что случилось с Машей?
А когда она наконец возвращалась, я, словно преданная собачонка, кидался к ней:
— Почему вы так долго не приходили?
Она в ответ гладила меня прохладной рукой по стриженому затылку и говорила:
— Ну, полно, Яша, полно, давай мириться…
Однажды кто-то пришёл с новостью: в городе произошёл обвал. Мы с Машей, конечно, немедленно отправились смотреть обвал. День был солнечный. Мы сели в ярко-красный, новенький, беспрестанно звенящий трамвай и понеслись по нарядным одесским улицам к морю.
Море было тёмно-синее, темнее неба. На ленивой волне, уткнувшись носами в берег, покачивались пузатые, бокастые прогулочные ялики с красивыми названиями: «Ласточка», «Чайка», «Альбатрос»… Мы шагали по пляжу, ракушки то и дело забивались в мои сандалии, я вытряхивал их и, прыгая на одной ноге, спрашивал:
— Где обвал? Почему нигде нет обвала?
Наконец мы нашли обвал. Это был, собственно, не обвал, а оползень: большой кусок берега вместе со стоящими на нём дачками, деревьями, заборами, скамейками ночью вдруг снялся с места и не спеша сполз в море.
Я держал Машу за руку, смотрел на красные, глинистые стены обрыва, который образовался после оползня… И вдруг я заметил в сторонке, у самой воды, человека в серой, надвинутой на глаза панамке, который сидел на складном трёхногом стульчике. Перед ним на песке стоял ящик с откинутой крышкой. В левой руке человек держал дощечку с выдавленными на неё разными красками, в правой — длинную кисточку.
Я бросил Машину руку, подбежал к этому человеку, встал за его спиной — и замер от восторга. На крышке ящика я увидел море — наше синее, огромное, бескрайное море. Теперь я всё видел дважды. Вот я вижу теряющийся в голубом тумане берег, и на крышке ящика тоже теряющийся в голубом тумане берег. Вот лодки, уткнувшиеся в песок, и на крышке ящика те же лодки, уткнувшиеся в песок. Вот вдали парус, и на крышке ящика точно такой же парус. Это было подлинное чудо. А создатель этого чуда, человек в серой панамке, то и дело тыкал кисточкой в холст, и мне казалось — вот-вот он всё испортит.
Но я ошибался. Картина становилась всё лучше. Он ткнул кисточкой — появилась ещё одна лодка. Снова мазнул кисточкой — родилось нежное облачко. При этом человек в панамке насвистывал песенку, которую все тогда распевали:
— «Ламца-дрица… Ойра, ойра!.»
Маша звала меня, я не отзывался. Она подошла:
— Вы извините нас… Пойдём, Яша, не надо мешать…
Художник оглянулся. Это был молодой человек с весёлым загорелым лицом. В зубах он держал кисть. Он вынул её, приподнял панамку и с улыбкой сказал:
— Что вы, чтовы, мадмуазель! Пожалуйста! Очень приятно! Кстати, я уже кончил…
Они стали разговаривать, потом он уложил всё своё хозяйство, и мы втроём пошли к трамвайной остановке. Не помню, о чём они беседовали. Я и не прислушивался. Я думал о том, что мне тоже надо стать художником, приобрести серую панамку, ящик с красками, и тогда я буду рисовать всё, что вижу: людей, море, лодки, обвал, Машу…
Несколько дней я приставал то к папе, то к маме:
— Я хочу учиться на художника. Наймите мне учителя…
Оба в один голос отвечали:
— Нет денег!
Я горько плакал. Наконец папа не выдержал и сказал:
— Надо бы узнать, а сколько берёт ученик Одесского художественного училища за урок?
Маша сказала:
— Я могу узнать — у меня там есть знакомые…
Через день Маша пришла с известием, что ученик художественного училища берёт за урок неслыханную сумму — пятьдесят копеек.
Мама долго советовалась с папой. Они вздыхали, смотрели на меня, а я смотрел на них умоляющими, полными слёз глазами.
— Ладно, — махнул папа рукой. — Маша, скажите ученику, пусть придёт.
Слёзы мои мигом высохли. Я кинулся к папе, стал целовать его, маму, Машу… А потом мы с Машей пошли в магазин и купили (на её деньги) большую тетрадь для рисования, в которой каждый толстый лист был переложен листочками шуршащей папиросной бумаги. Купили шестигранный карандаш с золотым тиснением «Иоганн Фабер». Купили мягкую резинку с зайчиком на мягком белом боку.
Маша сказала, что учитель придёт завтра, в пять часов. К одиннадцати часам утра я всё приготовил и стал ждать учителя. День тянулся медленно. Наконец ровно в пять часов кто-то постучался, я кинулся к двери и увидел… того самого художника в панамке, с которым мы с Машей познакомились около «обвала». Оказывается, это с
нимМаша договаривалась насчёт уроков, это
егоона называла своим знакомым из художественного училища.
Сейчас на нём была чёрная куртка, испещрённая мазками разных цветов, мятые брюки, а вместо панамки — чёрная форменная фуражка. Он вежливо поклонился. Маша покраснела и вышла из комнаты. Папа с мамой тоже вышли, чтобы нам не мешать. Я показал учителю тетрадь, резинку и карандаш. Он всё похвалил и перочинным ножом стал чинить карандаш. Как он его очинил! Длинно, остро, аккуратно! Таким карандашом можно всё, что угодно, нарисовать!
Учитель усадил меня, откинул с первой страницы стелющийся папиросный лист, и передо мной возникла белая, чуть шероховатая бумага. Учитель осторожно наметил на ней восемь точек — четыре пониже и четыре повыше. Потом он велел мне соединить их между собой.
Дрожащей рукой я стал соединять эти точки. Рука не повиновалась — линия получалась кривая и волосатая: я никак не мог попасть в точку и всё проезжал мимо. Учитель помогал мне.
Потом, когда все точки были с грехом пополам соединены, я спросил срывающимся от волнения голосом:
— А-а что это такое? Домик?
— Это, — ответил учитель, — куб.
— Куб?!
— Да, молодой человек, это куб. А потом мы будем с вами рисовать пирамиду, конус и параллелепипед.
Я выронил карандаш. Я хотел спросить: а как же море, и лодки, и берег в голубом тумане? Разве мы их не будем рисовать? Ноя не решался задавать вопросов учителю и молча смотрел на куб сквозь слёзы, которые я старался скрыть.
В шесть часов Маша вошла в комнату. Я кинулся к ней. Она положила свою прохладную руку на мой затылок и приветливо улыбнулась учителю.
— Сегодня мы рисовали куб, — сказал учитель, — а завтра будем рисовать параллелепипед… Вы не собираетесь в город, мадмуазель Маша?
— Собираюсь…
Они ушли. Мама спросила: — А когда следующий урок?.
Я ответил:
— Никогда следующий урок… Я не хочу пара… паралеле… — Я не мог выговорить трудного слова и заплакал.
На этом уроки закончились. Учитель больше не приходил. Вернее, он приходил, только не ко мне, а к Маше. И через месяц она вышла за него замуж и ушла от нас навсегда.
Так этот весёлый человек в серой панамке, в испещрённой красками куртке забрал у меня мою Машу, мою первую любовь, а мне оставил только кривой волосатый куб под шуршащей папиросной бумагой.
А кто во всём виноват? Конечно, я сам. Не подбеги я тогда, на берегу, к этому человеку, Маша бы с ним не познакомилась и, возможно, до сих пор была бы со мной.
Так оборвалась моя первая любовь. Зато с особой силой вспыхнула моя вторая любовь — любовь к живописи, которая тоже доставила мне немало и сладких и горьких минут.
БЕЛОСТОКСКИЕ ПУГОВИЦЫ
Когда я где-нибудь вижу большие, выпуклые металлические пуговицы, мне вспоминаются пуговицы из Белостока. Белосток — это город на западе России. Я уж не помню, как мы попали туда. Мне тогда было лет восемь. В те годы наша семья без конца кочевала. Только приедем куда-нибудь, только обживёмся, а папа уже говорит: — Что-то мы с вами здесь засиделись! Пора и честь знать. Мы укладывали наши «бебехи», взгромождались на извозчика, и — «ннно» — на вокзал, и — «ту-ту» — в другой город. Так мы колесили из Сморгони в Вильну, из Вильны в Варшаву, из Варшавы в Хотин, из Хотина в Одессу, из Одессы в Белосток… В чём была причина нашей непоседливости, я толком не знаю. Я тогда этим не интересовался. Моё дело было игрушки, книжки, конфеты, хлеб с маслом. А где папа берёт хлеб, где — масло, над этим я не задумывался. Частые сборы, укладка, увязка узлов — всё это было делом хлопотливым. Были узлы папины, были — мамины, были — мои, были узелки с посудой, с едой, с игрушками… Папе это надоело, и вот он отправился на рынок и приобрёл огромную корзину — размером с кровать. Вопрос укладки был сразу решён. Мы просто бросали в корзину всё без разбору: и папины вещи, и мамины, и мои, и посуду, и тряпки, и книги. Корзина поглощала всё. Потом мы сё запирали, водружали на тележку и она отправлялась на вокзал. А мы с пустыми руками, налегке, шествовали за ней тихо, чинно, благородно, как сказали бы сейчас — культурно. Так мы перебирались и из Одессы в Белосток. Мы приехали поздно вечером и долго шли за корзиной по длинным, узким чужим улицам. Наконец папа сказал; — Стоп! Кажется, здесь. Мы остановились возле мрачного дома с тёмными окнами. Над воротами висел фонарь со свечой. В стенке фонаря была вырезана светящаяся надпись: «Почтовая улица, дом Кириченко». Навстречу нам вышел сам Кириченко. Он кивал лысой головой и повторял: — Проше пана! Проше пана!.. Меня он похлопал по плечу и сказал: — Гарный хлопец! Прямо козак… Через минуту мы очутились в большой, совершенно пустой комнате: ни стола, ни стула, ни кровати — ничего. Папа с тележечником втащили корзину. Зажгли свечу. Стало чуть веселее. Мне постелили на корзине, и я сразу заснул. Проснулся я рано и первым делом выбежал во двор. Ведь это очень интересно очутиться на новом месте, посмотреть, какие здесь люди, что они делают, как тебя встретят… И вот я во дворе. Кругом грязные, серые стены. Посреди пруд. Вода в нём черна, как тушь. За ним под навесом сидят какие-то дети. Пригляделся, вижу — это девочки, две девочки. Я никогда не разделял мнения мальчишек, что девчонки — это презренные существа и что нечего с ними разговаривать. Я подошёл к ним поближе. Они сидели на куче тряпья. Одна была постарше, чёрненькая, с косами. Другая — поменьше, румяная и худая, с синими глазками и светлыми кудряшками. В руках у девочек были длинные, как журавлиный клюв, ножницы. То одна, то другая поминутно нагибалась, доставала из кучи какую-нибудь ветошь, срезала с неё пуговицы и бросала их в коробку, а ветошь отбрасывала в сторону. Так всё время без передышки: ножницами «чик» — пуговица «звяк»; ножницами «чик» — пуговица «звяк»… Счастливые девчонки! В Одессе у самого богатого мальчишки, у Мишки Яновского, не было столько пуговиц. Тут были и тяжёлые литые «тумбаки», и светлые офицерские с орлами, и оловянные солдатские, и костяные с двумя дырочками и с четырьмя, и кокосовые, и перламутровые — всякие… Я с завистью смотрел на всё это богатство. Потом я не удержался и спросил: — Это всё вам, да? Чёрненькая девочка искоса посмотрела на меня и, не переставая работать ножницами, сказала: — Нам? Так нам, как тебе! — А кому же? — «Кому-кому»! Пану Кириченко — вот кому! Я удивился. Зачем взрослому дяде, пану Кириченко, пуговицы? В Одессе в пуговицы играли только ребята. А здесь, видно, и взрослые, что ли, играют. — А вы с ним играли? — спросил я. — Как он играет? Девочки разом подняли головы и уставились на меня. Ножницы перестали было звякать, но через минуту опять послышалось «звяк-звяк»… — Ты что, новенький? — спросила старшая. — Ага! — Откуда? — Из Одессы! — А где это — Одессы! — Там… Далеко. Там хорошо. Там море. Главное — море! Вы даже не знаете какое. Называется Чёрное море. Вот такое!.. — Я широко развёл руками. — А у вас есть море? — У нас, — отозвалась девочка, — есть. Вот! — Она показала на пруд. — Тоже чёрное… Правда, Лудвига? Беленькая девочка засмеялась. Вдруг её смех перешёл в кашель. Она нагнулась, прикрыла рот тряпкой и с трудом проговорила: — Ну, Ядя, ну не смеши меня! Ты же знаешь, какая я смешливая. Когда она успокоилась, я спросил: — А можно мне одну отрезать? — Ну на! — сказала Лудвига и протянула мне тряпку с пуговицами и ножницы. Я увидел у неё на руке под большим пальцем красный вдавленный рубец — след от ножниц. Я взял пыльную тряпку и стал поддевать концом ножниц пуговичное ушко, но дело не ладилось. Лудвига снова засмеялась и закашлялась: — Ох ты, Одесса, медведь, смотри! Она лязгнула ножницами и вмиг отхватила литую генеральскую пуговицу с орлом. — А можно мне её взять? — спросил я. — Можно. — Насовсем? — Ну да! Я обрадовался и выпросил у девочек с дюжину замечательных пуговиц. Если б одесские мальчишки увидели сейчас мои сокровища, они бы лопнули от зависти! — Хватит вам резать, — сказал я. — Давайте играть в пуговицы. Я вас научу по-одесски… — Ой, нет! — сказала Ядя. — Некогда же. Нас пан прогонит! — Ага, прогонит! — подтвердила Лудвига. — И ты уходи. А то он увидит и, ох, как ругаться будет!.. Я с полным карманом пуговиц отправился домой. Дома я узнал, что в Белостоке много суконных фабрик. В дело идёт не только шерсть, но и всякое старое тряпьё. С него только надо, конечно, срезать все пуговицы. У нашего пана Кириченко тоже была своя фабрика. Вот почему пруд у нас во дворе был чёрен, как сажа. В него спускали воду из красильного цеха. Я каждый день убегал к Яде и Лудвиге. Когда мама узнала об этом, она сказала: — Яша, не ходи туда. Там всякое грязное тряпьё неизвестно откуда. Ещё подцепишь какую-нибудь болезнь. — Не подцеплю! — Нет, нет! Дай слово, что не будешь ходить. Я дал маме слово, но мне трудно было его сдержать. Мне было скучно без Яди и Лудвиги. Я подходил к ним, правда, не так близко и издали, на почтительном расстоянии, рассказывал им об Одессе: о море, о лодках, о чайках — обо всём хорошем, что я там видел. Когда мамы не было дома, я подходил к девочкам ближе, а когда она бывала дома, я держался подальше от навеса. Чуть она выглянет в окно, я отскакивал от девочек. Они смеялись. Лудвига приговаривала: — Смешной ты! Не смеши меня, не смеши! Потом мама всё-таки узнала, что я нарушаю её запрет и, как сказали бы сейчас,
общаюсьс резчицами пуговиц. Она сказала об этом папе. Дело кончилось тем, что папа нашёл другую комнату. И в один прекрасный день мы побросали все наши вещи в корзину, взгромоздили её на очередную тележку и переехали на другой конец города. Я долго не был на Почтовой. Только примерно через полгода я снова попал туда. К тому времени я уже знал немало улиц и ходил по городу один, как большой. Вот знакомый двор. Вот чёрный пруд, вот навес. Под ним на груде тряпья по-прежнему сидяг обе девочки. — Здрасте, Ядя! Здрасте, Лудвига! — закричал я издали. Они не ответили. Я подошёл к ним поближе и понял, что ошибся. На месте Лудвиги сидела совсем другая девочка — с длинным носом и мохнатыми бровками. — Ну здрасте, Одесса! — сказала Ядя. — А где же Лудвигочка? — спросил я. Ядя молчала. Новая девочка тоже молчала. Только слышно было, как позвякивают их ножницы. Часто-часто у Яди и реже у новенькой. — Где же она? — повторил я. — Лудвиги нет, — сказала Ядя. — Я вижу, что нет. А где же она? — Она… Ну что ты, не знаешь!.. Она умерла! — сказала Ядя и бросила отрезанную пуговицу в коробку. — Как — умерла?! — закричал я. — Насовсем? Я тогда ещё не очень ясно представлял себе, что такое смерть. — Конечно, насовсем… — сказала Ядя. — Какой ты глупый, прямо даже странно! Она опустила голову и стала рыться в тряпье. Новая девочка сказала: — Что ты пришёл её расстраивать. Тебе сказали, и всё. Я молча смотрел на девочек. Мне не верилось, что больше нет на земле Лудвиги, нет её кашля, нет её смеха, нет её глаз и кудряшек. Тут на крыльце появился пан Кириченко. Он увидел меня и крикнул: — А ну геть, козак, отсюда, не мешай! Я медленно через весь город побрёл домой. Дома я нашёл тяжёлые, литые пуговицы с орлами, которые подарила мне Лудвига. Их светлый блеск напомнил мне блеск её глаз. Я спрятал пуговицы под кровать и долго не прикасался к ним. Мне долго было жаль девочку Лудвигу. Ну, а потом это незаметно прошло. Вот и всё про белостокские пуговицы.
ДЯДЯ ЕФИМ
В тринадцатом году мы жили в Вильне. Вдруг приходит телеграмма:
ПРИЕЗЖАЙТЕ СВАДЬБУ ТЁТИ ОЛИ
Мы все принарядились и поехали в родную Сморгонь на свадьбу. Тётя Оля была маминой сестрой. Она была гораздо старше мамы, но долго не выходила замуж. И вот наконец это радостное событие наступило. Жених оказался весёлым, бравым, усатым парнем с буйной шевелюрой. Он работал закройщиком. Его звали Ефим. Но я, конечно, называл его дядя Ефим. Была пышная свадьба. Было много гостей. Специально приглашённый музыкант пиликал на скрипочке. Дядя Ефим пил вино, поминутно вытирал толстые усы, встряхивал шевелюрой и пел, прихлопывая в такт большими, красными руками:
Веселей, народ, пляши!
Молодые хороши!
А тётя Оля не сводила с него глаз, в которых так и светилось, так и лучилось счастье. В общем, была хорошая свадьба. Потом мы вернулись в Вильну. А через год, уже в четырнадцатом, мы поехали в Варшаву — вернее, в местечко под Варшавой, которое называлось Воломин. Неподалёку от нас проходила железная дорога. Мне тогда было девять лет. Я целыми днями бродил по шпалам и собирал железнодорожные билеты. Зачем я это делал — до сих пор не понимаю… Бродить по шпалам можно было без особой опаски. Поезда шли редко. Трижды в день — дальние курьерские из Москвы и Петербурга. Они спешили за границу — в Германию, во Францию и другие незнакомые, загадочные места. Наш домик стоял в лесу. По вечерам мы собирались у керосиновой лампочки и ждали папу. Он работал в Варшаве и каждое утро на поезде уезжал туда, а вечером возвращался. А воскресные дни он проводил с нами. Однажды, когда мы с папой гуляли по лугу вдоль железнодорожной насыпи, я вдруг увидел, как из-за дальнего леса вынырнула громадная белая рыбина. Она была похожа не то на акулу, не то на кита. Она медленно плыла по небу — огромная, страшная, безмолвная. К её белому брюху было приделано нечто вроде вагончика с окошками. Я закричал: — Папа, папа, смотри! Что это, такая страшная? Папа поднял голову: — Это дирижабль. Ну, цеппелин. Наверное, немецкий. — А что значит цеппелин? — Это фамилия такая, граф Цеппелин! А дирижабль — значит управляемый, от слова «дирижировать», «управлять». Мой папа всё на свете знал. Мы с ним молча следили за цеппелином, который не спеша плыл по синему небу. Что-то было зловещее, пугающее в этом беззвучном полёте. — А жутко на него смотреть, — признался я. Я думал, что папа высмеет меня, скажет: «Ну, пустяки, нет жуткого», но он, задумчиво глядя на белобрюхую рыбину, сказал: — Да, хорошего мало, сынок, мало… — А почему она здесь летает? Что ей здесь надо? — Да уж наверное что-нибудь высматривает, — ответил папа. На душе стало тревожно. Так прошло несколько дней. Те дни были особенными. Все взрослые то и дело хватались за газеты, искали в них телеграммы, обсуждали убийство в каком-то Сараеве, толковали о каком-то студенте, который убил какого-то эрцгерцога. Я в этом во всём мало разбирался. Но вот один раз приехал папа из Варшавы — приехал днём, раньше времени, когда мы его совсем не ждали. Он был очень бледный, взволнованный. Он обнял маму, посадил моего маленького братишку к себе на колени и ухитрился как-то ещё взять на руки мою двухлетнюю сестрёнку. Так, собрав нас всех вокруг себя, он сказал: — Плохо дело, ребята! Война! Воина? А что за война? — спросил я. — Не дай бог тебе узнать! — ответил папа и поцеловал меня в макушку. Он это делал очень редко. Мы все задумались. Чем обернётся для нас война? Как она себя покажет? Она сразу же дала себя почувствовать. В тот же день но нашей тихой железной дороге началось неслыханное движение. Один за другим спешили на запад эшелоны с новобранцами. Они шли утром и вечером, днём и ночью, круглые сутки. Я засыпал под стук колёс, проносившихся где-то неподалёку в ночной темноте… А когда просыпался, снова слышал однообразное постукивание: тук-тук, тук-тук, тук-тук… Днём я убегал к насыпи. Билетов я уже не собирал — не до того было. Я встречал поезда с новобранцами. Это были длинные товарные составы. Двери теплушек были открыты настежь. В теплушках на нарах тесно сидели новобранцы. Часть сидела в дверях на полу, свесив ноги наружу. Во всех теплушках играла гармошка и надрывались пьяные голоса:
Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.
Новобранцы были одеты ещё в своё: в засаленные косоворотки, в рваные пиджаки, в лапти, в худые сапоги. Они должны были надеть форму поближе к фронту, где-то за Варшавой. Это были деревенские и фабричные парни, оторванные от сохи, от станка, от работы, от семьи… Эшелоны шли так часто, что пригородные поезда и вовсе отменили. И папе приходилось теперь шагать в Варшаву на работу пешком — пятнадцать вёрст туда и пятнадцать обратно. Мы его ждали на террасе до глубокой ночи. Мотыльки летали вокруг лампочки. Мы вглядывались в темноту. Так проходили часы. Мама говорила: — Спать ложись! Хватит! Я тёр слипающиеся глаза. — И ты ложись! — Я не лягу, пока не дождусь! — И я не лягу! Мы сидели и ждали. Кругом было тихо, все спали, и только было слышно, как на путях стучали без конца колёса: тук-тук, тук-тук… Наконец уже далеко за полночь раздавались знакомые усталые шаги, и из темноты возникал папа — измученный, покрытый пылью после целого дня работы и трёх часов пешего хождения. Иа сердце сразу становилось легче: папа здесь, папа пришёл — значит, всё будет хорошо. Рано утром он опять уходил в Варшаву, а мы отправлялись к железной дороге встречать поезда. Они по-прежнему шли один за другим, а цветы на лугу — пушистые одуванчики и крупные жёлтые лютики, — казалось, кивают им своими головками, прислушиваясь к песне:
Заплачут братья мои, сестры,
Заплачут мать и мой отец…
Однажды один эшелон замедлил ход, пошёл всё тише, тише, а потом и вовсе остановился. Он стоял посреди поля. Видно, впереди скопилось много поездов. Это было очень необычно. Теплушки, которые до сих пор только пробегали мимо нас и казались такими неясными, неуловимыми, — вот они стоят, точно дома. Из них стали выпрыгивать новобранцы. Они разминали косточки после сидения в тесном вагоне, они толкались, боролись, кувыркались в мягкой траве. Дело было в начале августа; трава стояла высокая, душистая; её никто не косил. Мы держались в стороне. Мы немного опасались этих бесшабашных парней. Вдруг один из них, худой, обросший бородой, с острой голой головой, в рваном пиджаке и худых штиблетах, направился к нам. Я прижался маме, а мама притянула к себе младшего братишку. А новобранец всё шёл к нам. Мама отступила на шаг, потом вскрикнула и кинулась вперёд. Мы растерялись, но побежали за ней, памятуя одно: где мама — там и мы. А мама всё бежала навстречу новобранцу, крича: — Ефим! Ефим! Какой же это Ефим! Тот красивый, весёлый, с шевелюрой. Я с трудом узнал его. От прежнего у него остались только усы. Он обнял нас: — Я знал… я знал, что вы где-то здесь. Но я не знал, что эшелон остановится. — Когда тебя взяли? — спросила мама. — Сразу же… Ведь у меня красный билет. — Как Оля? — Ну что Оля? Плачет Оля! Дядя Ефим потёр своё поросшее щетиной лицо. Его товарищи по теплушке окружили нас. Один, с гармошкой, сказал: — А ну, сударушка, попляши с нами! И завёл:
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня.
Но тут загудел паровоз. Новобранцы поспешили к эшелону. Дядя Ефим стал нас торопливо целовать. Я сказал: — Дядя Ефим, оставайся с нами! — Нельзя, сынок, — ответил он, — надо воевать. — За кого? — с горечью сказала мама. — За царя! — крикнул дядя Ефим и побежал к поезду. Когда состав тронулся, мне показалось, что колёса подхватили и застучали: «За царя, за царя…» Новобранцы на ходу прыгали в теплушки, наваливались животами на высокий порог, помогая друг другу. Дядя Ефим тоже навалился животом, подтянулся, и вот он уже стоит в дверях и машет нам рукой. Мы побежали за поездом. Вдруг дядя Ефим сорвал с себя пиджак и кинул его на шпалы, на щебень. — Возьмите! — крикнул он. — Мне там ни к чему… Вернусь — заберу! Я подобрал пиджак. Поезд ушёл. Мы долго глядели ему вслед. Потом пошли домой. А поздно ночью мы с папой стали рассматривать пиджак и нашли там в одном кармане карточку тёти Оли. Она была очень весёлой. Видно, снята была в день свадьбы. В её глазах так и лучилось, так и светилось счастье. В другом кармане мы нашли красный листочек. Это и был красный билет. Там было написано: «Явиться в первый день войны». Мы хотели переслать карточку и красный билет дяде Ефиму на фронт, по не успели. Через неделю мы узнали, что он погиб в первом же бою где-то в Галиции, под Львовом. Больше я не ходил встречать эшелоны. Мне было жалко смотреть на новобранцев. Но я всё равно слышал, как днём и ночью неподалёку на путях стучат колёса, будто выговаривают:
Явиться… Явиться… Явиться…
За царя… За царя… За царя…
ЗА КИПЯТКОМ
Сейчас расскажу о том, как я в Лозовой бегал за кипятком. Даже рифма получилась, но это нечаянно. Есть такая станция — Лозовая. Там очень большой вокзал, потому что там встречаются много железных дорог. А вокруг вокзала тянется город. Мы там жили лет сорок назад. Мне тогда было лет десять. Мы — это дедушка, бабушка, мама, я и мои младшие брат с сестрой. Папы с нами не было. Он тогда работал в Харькове. Я был главным маминым помощником. И не только маминым, но и дедушкиным и бабушкиным. Я был парень покладистый и выполнял все их поручения. По субботам, помню, дедушка не разрешал разводить огня. Нельзя было ни затопить «грубку» (так в Лозовой называли печку), ни разжечь примус. Поэтому по субботам мы всегда обедали всухомятку, ели всё холодное, невкусное… А как же насчёт чая? Ведь каждому хочется побаловать себя горяченьким! Верно! Вот поэтому-то по субботам обычно бывало так: после холодного обеда дедушка принимался читать газету «Южный край». Вот он читает её, читает, шелестит бумагой, потом вдруг скажет: — А неплохо бы сейчас пропустить стаканчик горяченького! — и смотрит поверх очков на меня. Я делаю вид, будто это ко мне не относится. Вот тут подаёт голос бабушка. — И я бы выпила чашечку, — говорит она и тоже смотрит на меня. Я снова притворяюсь, будто не понимаю их намёков. Минут через пять раздаётся громкий дедушкин кашель. — Кха… кха!.. Что-то в горле пересохло… У тебя не пересохло, Яша? Я пробую проглотить слюну. И верно, как будто в горле что-то першит, но я говорю: — Нет, не пересохло, ни капельки. А дедушка отвечает: — Ну как же, конечно, пересохло, даже я и то слышу, а ты просто не чувствуешь. Я смотрю на маму. Она улыбается и говорит! — Ладно уж, сынок, сходи уж! Я говорю: — Ладно, давайте! — Вот это молодец! Вот это я понимаю! — хвалит меня дедушка. А бабушка вручает мне огромный медный чайник с длинным, выгнутым носом. — Иди, миленький, иди! Только смотри не ошпарься. На! — Она даёт мне большую тряпку. Я до поры до времени запихиваю тряпку в карман, подхватываю чайник и выхожу на улицу. Идти далеко — чуть ли не через весь город. Иду по главному проспекту. Там веселей. Туг большой магазин Неймана, кофейни, портерные, трактиры, аптека с цветными шарами в окне… Потом сворачиваю на боковую улицу, затем на другую… Выхожу на улицу, где стоит дом с надписью: «Злая собака». Эту улицу я обхожу. Иду более длинным путём. Так я подхожу к мосту через пути. Я очень люблю ходить по этому мосту. Под тобой гудят паровозы, слышны свистки сцепщиков, рожки стрелочников, шипение пара… Мне нравится эта музыка. Вообще в Лозовой всегда были слышны гудки паровозов. Особенно по ночам то и дело раздавалось: ту-тууу… Там я научился понимать паровозный язык. Я узнал: один длинный гудок — значит «трогаюсь вперёд»; один короткий, один длинный — «двигаюсь назад»; два длинных — «прошу воды», и так далее. На мосту я всегда прислушивался к паровозному разговору. Только жалко было, что во всю длину моста по обеим сторонам тянулся глухой, крытый охрой забор. Он не давал сверху поглядеть на поезда. Время от времени над ним взлетали клубы пара или дыма, и тогда казалось, будто внизу сидит какой-то великан и курит огромную, великанскую трубку. Как пройдёшь мост — сразу вокзал. Кипяток находится в зале для «господ пассажиров третьего класса». Там день и ночь гудит кипятильник «Титан». Но я-то ведь не «господин пассажир» — мне кипяток не полагается. Я отлично понимаю, что вокзал не может поить чаем весь город. Мне надо сделать вид, будто я пассажир. Вот почему я вхожу на вокзал не со стороны города, а со стороны поездов. Вхожу и спрашиваю: — Где тут у вас кипяток? Мне показывают то, что я и сам отлично знаю. Вот он, «Титан», вот он, кран! Я выгибаюсь, далеко протягиваю руки, вешаю чайник на кран и с трудом отворачиваю длинную раскалённую рукоятку. С хрипением, с сердитым бульканьем вырывается струя крутого кипятка. Капельки обжигают меня, колют, но я терплю. Кипяток бежит не спеша, а чайник мой велик. Жду. Сзади выстраивается очередь настоящих пассажиров. Они ворчат: — Хватит с тебя! — Ты бы ещё ведро притащил! — Куда тебе столько? Я деловито отвечаю: — Пить буду! Наконец чайник полон. С трудом снимаю его и, сгибаясь в три погибели, ухожу с вокзала. Раскалённую ручку обматываю бабушкиной тряпкой. Вот опять мост. Но сейчас прислушиваться к паровозному разговору некогда. Дома ждут дедушка с бабушкой. Им хочется горяченького. Я спешу, почти бегу. Но и бежать нельзя — чайник тянет книзу, вода из носика выплёскивается. Я то и дело меняю руки, стараюсь отдыхать возможно реже. Вот наконец наш дом. Меня встречают на пороге, как именитого гостя. Бабушка настежь распахивает передо мной дверь. Мама берёт у меня из рук чайник. Дедушка поднимается мне навстречу. — Ну как, — говорит он, — горячий? — Горячий, горячий, как огонь! — говорит бабушка. И вот чайник на столе. Все рассаживаются вокруг, все пьют чай внакладку и вприкуску… Чайник велик, кипятку хватит всем, и самое главное — он не остыл. — Скажите все спасибо Яше! — говорит дедушка, со вкусом прихлёбывая чай из толстой кружки. И мне приятно, что я напоил всю семью. Постепенно все стали привыкать к тому, что Яша — субботний поилец всей семьи. Но вот однажды выдалась суббота, когда дело повернулось по-другому. Сначала всё шло как всегда. Меня снарядили, и я пошёл. Набрал кипятку и понёс было его домой. Но в этот раз я решил пойти по улице, по которой я обычно старался не ходить. Там на одном доме была надпись: «Злая собака». Эта собака действительно лаяла и рявкала так, что мороз по коже подирал. Ну, а сегодня меня осенило: чего мне бояться! Если собака выскочит из подворотни и кинется на меня, я её — кипятком, кипятком, вот и всё! Я обрадовался. Мне даже захотелось, чтобы собака кинулась на меня. Я прибавил шагу. Вот она — страшная надпись. Но, как на грех, никакой собаки не слыхать. Я нарочно стал лаять и завывать. Напрасно, нет ответа. Я стал стучать, дёргать щеколду калитки — всё зря. Мое это надоело, я взял чайник в другую руку и пошёл дальше. Вдруг я увидел приоткрытые ворота. В глубине двора сидел на трёхногой табуретке седоватый человек с круглым лицом и что-то рисовал. То и дело он окунал кисти в горшочки с красками. Я набрался храбрости и завернул во двор. Я знал, что художникам нельзя мешать, но мне уж очень хотелось увидеть его картину. И вот я так: сделаю шаг — и встану, ещё шаг — снова встану. А художник неожиданно посмотрел на меня и спросил: — Горячая, что ли? — Ага, горячая! Горячая, как огонь! — сказал я. — Ну-ка, плесни чуточку. — Он показал кистью на синий горшочек. Я осторожно нагнул чайник — и краска в горшочке сразу стала жиже и ярче. Тут я почувствовал, что я как будто тоже участвую в работе над картиной, осмелел и взглянул на холст. То, что я увидел, поразило меня. Я увидел живую курицу: клюв, хвост, лапы с когтями. Вот художник коснулся острой кисточкой круглого глаза — и глаз вмиг заблестел. Вот красная кисть дотронулась до куриной головы — и сразу появился красный маленький гребешок. Вот кисть забегала, зачастила — так-тук-тук! — и появились чёрные пятнышки на перьях… — Ну как? — спросил художник. Я не находил слов. — Ой, как замечательно! Ой! — сказал я. — Лучше, чем живая. А художник взял бечёвку, натёр её мелом, приложил к холсту и сказал: — Ну-ка, подержи. Я подержал конец бечёвки. Художник двумя пальцами оттянул её, щёлкнул, и на холсте отпечаталась ровнёхонькая белая линия. Потом мы ещё раз — щёлк! — и снова отпечаталась линия. Эти линии художник мелком разделил на квадраты и стал кистью выводить аккуратные буквы:
МЯСО ПТИЦА ДИЧ
Слово «дич» было без мягкого знака, но это неважно. Зато буквы были ровнёхонькие, прямые, как печатные. Я никогда не видел, как печатают буквы на вывесках. Теперь я это увидел. Но это было не всё. Художник стал делать буквам «толщину». Буквы стали как будто выпуклые. Это было похоже на фокус. Я позабыл обо всём: о чайнике, о дедушке, о бабушке — и всё следил за чудесной кистью. И только когда весенний день стал клониться к вечеру, я спохватился, вспомнил про всё и пощупал чайник. Увы, он был холоден, как пузырь со льдом. Я растерялся. Художник спросил: — Ты что? — Да вот я совсем забыл… Надо чай дедушке … А я забыл. — Ну ладно, беги! На вот тебе… Он подарил мне баночку синей краски, хорошую кисть. — Спасибо! Я подхватил одной рукой банку, другой рукой холодный чайник и побежал домой. Трудно передать, что было, когда мама увидела меня. Она кинулась ко мне, стала меня и ругать, и целовать, и ощупывать. — Где ты пропадал? Ведь мы думали — ты под поезд попал. Или тебя кипятком обожгло… В больницах тебя искали. Весь город обыскали. Где ты был? Выскочил дедушка, выбежала бабушка, сестра, братишка, все окружили меня, все меня и ругали и целовали. А я молчал. Я был рад, что никто не ругает меня за холодный кипяток. Через день мама взяла меня на рынок — я ведь был её главным помощником. Вдруг я увидел над одной лавкой что-то знакомое. Я подбежал поближе и узнал чёрные крапинки на крыльях, блестящий глазок и синие буквы. А внизу было мелко написано: «Живописец вывесок Е. Зак». — Мама, смотри, вот знакомая курица! — Ты лучше скажи: где мягкий знак? — спросила мама. Но мне было не до мягкого знака. Как только мы вернулись домой, я набрал груду картонок и стал мастерить вывески: «мясо», «туфли», «конфеты», «керосин». И под каждой вывеской подписывался: «Живописец вывесок Я. Тайц». В субботу дедушка спросил: — Как насчёт кипяточку? — Можно! И «живописец вывесок Я. Тайц» взял медный чайник и отправился в путь, а по дороге нарочно дал крюку и прошёл мимо знакомой курицн с картины «Мясо птица дич»… А потом, много лет спустя, я вспомнил про живописца вывесок Е. Зака и написал о нём ряд рассказов, которые так и назвал «Про Ефима Зака».
КОНКА
Конка — любимый экипаж моего детства. Другие ребята мечтали кто о паровозе, кто о чём, а я мечтал только о конке. Я застал её в Харькове, году в шестнадцатом. Её полное название было: «Городская конная железная дорога». Но никто её, конечно, так не называл, а все называли запросто:
конка. Это был маленький вагончик, вроде трамвайного, только гораздо меньше. Он катился по релеьсам. Его везла пара тощих лошадей. У него были две площадки. На передней возвышался кучер — в брезентовом балахоне с капюшоном, усатый, с багровым, обветренным лицом. В руках у него были незамысловатые приборы для вождения конки: кнут, вожжи и рукоятка тормоза. Тормоз нужен был для остановок и для спусков. Если на крутом спуске не притормаживать, наедешь на своих же лошадей. На задней площадке (а иногда и внутри вагончика) стоял кондуктор с сумкой через плечо и со свистком во рту. Как только он свистнет, кучер взмахнёт кнутом, крикнет: — Н-но, дочки-сыночки! — И конка покатится по рельсам до следующей остановки. А там снова «тпррру», снова свисток и снова: — Н-но, дочки-сыночки!.. Чем же конка была хороша? А вот чем. Так как её везли лошади, да ещё худые, заморённые, скорость её была невелика. В любую минуту можно было на ходу вскочить и выскочить. В этом-то и была главная прелесть катания на конке. Конка была двух видов: зимняя и летняя. Зимняя — это закрытый вагончик, о котором я вам только что рассказывал. А летняя… Летняя конка — это замечательная вещь! И обожали мы, мальчишки, именно конку летнюю. Это открытая платформа с навесом на тонких столбиках. По обеим её сторонам тянутся длинные, во всю длину конки, подножки. Дверей нет, так как нет и стен. Прыгаешь на подножку и входишь в любой промежуток между скамейками. К столбикам приделаны ручки. Это очень удобно. Ухватился за ручку и — скок на подножку. Весь шик именно был в том, чтобы не бегать за конкой, а сразу, как взялся за ручку, так и вскочил в одно движение, или, как сказали бы сейчас футболисты, в одно касание… Моей затаённой мечтой было стать коночным кучером. Но я даже и думать об этом боялся. Мне не верилось, что я когда-нибудь смогу стоять с кнутом и вожжами в руках, покрикивать на лошадей и, главное, ударять ногой по звонку. Я забыл вам сказать, что на площадках в пол была вделана замечательная вещь — кнопка от звонка. Ударишь носком по кнопке — и сразу услышишь громкое «динь»! Снова ударил, и снова — динь! Динь-динь — берегись, конка идёт! Господи, из-за этого одного стоило стать кучером! Дома я без конца играл в конку. Я сдвигал в один ряд стулья и табуретки, усаживал на них папу, маму, братишку, кошку и покрикивал: — Ваш билет! Папа, возьми билет! Мама, почему сошла на ходу?.. Динь-динь! Берегись! Динь-динь! В глубине души я понимал, что ни кучером, ни даже кондуктором мне стать невозможно. Они большие, а я ещё маленький. Но вот, например, «пристяжным хлопцем» я вполне мог бы стать. Ведь он немногим старше меня. «Пристяжной хлопец» — это вот что. Пока конка идёт по ровному — всё хорошо. Но вот начинается подъём — скажем, с Московской на Николаевскую. Подъём крутой — двум лошадям не вытянуть. И люди нашли выход: внизу перед подъёмом ждёт парень с третьей лошадью. Как только конка подходит к подъёму, он на ходу накидывает кольцо перекладины постромок на специальный крюк, а сам вскакивает на подножку, на передний её кончик. Кучер кнутом подбадривает пристяжную, и она сразу — с ходу, как сказали бы сейчас, — включается в работу. Наверху, на Николаевской, паренёк соскакивает, на ходу снимает кольцо и ведёт лошадь вниз, встречать следующую конку. Вот что такое «пристяжной хлопец»! Я часами приглядывался к его работе. Я завидовал ему изо всех сил. Я всё время думал о нём. Разве я хуже его? Разве я не сумел бы точно так же накинуть кольцо и вскочить на подножку? Вполне сумел бы! Однажды я не выдержал, взял дома огромный круглый харьковский корж (такие, по-моему, и выпекались только в Харькове), спрятал его, ещё горячий, за пазуху и отправился на Московскую улицу. «Пристяжной хлопец» стоял на своём посту — босой, с большущим соломенным брилем на голове. Рядом с ним дремала понурая чалая лошадёнка. Я осторожно спросил: — Как тебя зовут? Он из-под бриля посмотрел на меня и провёл грязным пальцем под носом: — А тебе… на кой? — Ну, просто так… Жалко, что ли, сказать, что ли! — Ну, Гнашка, — сказал он, почёсывая одной ногой другую. — Гнашка? А меня Яшка! — в тон ему ответил я. Он благосклонно улыбнулся. Это меня подбодрило. — Слышь, Гнашка, — сказал я, — дал бы мне раз попробовать! А? Чего это… попробовать? — недоверчиво спросил он. — Ну вот это. — Я показал на лошадь. — Один разочек. А я тебе вот это, видишь, вот… — и достал из-за пазухи корж. Гнашка посмотрел на корж, потом на лошадь, потом снова на корж. Корж ему понравился — это сразу было видно. — А на кой? — снова спросил он, не сводя глаз с коржа. Ну просто так… причеплюсь, и всё… Давай! — Я поднёс ароматный корж к самому его носу. Но тут послышался звон идущей снизу конки. — Погоди трошки, — сказал Гнашка. — Стой здесь!.. Н-но! Он разогнал своего коня, разбежался, накинул кольцо, успел мне крикнуть: «Не уходи!» — и вскочил на подножку. Всё это он проделал очень ловко — совсем как в цирке на Благбазе (Благовещенский базар). Я с завистью смотрел ему вслед. Вот конка поднялась к Николаевской площади. Гнашка отцепился, сел на лошадь верхом и вернулся ко мне. — Ну! — сказал я нетерпеливо. Гнашка протянул руку, помял корж: — А сможешь? — А чего не смочь? Гнашка снова помял корж, потом понюхал его: — А если кучер заругается? — Не заругается… Чудак! Я ж твой бриль надену! — Ага! — Это Гнашке понравилось. — Ну ладно! Только один раз. И гляди там, поаккуратнее! — Что я, не знаю, что ли! — Я дал ему корж и взял наконец желанную перекладину постромок с кольцом и вожжи. Потом я сухим от волнения голосом спросил: — А бриль? — Ну на уж бриль, на! Он нахлобучил мне на макушку свой бриль, словно прикрыл меня зонтиком. Я загнул соломенные поля, чтобы видеть конку. — Ты, главное дело, на крюк гляди, на крюк! — сказал Гнашка и впился зубами в корж. — Знаю! Я поудобнее взял постромки и стал ждать. Надо сделать всё как следует, а то ещё, чего доброго, кучер наподдаст кнутом. Наконец из-за угла показалась конка. Кучер хлещет по лошади, кричит: — Эй вы, тигры, львы!.. Н-но!.. Н-ну!.. Н-но!.. Он старается взять разбег перед крутым подъёмом. Я приготовился. Лошади всё ближе. Слышу, как они храпят, фыркают. Вот и крюк. Я не свожу с него глаз. Он поравнялся со мной. Я дёрнул свою лошадь: — А ну, тигра, пошла! Пошла! Я побежал рядом с конкой: — Пошла, пошла!.. Давай!.. Я накинул кольцо на крюк. Гоп! Увы, я промахнулся — крюк уходит куда-то… — Стой! — закричал я что было сил и снова накинул кольцо на крюк. Гоп! Кольцо сразу поехало куда-то. Попал, значит. Я обрадовался, выпустил перекладину, ухватился за ручку и скок на подножку — точь-в-точь как Гнашка. Кучер хлестнул по моей пристяжной и сказал: — Да я ж тебе говорил, шо она ленивая… Н-но, Хивря! Он, видимо, принял меня за Гнашку. Я был счастлив. Моя Хивря натягивала постромки не хуже коренников и бойко махала редким хвостом. Я стоял на подножке, на самом её кончике, впереди всех, и мне было очень-очень хорошо, мне было легко и радостно. Но вот и Николаевская площадь, вот и конец подъёму. — Ну, бывай! — сказал кучер. Я кивнул ему головой, соскочил с подножки, на ходу снял кольцо, и конка с пассажирами, со столбиками, с полотняными фестончиками проехала мимо меня. А мы с Хиврей отправились вниз, к Гнашке. Я был на вершине блаженства. Мне казалось, что если не весь Харьков, то уж, во всяком случае, вся Московская улица видела, как я ловко прыгал и накидывал кольцо. Когда мы с Хиврей вернулись на прежнее место, оказалось, что Гнашки там нет. Я обрадовался. Значит, я могу встретить ещё одну конку. Вот она подошла. Я снова накинул кольцо. Снова вскочил на подножку и снова поехал вверх, на Николаевку. Там я снова соскочил, снова отцепился и снова погнал Хиврю вниз. Гнашки на посту всё ещё не было. Я стал ждать третьей конки. Скоро она пришла. Всё совершилось в третий раз. А Гнашки всё нет как нет. Я не знал, как быть. Мне вдруг захотелось домой. Руки у меня заболели, потому что я с силой натягивал постромки. Ноги заболели оттого, что я то и дело вскакивал на подножку и соскакивал. Голове было неловко из-за колючего бриля. Что делать? Не оставлять же Хиврю одну! Я стал звать: — Гнашка-а!.. Гнашка!.. Прохожие стали оглядываться. Кричать было неудобно. Тут снова подошла конка. Мы с Хиврей помогли ей подняться. Так нам пришлось проводить добрый десяток конок, пока наконец Гнашка не соизволил вернуться на свой пост.
«Пристяжной хлопец» стоял на своём посту.
— Ты где пропадал? — накинулся я на него. — На, держи! — И с облегчением передал ему Хиврпны постромки и вожжи. — Да тут у меня мамка хворая, — сказал он, — одна лежит. Ну я ей твоего коржа снёс. — Он взял постромки, провёл пальцем под носом и спросил: — Накатался? — Ага! — сказал я, разминая пальцы. — Завтра ещё приходи! — Ладно… — Смотри, коржа не забудь! — Ладно… Он что-то хотел ещё сказать, но тут подошла конка. Гнашка накинул кольцо, вскочил на подножку и на ходу крикнул: — Бриль давай, бриль! Я догнал его, вручил ему бриль и зашагал домой. Больше я к нему не приходил. Быть «пристяжным хлопцем» мне расхотелось. Вот кондуктором быть или кучером — это другой разговор!..
СЁМКА БЕРЛИН
Сёмка Берлин! У него было прозвище: Сёмка — который час. Где-то он теперь? Жив ли? Наверно, жив! Ведь он был очень здоровый, толстый, румяный. Он жил в нашем дворе, во Втором Чеботарском въезде, в отдельном флигеле. Я у них не бывал, но я знаю, что Берлины живут очень богато. Я видел за окнами у них пальмы, ковры, картины, рояль… У каждого — отдельная комната. Я им завидовал и часто говорил об этом папе. Он отвечал: — Не завидуй им! Они буржуи. Им деньги достаются жульничеством, обманом. Ну их! И не дружи с ним! Я и не дружил. Сёмка был злой, драчливый… У него была привычка — как увидит кого-нибудь из ребят во дворе или во въезде, сразу подбежит и давай дёргать за уши или за вихры. А станешь вырываться, он ещё больнее дёргает. Приходилось терпеть и умолять: — Сёмочка, отпусти! Ну, Сёмочка, будь человеком… Правда, был более простой способ избавиться от мучений, но не все его знали. Надо было спросить: — Сёмка, скажи, пожалуйста, который час! Тут Сёмка сразу забывал про всё на свете и лез в карман за часами. Часы ему подарил его отец, хозяин ювелирного магазина на Сумской улице «Берлин и сын», когда этому «и сыну» исполнилось пятнадцать лет. Сёмка носил их в специальном кармашке у пояса. Толстую серебряную цепочку он выпускал наружу, и она сверкала за версту. Он обожал, когда у него спрашивали, который час. Он ленивым, как бы небрежным движением доставал из кармана часы, щёлкал крышечкой (она отскакивала), протирал платочком стекло и говорил: — Значит, вам надо знать время! Вам как надо — точно или только приблизительно? — Ну всё равно… Примерно… — Нет, не всё равно! Если приблизительно, то считайте, что половина пятого, а если точно, то шестнадцать часов восемнадцать минут и двадцать пять… нет, двадцать шесть секунд. Вас это устраивает? Он снова щёлкал крышечкой, подкручивал шероховатую головку у часов и с важным видом прятал их в карман. Вот почему его называли Сёмка — который час. Я его побаивался. Он был здоровенный, с налитой красной шеей, гораздо выше меня и старше года на три. Надо признаться, что я в те годы вообще многого боялся. Я, видно, был не из храброго десятка. Правда, на то были свои причины. Ведь я рос в Харькове, где то и дело менялась власть. Часто слышалась стрельба, часто шли бои, причём неподалёку от нас, на вокзале. То стреляли винтовки, то пулемёты, то пушки, а то все вместе. Сердце сжималось от страха. Всё время чудилось, что вот-вот кто-то придёт, будет мучить, бить, убивать… В городе хозяйничали и деникинцы, и петлюровцы, и врангелевцы… Но особенно запомнились мне гайдамаки. Это было войско гетмана Скоропадского. Его поддерживали немцы. Самого гетмана я не видал. Он был тогда, кажется, в Киеве. Зато я видел его гайдамаков. Они рыскали по всему городу, искали большевиков. Говорили, что они всех подозрительных забирают, отводят куда-то и ставят к стенке. Я слишком хорошо знал, что это значит — к стенке. Это значит расстрел. И вот, помню, кто-то прибежал и сказал, что по нашему въезду идут гайдамаки и обыскивают дома, где могут быть большевики. Мне стало страшно. Папа был дома. Я сказал ему: — Папа, спрячься! Слышишь, папа! — Куда я спрячусь? — ответил папа. — Они всё равно найдут — тогда ещё хуже будет. К тому же они про меня ничего не знают. — А может, кто-нибудь донёс, — сказала мама, не сводя испуганных глаз с папы. — Ну ничего. До сих пор обходилось, авось и дальше обойдётся, — сказал папа. Но тут раздался стук в дверь. Мы притихли и молча смотрели друг на друга: я — на папу и на маму, мама — на папу и на меня, папа — на нас обоих. Дыхание перехватило, во рту у меня стало сухо, а сердце сперва замерло, а потом застучало часто-часто. Грохот стал сильнее. Дверь заходила ходуном. — Открой, — тихо сказал папа, — а то они сломают. Мама трясущимися руками откинула крючок. В комнату вошли три гайдамака. На них были синие жупаны, сапоги и папахи с длинными, свисающими, точно башлыки, донышками. Башлыки эти были ярких цветов — малиновые, оранжевые, голубые… На концах болтались кисточки. Один из гайдамаков обратился к папе: — Кажи документ! Папа показал ему паспорт и какую-то справку. Гайдамаки стали её разглядывать, передавая друг другу. Видно, в грамоте они были не очень-то сильны. К несчастью, справка им почему-то не понравилась. Старший сунул её к себе в карман широчайших штанов и сказал: — Так!.. Ну шо ж! Собирайся! Папа побледнел. Его губы побелели, они стали белее лица. Я никогда его не видел таким. — Куда? — с трудом выговорил он. — К тёще на блины! — ответили гайдамаки и захохотали. Потом они сказали: — Ну, пшли! — и повели папу к выходу. Мама кинулась к ним, стала цепляться за их жупаны, за сапоги, стала просить: — Оставьте его! Он же не большевик. Он же вам показал документ. Отпустите его! Пожалейте!.. Детей пожалейте!.. Старший обернулся к ней и добродушно сказал: — Не плачь, мадамочка, бо то ни к чему. Он оттолкнул её. Она упала на пол. Гайдамак перешагнул через неё, взял папу за рукав и повёл из дому. Я увидел, что мама лежит на полу как бы в обмороке, не в силах подняться. Тогда я вскочил и побежал во въезд. Гайдамаки не спеша шли по мостовой. Папа с опущенной головой шёл рядом с ними. Я подбежал к ним и тоже, как мама, стал просить: — Отпустите его!.. Отпустите. Он же совсем не большевик! Папа, стой!.. Не ходи!.. Вы же видите… Я болтал сам не знаю что. Я был как в бреду. Гайдамаки, пересмеиваясь, смотрели на меня. Потом один, с малиновым донышком папахи, сказал: — От зверь! Любит батьку! Отпустить, что ли? — Отпустить, отпустить!.. — подхватил я. — Погоди, не канючь!.. Ты как, Павло? Павло, низенький, толстый, усатый, сказал: — Можно! Чего ж. Только давай выкуп. Ну, там часы якие-никакие, чи шо. Можно!.. Часы?! Но где их взять! И тут я вспомнил про Сёмку — который час. Вот у кого часы, да ещё с цепочкой! Какая-то сила подтолкнула меня — я повернулся и со всех ног бросился бежать по въезду обратно во двор. Вот я вбежал во двор, кинулся к белому флигелю и толкнул дверь. Она была заперта. Я стал барабанить кулаком. Горничная открыла. — Ты чего дубасишь? — с удивлением сказала она.
Но я, ни слова не говоря, пронёсся мимо неё в комнаты. Там была масса комнат. Я бегал из одной в другую мимо фикусов, мимо ковров, мимо рояля. Я искал Сёмку… Наконец я нашёл его. Он лежал в своей собственной отдельной комнате на диване, жевал кусок хлеба с повидлом и читал книгу. Я подбежал к нему и вне себя заорал изо всех сил: — Где часы? Живо! Давай часы немедленно! Он оторопел и снизу вверх посмотрел на меня. — Ты что, — начал было он, — с ума сошёл, что ли!.. Я действительно был точно сумасшедший. — Часы! — повторил я и хватил кулаком по столу. — Давай часы сейчас же или я с тебя шкуру спущу, слышишь! Ну! Я схватил со стола какой-то широкий нож (это, видно, был нож для разрезания книг) и замахнулся. Я сам себе был страшен в эту минуту. Сёмка вытаращил глаза, разинул рот и вдруг дрожащей рукой показал на часы, которые лежали перед ним на столе и которые я из-за волнения не заметил. Я подхватил их за цепочку и кинулся прочь. — Куда ты? Вор! Жулик!.. — опомнился Сёмка. — Фроська, держи его! Но я не слушал его. Я снова бежал по ковровым дорожкам и по всем комнатам. Вот и выход. — Стой! — закричала горничная. Но я с силой оттолкнул её и выбежал во двор. Со двора во въезд. Во въезде гайдамаков уже не было. Я прибавил шагу и выбежал на улицу. Вон они вдали, идут… Папа шёл, заложив руки за спину, как обречённый. Сколько раз я видел, как именно так вели людей на расстрел! Я догнал гайдамаков и, задыхаясь, сказал: — Вот вам!.. Вот часы!.. Вот… Папа, пойдём!.. — Погоди, погоди! — сказал низенький усатый гайдамак и взял часы. — Ну-кось, як они идут? Он вытащил откуда-то из кармана другие часы, золотые, толстые, открыл их и сверил с Сёмкиными. Потом извлёк откуда-то ещё часы, маленькие, дамские, на браслетке… Все часы, видно, шли одинаково. — Ну ладно! Бери себе своего батька! — добродушно сказал он, пряча все часы в один карман. — Твоё счастье! Краска вернулась на папино лицо. Щёки и губы перестали быть зеленовато-белыми и снова порозовели. Рука его дрожала. Дрожали и губы, когда он меня поцеловал в голову. Мы быстрым шагом пошли обратно. Я что-то говорил, о чём-то болтал. Папа — тоже. Мы оба говорили что-то бессвязное. — Где… где ты их взял? — спрашивал папа. — Неважно где… Отдам!.. Подумаешь!.. Неважно… Вдруг на нас налетел Сёмка. Он, видно, пришёл в себя после моего налёта. Он был злой. Воротник на толстой шее был расстёгнут. Лицо было измазано повидлом. — Ты что это сделал, жулик!.. Смотрите, ваш сын — жулик!.. — обратился он к папе. — Сейчас же отдай обратно! Слышишь, жулик, ворюга!.. — Часы твои у них, понятно! — сказал я и показал на идущих вдали гайдамаков. — Можешь пойти и забрать. Сёмка оглянулся и начал: — Ты что, шутишь! Да я тебя… Папа перебил его: — Тише, Сёмка, не шуми! Тише! Я тебе оплачу их полную стоимость. Ладно? Договорились? — Полную? — переспросил Сёмка. — Полную, полную! Не беспокойся. Я с твоим отцом договорюсь. — Такие хорошие часы! — повторял Сёмка. — С цепочкой… Цепочка золотая, имейте в виду. — Ладно, мы всё-всё будем иметь в виду… всё! — успокоил его папа. Мы вернулись домой. Мама, увидев нас, разрыдалась. С ней началась истерика. Она то плакала, то смеялась и без конца обнимала папу и целовала его. Ей уже представлялось, как гайдамаки ставят его к стенке… Ну, а потом началась выплата денег за часы. Часы были дорогие. Каждые две недели папа давал мне денег, и я относил их в белый флигель Сёмке. Сёмка пересчитывал их и говорил: «Осталось столько-то…» Но вот однажды после многих дней боёв Харьков был освобождён от гайдамаков. В город вошла Красная Армия. Трудно передать нашу радость. Весь город радовался. Над домами развевались красные флаги. Папа ходил гордый, довольный, весёлый. А когда пришёл срок платить Сёмке за часы, он сказал: — Хватит! Больше не плати ему. Кончилась их власть! Всё! Вечером Сёмка встретил меня: — Слушай, где деньги за часы? — Деньги за часы? — переспросил я. — Кончились деньги за часы! Кончилась ваша власть, Сёмка! Всё! — сказал я и показал ему на красный флаг, который висел над нашим домом. Сёмка посмотрел на флаг и ничего не сказал. Кажется, он что-то понял. О часах он больше не заикался. Но мальчики во дворе ещё долго дразнили его: «Сёмка — который час! Вам точно или приблизительно?» Он отмалчивался и грозил им кулаком. А я до сих пор не понимаю, откуда у меня, двенадцатилетнего мальца, нашлись силы отнять часы у такого толстого, здоровенного парня, каким был Сёмка — который час…
„ТУДА" И „ОБРАТНО"
Недавно я нашёл в своих бумагах старый железнодорожный билет «Мерефа — Харьков», «Туда — Обратно», с компостером: «Месяц VII, год 17-й». И сразу мне вспомнилось дождливое утро, бормотание потоков воды в жестяных желобах и свежий, пьяный запах намокшей листвы и досыта напившихся цветов.
Это было в семнадцатом году. Стало быть, мне шёл двенадцатый год. Кругом всё ломалось, рушилось, народ сбросил царя, шла борьба партий, классов, армий… А я в это время… влюбился.
Конечно, не будь книг, я бы ещё долго не знал «про эту самую любовь» и по-прежнему гонял бы футбол, играл бы в «чурки» и стрелял бы из рогаток по сытым харьковским «горобцам».
Но книги рассказали мне о любви, о женщинах — о гордой Анне Карениной, пылкой мадам Бовари, таинственной Катюше Масловой, трогательной Наташе Ростовой… Женщины казались мне тогда (да и сейчас, пожалуй, кажутся) существами особой, высшей породы, полуангелами, которые занимаются обыденными, скучными делами только потому, что жизнь заставляет их этим заниматься — готовить, стоять в очередях и всё прочее…
Влюбился я в девочку лет пятнадцати. Её звали Лилей. Её мать, мадам Гриценко, была хозяйкой большого ларька — пожалуй, даже не ларька, а магазина, который стоял на бойком месте, у самого входа на Благбаз.
Перед ларьком, словно древние сторожевые вышки, стояли две высокие башни. Они были построены из корзин. Внизу — корзины-сундуки, корзины-комоды, корзины-чемоданы. На них стояли корзины поменьше. На тех — ещё меньшие. А на самом верху красовались корзинки-сумочки, корзинки-баульчики — для бани, для завтраков и прочего.
Внутри ларёк был тоже до отказа набит корзинами, кошёлками, лукошками, плетёнками, зембелями… Всё, что может сплести рука украинского крестьянина из гибкой лозы, — всё это было собрано в этом полутёмном, пропитанном горьковатым, влажным запахом вербы ларьке…
И вот там, у входа в ларёк, под корзиновыми вышками, с утра и до вечера сидела Лиля. В руках у неё была книга. Но она не столько читала, сколько помогала матери — доставала корзины, получала деньги, следила за покупателями…
Теперь-то я понимаю, что ловкая торговка мадам Гриценко не без умысла сажала красавицу дочь у входа в «магазин».
Странно было видеть среди селян в пропылённых свитках и смазных чёботах, среди спекулянтов, мешочников, перекупщиков, дезертиров, конокрадов, босяков, «ракло», среди грязной, грубой преступной толпы Благбаза — странно было видеть нежное, бледное лицо Лили, её широко открытые зелёные глаза, толстые русые косы, тонкие руки.
Она сидела у подножия «башен», смотрела вдаль, поверх толпы, и казалось, что до её маленьких ушей с бирюзовыми серёжками не доходят ни грубые площадные ругательства, ни ожесточённая торговля, ни пронзительные милицейские свистки.
Каждое утро я прибегал на Благбаз. Каждое утро я решал: «Сегодня объяснюсь». Я знаю как. Я читал. Надо упасть на колени и сказать: «Будьте моей… Без вас не мыслю дня прожить. Прошу вашей руки!»
Правда, я толком не знал, зачем она, эта рука, и что это, собственно, значит: «Будьте моей». Но так говорили все влюблённые, во всех книгах: и Вронский, и Нехлюдов, и Левин, и Пьер…
А потом, как только я «объяснюсь», Лиля вздохнёт, побледнеет, скажет: «Ах!» или «Да», — и упадёт в мои объятия. А это во всех книгах считалось высшим блаженством и неземным счастьем.
Конечно, легко сказать: «Упади на колени и объяснись». А вот сделать это не так-то легко. У меня не хватало решимости, я стеснялся и всё говорил себе: «Ладно, завтра, завтра…»
Так я и не объяснился Лиле ни в марте, ни в апреле, ни в мае. А в июне судьба, как это часто бывает, разлучила нас. Мои родители поселились в деревне Карачёвке под Харьковом. И между мной и Лилей легло огромное расстояние — в двадцать с лишним вёрст. Вот тогда-то я впервые понял, что это такое: тоска по любимой.
Когда я, лёжа в лесу на колючей хвое, читал о том, как судьба разлучила Иоганна и Викторию, я с удивлением убеждался, что всё это написано про меня, про меня и про Лилю. И слёзы капали из моих глаз на растрёпанного Гамсуна.
Когда по вечерам на балконе нашей дачи взрослые заводили протяжные украинские песни о любви и разлуке, я с тоской слушал их. Ведь это обо мне пели они.
Когда я по вечерам смотрел на красное небо над синим лесом, на убегающую вдаль тёмную дорогу, сердце моё сжималось от тоски.
И вот однажды я не выдержал и сказал матери:
— Мама, мне надо в город.
— Зачем? — спросила мама.
— Надо, мама… По важному делу.
— По важному делу? — удивилась мама. — Передай через папу. Он ездит каждый день на работу, он сделает.
Я представил себе, как папа падёт на колени перед Лилей, как он говорит: «Мой сын просит вас быть его». Мне стало смешно и горько.
— Нет, мама, ты не понимаешь. Через папу нельзя. Мне надо самому!
— Что ж это за дело такое? — допытывалась мама.
Как ей объяснить? Не могу же я ей поведать свою самую сокровенную тайну. Я упрямо долбил:
— Мне надо в город, и всё!
— Никуда ты не поедешь, — сказала мама. — Не выдумывай. Мы поехали в деревню ради тебя, а ты не поправляешься, чахнешь… Иди играй!
Я уходил к товарищам. Мы бродили по насыпи, вдоль раскалённых рельсов и собирали старые железнодорожные билеты. Зачем мы их собирали, я до сих пор не пойму. Помню, я их тогда накопил несметное количество. Но, когда я смотрел на пригородные поезда Мерефа — Харьков, которые не спеша проползали мимо нас, тоска снова охватывала меня. Подумать только — каждый из них мог бы отвезти меня в город, на Благбаз, к Лиле.
И я наконец принял смелое решение — бежать. Завтра же, с одним из первых поездов.
Я лёг рано. Ночь я провёл плохо. Проснулся на рассвете. Поглядел в окно — утро выдалось серенькое, дождливое. Мама и папа ещё спали.
Осторожно, на цыпочках, я прокрался к ним в комнату, взял из маминого кошелька денег на дорогу и нацарапал записку:
«Поехал в город по важному делу. Не волнуйтесь. Вернусь, может быть, не один».
Потом, я тихонько приоткрыл наружную дверь, спустился по мокрым ступенькам в сад, отодвинул набухшую от дождя калитку и побежал по скользкой, глинистой дороге на станцию.
Это было моё первое самостоятельное путешествие. Я боялся, что не хватит денег, что кассир не даст билета, что я не сумею сесть в вагон… Но всё обошлось благополучно. Кассир взял деньги, в кассе что-то загремело, и морщинистая рука протянула мне билет «Мерефа — Харьков», «Туда — Обратно»…
Подошёл поезд. Я забрался в вагон, забился в уголок и стал думать о той, к которой меня приближал каждый оборот колеса. Сегодня я во что бы то ни стало «объяснюсь»… А потом я возьму её за руку, куплю ей билет до Карачёвки, привезу на дачу, и мы будем с ней гулять по лесу, сидеть на колючей хвое, смотреть на закат и собирать старые железнодорожные билеты. А там будь что будет.
«Будь что будет» — подхватили колёса, и под эту песенку мы доехали до Харькова. Вместе со всеми я вышел на мокрую платформу. Мне всё казалось немного странным, как будто во сне, Я один в городе. Все наши там, на даче. Городская квартира заперта. Но это всё ничего. Зато я сейчас увижу Лилю.
Я пошёл к Благбазу. Я шагал по лужам, в которых отражалось хмурое небо, прислушивался к певучему бормотанию потоков, вдыхал запах намокшей листвы и досыта напившихся цветов каштана и акации…
Вдали, за поворотом Сумской улицы, показались главы Благовещенского собора. Стал слышен гул базарной толпы. А вот наконец и светло-жёлтые корзиновые башни.
Я оробел и подумал: «Может быть, отложить объяснение на завтра». Потом вспомнил, что завтра я не смогу, что мне надо будет вернуться в деревню, и решил: «Нет, нет, сегодня я объяснюсь во что бы то ни стало!»
Я протиснулся сквозь толпу к ларьку. Лили на обычном месте не было. Я чуть не заплакал. Но тут из ларька вышла её мать. Она посмотрела на меня единственным глазом (второй был стеклянный), почесала за ухом и сказала:
— А я думала, что вы на даче.
— А мы на даче, — сказал я и снял кепку. — Скажите, пожалуйста, а где Лилечка?
— Опять «Лилечка»! Зачем тебе Лилечка? Тебе надо в цурки играть, а не «Лилечка»!
— А разве её нету, мадам Гриценко? — спросил я, теребя кепку в руке.
— Здесь она, здесь. Иди же.
Я торопливо прошёл в ларёк. Там, как всегда, было темно. Но в полумраке я сразу же нашёл Лилю. Она взглянула на меня, зелёные глаза блеснули и сразу осветили весь ларёк, весь Благбаз, весь хмурый день.
— Здравствуй, Лилечка! — сказал я.
Лиля молча кивнула головой. Она была занята. Она считала керенки. Они печатались листами, как марки, одна возле другой.
В ларьке было тихо. Шелестели глянцевитые рябые листы. Лиля поплевала на пальцы, точь-в-точь как мать, снова взглянула на меня, но, чтобы не сбиться со счёта, опять ничего не сказала.
А мне было хорошо. Больше никуда не надо спешить, тоска прошла, я около Лили, я вижу её! Можно всю жизнь простоять в этом ларьке, где пахнет лозой, рекой, спиртом…
Наконец Лиля пересчитала все керенки и отдала их маме. Мать положила всю пачку в толстую кожаную сумку и вышла на улицу к покупателям. Мы с Лилей остались одни. Сердце у меня забилось, я быстро опустился на колени и громким шёпотом сказал:
— Лиля! Без вас не мыслю дня прожить… Лиля!.. Будьте моей. Лиля, я прошу вашей руки…
Лиля ничего не сказала. Она протянула руку и дотронулась до моей головы.
А я схватил её маленькую руку и поцеловал. В это время на улице раздался знакомый голос:
— Скажите, мадам Гриценко, мой мальчик не у вас? Я так волнуюсь!..
— У нас, у нас!.. Заходите…
Не поднимаясь с колен, я стал умолять:
— Лилечка, спрячь меня! Это мама… Спрячь! Лиля откинула крышку большой корзины и тихо сказала:
— Скорей полезай!
Я недолго думая юркнул в корзину. Крышка закрылась. Я лёг, свернулся в клубок. И сразу же услышал мамин голос:
— Здравствуй, Лилечка! А где же он?
— Кто?
— Да мой беглец. Он убежал и оставил записку. Вот… «Вернусь, может быть, не один». А! Как вам это нравится?
Корзина, в которой я лежал, заскрипела, крышка прогнулась внутрь. Это значит, что мама села на мою корзину. Я затаил дыхание. Мама повторила:
— Но где же он? Твоя мама сказала, что он здесь, а я его не вижу.
— Он… недалеко, — сказала Лиля.
И по её голосу я понял, что она улыбается.
— Где же? — переспросила мама. — Он… под вами!
— Подо мной? — Корзина заскрипела, мама вскочила. — Где же?
Я ногтями вцепился изнутри в крышку, но, конечно, не смог её удержать. Она откинулась. Надо мной склонилось удивлённое лицо мамы. Я услышал Лилин смех. А тут ещё, как нарочно, подоспела её мать и тоже начала смеяться. Я съёжился на дне корзины. Мама нагнулась ко мне:
— Что ты там делаешь? Вылезай!
Я молчал.
Мама спросила:
— Ты думаешь долго там прожить?
Я молча выбрался из корзины. На Лилю я не смотрел. Любовь, которая томила меня всю весну и половину лета, внезапно исчезла, словно осталась там, на дне корзины. Я взял маму за руку, и мы вышли из ларька. Отойдя немного, я не утерпел и оглянулся. У подножия корзиновой башни стояла Лиля. Она не смеялась. Она задумчиво смотрела мне вслед. Дождь только что кончился, выглянуло солнце и осветило её нежное лицо. И я почувствовал, что во мне снова возникает любовь. Я стал дёргать маму за руку:
— Мама, пойдём отсюда, скорей пойдём…
Мы поехали на дачу. Я опять гулял с товарищами, опять бродил по рельсам, собирал никому не нужные билеты…
Потом я их все, конечно, выбросил. Но билет, по которому я ехал в то летнее утро к Лиле, я сохранил. Он-то мне и попался сегодня, через сорок лет. На нём сквозные дырочки компостера: «месяц VII, год 17-й» и надпись «Мерефа — Харьков», «Туда — Обратно»…
Как хорошо было, товарищи, ехать «туда» и как горько и обидно было ехать «обратно»!
ВСАДНИК
1
Я учился в Харьковском художественном училище, в первом классе, в классе «орнамента». А жили мы около вокзала. Это было очень плохо, потому что в те годы шла гражданская война, красные воевали с белыми, и самые жестокие бои обычно бывали возле вокзалов. Однажды мы пять суток не выходили из дому. Неподалёку, на станции и на путях, шли бои. Красные наступали. Мы всё время слышали где-то совсем рядом то беглый винтовочный огонь, то пулемётное «так-так-так», то пушечное «бабах»… Наконец на шестой день стало тихо. И в этой замечательной тишине вдруг послышался стук копыт. Всё громче, всё ближе… Я набрался храбрости и выглянул в окно. Я увидел у нас во дворе всадника. У него было измученное, усталое и счастливое лицо. Привставая в стременах, он кричал: — Соня-а!.. Соня-ааа! В нашем доме жила девушка Соня. У неё был брат Грицько. Он работал в депо на станции молотобойцем. Когда пришли деникинцы, он исчез. И вот теперь я узнал его. Это был он — Грицько! Но какой Грицько! Совсем особенный, какой-то геройский, с острой, чуть выгнутой шашкой в руке. Он всё звал: — Соня-ааа!.. Из подвала нашего дома, жмурясь от солнца, вышла Соня. Она кинулась к брату. Он, не сходя с коня, нагнулся и стал целовать её — в голову, в глаза, в нос. Потом он крикнул: — Все вылазьте, все! Харьков — наш! — и стал вытирать потное, покрытое копотью лицо пыльной будёновкой. Мы, мальчишки, побежали на улицу. По мостовой шли красноармейцы — в грязных, пропотевших гимнастёрках, в рваных сапогах, небритые, изнурённые тяжёлыми боями… Грохоча каблуками по булыжнику, они пели:
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И, как один, умрём
В борьбе за это…
А на тротуарах, во всю длину улицы, толпился народ и махал им кепками, руками, платками… Началась новая жизнь. В «художке» (так мы называли наше училище) я узнал, что губком большевиков объявил конкурс на лучший плакат к Первому мая. Тогда плакаты редко печатались на бумаге. Их рисовали клеевой краской на больших листах фанеры. Мне тоже захотелось сделать плакат. Я позавидовал взрослым художникам, а потом я стал думать: «Почему бы и мне не попробовать свои силы! Чем я рискую? Попытка не пытка». Только что именно нарисовать? И я вдруг представил себе Грицько — такого, каким он прискакал к нам во двор после боя, — верхом на лошади, в руке шашка, на голове расстёгнутая будёновка с красной звездой. Я взял бумагу и стал рисовать Грицько на коне. Я много раз стирал, исправлял, переделывал. А потом, когда нарисовал как следует, написал слова из песни, которую пели красноармейцы:
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов…
Этот рисунок я засунул в самодельный конверт и понёс в губком большевиков. Там в накуренной комнате сидела девушка в кожаной куртке. Её звали товарищ Муся. Увидев меня, она удивилась: — Ты что, мальчик? Принёс эскиз плаката? — Ага, — робко ответил я. — Сам делал? — Ага. — Ну ладно, оставь. Зайдёшь через недельку. Я вышел из губкома. На улице меня догнал старый художник Николенко. Он погладил седую бороду и сказал: — Нет, брат, плакат — это тебе ещё рано. Тут, брат, требуется опыт, уменье, масштаб, одним словом. Я и сам понимал, что это дело мне не под силу. Всё-таки я через неделю снова пошёл в губком. На лестнице я увидел Николенко. Он стоял у стены, уткнув бороду в список принятых эскизов. Заметив меня, он крикнул: — Ну-ка, ну-ка! — и ткнул пальцем в список. Я подумал, что увижу там фамилию «Николенко». Вместо этого я прочитал: «Присудить эскизу плаката «Смело мы в бой пойдём» третью премию». Я, не веря своим глазам, побежал к товарищу Мусе. — Да, — сказала она, — твой эскиз понравился комиссии. Уж очень у тебя боец получается как живой! Поздравляю! Получи премию. Она выписала мне квитанцию, и я тут же, в кассе губкома, получил огромную пачку денег — сорок миллионов рублей! Правда, миллионы тогда стоили мало, их называли «лимонами», но всё же я стал миллионером. А мой эскиз вместе с другими премированными эскизами передали в «художку». Там старые, опытные художники увеличивали их и размножали. Там я увидел, как Николенко по клеточкам старательно рисовал моего Грицько на огромных листах фанеры. Ему помогали ученики старших классов. Сам я такие большие плакаты делать ещё не умел. Увидев меня, Николенко ничего не сказал и только хмыкнул в бороду.
2
Первого мая рано утром я вышел на улицу и увидел возле вокзала большой плакат. Это был мой Грицько верхом на коне. Я прошёл немного дальше и снова увидел Грицько. На Павловской площади этих Грицько уже было несколько. Видно, Николенко поработал на совесть — потрудился не покладая рук. Но смотреть на плакат мне было некогда — начинался парад красных частей… И вот я вдруг увидел живого Грицько. Когда все выстроились в одну колонну вдоль площади, я не утерпел и подбежал к нему. Товарищ Грицько, — сказал я. — Узнаёте? — и показал на плакат. Кто это? — спросил он. — Это ж вы! — Я? Да что ты!.. — Он стал приглядываться к плакату. — Да нет, что ты! Разве ж я такой геройский? — Он улыбнулся. — Да ты шутишь, что ли? — Да нет, это верно вы, вы! — повторял я. — С чего ты взял? — Да это ж я рисовал… Ну… по моему эскизу… Грицько засмеялся: — Ну спасибо, коли не шутишь!
Грицько протянул мне руку.
Он протянул мне руку. Рука у него была твёрдая, вся в задубевших мозолях. Я крепко пожал её. Я был ему благодарен не за то, что из-за него стал миллионером, нет! А за то, что из-за него тогда, в то далёкое Первое мая, поверил в себя, в то, что я, простой мальчишка, смогу стать настоящим художником. Потом была демонстрация. Я шёл вместе со всеми по главной улице и везде на столбах видел огромных Грицько. Если посчитать по всему Харькову, то, наверное, около сотни Грицько в то Первое мая скакали над городом на вороных конях. И под каждым были написаны слова из хорошей песни:
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов…
ЛАНДРИН
ВТОРОЙ ЧЕБОТАРСКИЙ
В двадцатом году мы жили в Харькове, на Чеботарской улице, возле вокзала, в переулочке, который назывался Второй Чеботарский въезд.
Второй Чеботарский — это звучало гордо. Что там всякие Сумские, Рымарские и прочие буржуйские улицы! Вот Второй Чеботарский — это да!
Самые смелые мальчишки были со Второго Чеботарского! Самые красивые девчонки жили во Втором Чеботарском! Самые высокие змеи запускались над Вторым Чеботарским! Попробуй в этом кто-нибудь усомниться — он бы узнал, что самые увесистые кулаки во Втором Чеботарском.
Ох, как я там дрался! Никогда не забуду.
В ход пускались не только кулаки, но и палки, камни, вёдра.
Но то утро, с которого я начинаю свой рассказ, было довольно мирным. Мы — папа, мама, десятилетний Тимка, семилетняя Лилька и я — сидели за столом и пили… Чай? Нет, не чай!
На столе стоит пузырёк. В нём бурая тягучая жидкость, на пузырьке наклейка: «Чин-чен-пу».
Что за «чин-чен-пу» — неизвестно. Капнешь этой жидкости в стакан с кипятком, и вода сразу становится жёлтой. Видно, человеку важнее всего цвет. Похоже на чай, вот и ладно. А на вкус это была порядочная гадость.
Кроме «чин-чен-пу», мы в кипяток вливаем ещё одну гадость — раствор сахарина. Если «чин-чен-пу» заменял чай, то сахарин заменял сахар.
Тимка влил две ложки сахарина в свою чашку и вздохнул:
— Вот конфетку бы!
Он был большой любитель сладкого. Он был способен в пять минут уничтожить весь наш месячный паёк леденчиков или карамелек. За ним был нужен глаз да глаз.
— Хоть бы ирисочку! — подхватила Лилька. Но на столе было пусто. Весь наш сладкий паёк был давно съеден.
— Ничего, пейте с сахарином, — сказал папа, — тоже сладко.
Сладко-то сладко, но как-то противно. Однако сидим пьём. Вдруг приоткрылась дверь, и в щёлочке показался хорошо нам знакомый нос нашей хорошей знакомой тёти Муси. Она была нашей землячкой и, кажется, даже дальней родственницей с маминой стороны.
Завидев папу, она заметно смутилась. Она, верно, думала, что он уже ушёл на работу. Но отступать было поздно. Она робко вошла в комнату, шумя чёрным шёлковым платьем, и нараспев сказала:
— Здравствуйте, миленькие, здравствуйте, маленькие!..
— Здрасте, тётя Муся! — ответили мы нестройным хором.
Она была высокая, уже немолодая, лет за пятьдесят, с длинным носом и острым подбородком. На голове у неё была чёрная шаль, сквозь которую просвечивали седые волосы. В руках у неё была мягкая корзинка (кошёлка, по-харьковски), с которой она никогда не расставалась. Папа её недолюбливал. Он говорил, что она занимается разными махинациями на Благовещенском базаре.
Вот почему, как только она вошла, он уткнул свою лысую голову в газету.
— Садитесь, тётя Муся, выпейте горяченького! — сказала мама.
Она налила чашку кипятку, капнула «чин-чен-пу» и хотела было добавить сахарину, но тётя Муся остановила её за локоть:
— Погоди, Верочка, не лей. У меня найдётся кое-что получше! — Она порылась в своей кошёлке и достала горсть ландрину. — Пожалуйста, детки, кушайте, сосите, — сказала она, кладя ландрин на блюдечко.
Вы, наверное, знаете, что такое ландрин. Это разноцветные леденчики. Их можно сосать часами. В детстве, бывало, сосёшь такую штучку, вынешь изо рта, полюбуешься на неё и снова туда же, за щеку…
Недавно я где-то вычитал, что слово «ландрин» пошло от фамилии конфетного мастера господина Ландрина. Он сам варил конфеты, сам завёртывал их в бумажки и сам продавал у ворот женской гимназии в большую перемену.
Но вот однажды он замешкался и не успел завернуть свои изделия в бумажки. Скоро большая перемена, а у него ещё все конфетки голенькие. «Эх, была не была, — подумал он, — понесу их раздетыми, может, кто и возьмёт по дешёвке».
Он побежал с корзиной к гимназии. И что же? Оказалось, что голенькие конфеты пошли гораздо лучше одетых — их брали нарасхват. Они были дешевле и аппетитнее на вид. С той поры господин Ландрин стал выпускать конфеты без бумажек и разбогател на этом деле. А незавёрнутые леденцы стали называться «ландрин».
Но тогда, в Харькове, я этого не знал, а знал только, что с ландрином весьма приятно пить чай.
Не мудрено, что мы все уставились на блюдечко. Лилька протянула было руку, но спохватилась. Без папиного разрешения брать неудобно. Тётя Муся, как бы показывая пример, положила себе в рот большую ландринку и сказала:
— Пошошите, детки, пошошите (из-за ландрина и она стала шепелявить).
Но мы ждали, что скажет папа. Он убрал газету, посмотрел сквозь очки на блюдечко и сказал:
— Спасибо! Мои дети обойдутся без этого, — и снова закрылся газетой.
— Папка, почему? — капризным голосом спросила Лилька.
— Вот так! Пейте с сахарином. А вы, пожалуйста, не обижайтесь и возьмите своё угощение обратно.
Наступило неловкое молчание. Тётя Муся покраснела, поднялась и сказала, по-прежнему шепелявя:
— Напрашно! — Выплюнуть леденец при папе она не решалась. — До швиданья!
Она подхватила леденцы и выплыла из комнаты, сердито шумя своим шёлковым платьем. Мама вышла проводить её. Они на кухне о чём-то стали шептаться. А мы — я, Тимка, Лилька — смотрели то на папу, вернее, на его газету, то на пустое блюдечко, на котором остались какие-то цветные крупинки. Тимка мокрым пальцем собрал их и отправил в рот. Лилька тоже взялась за блюдечко, но там после Тимки, конечно, уж ни синь пороха не осталось.
Когда мама вернулась, папа спросил:
— О чём вы там шушукались с этой спекулянткой?
— Ни о чём! Она хотела нам немножко помочь.
— Никакой помощи от неё! — строго сказал папа. — Знаем мы эту помощь.
— Изверг! — сказала мама. — Ты видишь, как дети хотят чего-нибудь вкусненького.
— Ничего, перехотят… Дети, перетерпите?
— Конечно, папа, перетерпим, — ответил я за всех, как старший, и чаепитие, вернее, «чин-ченпутие», если можно так неуклюже выразиться, продолжалось.
Все молчали. И только Лилька, водя пальцем по пустому блюдечку, сказала:
— Жалко, такие хорошенькие ландринчики, такие синенькие-синенькие, прямо красненькие!.
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Как видите, жить тогда было нелегко. Не хватало еды. Народу некогда было пахать, сеять, убирать… Надо было воевать с белогвардейцами, с немцами, с поляками, с французами, с американцами, с японцами и чёрт ещё знает с кем. Уж очень хотелось буржуям — и нашим и заграничным — снова посадить народу на шею фабрикантов и помещиков. Но народ этого не хотел и изо всех сил отбивался от непрошеных гостей, которые пёрли с юга и севера, запада и востока. Вот почему было мало муки, сахару, дров. То немногое, что оставалось, надо было в первую очередь дать красноармейцам, детям, больным… И всё же настроение было хорошее. Все верили в победу, все знали, что после неё снова зазеленеют поля и задымят фабричные трубы. Так оно и вышло! При всём том считалось, что в Харькове гораздо лучше, чем, скажем, в Москве или Петрограде. Приезжавшие оттуда говорили: — Позвольте, да тут у вас благодать! У вас вон даже белую булку можно увидеть. А у нас забыли, как она выглядит. Да, увидеть-то можно было, а вот поди купи! Богатые мужики, кулаки, или, по-харьковски, куркули, у которых ещё водилась белая мучка, продавали её не втридорога, а «встодорога», как настоящие спекулянты. Тогда вообще было много спекулянтов. С ними боролись. Надо было заставить людей работать. — Кто не работает, тот не ест. Так учат большевики, — говорил папа, — так учит Ленин. — Очень правильный лозунг, — говорила мама и обращалась к Тимке: —Тимка, сходи за водой. Кто не работает, тот не ест. — А я ещё сегодня не ел, — отвечал Тимка и убегал. И за водой обычно отправлялся я. …Кто работал, тот получал паёк, правда, небольшой. Папа получал паёк в губнаробразе, где он работал не то инспектором, не то инструктором. Он с гордостью приносил домой каждый месяц немного кукурузной муки, несколько селёдок, кусок липкого мыла, которое почему-то называлось хозяйственным… Мама прикидывала, как бы получше всё это богатство пустить в дело. Иногда она говорила: — А что, если я этот кусок мыла вынесу на базар, обменяю на масло. Детям маслица бы, а? Папа вздыхал, теребил свои усы: — Не стоит, Веринька. Не надо никаких товарообменов, никаких товарообманов… Коммунисту это не к лицу. Папа никогда не занимался никакими комбинациями. Упорный честный труд — вот его девиз. Он никогда в жизни не менял мыло на сахар или нитки на баранку. Он, по-моему, ни разу даже не был на нашем Благбазе. В свободную минутку (это случалось только ночью) он писал стихи. Стихи были хорошие, их печатали. Мне запомнились строчки:
Не спать, коммунары! В ночной тишине
Змеёй пробирается враг по дорогам!..
Я тоже получал паёк. Ведь я был не просто мальчик, а
подмастерье. Я учился на художника в Харьковском художественном училище. А когда пришла советская власть, училище превратили в Гохупромас, то есть в Государственные художественно-производственные мастерские. Учителя стали называться мастерами, ученики — подмастерьями, классы — мастерскими. Я был подмастерье художника Прохорова. Мой мастер был большой мастер доставать заказы для заработка. Мы с ним написали вывеску для парикмахерской, в которой нас потом полгода бесплатно стригли и брили. Вернее, брили в основном его, потому что у меня бороды тогда ещё и в помине не было. В другой раз мы расписали кино, куда нас потом долго пускали бесплатно. В третий раз мы сделали очень красивую, яркую этикетку:
Кондитерское заведение «Сладость»
На жёлтом фоне была нарисована сахарная голова, похожая на гору Казбек. Она очень понравилась заказчику. Но денег за неё он не платил. Сколько Прохоров ни ходил к нему, тот всё говорил: — Завтра… Завтра… Наконец Прохорову это надоело. — Ну их, — махнул он рукой, — бисовы спекулянты! Я рассказал об этом папе. Это было поздно вечером после работы. Папа снял очки и потёр мякотью ладони усталые глаза. Они у него были ярко-синие и прятались под мохнатыми бровями. Редко кому удавалось видеть их светло-синий, холодный и в то же время очень добрый блеск. — Я тебя, Яша, предупреждаю… Не связывайся ты со всякими тёмными делами, со спекулянтами. Какие могут быть сейчас частные заведения, подумай сам! Впрочем, ему некогда было заниматься моими делами. Он работал день и ночь. Его товарищи по губнаробразу увидели, что он стойкий, преданный революции человек и хороший работник, и написали об этом в Москву. И вот однажды папа пришёл домой раньше времени, собрал всех нас вокруг себя и сказал: — Ну-с, товарищи, нас ожидает большая перемена. Кто угадает какая? Мы стали гадать. Кто сказал: дадут большой паёк. Кто сказал: дадут большую квартиру. Тимка сказал: — Я знаю. Мы пойдём в цирк. Все засмеялись, а папа сказал: — Никто не угадал. Слушайте… Меня вызывают в Москву. Вот! И я буду работать в аппарате ЦК РКП (б). Он произнёс это очень торжественно. Его синие глаза так и сияли. Мы растерялись: — Как так?.. Ты уедешь?.. А как же мы? — А так же и вы, — подхватил папа. — Всё будет в порядке. Как только устроюсь, я вас вызову. И вы тоже поедете в Москву. Ну как? — Ура! Замечательно! Здорово!.. Мы обрадовались и давай прыгать вокруг папы. Всем хотелось в Москву. Правда, Второй Чеботарский — одно из самых замечательных мест на земле, но Москва — это Москва. Там Ленин, там Кремль, там Третьяковская галерея, Художественный театр… Словом, Москва—это Москва. Папины сборы были недолгими. Тогда время стояло военное, всё делалось по-походному. Выправил командировку, получил паёк, и марш-марш на вокзал. Мы, конечно, все провожали папу. Он каждому дал наказ. Тимке велел меньше драться с ребятами во дворе. Лильке велел помогать маме по хозяйству. Маме велел не скучать и не давать нам потачки. Мне он сказал: — Ну, а ты, Яшук, как старший, будешь заместителем главы семьи, первым маминым советником. Мы поцеловались, он сел в вагон, и поезд ушёл. А мы пошли домой. Впереди вприпрыжку бежали Тимка с Лилькой, а сзади степенно шли мама и «заместитель главы семьи». — Тише, Тимка! Не бегать, Лилька! — покрикивал я, совсем как папа, который в эту минуту уже ехал в далёкую Москву, где живёт Ленин и где ЦК РКП (б), о котором он писал в стихах:
ЦК РКП — пять звуков, пять пальцев,
А вместе — кулак,
Как меч, занесённый
Над сворой тиранов…
ИСКУШЕНИЕ
Без папы дома стало пусто. Мы по привычке ждали его к ужину. Его место за столом никто не занимал. Так прошло дней десять. Однажды во время утреннего «чинченпутия» (как я уже сострил), открылась дверь, и в комнату снова вошла тётя Муся. На сей раз она вошла смело, настежь распахнув обе створки. Она, видно, знала, что папы нет.
— Здрассте, миленькие, здрассте, маленькие! А где же хозяин?
— Уехал, тётя Муся.
— И далеко?
— В Москву, тётя Муся.
— Значит, это правда. — Она сняла с себя шаль, повесила на спинку стула и села на папино место.
Тимка не выдержал:
— Тётя Муся, а это папино место.
— Ох, извините! — Она легко вскочила и пересела на соседний стул. — Извините, я не подумала!
Наконец она устроилась, расположила свои острые локти на клеёнке и стала оглядывать стол, который далеко не ломился от яств. То немногое, что папа смог нам уделить от своего командировочного пайка, уже давно было съедено.
— Я вижу, вы по-прежнему живёте в обрез, — сказала тётя Муся. — Даже странно. Такой солидный работник, и с партийным билетом в кармане, и не может обеспечить семью…
— Ничего! — сказала мама. — Вот наладится всё в стране, тогда станет легче.
— Жди, пока наладится! — Тётя Муся пожала плечами. — Так вот, Верочка, я хочу вам помочь. Ведь мы же всё-таки свои люди. — Она пригнулась к маме и стала говорить шёпотом: — Вы ко мне придёте на фабрику. Я вам дам товар. Вы его продадите на Благбазе… Ну и купите что-нибудь деткам. Такие славные детки, просто приятно смотреть…
Как раз в эту минуту Тимка дёргал Лильку за косы. (Это было его обычное развлечение.) А Лилька щипала его за локоть.
— Тимка, перестань! — крикнул я, совсем как папа.
Мама посмотрела на меня, как бы советуясь со мной взглядом, и сказала:
— Спасибо, тётя Муся, но вы ведь знаете, что он этого не любит. Он ненавидит всякие махинации…
— Какие же это махинации, боже ты мой! — всплеснула руками тётя Муся. — Я вам даю честный товар, вы честно выносите его на базар и честно продаёте. Какая же тут махинация! — Она повернулась так, что стул под ней возмущённо заскрипел.
Ну хорошо, — сказала мама, — допустим, но где я возьму денег заплатить вам за товар?
— Оборотный капитал, хочешь ты сказать. Не надо! Не надо оборотного капитала. Выручишь деньги и вернёшь мне себестоимость. Ну, может быть, с небольшой накидкой на накладные расходы… Боже ты мой, ведь мы свои люди…
Тётя Муся поглядела направо и налево, как бы ища сочувствия. Мама задумалась и приложила указательный палец к щеке. Что-то в этом было очень трогательное. Я часто думал: «Вот вырасту, стану художником, напишу мамин портрет именно в этой позе».
— Ну, Яша, что ты скажешь?
Я не знал, что сказать. Странно было слышать непривычные слова: «оборотный капитал, себестоимость, накладные расходы…» Мне как папиному заместителю надо бы сказать: «Не нужно нам от вас ничего, тётя Муся, наши дети перетерпят». Но уж очень хотелось подкинуть чего-нибудь вкусненького Тимке с Лилькой. Да и сам я тоже ещё не прочь был чем-нибудь полакомиться.
— Знаешь, мама, возьмём на всякий случай адрес фабрики, а мы тут ещё посоветуемся.
— Молодец! Умный мальчик! — закивала седой головой тётя Муся.
Я хотел было взять карандаш, но она замахала руками:
— Не надо! Не надо записывать. Вы и так запомните. «Холодная гора, Панасовка, сто два». И не надо ни у кого спрашивать! Слышите? Там во дворе вы найдёте. Вы подойдёте к фабрике и постучите вот так: раз, а потом два раза. — Она трижды постучала рукой по столу: тук, тук-тук.
Тимке с Лилькой это понравилось. Они вдруг начали барабанить всеми своими кулаками по столу: тук, тук-тук… Туук, тук-тук.
— Тише вы! — прикрикнула мама и повернулась к тёте Мусе. — Ну хорошо, а почему вы сами не можете вынести свой товар на Благбаз?
— Почему? — Тётя Муся вздохнула и стала поправлять на себе складки своего вдовьего платья. — Меня на Благбазе уже приметили, Если меня поймают, могут быть неприятности.
— А если меня поймают? — спросила мама.
— Не поймают! — убеждённо сказала тётя Муся. — А если, не дай бог, поймают, тоже не страшно: жена коммуниста, вызвали в Москву… Нет, нет, тебе нечего боятся! — закончила она, впиваясь своими чёрными выпуклыми глазами в маму.
Мама задумчиво пила свой «чай» с сахарином.
— Ну хорошо, мы подумаем… — сказала она. — Дети, чья очередь убирать со стола?
— Только не моя, — ответил Тимка и улизнул во двор.
Убирать, конечно, досталось мне. А тётя Муся, посидев ещё немного, попрощалась, покивала седой головой, поулыбалась, сказала:
— Значит, я жду, — и вышла из комнаты. Весь вечер мы с мамой советовались, как быть. Дети тоже принимали в этом участие. Конечно, будь папа дома, он бы сразу отрубил: никаких комбинаций! Кто не работает, тот не ест! Но папы не было. Да тут ещё дети стали прыгать, стали скакать, стали стучать кулаками по столу:
— Тук, тук-тук… тук, тук-тук… Пойдём за товаром! Возьмём товар!.. Прыг-прыг-прыг. Тук, тук-тук…
И откуда только у них силы брались при нашем питании? Вот она — молодость!
АССОРТИ
Словом, на другой день мы с мамой встали пораньше и, в душе ругая себя и презирая себя, отправились на Холодную гору. Это за вокзалом. Мы прошли по мосту через пути и стали подниматься по узкой, длинной улице. Мы долго шли мимо покосившихся хат и мазанок. Нас встречали голопузые пацаны на кривых ножках, с огромными животами. Изредка на нас лаяли худые, грустные собаки». Вот и Панасовка. Где же фабричная труба? Ведь у всякой фабрики должна быть высокая труба, которая растёт прямо из земли, как дерево. Такие высоченные трубы мы тогда рисовали на всех плакатах в нашем Гохупромасе. Спереди рабочий с молотом на плече, а сзади — фабричные трубы с дымом. Чем больше дыма, тем лучше. Мы дошли до самого конца Панасовки, но никакой трубы не было. За сотым номером тянулся пустырь. Что за чертовщина! Обманула нас, что ли, старая спекулянтка? В глубине пустыря за лопухами темнел какой-то сарайчик. Над его ржавой крышей курился дымок, как над самоваром. Мы — туда. Закрыто. Мама подёргала дверь — никакого ответа. — Постой, мама, — вспомнил я, — надо стучать не так… Я постучал, как было условлено: тууук, тук-тук. Дверь сразу открылась, и мы очутились в сарайчике. В темноте я не сразу увидел печь, в которую был вмазан котёл. Возле котла стояла тётя Муся и помешивала в нём шумовкой. Она сейчас смахивала на бабу-ягу, которая у себя в избушке на курьих лапах варит колдовское зелье. Пар из котла клубился вокруг её лица, седые волосы повисли над плитой, пламя двумя точками сверкало в её выпуклых глазах… — Тише! За вами никто не следил? — спросила она. — Кажется, никто, — ответила мама, озираясь в полумраке. — И это вся ваша фабрика? — Ага! — гордо ответила тётя Муся. — Наша с компаньоном. Познакомьтесь. — Она шумовкой показала на низенького, толстого дядьку, который возился возле странной машины, похожей на большую мясорубку. Одной рукой он вталкивал в раструб своей «мясорубки» какое-то липкое зелёное тесто, а другой рукой вертел рукоятку. И пока он вертел, из железного «рта» машинки в лоток сыпались весёлые зелёные ландринки. — Сейчас я вам отпущу товар, — сказала тётя Муся. — Вам одного цвета или ассорти? Мы с мамой не знали, что это такое, но нам понравилось это нарядное слово, и мы сказали: — Ассорти. — Хорошо! Тётя Муся оставила шумовку, достала откуда-то высокую чёрную железную банку и стала накладывать в неё горстями зелёные и красные ландринки. Наполнив её доверху, она поставила банку на весы. Тут немного не тянет до десяти фунтов. Но это неважно. На базаре сойдёт за десять. Она взяла яркую этикетку, смазала её клеем и пришлёпнула к банке: — Вот так. С картинкой будут хватать из рук. Это же товар первый сорт! На чистом сахаре! Я посмотрел на банку — и остолбенел. Ведь это же наша этикетка, которую мы с Прохоровым делали и за которую заказчик не хотел платить. Так вот, оказывается, кто заказчик. — Тётя Муся, — заволновался я, — ведь эту этикетку вашу я рисовал! Я… — Это он заказывал, — показала тётя Муся на дядьку. — Мой компаньон. Я в эти дела не вмешиваюсь. — Слушайте, это я рисовал… Почему вы не платите… а? — обратился я к компаньону. Компаньон оставил машинку и смерил меня взглядом с ног до головы: — Молодой человек, я имею дело с художником Прохоровым. А вас я не знаю и не хочу знать. Он с новой силой стал запихивать тесто в машинку. Казалось, он готов и меня туда запихать и сделать из меня ландрин. — Идите, — сказала тётя Муся, — только потихоньку… Чтобы никто ничего… Мы бережно уложили банку в кошёлку, прикрыли её одеялом, словно ребёнка. — До свиданья. Тётя Муся открыла дверь: — До свиданья. Ни пуха вам, ни пера! Десять фунтов, и ни копейки меньше! Мама взялась за одну ручку кошёлки, я за другую, и мы вышли из «Кондитерского заведения «Сладость» на Малую Панасовку…
БЛАГБАЗ
Мы с мамой не знали, куда пойти: пойти ли домой, к детям, или поскорее сбыть товар и купить для тех же детей мяса и маслица.
Решили пойти на базар.
Наш Благовещенский базар славился чуть ли не на всю Украину. Его называли коротко: Благбаз. Раньше, в мирное время, мы с мамой ходили туда каждые два-три дня. Мама с деньгами впереди, а я с кошёлкой, с банкой под сметану и горшком под молоко плёлся сзади.
Пока мама приценивалась и торговалась, я любовался грудами пунцовых помидоров, дородными полосатыми кавунами, кучерявой цветной капустой, пёстрыми лентами молодиц на возах.
Время от времени мама оборачивалась, я подскакивал к ней, и она клала мне в кошёлку либо буйного живого леща, либо пучок ядрёной редиски, либо скрипучий, точно накрахмаленный, капустный вилок с пышными, нарядными оборками…
К концу базарного похода кошёлка разбухала и становилась, как говорится, поперёк себя шире. Она наливалась тяжестью, оттягивала руки. Я взгромождал её на плечо и правой рукой перехватывал через голову за ручки.
— Не тяжело? — спрашивала мама.
— Что ты, мама, ни капельки! — отвечал я из-под кошёлки, кряхтя и обливаясь потом.
Зато как приятно было прийти домой с кошёлкой, набитой всякой всячиной. Приятно было видеть, как Тимка с Лилькой накидываются на неё, принимаются хрустеть тугой морковкой или пупырчатым огурцом, спрашивая с набитым ртом:
— А где яблоки? А почему слив не купили? Но это всё было раньше, до войны. Теперь всё изменилось. На прилавках было пусто. Торговля шла из-под полы. Многие не покупали, а меняли: соль на масло, сахар на сало… Деньги тогда стоили очень дёшево. Мама говорила: — Сколько же мы сможем взять за нашу банку? Эх, забыли спросить у тёти Муси! Будем считать, как сахар. Фунт сахару на рынке пятьдесят миллионов. Значит, десять фунтов — пятьсот миллионов.
— Только не забудь, мама, что ей надо вернуть эту… как её… себестоимость…
— Да-да!
Мама вздохнула. Мы приближались к базару. У ворот и в подворотнях прохаживались какие-то подозрительные типы. Один из них, с поднятым воротником, подошёл к нам, пошмыгал носом:
— Шо маете продать?
Вслед за ним подошёл другой, такой же страшный:
— Шо у вас?
Кто знает, что у них на уме. Мама ответила:
— Нема ничого.
Мы подошли к самому рынку. Между прилавками толкался народ. Босая девчонка в рваном платье, покачиваясь, монотонно спрашивала:
— Кому спичков? Кому спичков?
Старик с седыми усами шёпотом повторял:
— Маю цукру. Маю цукру…
Парень в шинели с пустым рукавом держал в единственной руке синие галифе и весело кричал:
— Меняю штаны на ржаные блины!.. А вот кому… штаны на блины!
Далеко было слышно: — Штаны… Блины…
В толпе иногда показывались строгие милиционеры с наганами на боку. Мы с опаской поглядывали на них. А вдруг они нас поймают и скажут, что мы спекулянты. И верно, ведь мы занимались нехорошим делом. Мы продавали ландрин, сваренный из заведомо краденого сахара. Может быть, этот сахар украден у красноармейцев, которые сейчас па фронте воюют с Врангелем.
На душе было нехорошо. Мы никогда ничем не торговали, вот в чём дело… Мы боялись вытащить нашу проклятую банку. Когда я говорил:
— Ну, мама, давай сейчас…
Она оглядывалась:
— О нет, здесь что-то слишком много народу.
Когда она предлагала:
— Ну, Яша, может быть, здесь?
Я не решался:
— Потом, подальше… Вон там…
Наконец мама набралась храбрости и обратилась к одной старухе:
— Бабушка, вам ландрину не надо?
— Чого? — переспросила старуха.
— Ландрину… Ну, монпансье, понимаете? — сказала мама.
— Чого? Чого? — заинтересовалась старуха. Мама стала было объяснять ей, что такое монпансье, но толпа их разъединила.
— Нет, Яша, я не могу, попробуй ты, — призналась мама.
Я взял кошёлку и хотел было вытащить банку, как вдруг увидел неподалёку товарищей из Гохупромаса. Я бросился в сторону:
— Мама, пойдём отсюда, там знакомые…
Мы спрятались в толпе. Потом я сказал:
— Знаешь, мама, давай лучше, может, завтра, а? С утра, может, меньше народу будет, а?
Ох, как она обрадовалась:
— Правда, сынок, давай завтра. Нечего спешить… не испортится.
Мы подхватили нашу кошёлку и, протискиваясь сквозь толпу спекулянтов и мешочников, поспешили домой, к детям, к родному Чеботарскому въезду.
ДЕТИ
И вот мы пришли домой. Дети ещё спали, да и куда им было спешить. Что, их ждал роскошный завтрак, что ли? Банку мы решили им вовсе не показывать и спрятали под мою кровать. Потом мама разожгла примус и поставила варить картошку в мундире. От шума примуса, что ли, проснулся Тимка. Он стал тереть кулаками глаза и спрашивать:
— Что купили?
Возможно, что он спросонок подумал, что вернулись старые времена, когда мы приносили с базара полную корзину.
Вслед за ним проснулась и Лилька. У неё было удивительное свойство: как он проснётся, так и она сразу вскакивает. Она тоже спросила:
— Что купили?
— Ничего, — ответила мама. — Ну что вскочили? Спите!
— Как — ничего? Не может быть ничего! — сказал Тимка. — Вы же пошли за товаром, Я знаю…
И Лилька, в одной рубашке, стала за ним повторять как попугай:
— Не может быть ничего!
— Лилька, давай искать! — вдруг скомандовал Тимка.
— Это что ещё за глупости! — рассердилась мама.
Но Тимка не слушал её. Он вообще был непокорным человеком. С ним нелегко было ладить.
— Лилька, ищи!
И вот они с Лилькой стали обыскивать комнату. Стыдно признаться, но дело было именно так. Они заглянули в кухонный шкафчик, в корзину, под стол, под все стулья. Мама сердилась:
— Перестаньте сейчас же!..
Вдруг Лилька поползла под мою кровать. Я стал её оттаскивать. Но уже было поздно. Она завопила:
— Тимка, сюда скорей, я вижу!
Тимка ринулся под мою кровать и с торжеством выкатил на свет божий банку с наклейкой «Кондитерское заведение «Сладость».
— Ага, что я сказал! Ага, что я сказал! — повторял он, сидя на полу и любовно сжимая банку в своих объятиях.
Лилька уселась рядом с ним и, крича: «Дай потрогать, дай потрогать!» — тянулась к банке голыми руками.
Они сейчас были похожи на двух медвежат.
Мама невольно засмеялась.
— Отдайте, глупые! — сказала она.
— Мама, нам только посмотреть, что там! Посмотрим — и всё! — стал просить Тимка.
Что было делать? Они всё равно не отстанут.
— Значит, уговор? Только посмотреть — и всё. Да?.
— Ага, — качнул головой Тимка.
— Ну ладно… — Мама передала мне банку. — Открой.
Тугая крышка плохо поддавалась. Я вертел её и так и сяк. Надо было видеть, как дети глазами, охами, вздохами, ойканьем и айканьем помогали мне:
— Ну ещё, ну вот так, ну дай я… Наконец крышка снялась — и перед глазами изумлённой публики открылась замечательная картина: блестящие красные и зелёные леденцы. Тимка мигом протянул к ним руку — надо сказать, не очень чистую после лазания по всем углам.
— Тимка, куда? Ты же сказал: только посмотреть.
— А я только одну, только однусеньку. — Он честно — вес видели — взял одну штучку, посмотрел на неё и отправил в рот.
— Разве так смотрят, Тимка? — сказала мама.
— А я хочу изнутри посмотреть! — ухмыльнулся Тимка.
За ним и Лилька схватила ландринку. Мама сказала:
— Постойте, ведь это не для еды, а для продажи.
Лилькины глаза наполнились слезами:
— Не хочу для продажи… Хочу для еды.
— А мы это продадим и купим чего-нибудь нужного.
— Не хочу нужного… Хочу для еды.
Тимка рассудительно сказал:
— Мама, тут же много. Если по одной, ничего. По одной — совсем незаметно будет.
Тимка был прав. В банке было, наверное, тысяча ландринок — какое значение могут иметь две-три штучки.
— Мама, я тоже, пожалуй, возьму одну, — сказал я.
— Пожалуй!
— Ну и ты возьми. Мама сдалась:
— Ну ладно! Пропадёшь с вами!
Мы все взяли по штучке и стали пить чай уже не с сахарином, а с настоящим ландрином ассорти.
Потом мама закрыла банку и строго сказала:
— Ну теперь, ребята, всё. Больше ни-ни! — и спрятала банку в самое надёжное место — под свою кровать.
Но место оказалось не очень-то надёжным. Каждые полчаса примерно Тимка прибегал со двора, на цыпочках направлялся к кровати, вытаскивал банку и брал по конфетке — правда, только по одной.
— Ведь по одной совсем незаметно, — доказывал он и был прав.
За ним прибегала и Лилька. Она строго следила за тем, чтобы всё было поровну, — сколько ему, столько и ей. Она была справедливой девочкой.
В общем, уровень в банке, несмотря на то что брали только по одной, заметно понизился. Крышка открывалась уже легко. Она, как говорится, «обошлась».
Мама расстроилась и стала стыдить Тимку:
— Как тебе не совестно! Как же мы теперь будем продавать? Ведь это же не просто конфетки, а товар. Ведь я хотела продать всю банку целиком. Что ж теперь поштучно, что ли, ими торговать?
Мы стали её успокаивать. Вдруг раздался стук в дверь. Я побежал открывать. За дверью стоял знакомый старенький почтальон дедушка Бядуля.
— Заказное вам, — сказал он беззубым ртом. — Расписуйся.
Я «расписувался» и побежал с письмом к маме. Письмо было от папы. В нём было два листочка. На одном папиной убористой рукой написано:
«Дорогие мои, итак, я в Москве. Здесь очень хорошо. Здесь дышится легко. Здесь очень красиво, один Кремль чего стоит. А сознание, что там живёт Ленин, придаёт ему ещё особую величавость. Живу в Третьем Доме Советов. В общем, всё хорошо. Посылаю вам вызов. Жду вас. Дети, ведите себя хорошо, в дороге помогайте маме. Слышите! А не то я вас всех высеку. Папа».
Насчет «высеку» он, конечно, шутил.
На втором листочке всё было напечатано на машинке. Там было сказано, что семья товарища Тайца М. Е., в составе жены Тайц В. С. и троих детей, направляется в город Москву. Просьба ко всем организациям оказывать всемерное содействие.
А внизу круглая печать и подпись самого управделами ЦК РКП (большевиков).
Вот! Это не шутка!
ОТЪЕЗД
Конечно, ни на какой Благбаз мы уже не пошли. Какие уж тут благбазы! Надо было собираться в дальнюю дорогу. Меня, правда, тянуло в Москву, но и с Харьковом не так-то легко было расстаться. Всё-таки здесь прошло пять лет моей жизни. Я приехал сюда маленьким пацаном, а уезжаю парубком, который вот-вот начнёт бриться. Здесь я учился на художника, здесь я стал подмастерьем и, кто знает, может, стал бы и мастером. Здесь я зверски дрался с мальчишками. Здесь я получил премию за плакат. Здесь я влюбился. Здесь папа стал членом РКП (большевиков), как тогда называлась Коммунистическая партия Советского Союза. Здесь гайдамаки чуть было не поставили его
к стенке.Здесь стреляли в наши окна, здесь, просыпаясь по утрам, мы не знали, какая власть в городе: чи красная, чи белая, чи зелёная. Словом, здесь прошёл большой кусок нашей жизни. Но наступил срок, в Москве ждал папа — пора было в путь-дорогу. Мы с мамой — опять мы с мамой — первым делом отправились на вокзал. Бог ты мой, что там творилось! Все залы, все проходы, все туннели были забиты народом. Люди лежали, сидели, стояли, толкались у касс, у бака с кипятком, у выхода на платформу… Пахло махрой-самосадом, портянками, карболкой. Синий дым плавал над головами. Везде висели плакаты:
А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
БЕЙ ВРАНГЕЛЯ!
ЧАЩЕ МОЙСЯ — ВШЕЙ БОЙСЯ!
Мы с великим трудом протиснулись к коменданту, показали ему наше направление, и он корявыми пальцами вывел на нём чернильным карандашом:
В касу(с одним «с»).
Межд. ваг.
Что это значит? Между вагонами, что ли? Неужели семья Тайца М. Е., в составе жены Тайц В. С. и троих детей, поедет между вагонами! Мы стали пробиваться к кассе для командированных. После двух часов работы локтями мы оказались у окошечка. Кассирша посмотрела на резолюцию коменданта и выдала нам — шутка сказать! — два взрослых билета и две половинки, но куда, главное? — в
международный вагон!! Наша семья много ездила, и я знал все порядки. Я знал, что раньше, при царе, пассажиры — вернее, вагоны — делились на классы. Самый дорогой — первый класс. Синие вагоны, всё мягкое, везде зеркала — словом, роскошь. Там ездили самые богатые: губернаторы, фабриканты, генералы… Чуть подешевле — второй класс. А мы, грешные, ездили в третьем классе. Зелёные вагоны с надписью «жёсткий». Всё твёрдое — твёрдые деревянные полки в три этажа, узкие окна, тусклые свечи в фонарях над дверьми… Был ещё и четвёртый класс. Там уже и вовсе все лежали вповалку. На вокзалах были залы отдельно для «господ пассажиров второго и первого класса» и для «господ пассажиров третьего и четвёртого класса». Сейчас всё исчезло. «Господа пассажиры первого и второго класса» либо пытались драться за свои богатства, либо удирали за границу, а «господа пассажиры третьего и четвёртого класса» били их как следует на всех фронтах. Но что значит «международный вагон», я не знал. Хотелось поскорей забраться в него. Но до отъезда ещё было далеко. Всё с тем же направлением мы с мамой пошли в горпродком и после долгого стояния в очереди получили командировочный паёк: длинную буханку чёрного хлеба, несколько кусков серого сахара, ржавую селёдку, сухую плоскую рыбу — она называлась тарань, — коробку спичек и пачку полтавской махорки. Махорка — это ерунда. А вот сахар — замечательная вещь. Мы грызли его, точно мыши. Хруст стоял на весь Чеботарский. Потом началась укладка. Я, кажется, уже рассказывал, что папе надоело возиться с узлами, и узелками, и узелочками и он как-то приобрёл огромную корзину. Вот в эту-то корзину мы стали всё складывать. Сняли подушки, сдвинули кровати, и вдруг под Тимкиной кроватью мы обнаружили банку с наклейкой «Кондитерское заведение «Сладость»! В суматохе мы как-то даже забыли про неё. Мама открыла крышку. В банке оставалось немного меньше половины. — Ну как мы теперь её вернём? — У мамы руки опустились. А Тимка беззаботно сказал: — А не надо возвращать, раз мы всё равно уезжаем. — Как тебе не стыдно! Ведь это чужое! Тут я вмешался: — Ничего, мама. А если они нам за этикетку не заплатили… Вдруг Лилька закричала: — Ой, я знаю! Я знаю!.. Отвезём это папке, и всё! Вот ему будет махорка, и вот это, и всё… — Ну да, «папке»! — сказала мама. — Что за глупости. Ведь он её не любит — тётю Мусю эту… Он нас с этой банкой обратно в Харьков пошлёт. — Не пошлёт! Я знаю! У него там нет в Москве монпансьешек, а мы ему привезём, привезём, привезём!.. — вдруг запрыгала Лилька, как коза. — Да ну вас совсем! — махнула мама рукой. — Делайте как знаете… И она занялась подушками. А мы взяли банку и уложили её чуть ли не на самое дно корзины, чтобы соблазна не было. Тогда Тимка сказал: — Давайте возьмём по одной. Ну, по однусенькой. Лилька строго посмотрела на него и отрезала: — Мы кому везём? Папе! Значит, всё. И Тимка — даже Тимка! — умолк. Наконец всё наше имущество было уложено в корзину. Она не закрывалась. Тогда вся семья Тайца М. Е., в составе жены Тайц В. С. и троих детей, уселась на крышку — и корзина закрылась. Мы заперли её ещё стальным прутом, навесили замок и даже перевязали бельевой верёвкой. Наступил час отъезда. Мама наняла тележечника, и мы стали прощаться с соседями. Нелегко было расставаться. У мамы на глазах всё время стояли слёзы — одни высыхали, набегали другие. Соседки её целовали и тоже украдкой вытирали слезу. Я в последний раз обошёл весь двор, весь Чеботарский въезд, кое-где вздохнул, кое-где тоже чуть не всплакнул. Тимка прощался с мальчишками, Лилька — с девчонками…
Наконец всё наше имущество было уложено в корзину.
Потом соседи помогли взгромоздить корзину на тележку. Тележечник взялся за оглобли. И в эту минуту во дворе появилась тётя Муся в своей чёрной шали. Она торопливо шла, припадая на одну ногу и прижимая к себе кошёлку. — Что это значит, Верочка? — ещё издали заговорила она. — Ты таки уезжаешь? — Да… вот… он прислал вызов… — Ну конечно, правильно! Что ему там сидеть без вас. Езжайте с богом. Только я хотела спросить: а как там с моим товаром? Мама вся покраснела: — Вы знаете… так нескладно получилось. Мы не сумели тогда продать. Ну, просто не успели… Разговор шёл торопливо. Кругом стоял народ. Тележечник ждал. — Хорошо, — сказала тётя Муся, — но себестоимость хотя бы ты можешь мне вернуть. — А сколько это — себестоимость? — Немного. Сколько там было?.. Десять фунтов? Ну я тебе посчитаю недорого — четыреста миллиончиков — и всё! Мама растерялась: — У меня столько нет. Простите, тётя Муся, я вам вышлю из Москвы… Как только приеду… — Ну, а банка? Такая хорошая банка! Мне компаньон голову снимет за неё! — Вы знаете, она в корзине… на самом дне! — взмолилась бедная мама. — Мы на поезд опоздаем… Дети, пойдёмте!.. До свиданья, соседи. Спасибо вам за всё!.. Тележка тронулась. Мы пошли за ней. Соседи выстроились полукругом и махали нам руками. Мы, оглядываясь, на ходу махали им в ответ. А тётя Муся шла рядом с нами и говорила: — Верочка, я не понимаю, — я хотела тебе помочь, а ты так поступила! — Но я верну. Я из Москвы верну… — повторяла мама. — Яша, держи Тимку! Лилька, дай руку! Мы пошли быстрее, чтобы не отстать от тележки. Тётя Муся не поспевала за нами и постепенно начала отставать. Но долго ещё было слышно: — Вы бы хоть вернули… хоть себестоимость. Такой хороший товар! На чистом сахаре!.. А мы всё шли за тележкой, железные колёса которой грохотали по булыжнику нашей такой родной и уже немножко чужой Чеботарской улицы…
ДВЕРЬ В МОСКВУ
Теперь осталось досказать, как мы доехали до Москвы. Сначала мы долго томились на вокзале. Конечно, Тимка сразу же пропал. Мы везде искали его, и оказалось, что он где-то в первом классе играл с ребятами в фантики. Конфет давно не было, а фантики остались. Конечно, нашу корзину сначала долго не хотели пропускать за её несуразную величину. Конечно, Лилька в самую трудную минуту потеряла туфлю и заявила: — Мама, у меня ноги стали разные. — Как так? — Одна обутая, другая разутая. Мы долго искали её туфлю. Но вот объявили посадку. Сейчас уже мало кто знает, что значило тогда это грозное слово: «посадка». Это значило, что огромная толпа, с детьми, с мешками, с чемоданами, стоит на платформе и тревожно ждёт поезда. А когда он подходит, все, волоча за собой и детей, и мешки, и чемоданы, кидаются на него и ещё на ходу цепляются за подножки, за поручни, за малейший выступ, чтобы поскорее захватить уголок, лавочку, буфер… Вот что такое посадка! Посадки бывали лёгкие, средние и тяжёлые. Харьковская посадка считалась ещё одной из лёгких. Стиснутые толпой, мы двинулись к выходу. Два беспризорника, которых мы наняли на вокзале, волокли нашу корзину. Мама крепко держала за руку Тимку, Тимка — Лильку, а Лилька — меня, как в сказке про дедку и репку. Только в сказке ни дедку, ни бабку, ни репку так не толкали, как нас. — Ой, не давитесь! — кричала Лилька. — Не давитесь же!.. Тимка сопел и деловито отбивался локтями. Мама приговаривала: — Осторожно! Здесь дети… — Та ничего им не зробится! — кричали ей в ответ. Но вот нас вынесло, вернее — выперло на перрон. Всё так же цепочкой, не расцепляясь, мы побежали вдоль состава. Поезд был какой-то разномастный. Там были вперемежку и пассажирские и товарные вагоны. Наш вагон был в самом хвосте. Над широкими окнами во всю его длину была выпуклая надпись:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СПАЛЬНЫХЪ ВАГОНОВЪ
с твёрдыми знаками, похожими на вывихнутую букву «Б». У подножки стоял военный в будёновке, какой-то корноухий, с пустым рукавом и рубцами на лице. Это был сам начальник поезда. Мы ему показали наши билеты, и он нас пропустил. Пропустил он и корзину, только, когда беспризорники её втаскивали, сказал: — Н-да. Фундаментально! В вагоне был длинный коридор и окна, а справа — двери, а за ними — комнатки, комнатки… Называются — купе. — Вот ваше купе, — сказал военный. — Располагайтесь. Мы расположились. В купе были две полки — одна над другой. Верхняя — мне с Тимкой, нижняя — маме с Лилькой. Рядом была умывальная комнатка, но там никто не умывался, потому что там тоже ехали люди. Ехали на крыше. То и дело над головой кто-то грохал подкованными сапожищами. В купе ничего мягкого не было — видно, всё мягкое кто-то унёс. И вот раздалось протяжное «ту-тууу». Мы прижались к окну. Перед нами медленно поплыла Холодная гора, домишки, стрелки, семафоры… Прощай, Харьков, прощай, Второй Чеботарский, прощайте, беззаботные детские годы… Путешествие длилось около трёх суток. Начальник поезда часто проведывал нас. Руку он потерял на деникинском фронте. Ранение в лицо получил на польском. Ухо ему отстрелил Юденич. И, несмотря на всё, это был весёлый человек. Он сажал Лильку на колени, рассказывал нам про войну и угощал нас кипятком. А мы угощали его ландрином «Сладость», который специально ради этого извлекли из корзины. Сами мы старались его не есть — ведь мы везли его для папы. В пути мы дважды стояли посреди поля. Начальник поезда пробегал мимо состава, размахивая своей единственной рукой, и весело кричал: — А ну, мужики, кто желает ехать дальше, выходи на лесозаготовки! Я не знал, мужик я или нет. Мама сказала: — Ты ещё не мужик, можешь не ходить. И я остался. Но во второй раз во мне заговорила совесть. Я одёрнул на себе гимнастёрку и вышел из вагона. У машиниста была длинная, острая пила. И вот одни «мужики» стали пилить всякие старые шпалы, брёвна, поваленные столбы, щиты (от сырого леса машинист отказывался, говоря, что тянуть не будет), другие — и я в том числе — построились цепью и передавали каждое поленце из рук в руки. Поленца быстро «ехали» к паровозу. А кочегар и машинист смотрели в паровозное окошко и покрикивали: — Веселей, ребята! Коли-пили! Потом кочегар махнул чёрной рукой: — По коням! «Мужики» разбежались по составу. Паровоз гуднул, из него повалил чёрный, жирный дым, что-то в нём охнуло, ухнуло, и мы потащились дальше. Иногда навстречу нам двигались длинные воинские эшелоны. На теплушках было написано мелом, точно в классе на доске:
Даёшь Крым!
Смерть Врангелю!
Утопим барона в Чёрном море!
Иногда такие эшелоны стояли рядом с нами на соседнем пути. В теплушках сидели и стояли бойцы, подпоясанные ремнями с подсумками. За ремнями у многих торчали бутылочные гранаты. На груди перекрещивались пулемётные ленты. — Откуда? — спросил однажды наш безрукий начальник. — Ма-асковские, — ответил какой-то парень с гранатой за поясом, широко и вкусно «акая». Я подумал с гордостью: «А скоро и я буду «ма-асковский». Вдруг парень обратился ко мне: — Малец, поедем с нами Врангеля бить! — А возьмёте? — крикнул я в открытое окно. — Подрастёшь — возьмём, — ответил он, хотя был немногим старше меня. — Тогда и Врангеля не будет, — сказал я. — Небось какая-нибудь зараза всегда найдётся, — ответил он улыбаясь. Но вот их паровоз загудел, и «ма-асковский» эшелон тронулся, мелькая перед глазами открытыми дверями, вагонами с лошадиными мордами, платформами с пушками, с походными кухнями… А потом тронулись и мы. Чем ближе к Москве, тем чаще мы говорили про папу: как он нас встретит, как расцелует… Ведь мы ему перед выездом дали телеграмму: «Встречай!» Правда, мы не знали точно, когда мы приедем, да и никто этого не знал. Лилька всё волновалась: — А мы не проедем Москву? — Не проедем! — А мы там долго будем стоять? — Долго-долго! — А Ленина мы там увидим? — Увидим, увидим! Наконец на третьи сутки, поздно вечером, наш безрукий начальник сказал: — Вот и Белокаменная. Всё! Наш разношёрстный поезд в последний раз дёрнулся, лязгнул буферами, зашипел и остановился. Народ стал выходить. А мы с волнением прижались к чёрному стеклу и смотрели на еле-еле освещенную платформу. В каждом усатом и очкастом мужчине мы видели папу. Но папы не было. Прошло минут двадцать. Мы не знали, что делать. Безрукий начальник сказал: — Придётся вам идти на вокзал, а то ещё в тупик увезут. Он помог нам достать носильщиков, вернее — носильщиц, потому что это были женщины. Они вынесли нашу корзину, и мы зашагали за ними. Первые шаги на московской земле! Мама несла кошёлку со всякой мелочью, я — связку книг, Лилька — банку с ландрином, а Тимка шёл налегке, с пустыми руками. Вот и Курский вокзал. Огромный зал ожидания, длинные дубовые лавки, красно-белые каменные плитки на полу… Народу не так много, не то что в Харькове. Но где же папа? Что с ним случилось? Мы поставили корзину возле скамейки, посадили на неё Тимку с Лилькой, строго-настрого сказали им: «Ни с места!» — подошли к выходу в город и с особым чувством толкнули тяжёлую дверь. Ведь это не простая дверь — это дверь в Москву! Мы увидели тёмную привокзальную площадь. Редко где мелькали скупые огоньки. Смутно различались извозчики. В лицо нам подул резкий, пронизывающий ветер, и мы сразу почувствовали, что продвинулись на семьсот километров к северу от Харькова. — Ну куда мы сейчас пойдём папу искать, в темноту, в холод. А может, он и сам ещё придёт? Может, он просто опоздал… Мы вернулись к детям. Они покорно сидели на корзине. — Ну что, здесь Москва? — спросила Лилька. — Здесь, здесь! — А где же папа? — Завтра будет папа. Спи. И Лилька сладко заснула на нашей огромной корзине рядом с Тимкой, прижимая к себе высокую железную банку. А возле них прикорнули и мы — мама и я.
ПЕРВЫЕ ДНИ
Ни свет ни заря пришли уборщицы и давай шаркать твёрдыми метлами по каменному полу. Я открыл глаза. Дети в неудобной позе всё ещё спали на корзине. Мама сидела возле них, подперев кулаком голову. Видно, она всю ночь не спала. Заметив, что я проснулся, она сказала: — Ну как, Яша, пойдём его искать? — Пойдём! Она осторожно разбудила Тимку и сказала ему: — Слушай, Тимочка, мы с Яшей пойдём искать папу, а ты останешься с Лилькой. Ладно, сынок? Тимка спросонок сладко потянулся и лениво ответил: — Я не останусь. Я тоже пойду. А вслед за ним, по своей привычке, проснулась и Лилька и тоже подала голос: — И я тоже пойду, я тоже не останусь. Глаза у неё были большие и чистые, точно она проснулась давным-давно. — Глупые вы дети, поймите: это далеко и вы устанете! У вас и ног не хватит!.. — стала объяснять мама. Но дети в один голос ответили: — Хватит у нас ног! — Ладно уж, мама, — сказал я, — пускай идут, а то ещё беспокоиться за них. — Ну хорошо, — сказала мама. — Пошли. Мы сдали нашу корзину, кошёлку и книги в камеру хранения. Банку Лилька ни за что не хотела отдавать и потащила с собой. И вот мы снова толкнули дверь в Москву и увидели привокзальную площадь, теперь уже при дневном свете. В круглом скверике посреди площади спали на лавочках какие-то люди. В сторонке дремали синие извозчики и их понурые лошадки. Вокруг скверика блестели трамвайные рельсы — совсем как в Харькове. На них стоял трамвай с непонятным номером. Вместо номера была буква «Б». В трамвае никого не было… Извозчик стоил очень дорого. Мы пошли пешком. Тогда ещё не было ни троллейбусов, ни автобусов, ни такси, ни метро… Нам сказали, что Третий Дом Советов на Садово-Каретной, и мы пошли по Садовым. Это была ошибка. Через центр было бы ближе. Нo мы тогда не знали, что Москва так велика. Мы шли по Садовым мимо бесконечных палисадников, за которыми стояли домики с закрытыми ставнями. Мы завидовали людям, которые спокойно спали за этими ставнями, а нам вот надо идти, брести куда-то, искать папу в огромной Москве… Вот Садово-Черногрязская. Перед ней на площади возвышаются причудливые Красные ворота неизвестно для чего. Кругом ни забора, ни двери. Посреди площади торчат ворота, и всё. Вот Садово-Спасская… На ней мрачная Сухарева башня, с острым шпилем и маленькими окошками. Вот Садово-Самотёчная… Вот Садово-Каретная… Садовые улицы тянулись огромным кольцом. Мы шли без конца. Москва просыпалась. Прогрохотали по булыге ломовые извозчики. Прошли куда-то красноармейцы с винтовками на плечах. Вышли какие-то старухи торговать яблоками. Яблок было много, на каждом углу, и всё антоновка. Нам казалось, что вся Москва пропахла антоновкой. Мама купила нам одно огромное яблоко, и мы по очереди грызли его, а Тимка ещё и вне очереди. Мы порядком устали. Лиля то и дело останавливалась и чуть было не просилась «на ручки». Мама говорила: — Что? Я сказала — не ходить! Мы садились на лавочки, которые были возле палисадников, потом шли дальше. Один раз проехал настоящий грузовой автомобиль. Он как бы стрелял красивым синим дымом, и мы долго смотрели на него. Но вот наконец и Третий Дом Советов — огромный старинный дом с колоннами. Мы нашли коменданта. Он посмотрел в толстую книгу и сказал, что Тайц М. Е. живёт в мужском общежитии, корпус «Б». Мама туда постеснялась пойти, и я пошёл один. Это была огромная комната на добрую сотню коек. Все ещё спали. Я шёл на цыпочках вдоль кроватей и думал: «Как же я тут найду папу?» Все завёрнуты в одинаковые серые одеяла, многие — с головой. Я решил найти папу по очкам. Я знал, что он всегда кладёт рядом с собой на столик очки. Я смотрел на тумбочки. И вот я увидел очки, перевязанные в одном месте чёрной ниткой. Это папины. Значит, спящий рядом человек — папа. Я легонько тронул его за плечо. Плечо задвигалось, одеяло откинулось, и я увидел папу. Он близоруко посмотрел на меня, быстро взял очки, надел и ахнул: — Яшка?! — Ага. — Приехали? — Ага. — А где же все? — Здесь… Там на дворе… Папа вскочил: — Не может быть! Ведь я был на вокзале. Сказали, что поезд придёт только сегодня, что нет дров… — А мы, папа, их в пути сами добывали. — Не может быть!.. Как же так?.. — повторял папа, торопливо одеваясь. Он выбежал во двор, подошёл к маме, к Тимке, к Лильке. Они обнялись. У мамы на глазах выступили слёзы. Тимка схватил папину руку и не выпускал её. А Лилька прижала свою банку к выпяченному животу, встала перед папой и сказала: — Вот… Это тебе. — Это ещё что? — удивился папа. — Тебе… Мы не ели. На! — повторяла Лилька с сияющим лицом. Папа недоуменно взял банку, прочитал: «Кондитерское заведение «Сладость» — и посмотрел на маму: — Это что за «сладость»? Мама смутилась: — Потом объясню. Здесь не место… — Нет, сейчас! — сказал папа. Мама ему честно всё рассказала. Папа нахмурился и поставил банку на землю: — Не буду я их есть, эти спекулянтские леденцы… Везите обратно! Лилька чуть не заплакала: — Что ты, папка, мы же для тебя везли! Всю дорогу… не ели… Я несла, мучилась-перемучилась! Папка!.. Лильку папа очень любил. Он подумал и сказал: — Ну ладно, чёрт с вами! Пойдёмте! И он повёл нас в столовую общежития пить чай. Там уже собралось много народу. Мы сели за длинный, покрытый белой клеёнкой стол. Папа взял банку, взял две глубокие тарелки, высыпал в них ландрин и крикнул: — Товарищи, угощайтесь! Буржуйские конфетки. Попробуйте! — Буржуйские? — раздались голоса. — Так им и надо! Попробуем. Со всех сторон потянулись руки, и через минуту одна тарелка опустела. Вдруг какой-то дядя в майке встал и сказал: — А совесть, между прочим, у вас есть, ребята?.. Нечего маленьких обижать! Он быстро сделал из газеты большой фунтик, высыпал в него всё из второй тарелки и отдал Лильке: — Держи, дочка! Они большие — обойдутся. Лилька была рада. Она запихала конфеты в карман своего фартука и потом ела их по одной в день. А в пустой банке стала хранить свои «драгоценности» — фантики, брошечки, бусики, картиночки… Так началась наша жизнь в Москве. О ней я, пожалуй, как-нибудь в другой раз расскажу. А сейчас мне хочется только вспомнить один случай и на этом закончить. Нам дали квартиру в Четвёртом Доме Советов, на углу Моховой и Воздвиженки. Наши окна выходили на Кремль. Мы каждый день любовались его чудесными куполами, золотой головой Ивана Великого, узорными крестами Успенского собора, каменным кружевом Кутафьей башни. Всё это было очень красиво, особенно по вечерам, когда заходящее где-то сзади солнце играло на всех главах, маковках и куполах. Внизу, у Кутафьей башни, день и ночь стояли часовые. Мне очень хотелось в Кремль, но без пропуска часовые не пускали. А детей они пропускали. Часовые, видно, знали, что Ленин очень любит детей, вот они и пропускали их. Девочки из нашего Четвёртого Дома Советов каждый день бегали в Кремль погулять. Ведь это очень близко — только площадь перейти. Бегала туда с ними, конечно, и наша Лилька. Однажды она взяла с собой нехитрый завтрак того времени — антоновское яблоко и харьковский леденец, кажется, уже из последних, — и отправилась с подружками в Кремль. Мне в окно хорошо было видно, как часовой пропустил их пёструю стайку. Вдруг Лилька прибежала обратно — красная, взволнованная, растрёпанная… — Что случилось? — Я видела, видела! — закричала она. — Кого ты видела? — Его… Ленина, вот кого! Он к нам подошёл, и я его ландринкой угостила. Вот!.. — Не может быть! — А вот и может! А вот и может!.. — Глаза её сияли, щёки так и горели. — И вот он стал искать у себя в карманах, и здесь, и здесь — везде, и нашёл карандаш и говорит: «Умеешь писать?» И я сказала, что да. Мы все окружили её. Мама прибежала из кухни. Тимка прибежал со двора. А папа как раз был дома. — Ну дальше, дальше! — зашумели мы на неё. — А дальше он мне дал бумажку и говорит: «Ну, напиши что-нибудь». Я не знала что и написала: «Масква». А он переправил на «о», дал мне карандаш и говорит: «На, учись писать»., А я взяла и говорю: «Насовсем?» А он говорит: «Насовсем» — и засмеялся. Вот!.. И Лилька вынула из расшитого кармана своего фартука маленький, уже много списанный, но остро, красиво отточенный карандаш. Мы стали его вырывать друг у друга. Это был обыкновенный школьный шестигранный карандаш с надписью на бочку «И. Фабер». — Осторожно! — волновалась Лилька. — Не пишите! Не пишите! Чтобы не стратился. Но мы, конечно, не удержались, и каждый из нас бережно провёл этим карандашиком чёрточку. А Тимка даже две. Потом папа сказал: — Ну, смотри, Лилька, береги его! И учись писать. Как следует учись! Слышишь? — Слышу! И счастливая Лилька спрятала карандаш в банку из-под ландрина на память о том далёком времени, когда у нас не было ни метро, ни высотных домов, ни «ЗИЛов», ни Днепрогэсов, ни тракторов, ни радио, ни телевизоров, ни атомной энергии и даже карандаш — простой школьный карандаш — был не нашего производства. Но был тот, кто положил начало всему нашему богатству, —
Ленин! Вот пока, значит, всё!
ЗОЛОТОЙ ГРОШИК
ПЕРВАЯ КАРТИНКА
Бабушка часто говорит: — Янкеле, выпей молочка! Янкеле, возьми сахарку! У бабушки много молока. В двух громадных бидонах она разносит его по богатым квартирам. Где она берёт молоко, Янкеле не знает. Он пьёт молоко, но больше налегает на сахар. По утрам он пьёт молоко в кровати. Вот он кричит в стакан: — Ещё сахару-у! Тик-так! — откликаются ходики, а в стакане гудит: у-у-у! Янкеле сбрасывает одеяло. Опять они оставили его одного! Опять она ушла со своими бидонами! Он подбегает к запертой двери, садится голышом на пол у порога и плачет: — Мама-а! Тик-так! — дразнятся ходики, а Ядвига за стеной говорит: — Не плачь, Янек. Бабуся прендко пшиде.
— Она меня заперла… — Не бойся, Янек! Смотри, солдаты. — Где? Слёзы у Янкеле высыхают, он бежит к окну. Верно — солдаты. Они все одинаковые, все одинаково разевают рты и поют с присвистом:
Соловей, соловей, пташечка…
А между словами слышно, как стучат сапоги. Эх, раз, эх, два! — будто одна громадная, тяжёлая нога. И тихонько дребезжит стекло в окне. Янкеле прижимается к стеклу, прислушивается к пронзительному солдатскому свисту, выпячивает губы и тоже пробует насвистывать: — Соловей, фьююю, соловей… Солдаты кончились, можно опять поплакать. Вдруг Янкеле замечает городового. Городовой стоит на углу, и пыль после солдат садится возле него на землю, будто она тоже боится его длинной, изогнутой шашки. Янкеле быстро натягивает штанишки, допивает молоко без сахара — всё, как умный мальчик, чтобы городовой ничего плохого не подумал — и садится к окну рисовать. Мама, когда уезжала к папе, подарила Янкеле цветные карандаши. (А он всё равно плакал!) На той стороне улицы, против окна, стоит большой дом, а на доме красивая вывеска: золотой орёл с двумя головами и буквы. Янкеле знает только две буквы: «А» и «О». Он достаёт из коробочки зелёный карандаш и начинает срисовывать орла. Ядвига стучит в стенку: — Янек, ты не плачешь? — Нет. А ты? — Я тоже нет. Янкеле рисует орла и думает о папином брате Герцке. Он был хороший, он всегда брал с собой Янкеле и Ядвигу на главную улицу, где иллюзион.
Ядвига, кутаясь в белый платок, шла около Герцке и тихо говорила: — Герценька, коханый
мой, пойдёшь со мной в костёл? А то тату не пустит… Герцке трогал тросточкой Ядвигин платок: — У тебя тату, у меня мама. Что делать? Сердце моё разрывается!.. Янкель, не путайся под ногами! А если мимо проходил кто-нибудь чужой, Герцке весело вертел тросточку двумя пальцами: — Какой чудный вечер, панна Ядвига! Перейдём на другую лаву.
А Ядвига отвечала: — Ах, бардзо дзенкую,
пан Герцке! А потом Герцке забрали в солдаты, и никто больше не ходит с Ядвигой и Янкеле на Погулянку и на Замковую гору. Вот почему теперь часто слышно, как за тонкой стеной плачет Ядвига… Орёл получился какой-то кривой: одна голова больше, другая меньше. Его надо бы золотым карандашом, но мама не купила. Янкеле принимается за буквы. Одна буква похожа на табуретку, другая — на весы без чашек. Янкеле видел такие весы на Рыбном базаре. Бабушка берёт его туда по пятницам. Там летают большие зелёные мухи, и везде — на столах, в бочках, в корзинах, — везде шевелятся скользкие, блестящие рыбы. А толстые, забрызганные чешуёй торговки, размахивая мокрыми руками, кричат: — Свеженьки, живеньки!.. Только что из Вилии!.. Мадам, обратите внимание, какая жабра! Бабушка долго торгуется, нюхает щуку, раздирает ей жабры, кладёт на место, отходит, возвращается, снова торгуется, пока торговка наконец не схватит щуку и не бросит её в кошёлку: — А, нехай по-вашему! Давай гроши! Янкеле, помогая себе языком, срисовывает букву за буквой. Потом он приподнимается и смотрит то на вывеску, то на свою картинку. Получается похоже, только на вывеске все буквы одинаковые, а у Янкеле они косые и неровные, будто падают. Зато у него каждая буква другого цвета — все семь карандашей в работе. Вот вернутся папа с мамой, он им покажет свою картинку. Папа посадит его на колени, пощекочет усами и скажет: — Аи, Яшкец-молодец! За дверью гремят бидоны. В замке звякает ключ. Янкеле вскакивает и, роняя штанишки и карандаши, бежит к двери: — Бабушка! Бабушка опускает пустые бидоны, ставит на стол кварту
и обнимает Янкеле. Он дёргает её за старенькое, облитое молоком платье и старается заплакать: — Почему ты меня заперла-а? — Золотко, не надо плакать! Бабушка ушла, когда ты ещё спал. Бабушка зато тебе сахарку принесла. Янкеле всё-таки пробует всплакнуть. Он жмурится, трёт глаза, хнычет, но ничего не получается. Он засовывает в рот большой кусок сахару и показывает бабушке свою картинку. Бабушка ахает и причмокивает языком: — Тца, тца! Вы подумайте, какой умник! — Нет, бабушка, ты прочитай! Бабушка долго смотрит на орла с двумя головами, на синие, жёлтые, зелёные буквы: — Бабушка не умеет, золотко! Вот приедет мама, она прочитает. — А папа? — И папа, конечно. Все прочитают! Бабушка принимается мыть бидоны. А Янкеле вешает картинку над кроватью, сосёт сахар и думает: «Скорей бы папа с мамой приехали!» Потом они с бабушкой обедали, потом ужинали. Потом бабушка зажгла лампу и села вязать Янкеле чулок. А Янкеле улёгся под своей картинкой. Было тихо, все мухи ушли спать на потолок, только в лампе тихонько шипел керосин да под печкой скреблась мышь. И Янкеле сразу заснул. Вдруг шум и яркий свет выкрученного фитиля в лампе разбудили его. Он вскочил: — Приехали! Приехали! Мама, не раздеваясь, кинулась к нему. Он обхватил её, прижался к маминой холодной щеке. — А папа? Где папа? Бабушка взяла Янкеле, уложила, покрыла одеялом: — Спи, котик, спи, папа завтра приедет. Она повернулась к маме: — Ну, что сказал суд? — Бабушка, — сказала мама, — надо быть стойкой… надо быть крепкой… — Да, да, — шепчет бабушка. — Вам надо гордиться таким сыном! Как он держался на суде! И вот… всех на семь… лет… в крепость. И всё! И не надо плакать… Бабушка роняет спицы на пол и всплёскивает руками: — Ой, горе мне! Самого старшего! Самого удачного! — Мама, — вдруг кричит Янкеле, — смотри, это я сам написал! Он снимает со стены свою картинку и суёт её маме. Мама обнимает его. Он вырывается: — Нет, ты сначала прочитай, прочитай! Мама медленно читает старательно нарисованные буквы:
Питейное заведение
И вдруг две маленькие слезы выкатились из маминых глаз и упали на картинку. — Что ты делаешь! — закричал Янкеле. — Что ж я завтра папе покажу?! А мамины слёзы всё падают на кривого орла с двумя головами, на красные, синие, зелёные буквы, на первую картинку Янкеле…
ЗОЛОТОЙ ГРОШИК
Наконец-то Янкеле исполнилось шесть лет! В этот день бабушка поцеловала его крепче, чем всегда, и подарила ему маленькую блестящую денежку — грошик. Янкеле спросил:
— Он золотой, да?
Бабушка была глуховата. Она кивнула головой:
— Да, котик, да!
Янкеле обрадовался. Он любовался денежкой, дышал на неё и всё думал, как бы получше её истратить.
А что, если отдать её извозчику Геноху! Тогда можно будет долго кататься на его огромном фаэтоне — спереди, на мягком сиденье, как настоящий пассажир с варшавского поезда.
Нет, жалко отдавать грошик Геноху. Прокатиться можно и так, сзади, там, где болтается ведро и мелькают страшные, облепленные грязью спицы. Пускай Генох кричит: «Шейгец, слезай!» — пускай хлопает кнутом — всё равно ему Янкеле сверху не достать!
А что, если отдать грошик Монику Мошковскому! За это, пожалуй, можно попросить его новые башмаки с резинками. Вчера он вышел во двор в этих башмаках и, поминутно нагибаясь, обтирал их рукавом.
— А я сегодня именинник, — сказал он. — А мне мама рубль дала!.. Приходите, ребята, у нас будет бал, вот!
Янкеле никогда ещё не бывал на балах и даже не знает, что это такое — бал. И хотя бабушка сказала ему: «Не ходи к ним, Янкеле!» — он всё-таки пошёл, потому что ему очень хотелось увидеть бал.
Моник, нарядный, приглаженный, встретил его у дверей:
— Ты?.. Подожди, я сейчас!
Янкеле долго сидел на кухне, где мыли посуду, где стучали ножи и вилки, а над плитой то и дело взлетал тёплый, вкусный пар. Потом кухарка сказала:
— Наш Монечка пошутил, а ты ждёшь! Иди, дурачок, а то мне смешно делается.
Янкеле побрёл домой. Бабушка спросила:
— Как тебе понравился бал?
Янкеле сказал только:
— Бал… бал… Вот!
Потом заплакал и сразу лёг спать, потому что бабушка ему не раз говорила: «Когда спишь, ничего не чувствуешь».
Нет, Монику нельзя отдавать денежку. Кому ж всё-таки? Вдруг он услышал знакомое:
— Свежи-и… пирожны-ы!..
Это пирожница Хана. Вот кому он завидует! Ей хорошо, ей уже лет двенадцать, а не просто шесть. И у неё большая корзина с пирожными, и она может их есть, когда захочет.
И Янкеле решил: он отдаст Хане золотой грошик, накупит пирожных и даже бабушку угостит.
Зажав монетку в кулак, он выбежал за ворота.
Хана медленно шла серединой улицы. Она вся изогнулась, потому что на плече у неё стояла большая корзина. Издали казалось, будто корзина сама передвигается на худых, босых ногах, будто корзина сама кричит тонким голосом:
— Свежи-и… пирожны-ы!..
Янкеле побежал за Ханой:
— Пирожны-ы… Стой!
Корзина повернулась, опустилась, и Янкеле увидел покрытое пылью и потом лицо Ханы. Но он смотрел не на Хану, он смотрел в корзину. Ой, сколько ж там пирожных! И длинные, и круглые, и изогнутые, и в бумажках, и без бумажек…
Хана спросила: — Тебе какое?
Янкеле не знал, какое выбрать. Он молча разглядывал чудесное богатство Ханы-пирожницы.
Хана сказала:
— Замечательный товар! Свеженьки… сахарны…
Янкеле очнулся. Он стал показывать пальцем:
— Это и то… Нет, то… Нет, вон то… Много…
И он протянул Хане-пирожнице золотой грошик. Монетка весело заблестела на её ладони, на которой красными пятнами отпечаталась ручка корзины.
Вдруг Хана крикнула:
— Что ты мне голову морочишь!
Она взмахнула рукой, и грошик, сверкнув, упал в канаву.
Янкеле растерялся:
— Он же не такой, Хана, он же золотой!
— Такой золотой, как ты!
Она вздохнула, подняла корзину и пошла:
— Свежи-и… пирожны-ы!..
Янкеле долго барахтался в канаве, среди мусора и соломы. Но вот грошик нашёлся. Янкеле повеселел, стал его вытирать, и монетка опять засияла.
«Ну ладно, — подумал Янкеле, — пускай считается не золотой, всё равно я куплю, хоть не целое, хоть кусочек».
И он снова побежал за Ханой:
— Дай… кусочек…
Хана, не оборачиваясь, ответила:
— Что я, резать буду? Что это тебе, колбаса?
Но Янкеле не отставал. Ничего, он будет за ней ходить, ходить, ходить, и, когда она устанет, и сядет, и начнёт есть пирожное, тогда он купит у неё на грош.
Он всё шагал за Ханой. Она переходила на ту сторону улицы, и он переходил на ту сторону улицы. Она постояла у аптеки, и он постоял у аптеки.
Она кричала:
— Свеженьки… сдобненьки!.. И ему хотелось кричать: «Свеженьки… сдобненьки!..»
Она его не видела. А он всё время видел её выцветшее синее платье, изогнутую спину и тёмные пятки — то одну, то другую, то одну, то другую… Солнце печёт. Янкеле выскочил без шапки, он устал, но он всё шагает за вкусной корзиной, точно привязанный, по Виленской улице…
Но вот улица кончилась. И там, на пустыре, возле речки, Хана остановилась, опустила корзину, зачерпнула воды, умылась и села в тень.
Янкеле, сжимая грошик, притаился в кустах.
Хана откинула марлю, которой были покрыты пирожные, порылась в них, достала одно и стала его есть, запивая водой.
Янкеле шевельнулся: пора, а то она всё съест, и опять ему ничего не достанется.
Он вышел из-за кустов. Хана испугалась и перестала жевать.
— Кто это?
— Это я, — сказал Янкеле, протягивая монетку, — ну всё равно, пусть не золотой, дай маленький…
— Что, я тебе резать буду? — повторила Хана.
— А ты от своего…
И вдруг он увидел, что в руках у неё вовсе не пирожное, а кусок чёрного хлеба — горбушка. Он замолчал и уставился на горбушку, будто никогда не видал. Хана сказала:
— Иди, иди, покупатель!
Янкеле поплёлся по дороге. Его обогнал фаэтон Геноха. Спереди, на мягком сиденье, развалился Моник, и Янкеле не стал прицепляться.
Он пришёл домой и лёг, потому что, когда спишь, ничего не чувствуешь. Во сне кулак его разжался. С лёгким стуком упал и покатился куда-то золотой грошик.
В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ
Сначала забрали в солдаты дядю Герцке. Потом хотели забрать и дядю Рувима. Но Рувим уехал в Америку, и дома остались только мама, бабушка и Янкеле. Бабушка часто вздыхала, жаловалась: — Что это за дом без мужчины? Разве это дом? Янкеле обижался: — А я, бабушка? — Ну, ты! Тебе ведь ещё не тринадцать лет! Янкеле с огорчением загибал пальцы: девять, десять, одиннадцать, двенадцать… Долго ещё ему не быть мужчиной в доме! А всё-таки он много помогал бабушке по хозяйству, особенно в пятницу. Потом они ждали первой звезды. Если звезда, значит, уже суббота, ничего делать нельзя. Бабушка только что вымыла пол и зажигала свечи. Янкеле посыпал сырые половицы опилками. Вдруг раздался сильный стук в дверь. Бабушка открыла, уронила спички и схватилась за косяки. В дверях стоял пристав. — Здесь проживает мещанин Гутман Рувим… — Он заглянул в бумагу и с трудом выговорил: — Рувим-Пин-хус Нах-манович? Пламя на свечах подскочило. Янкеле забился в угол между комодом и печкой. Бабушка нагнулась за спичками. Она никак не могла их нащупать. — Здесь. — Ага! Загремели шпоры. Пристав вошёл в комнату. Сел, сбросил снег с бороды и поставил шашку между колен. Громадные следы остались на полу, среди опилок. — А где он сам пропадает… Ру-вим-Пин-хус Нахмано-вич? Бабушка засуетилась: — Теперешние дети, господин пристав! Разве они что-нибудь скажут! Вы знаете, где они? Так и я знаю! Они же не слушаются, господин пристав! — Мадам Гутман! — закричал пристав. — Вы плохая мать! Таких матерей сажать надо! Он схватил с комода субботний подсвечник и поставил ближе к себе на стол. Янкеле замер. А пристав достал папиросы «Фру-фру», пригнулся к свечке и закурил. Как будто это обыкновенная спичка! Янкеле ужаснулся. В пятницу вечером человек дотронулся до подсвечника! Прикурил от субботней свечи! Янкеле затаил дыхание. А что, если сейчас грянет гром, блеснёт молния и вопьётся приставу в грудь — туда, где болтается шнур и свисток. Янкеле съёжился. Пристав стукнул шашкой: — Один сын у вас политический преступник, другой уклонился от явки в воинское присутствие! — Теперешние дети… — начала бабушка. Но пристав перебил её: — Что вы мне толкуете: «Дети, дети»! Тут разговор короткий: или он в двадцать четыре часа явится к воинскому начальнику, или… — он затянулся и выдул дым прямо бабушке в лицо, — вы за него заплатите штраф в размере… — он ещё раз затянулся, — трёхсот рублей! — Трёхсот рублей? — шёпотом повторила бабушка и опустилась на сундук. — Трёхсот рублей?! — Она тихонько засмеялась. — Спросите раньше, я когда-нибудь глазами видела трёхсот рублей? Я только издали слыхала, что на свете бывает трёхсот рублей, четырёхсот рублей… Пристав схватил с подоконника чернильницу Янкеле, снял фуражку, бросил на пол окурок и стал писать. — Что касается описи имущества… — Какая у нас имущества? — Бабушка махнула рукой. — Вы же сами видите, господин пристав! Пристав почесал вставочкой нос, оглядывая комнату. — Ну, стол… подсвечники, комод… — Вдруг он заметил большие блестящие глаза Янкеле. — А там кто прячется? — Внучек, — сказала бабушка. — Внучек?.. Видите, у вас не так уж мало имущества! — Пристав перечитал бумагу. — А теперь, мадам Гутман, распишитесь. Бабушка не шелохнулась: — В субботу мы не пишем, господин пристав. Потом я же по-русски неграмотная, господин пристав! А кресты я не буду! Пристав повернулся к печке и поманил пальцем: — Поди сюда, дезертир! Янкеле несмело подошёл к столу. — Писать умеешь? Янкеле молча мотнул головой. — Подпишись! «Подпишись»? Янкеле не верил своему счастью. Его просят расписаться, как большого! Он ещё никогда по-настоящему не расписывался. Вдруг он вспомнил: ведь сейчас уже суббота, писать нельзя. Он растерянно оглянулся на бабушку. «Ничего, котик, не бойся!» Пристав показал толстым пальцем: — Здесь! Янкеле осторожно взял перо, наполнился гордостью и медленно вывел большими буквами: «ГУТМАНЪ». И от твёрдого знака такой хвостик пустил, как полагается на подписи. Получилось хорошо, даже сам пристав похвалил: — Молодец! Он забрал свои бумаги, шашку, фуражку и ушёл. Только следы свои оставил на полу… Янкеле стал укладываться. Бабушка молча сидела у стола. Янкеле босиком, в одной рубашке подошёл к ней: — Бабушка, ты не скучай, я знаю! — Что ты знаешь, Янкеле? — Я знаю… — Он обнял её. — Мы не дадим ему эти триста рублей, и нас посадят в тюрьму, и мы тогда будем вместе с папой! Бабушка улыбнулась. Янкеле прижался к ней; — А это ничего, что я в субботу подписался? — Ничего, — ответила бабушка, — тебе ведь ещё не тринадцать лет! Янкеле успокоился и лёг. Оказывается, иногда даже лучше, когда тебе нет ещё тринадцати лет! Он долго ворочался на своём сундуке, потом повернулся лицом к бабушке: — Вот ты всё жалуешься, что нет мужчины в доме. А кто бы тогда подписался, если бы не я? Он скоро заснул. Бабушка долго прислушивалась к его дыханию. Он спал крепко и даже всхрапывал, как настоящий взрослый мужчина после длинного трудового дня.
„ЗЕМНОЙ РАЙ"
Янкеле много рисовал. Сапожник Коткес попросил его: — Янкель, нарисуй мне сапог, а я его в окне вывешу. А тебе за это набойки поставлю, губернаторские! Янкеле нарисовал чернилами сапог, провёл по голенищу черту мелом, что означало блеск, и подписал, как просил Коткес, по-русски:
ПОЧИНЯЮ
МУЖЕСКИЙ И ЖЕНСКИЙ ОБУФЬ
Потом явилась галантерейщица Хана. Она заказала плакат: пудовая гиря висит на нитке, а нитка не рвётся. И подпись:
ДЕШЕВШЕ НЕТ И НЕ ИЩИТЕ!
На этом заказе Янкеле заработал семь копеек. Слава его росла. Во дворе заговорили: — Вы видели, какой он сделал Коткесу сапог? У простой табачницы, у Двойры, такой способный мальчик, такой талант! Слух о Янкеле дошёл до оптовой бакалейщицы мадам Мошковской. В субботу она велела прислуге Юзефе привести Янкеле. Янкеле пошёл с Юзефой. Вот он осторожно ступает по скользкому полу. Какой он чистый, этот пол! Янкеле никогда не думал, что полы, по которым целый день ходят ногами, могут так блестеть! А вот там какие-то деревья в бочках, прямо в комнате. А на стене висят тарелки! — Юзефа, зачем тарелки на стене, точно карточки? А что там за шуба на полу? — Это не шуба, — засмеялась Юзефа, — это белый медведь! — Разве бывают белые? — удивился Янкеле. — Тише, Янек, обожди здесь, я пойду скажу. Янкеле остался один. Было тихо. Где-то важно тикали часы. Медвежья голова скалила пасть и сверкала стеклянным глазом. Янкеле стало не по себе: «Непонятный там медведь — белый!» Вдруг скрипнула дверь, и показался Моник, младший сын Мошковской. На нём был синий матросский костюм с белым воротничком. Моник долго смотрел чёрными неподвижными глазами на Янкеле, потом засунул палец в рот и сказал: — А ты не знаешь, зачем я пришёл? — Нет, — признался Янкеле. — Меня мама прислала смотреть, чтобы ты ничего не стащил. Янкеле покраснел и тихо сказал: — Я лучше уйду. Где тут уходят? Он повернулся к двери. Но мадам Мошковская уже двигалась ему навстречу. Шелестело тёмное шёлковое платье. Седые волосы просвечивали сквозь чёрные кружева платка. Она со вздохом опустилась на стул: — Монечка, иди к себе! — и стала в упор разглядывать Янкеле, как и Моник, не мигая. — Так это ты и есть знаменитый Янкеле Сарры-Двойры, табачницы? Ты на самом деле замечательно рисуешь? — Не знаю, — ответил Янкеле. И ему захотелось домой, к бабушке. — У меня для тебя большой заказ, — сказала Мошковская. — Вот! — Она взяла со стола книжку и стала перелистывать её короткими пальцами. — Посмотри на эту картинку. Нравится? Янкеле посмотрел: нарисован волк, и овечка, и лев, и другие звери, и девочка — и все они идут рядышком. И подписано: «Земной рай». — По-моему, — тихо сказал Янкеле, — так не бывает, чтобы вместе волк и овечка… — Но так будет! — подхватила мадам Мошковская, поднимая глаза к потолку. — «Волк будет жить вместе с агнцем, и леопард будет лежать вместе с козлёнком», так сказал пророк Исайя. Это будет, когда все люди станут праведниками. Понятно тебе? Янкеле хотел спросить, что такое «агнцем», но не решился и ответил: — Понятно. «Земной рай» ему понравился. Тогда, значит, собаки не будут кусаться, как сейчас Володькин Пират. И мальчишки не будут швыряться камнями… — Так вот, — продолжала мадам Мошковская, откинувшись на спинку стула, — сможешь ты срисовать «Земной рай» на большой лист? — Попробую, — неуверенно ответил Янкеле. Он прибежал домой взволнованный: — Бабушка, Мошковщиха заказала мне «Земной рай»! Никто не будет кусаться, даже собаки, понимаешь?.. А на стене у неё тарелки, будто карточки! Он разбил картинку на маленькие клетки, а бумагу — на большие и с жаром взялся за работу. Ведь если получится хорошо, мадам Мошковская повесит «Земной рай» на стенку, и все будут спрашивать: «Кто вам нарисовал такую замечательную картину?» А мадам Мошковская будет отвечать: «Разве вы не знаете? Это же Янкеле Сарры-Двойры, табачницы, тот самый, который сделал Коткесу сапог с блеском!» Он работал всё воскресенье и весь понедельник. Он плохо ел, плохо спал и всё спрашивал у бабушки, хорошо ли. — Очень хорошо! — отвечала бабушка. — Даже лучше, чем в книжке! Во вторник утром он уже дорисовывал последнюю клетку. С бьющимся сердцем он постучался в обтянутую кожей дверь Мошковских. — Кто там? — Это я, Юзефа. Я принёс «Земной рай». — Барыни нет, она в магазине. Что ж, это недалеко — на углу Завальной. Янкеле пошёл в магазин. Там было полутемно, вкусно пахло непонятными вещами, вдоль прилавков тянулись мешки с сахаром, с крупой, на полках желтели ящики. Покупателей было много. Около больших весов стояли крестьяне в лаптях, Мендель, старший сын Мошковской, и сама мадам Мошковская. Она тыкала коротким пальцем в мешок, стоявший на весах, и говорила: — Дай мне бог здоровья, что за чудная крупчатка!.. — И вдруг, обернувшись, скороговоркой сказала по-еврейски. — Мендель, подмешай ему из того мешка, где кукурузная… — И продолжала по-русски: — Дай мне бог каждую пятницу иметь халу из такой крупчатки!.. Янкеле выступил вперёд и перебил её: — Вот… я принёс… «Земной рай». Мадам Мошковская оглянулась, красная, вспотевшая, и, увидев Янкеле, ещё больше покраснела: — Ты зачем пришёл? Мне сейчас некогда! — Вы же сами… в субботу… просили. — Так ты и пришёл бы в субботу. А то, здравствуйте, в базарный день, во вторник, когда самая торговля, он пришёл со своим раем!.. Мендель, дай ему орешков, пусть идёт. И Мендель выставил Янкеле за дверь.
КАЗАКИ
Все зарабатывают на кусок хлеба. Бабушка разносит молоко; мама работает на табачной фабрике Финкелынтейна; Юзефа — нянька у Мошковских. Только папа не зарабатывает — он же сидит! А Янкеле стал почтальоном. Это Юзефа дала ему письмо и сказала:
— Яненко, ты уже научился по-русски?
— Немножко, — ответил Янкеле.
— Будь ласков, отнесёшь это письмо по адресу: Первая казачья сотня, нижнему чину Емельяну Чернохлибу. Будешь моим почтальоном!
— Казаки? — перепугался Янкеле.
— Глупенький! — уговаривала Юзефа. — Они ж добрые. Ну, будь ласков! Вот тебе на конку, мой почтальон.
«Почтальон» спрятал пятак, натянул до ушей шапку с «почтой» и вышел на улицу, где конка. Скучное солнце висело над Вильной. Пара тощих лошадей медленно тянула конку. Мальчишки, прячась от кондуктора, прыгали на подножку. Янкеле это понравилось — он тоже повис. Ехать далеко — до Погулянки. Янкеле там был один раз, ещё когда папа не сидел.
— Паршивец, ты сегодня спрыгнешь или нет? — Кондуктор сорвал шапку с Янкеле.
Письмо упало на булыжник. Янкеле подобрал шапку, почту и прицепился к следующей конке. Так и доехал.
Здесь хорошо! Налево тихая Вилия, вдали лес, а направо зелёное поле. А там, неподалёку, казармы. По полю скакали казаки. Который из них Чернохлиб? Ведь они все одинаковые! На всех широкие синие штаны с красными полосами, сабли, пики, толстые канчики
и светлые чуприны
под фуражками. Одни, блестя саблями, на полном скаку рубили расставленные по полю гибкие палки. Другие длинными пиками кололи чучела, похожие на толстых торговок с Рыбного базара. Даже страшно становилось, когда пика влезала в соломенный живот! А лошади легко-легко касались копытами земли. Сразу видно — настоящие казацкие лошади, не то что коночные клячи.
Заиграла труба. Казаки соскочили с сёдел и повалились на траву покурить. Янкеле робко стоял на краю поля. Они могут ещё стегнуть канчиком. Письмо шуршало под шапкой. Он хотел подойти поближе и не мог — боялся! Но вот один казак мотнул чуприной:
— Тебе чего, хлопец?
Янкеле побледнел:
— Господин казак, чи вы не знаете, кто есть нижний чин… Господин Черно… Чернохлиб?
— Эвон сидит, сало жрёт, другим не даёт! Иди к нему, не бойся.
Чернохлиб обернулся.
Он был красивый: румяные щёки, тонкие брови, усы двумя золотыми колечками. Недаром он понравился Юзефе. Янкеле отдал ему «почту». Чернохлиб вытер губы и долго, по складам, читал письмо. Янкеле и то лучше читает. Потом он сунул письмо в сапог, покрутил ус и улыбнулся. Глаза у него были синенькие.
— Добре, хлопчик! — Он достал пятачок. — Держи!
Другой казак спросил:
— Як тебе зовут?.. Янкель? Сидай с нами, Янкель!
Третий казак хлопнул Янкеле по плечу: — Янкель, пойдёшь к нам в казаки?
Янкеле перестал бояться. Казаки ему понравились. Он отвечал на все вопросы, а потом даже сам спросил:
— Дяденьки, а зачем вам эти канчики?
Казаки засмеялись:
— То не канчик, а добрая казацкая нагайка. Пощупай!
Янкеле пощупал:
— Чтобы лошадок погонять?
— «Лошадок»! — усмехнулись казаки. — Конь и так пойдёт — он повода слушается…
Тут снова заиграла труба. Казацкий офицер закричал:
— По ко-о-ням! Чернохлиб сел на коня:
— Янкель, приходи завтречка, я ответ отпишу!
И понёсся к остальным казакам.
Так Янкель подружился с казаками. Он сделал себе саблю и казацкую нагайку. Если есть доска и верёвка, это совсем нетрудно. И с азартом мчался на лихом «скакуне» по двору. И с грохотом рубал бабушкины бидоны доброй «казацкой саблей».
— Бабушка, я не буду почтальоном, я буду казаком! — И бах по бидону, бах…
А по ночам, пугая маму, бормотал: «Чернохлиб… По ко-о-ням…»
С заработанными пятаками Янкеле пошёл в магазин. Маленькая продавщица уговаривала покупателей. Янкеле показал ей пятаки и выбрал тетрадь для рисования. Замечательная тетрадь, из толстой бумаги; на синей обложке красивыми буквами напечатано: «Тетрадь для рисования, учени — точки, точки — класса». Потом он увидел пистолет. Хороший черный пистолет, с коробочкой красных пистонов в придачу.
— Дайте тетрадь и пистолет.
— Денег не хватит, мальчик.
— Сколько денег не хватит? — Янкеле задумался. — Ну, дайте тетрадь! — Он пошёл к кассе и вернулся. — Нет, пистолет. — А через минуту опять прибежал. — Нет, тетрадь, тетрадь!
Сам над собой засмеялся и пошёл платить — и ещё осталось на красно-синий карандаш.
На первой странице он нарисовал казака. Красно-синим карандашом хорошо их рисовать. Штаны — синим, перевернул карандаш — полосы на штанах красным. Верх фуражки — синим, опять перевернул, низ — красным. Саблю — синим, нагайку — красным, лицо — красным, глаза — синим…
Он долго рисовал. Стало темно; бабушка зажгла лампу. Пришла мама. От неё пахло табаком.
— Бабушка, — сказала мама, снимая платок, — кончено, мы бастуем! И кожевники тоже. Они мучатся не меньше нас!
— Вы хотите быть сильнее Николая Второго! — вздохнула бабушка.
— Бабушка, больше терпеть невозможно! Он себе наживается, а мы наживаем чахотку. Мы ж его спросили: «Финкельштейн, толстая собака, вы согласны на десять часов работы?.. Нет? Так мы бастуем!»
Янкель бросил карандаш и стал тереть глаза:
— Я тоже хочу бастовать!
Мама обняла его:
— Золотко, спать ложись! — и, отвернувшись от Янкеля, долго кашляла.
Утром пришла соседка, тоже табачница. Янкеле встрепенулся и схватил маму за платье:
— Куда ты идёшь?.. Я знаю, ты идёшь бастовать!
— Пусти, золотко, мы на базар!
Она вырвалась, захлопнула дверь и повесила с наружной стороны замок. Янкеле заревел и стал колотить ногами и «казацкой саблей» по двери. Потом он подтащил к окну табуретку, взобрался на подоконник, откинул крючок и толкнул раму. В комнату ворвались гнилые запахи двора, залетели большие зелёные мухи. Под окном была ржавая крыша сарайчика. Янкеле перебрался на сарайчик, спрыгнул на землю и побежал искать маму.
Он долго бегал по улицам. На Георгиевском проспекте он увидел чёрную толпу. Ну да, это табачники и табачницы собрались бастовать около богатого, со львами и балконами, дома Финкельштейна! Янкеле забрался в толпу и, расталкивая бесчисленные ноги, кричал:
— Мама! Мама!
Табачники говорили между собой:
— Депутаты уже давно у Финкельштейна!
— Интересно, что он теперь ответит, этот эксплуататор! Мальчик, чего ты здесь пихаешься?
— Мама! — ответил Янкеле, выбрался из толпы и увидел городовых. Они кричали:
— Разойдись!
Но толпа не расходилась. Наоборот, подошли ещё рабочие. От них пахло кожей — это были кожевники. Каменные львы с финкельштейновского дома оскалили пасти на толпу. Все ждали, что ответит Финкельштейн.
Янкеле хотел ещё раз крикнуть: «Мама!» — но тут со стороны Погулянки донёсся стук подков.
Раздались звуки трубы, и затем сразу Янкеле увидел лошадиные головы, блестящие казацкие
сабли,синие с красным казацкие штаны.
Янкеле сначала испугался. Потом он обрадовался.
Сейчас он найдёт Чернохлиба, он ему всё расскажет про Финкельштейна. Пусть он задаст канчиком этой толстой собаке!
Янкеле оглянулся. Кожевники, табачники — все разбегались в разные стороны. А стук подков становился всё громче, уже видны были светлые чуприны казаков и острые лошадиные уши…
Вдруг Янкеле увидел маму. Платок она где-то потеряла, чёрные волосы растрепались и висели космами, глаза стали большими. Она подбежала к Янкеле, больно схватила за руку и потащила.
Янкеле вырывался:
— Мама, не бойся, не бойся же!..
Он услышал над собой сильное дыхание лошади.
Резкий удар обжёг голову Янкеле. Казацкая нагайка била по нём, по маме, по всем бегущим.
— Не надо!.. — кричал Янкеле. Они свернули в переулок…
Дома мама легла. Бабушка прикладывала ко лбу Янкеля мокрое полотенце. Прибежала Юзефа:
— Яненко, коханый, шо с тобой?
Янкеле вскочил, сбросил полотенце, кинулся к тетради, выдрал первый лист с красно-синим казаком и стал в ярости рвать его на кусочки и топтать ногами.
— Зачем я тогда купил эту тетрадь! — плакал он. — Лучше бы я тогда пистолет купил!
Бабушка качала головой:
— Вы хотите быть сильнее Николая Второго! Это же неслыханная вещь!
ДЯДЯ ГЕРЦКЕ
Дядя Герцке был молодой и весёлый, он знал много хороших песен и всегда напевал: «Лопни, но держи фасон!» По вечерам он приходил грязный, усталый, и Янкеле поливал ему из тяжёлой медной кружки, а дядя командовал: — Крантиком! Дождиком! Потом он переодевался, чистил слюной штиблеты, брал свою тросточку с ремешком на конце и говорил: — Яшкец, пойдём! Они выходили на главную улицу, где иллюзион. Там показывали драмы в шести частях и комедии. Янкеле и Герцке больше любили комедии и смеялись до слёз, когда у Макса Линдера лопались брюки или он уваливался в бочку со сметаной. Потом они катались на конке, потом заходили в Дворянский сад. Там духовая музыка, танцы, и дядя Герцке танцевал с Ядвигой «Варшавский вальс». Потом дядя угощал их семечками, а то и мороженым. Хорошая, счастливая была жизнь! «Почему папа не такой, как Герцке?» — часто думал Янкеле. Он тогда не сидел бы в тюрьме, он бы тоже смотрел драмы и комедии, тоже танцевал бы вальс и тоже напевал бы весёлую песенку:
Есть в Париже выражение
Се са, се са…
Это значит удивление —
Се са, се са…
Вдруг всё кончилось. От воинского начальника пришла повестка: Герцке надо
явиться.Герцке явился и там, у начальника, услыхал страшное слово: «Годен». Доктор сказал: «Годен»; начальник сказал: «Годен»; на билете напечатали: «Годен»; везде Герцке мерещились чёрные буквы: «Годен». А через месяц бабушка и Янкеле уже провожали дядю Герцке на станцию. Он брёл с сундучком на плече посередине улицы. Он был не один — с ним было ещё много народу с сундучками. Все шли, опустив головы, будто все потеряли что-то на булыжной мостовой и не могут найти. Спереди и сзади шагали настоящие солдаты, с ружьями. Кто-то пел, кто-то играл на гармошке, женщины плакали, а бабушка и Янкеле тихо шли по деревянному тротуару. Они то и дело спотыкались, потому что всё время смотрели вбок, на Герцке. А Герцке оглядывался на них и невесело улыбался. Они хотели подойти к Герцке, но солдат с ружьём сказал: — Нельзя! Потом все с сундучками полезли в товарные вагоны, плач стал громче, паровоз засвистел: «Го-о-ден», колёса застучали: «Го-ден, го-ден, го-ден…» Весёлого дядю Герцке увезли в солдаты. Без него стало скучно и пусто. Но понемножку Янкеле всё-таки стал его забывать, потому что проходили недели… месяцы. Только через полгода, пробравшись в Дворянский сад, он вспомнил дядю. Вдруг он увидел Ядвигу — она танцевала с чужим кавалером польку-мазурку. И Янкеле убежал. Через год, когда прибирались к пасхе, Янкеле нашёл в сундуке лакированную тросточку с ремешком на конце и снова вспомнил про дядю. Как ловко он вертел её двумя пальцами! Пасха была невесёлая: папа — в тюрьме, мама — в больнице, Герцке — в солдатах. Бабушка и Янкеле одиноко сидели за праздничным столом. Вдруг стукнула дверь, на пороге появился высокий бородатый солдат. Янкеле испугался. Солдат схватил его и бабушку и стал душить. Янкеле закричал, а бабушка заплакала: — Как ты похудел, как почернел! Что они с тобой сделали? Это был Герцке. Он расшиб на манёврах колено, и его послали домой, на
испытание. Янкеле отвык от дяди, стеснялся и говорил ему «вы»: — А где у вас ружьё? А вы можете из шинели такой хомут сделать, как у всех солдатов? А кокарда у вас серебряная или так только? Но, когда солдат Герцке побрился, скинул сапоги, и портянки, и ремень, и шаровары, лёг и укрылся одеялом, он снова стал дядей Герцке. Янкеле перестал стесняться. Они легли вместе, как раньше, и Герцке шёпотом рассказывал ему, как ротный дрался кулаком, а полуротный ладонью и как обучали разговору: «Так точно, ваше благородие!», «Не могу знать, ваше благородие!» — А генералом, Герцке, ты будешь? — спрашивал Янкеле. — Чего захотел — генералом! — А полковником? — Нет, ни полковником, ни даже ефрейтором, а так и буду, какой есть: нижний чин. — Почему нижний? — Значит, ниже всех. — Почему ниже? Ты ведь высокий! — Спи! — сказал Герцке. — Спать команда была! Янкеле повернулся к стенке, долго лежал с закрытыми глазами, потом снова задвигался: — А в иллюзионе новая комедия: «Тётя Пуд и дядя Фунт». — Тётя Пуд? — улыбнулся Герцке. — Завтра сходим обязательно. Янкеле заснул счастливый. А когда проснулся, в комнате было полно народу. Пришла галантерейщица Хана, сапожник Коткес, фельдшер Лёва — «Скорая помощь». Лёва долго щупал Герцкино колено, потом сказал: — Вам повезло, Герцке, вы, кажется, всерьёз охромели. Бабушка засияла всеми морщинками: — Я же знала, что он у меня удачник! Только к вечеру Янкеле удалось вытащить дядю из дому. Они пошли по главной улице, как в доброе старое время. Правда, солдат Герцке — это уже не прежний весёлый дядя Герцке. Он не вертел тросточкой, не напевал: «Лопни, но держи фасон!» — он шёл медленно, чуть припадая на левую ногу, и то и дело отдавал честь проходящим офицерам. У входа в иллюзион Янкеле дёрнул дядю за мохнатый рукав: — Офицер! Герцке поднял было руку, но сразу же опустил её: — Дурачок, это же простой швейцар! Янкеле виновато засмеялся, взял у Герцке денег, прошёл мимо швейцара в ливрее с галунами и купил два билета в ложу — всё-таки не каждый день приезжают дяди-солдаты! В ложе у барьера сидел важный офицер с дамой. Герцке отдал честь и тихонько уселся сзади, но тут офицерский стул заскрипел, шпора звякнула, офицер обернулся и тоже заскрипел: — Нижним чинам здесь, предполагаю, не место! Появилась билетёрша: — Солдатик, твоё место там, на галёрке. Сюда тебе нельзя. На экране уже прыгали и кривлялись дядя Фунт и тётя Пуд. — Герцке, — сказал Янкеле, стараясь не заплакать, — поедем лучше в Дворянский… сад… Они вышли на улицу и подбежали к конке. Кондуктор в окне закричал: — Нижний чин, не цепляйся! Не видишь — площадка забита! — Дяденька, вагон же пустой! — Нижним не дозволяется! Он свистнул, замученные лошади дёрнули, облупленная конка покатилась по рельсам. Янкеле ошарашенно оглянулся на дядю. Герцке уныло стоял посреди улицы, поминутно озираясь, не проходят ли офицеры. Тускло блестела кокарда, из-под шинели высовывались кривые носы солдатских сапог, на плечах зеленели солдатские погоны. Он бодрился: — Ничего, Яшкец, мы живо дойдём! По-военному. Полк, становись! Ра-авняйсь! Выше головки! Убрать брюхо! Ешь глазами начальство! Шагом арш! Ать-ва, ать-ва! И «полк» зашагал: ать-ва, ать-ва, ать-ва… За высоким забором Дворянского сада гремела музыка — играли знакомый «Варшавский вальс». У ворот висела ржавая вывеска:
ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) Хождение по газонам.
б) Распитие спиртных напитков на траве.
в) Прогуливание собак.
г) Нахождение нижних чинов как в одиночку, так и более.
Раньше они её даже не замечали. Янкеле закусил губу, Герцке потоптался на месте, сплюнул, потом хлопнул Янкеле по плечу: — Э, была не была! Лопни, но держи фасон, Яшкец! Он приосанился, подравнял фуражку, чтобы кокарда была против носа, подтянул ремень, обдёрнул шинель, расправил плечи и прошёл через ворота. А Янкеле — за ним. Дружелюбно шелестели знакомые липы. Вот любимая скамейка — теперь она не зелёная, а серая. Вот будочка, где всегда пили «дедушкин» квас; там другой продавец, неприветливый. Вот площадка для танцев, вот раковина для духовых музыкантов… Янкеле потянул Герцке за рукав: — Кто это, Герцке? — Где? Вдали, в глубине аллейки, двигался толстый старик с длинными белыми усами, с белой, расчёсанной надвое бородой, с красными полосами на синих штанах, с медалями, эполетами, крестами и шнурами. На нём была серая шинель на малиновой подкладке, в руках — короткий гибкий хлыст. Рядом, по песку, катился малюсенький белый пёсик на цепочке. — Собачка! — обрадовался Янкеле. — Значит, ничего, можно. А кто это, тоже швейцар? Но Герцке не слушал его. Герцке шагнул к танцевальной площадке, поднял руку и крикнул негромко: — Ядвига! Янкеле оглянулся. На площадке в нарядном, блестящем платье, в лакированных туфельках, освещенная луной и газовым фонарём, стояла Ядвига. Рука её в перчатке до локтя лежала на плече франтоватого кавалера. Она посмотрела вниз, на тёмную аллейку, поискала глазами Герцке, нашла его и долго разглядывала кокарду, погоны, сапоги… Но вот снова грянула музыка, кавалер сказал что-то, подхватил Ядвигу, закружил, она засмеялась и пропала в толпе танцующих… Янкеле боялся взглянуть на Герцке. Вдруг сзади что-то рявкнуло: — Смирно-о! Устава не знаешь! И тоненьким, противным голоском залаяла собачка. Это был не швейцар — это был настоящий «полный генерал»! Он был красный, красней своей малиновой подкладки, он топал ногами и, брызгаясь слюной, кричал: — Во фрунт! Во фрунт за двадцать шагов! — и вдруг, подняв хлыст, полоснул Герцке по больной ноге. Янкеле обмер. А Герцке стоял, вытянувшись, бледный, как бумага, и, не мигая, точно слепой, смотрел на генерала. Худая рука, отдающая честь, мелко-мелко дрожала около козырька солдатской фуражки. Левая нога его не выпрямлялась. — Как стоишь, мерзавец? Издеваешься?! — И генерал снова хлестнул Герцке по колену. Янкеле вдруг завизжал, кинулся к генералу и всеми зубами впился в генеральскую ногу — там, где красная полоса. Нога дёрнулась, обернулась острым носком и отшвырнула Янкеле к железной ограде танцевальной площадки. Он остался лежать, уткнувшись головой в песок. Он хотел позвать Герцке, но что-то душило его, рот не слушался, и получалось только мычание: — Ге… гы… гe… Янкеле заболел. Его лечил Лёва — «Скорая помощь». Он сказал, что у мальчика мудрёная болезнь — называется нервный шок. — Пускай шок, — говорила бабушка. — Но почему он заикается? Этого Лёва — «Скорая помощь» не знал и вылечить не сумел. Янкеле так и остался заикой.
СВИДАНИЕ
Холодно! Зато какие красивые цветы на стекле! Это мороз нарисовал. Янкеле так не умеет. А наверное, где-нибудь на самом деле растут такие… Янкеле подышал на цветы, оттаял дырочку и смотрит во двор. Там мальчишки лепят из снега городового. Сразу видно — городовой: толстый, шашка на боку и погоны из двух щепок… Дырочка на стекле затягивается. Янкеле дышит на пальцы, раскладывает на столе цветные карандаши и задумывается. Что рисовать? Дома он уже рисовал, зверей тоже, людей тоже… Что ещё есть на свете?.. Был бы папа, он бы сказал. Янкеле бросает карандаш. Без папы, аи, как скучно! Маме ничего — она себе уходит на фабрику, бабушка тоже пропадает со своими бидонами, а его они оставляют целый день мёрзнуть и мучиться без папы… Был бы папа, он, наверное, сейчас истопил бы как следует печку и стал бы учить Янкеле русским словам. Папа их знает очень много и даже самые трудные. Янкеле тоже знает несколько: «копейка», «мальчик», «баня», «солдат», «пошёл вон» и другие. А вчера он узнал новое слово. Мама, придя с фабрики, сказала: — Бабушка, говорят, после суда можно получить свидание. — Что, что? — не понял Янкеле. — Свидание — значит, можно поехать к папе повидаться, поговорить. — К папе! — запрыгал Янкеле. — К папе! Я тоже поеду на свидание. Хорошее слово, только трудное. Не то что «копейка»: по-еврейски «копейка» и по-русски «копейка». По-еврейски «солдат» и по-русски «солдат». Почему это не сделали, чтобы все говорили на одинаковом языке?.. Чтобы всем было понятно, что хлеб — хлеб, а стол — стол! Янкеле берёт карандаш и красным концом старательно рисует хорошее слово: «свидание». Вечером он пристаёт к маме: — Когда же мы поедем на свидание? Мама пахнет табаком. Она устало сидит на сундуке и жёлтыми, табачными пальцами перебирает получку. Янкеле трогает тёплые деньги. — Мама, когда я вырасту, я буду каждый день приносить получку! Мама обнимает его и даёт копейку. Янкеле прячет её в коробочку. — Папе отвезу, — важно говорит он. — А когда же мы поедем всё-таки? — Ещё не пускают, золотко! Янкеле берёт маму за руку: — Знаешь, отдай им получку, тогда пустят на свидание! Мама качает головой: — Нашей получки не хватит, Янкеле: им большую получку надо! Она кладёт на сундук подушку, Янкеле ложится. Он закутывается с головой в одеяло. — Ты смотри без меня не уезжай на свидание! — и поворачивается к стенке. Приходит бабушка, но Янкеле не слышит. Он далеко, он поехал на свидание. Вот он уже сидит у папы на коленях и сосёт большую конфету. А в одной руке у него ещё яблоко. А в другой много разных денег. А папа подбрасывает его на коленях, будто Янкеле скачет на коне… Янкеле смешно, конфета подпрыгивает во рту, деньги звенят, Янкеле смеётся. Он всё смеётся, дёргает папу за усы, будто за вожжи, и кричит: «Тату, н-но… н-н-но…» Такое хорошее свидание! Утром он рассказывает: — Бабушка, мне снилось свидание! Бабушка в валенках стоит у двери: — Вставай, котик, я ухожу! Янкеле сбрасывает одеяло: — Вот поеду к папе, расскажу, как вы меня оставляете. Я ему всё-всё расскажу! И про свадьбу у Мошковских, и как ты бидон опрокинула, и… как мама таракана тогда испугалась!.. Нам с папой есть о чём поговорить! Только бы скорей пустили, а то ещё всё перезабудешь! Долго не пускали на свидание. Уже и зима кончилась, стало тепло, цветы на стекле пропали, снежный городовой за окном похудел и покосился… В один из таких весенних дней прибежала мама. — Янкеле, бабушка! Пускают! Пришла бумага! — Она целовала Янкеле, она душила его. — Пришла! — кричал Янкеле. — Бумага! А бабушка, глядя на них, уголком платка утирала глаза… В пятницу вечером мама вымыла Янкеле голову. Она больно скребла ногтями, но Янкеле терпел. Пускай папа видит, какой он чистый, и даже шея чистая. Потом собрали передачу: мама — папиросы, бабушка — тёплые носки, а Янкеле — картинки и копейку. Получилась большая передача. В субботу встали рано и поехали. А бабушка осталась дома. Была хорошая погода. В лужах плескалось солнце. По широким канавам катилась мутная вода. Янкеле крепко держался за маму. Они прошли через Рыбный базар, мимо синагоги, свернули на проспект и вышли к вокзалу. Янкеле первый раз в жизни едет в поезде. Вагоны — всё равно как дома, а поезд — целая улица разноцветных домов. Жёлтые и синие — это первый класс, там богатые. Но в третьем классе тоже хорошо, и всё равно можно стоять у окна. Голые деревья, чёрные поля, серые избы с соломенными крышами, тень от паровозного дыма, оборванные мужики в лаптях — всё это бежало назад, в Вильну… Прошёл кондуктор: «Господа пассажиры, предъявите билеты!» Янкеле показал свою половинку. — Мама, — тихо сказал он, — по-русски «билет», и по-нашему тоже «билет»! Мама ответила: — Правда, Янкеле… Не верится, что мы его скоро увидим. И, когда уже приехали в тот город и подходили к тюрьме, она повторила: — Не верится… Мама зашла в контору за пропуском. Янкеле разглядывал высокую тюремную стену. Стена была старая, во многих местах обвалилась штукатурка, а наверху даже выросла трава. Там, за стеной, папа! Янкеле прижал к груди узелок с передачей. Сейчас исполнится его сон. Только Янкеле не будет сидеть у папы на коленях — он уже большой. Он просто обнимет папу, они расцелуются и поговорят — им с папой есть о чём поговорить! Если же папа очень захочет, Янкеле немножко посидит у папы на коленках, но недолго. За стеной было тихо. Воробышек вспорхнул с мостовой, устроился на стене, оглянулся и — чик-чирик — полетел на тюремный двор. — Хорошо воробеичикам!.. — сказал Янкеле, когда мама вышла, и показал на часового у ворот: — Это стражник, да? — Ша, ша, Янкеле! — сказала мама. Стражник посмотрел на пропуск, тяжёлая калитка на колесике с грохотом приоткрылась, они вошли — и Янкеле стало немного страшно. Сзади — высокая стена, ворота, стражник с ружьём. Впереди — большой дом с решётками на окнах и снова стражник. Янкеле крепче схватился за маму. Мама сегодня не пахла табаком, на ней было длинное нарядное платье с газовой вставочкой на груди, как у мадам Мошковской. Край маминого платья тянулся по камням тюремного двора. Они подошли к железной двери. Там стоял стражник. Он прочитал пропуск: — Иди, дамочка! Политические — прямо и направо! А Янкеле он схватил за плечо: — А паренёк пускай здесь обождёт! Янкеле съёжился. Мама испугалась: — Почему здесь? — Более одного посетителя, — ответил стражник, — к заключённому не полагается! — Господин часовой, — сказала мама, — посмотрите на него — он же ещё совсем маленький! Она погладила серый рукав часового. — Не могу, — ответил стражник. — Закон! Яикеле изо всех сил вцепился в маму. Она пригнулась к нему и тихо сказала: — Янкеле, ты же умненький, ты подождёшь, да? Янкеле смотрит вниз, на каменный пол, на громадные рыжие сапоги стражника. Как? Он не пойдёт к папе на свидание? Не расскажет ему про всё? Не посидит с ним, не обнимет его? Не поднимая головы, Янкеле говорит: — Пускай меня режут на кусочки, я пойду! Мама растерянно оглянулась на часового. — Мадам, — сказал стражник, — вхожу в положение. Можно сделать так: один пойдёт, а когда вернётся, другой пойдёт. — Слышишь, Янкеле, — сказала мама, — я быстренько… А потом ты себе пойдёшь… Но Янкеле, не выпуская маминого платья, повторял: — Я хочу к папе! Я не останусь! Я хочу к папе! Мама вздохнула, поправила на Янкеле ремешок, косоворотку, пригладила его волосы и сказала: — Иди! Только недолго, чтоб я тоже успела. И вот Янкеле пошёл по холодному коридору к папе. Вместе со всеми он попал в большую странную комнату. Посередине сверху донизу тянулась частая решётка. За решёткой стоял стражник. За стражником была ещё решётка, и за ней — люди! Точно звери в цирке на Большой Погулянке! И вдруг Яикеле услыхал такой знакомый голос: — Янкеле! — Тату! — закричал на всю камеру Янкеле и побежал на голос. — Тату! За двойной решёткой стоял он — папа! Только теперь у него чёрная борода, коричневые штаны, куртка и круглая шапочка. Янкеле протянул руку сквозь решётку. Папа тоже хотел продеть руку, но она не проходила между железными прутьями; он помахал ею: — Янкеле, Янкеле! Где мама? — Тату, она здесь… там. Мы тебе передачу принесли. Там картинки, так это от меня… А бабушка тебе велела… — Убрать руки! — закричал стражник между решётками и подошёл к Янкеле. — Ты, мальчик, по-своему не лопочи, здесь не синагога! Янкеле спрятал руки, а папа сказал: — Нельзя по-еврейски, Янкеле, говори по-польски! Янкеле заговорил, как умел, по-польски, но стражник снова перебил: — Это что за пш-пша, пши-пши? Сказано: не разрешается!.. Янкеле замолчал. Сжимая изо всех сил холодное железо решётки, он молча смотрел на папу и вспоминал русские слова: «солдат, баня, пошёл вон, мальчик…» Папа сказал: — Янкеле, ничего… не плачь… Ты лучше позови маму. Она всё расскажет. Янкеле не хотелось уходить. Он всё смотрел и смотрел на папино лицо, на папины руки, на папины глаза… — Позови маму, — говорил папа, — а то скоро выгонят. Янкеле посмотрел в последний раз на папу и побрёл к выходу. Мама кинулась к нему: — Нашёл папу? Янкеле молчит. — Что ты молчишь? Скажи что-нибудь! Янкеле молчит. Мама побежала по коридору. Стражник поставил ружьё и добродушно спросил: — Ну как, молодой человек, потолковали с папашей? Янкеле молчит. — Или онемел, — усмехнулся стражник, — на радостях? Янкеле вдруг покраснел, отступил немного а крикнул, заикаясь: — По…шёл вон! Сол-дат!.. Сел на каменную ступеньку и заплакал.
ПРО ЕФИМА ЗАКА
„РОГ ИЗОБИЛИЯ"
У меня было четыре тёти с папиной стороны и одна — с маминой. Её звали тётя Бася. Она приходилась дальней родственницей знаменитому в нашем городе живописцу вывесок Ефиму Заку. Его яркие, цветистые вывески не давали мне покоя. Я упрашивал отца: — Папа, отведи меня к Заку! Я хочу учиться у Зака! Отец отвечал: — Дурачок, для этого надо же иметь талант! У тебя разве есть талант? — Есть! — Глупость у тебя есть, а не талант! Иди! Я убегал к тёте Басе. Она у нас была фабрикантом. У неё была своя фабрика. Хозяином была тётя Бася, рабочим — тётя Бася. В первой смене работала тётя Бася, во второй — всё та же тётя Бася. У фабрики была даже вывеска кисти Ефима Зака:
ПАКЕТЫ, БУМАЖНЫЕ МЕШКИ И КУЛЬКИ
СКОРО!!! ТОЧНО!!! ПРОЧНО!!!
Буквы были замечательные, точно печатные. По краям извивались узоры. Я ныл: — Тётя Бася, вы же ему родственница, — отведите меня к Заку! Бася густо смазывает клейстером листы из старых журналов: — А способность? Хороший пакет тоже не всякий сделает, а тут — художественное дело. — Пусть он меня испробует. — Ну хорошо, только положи пакет, не мешай! У тёти Баси была моя «библиотека». Книг у меня не было, и я читал пакеты. Попадались очень интересные. В один пакет я залез с головой — прочитать изнанку. Бася рассердилась: — Положи! Разорвёшь! Я взял другой. «Если на вас, как из рога изобилия, сыплются неприятности, не падайте духом. Наши безвредные укрепляющие капли…» Остальное было загнуто и заклеено. — Тётя Бася, что такое «рог изобилия»? Тётя Бася бросает работу, упирается кулаками в стол: — Ты перестанешь мешать? Тут срочный заказ для мадам Болтянской, а я ещё половины не сделала! Вечером я спросил у папы: — Папа, что это значит: «рог изобилия»? — Кого рог? — удивился папа. — Изобилия? Хм! У кого мы имеем рога? Мы имеем рога у коровы, у козы, у… — Он задумался, потёр подбородок и вдруг показал на ходики. — Десять часов, а ребёнок ещё не спит… Марш в кровать! Два дня я ко всем приставал: — Что такое «рог изобилия»? Бабушка отвечала: — Мало ли какую чепуху печатают в этих журналах! Мама отвечала: — Я тебе сто раз говорила: не читай эти дурацкие пакеты! Дядя объяснил: — Изобилие — это, наверное, толстая корова, и это её рога. А тётя сказала: — Это такой рожок. Я побежал к тёте Басе, стал перечитывать: — «Если на вас, как из рога изобилия…» Бася перебила: — Сегодня утром я его встретила на базаре. Покупает какую-то олифу. Я вскочил: — Ефима Зака? — Ага! — Ой! Что он сказал? Тётя Бася нарочно молчит, смазывая и загибая листза листом. Она сделала полдюжины пакетов и только после этого ответила: — Он сказал: «Вы же знаете, Бася, у меня одни дочки, и хороший мальчик мне не помешает». Я сказала: «У меня есть для вас хороший мальчик. Лучшего не найдёте: мой племянник, сын щетинщика Липкина». Зак сказал: «Приведите». В пятницу мы с тобой пойдём. Я побежал домой, рассказал маме про Зака, рассказал папе про Зака и стал собирать для Зака свои рисунки. В пятницу мама нарядила меня, точно па свадьбу. — Смотри, будь умным мальчиком, слушайся тёти Баси… Басенька, ты поговори там, упроси Ефима! — Он будет смотреть только на способность… — ответила тётя Бася. — Идём скорей, а то у меня фабрика стоит! Она зашагала быстро, как солдат. Я едва поспевал за ней. По дороге нам попадались знакомые вывески — портные, парикмахеры, сапожника, лавочники, — на каждой в углу была подпись: «Художественный салон Е. Зак». Спотыкаясь, я бежал за тётей и мечтал: «А вдруг когда-нибудь и моя работа будет висеть по всему городу, и все будут читать: «Гирш Липкин, Гирш Липкин»! Я волновался. Тётя ворчала: — Каждый час — это полсотни пакетов! Кто мне их вернёт? Зак жил: Тюремная, угол Мощёной. Мы долго шли вдоль глухого забора. Было лето, цвели каштаны, громадные цветы сияли на них, точно свечи. — Тётя Бася, вы ему не говорите, что мне девять. Скажите — одиннадцать! — Что ты меня учишь! Она толкнула калитку, и я увидел Зака. В тени каштана он писал вывеску:
ДИЧ
Он был маленький, с большой лысой головой. — А, Баселе? — сказал он и бросил кисти в ведро. — Заходите, фабрикантка. Как у вас там — всё срочно и прочно? Тётя засмеялась. Зак обернулся ко мне: — Как тебя зовут?.. Гирш? Гирш — значит олень. Посмотрим, оленёнок, какие у тебя рожки, что ты умеешь. Я вспомнил «рог изобилия», но спросить не решался и молча подал Заку рисунки. Он посмотрел: — Молодец! А читать ты знаешь? Я взглянул на вывеску и отчеканил: — Дичь! — И вдруг забормотал: — Только здесь, в конце, надо мягкий знак… Я испугался и спрятался за тётку. Тут сам великий Зак немного смутился: — Скажите, какой министр! Он даже знает мягкие знаки! Ещё один вопрос, и мы его отпустим. Зайдёмте в салон!.. Шейна, принимай гостей! В комнате было тесно, грязно, убого. Шейна положила на голый стол ржавую селёдку и две луковицы. Пахло пелёнками, масляной краской, замазкой. Вдоль стены, в углу, затылками к нам стояло пять или шесть оборванных девочек. Они что-то ели — верно, что-то очень вкусное, так как все громко чавкали, причмокивали, облизывались, шумели: — Ривочка, а я вон то кругленькое съела. — Нет, кругленькое моё, я его буду есть. — А этот пряник зато мой! И вон тот! И та рогулька! — А мой зато с изюмом! — А я вон ту булочку ем, эту баранку и ещё вон ту халу!.. Они ели с таким аппетитом, что не заметили нас. Зак сказал: — Разойдись, обжоры! Дети расступились, и я увидел красивую вывеску. На ней был нарисован громадный, завитый в десять колец бараний рог. Из него дождём сыпались плюшки, баранки, сайки, пирожные, халы, калачи, крендели… Я проглотил слюнку. Зак сказал: — А это как называется? — Это… какой-то рог… И вдруг у меня само собой вырвалось: — Это же, наверное, рог… этого… изобилия! Зак был потрясён: — Беру его! Пускай завтра приходит с папашей. Это же готовый профессор! Бася сияла: — Я вам говорю — он все мои пакеты перечитал! Так я поступил к великому Ефиму Заку. С тех пор прошло много лет. Но всякий раз, когда мне попадается выражение «рог изобилия», я вспоминаю детей Ефима Зака — как они, причмокивая и облизываясь, лакомились у нарисованного на железе громадного «рога изобилия».
ТРОПИЧЕСКИЙ ЗВЕРИНЕЦ
Моим первым учителем по рисованию был живописец вывесок Ефим Зак.
Его яркие вывески украшали наш скучный городишко.
Для портных он рисовал длинных, тонких дам в невероятно пышных туалетах. У нас таких нарядных дам никогда не было. Мне казалось, что всё это графини или принцессы.
Парикмахерам он изображал широкоплечих, краснощёких франтов с усами, цилиндрами и тросточками. Усатые франты презрительно поглядывали на убогие наши улицы. Я был уверен, что это министры или, по крайней мере, купцы первой гильдии.
Часами я разглядывал вывески Ефима Зака. По ним я учился читать и писать.
Однако всю силу его таланта я понял только тогда, когда к нам приехал «Тропический зверинец братьев Рабинович».
Сначала приехал старший Рабинович. Он заявил:
— Для развёртывания нашего тропического зверинца необходимо большое и художественно разрисованное помещение.
Он стал осматривать город. На Базарной площади возвышался длинный, просторный амбар сеноторговца Антонова. Но стены его были разрисованы-разве только ругательными словами.
Аптекарский ученик Цирельсон, член Общества покровительства животных и большой любитель привязывать к кошачьим хвостам пустые жестянки, сказал:
— Послушайте, а Ефим Зак на что!
Все обрадовались:
— Правильно, Ефим Зак!
— Конечно, Ефим Зак!
— Обязательно, Ефим Зак!
К живописцу отправилась делегация:
— Так и так, господин Зак, приедет зверинец, надо разрисовать антоновский амбар.
— Я согласен, — ответил живописец. — Мне надоели портные «из Варшавы» и сапожники «из Парижа». Но что скажет Антонов? Он хозяин, не я!
Пошли к сеиоторговцу. Антонов, как и полагается купцу, сидел за самоваром. Он удивился:
— Какой может быть зверинец в нашем уезде?
— Тропический!
— Тропический? — Он вынул изо рта мокрый кусочек сахару и положил на блюдце. — А разрешение от полицмейстера?
— Вот оно! — сказал Рабинович.
— А зачем нам зверинец? Конечно, амбар у меня сейчас порожний, но звери нам ни к чему. Вот есть у меня Шарик, хватит!
Шарик гремел цепью и скулил под окном.
— Что вы сравниваете? — обиделся Цирельсон. — Лев, царь зверей, и какая-нибудь Жучка или даже Шарик! Мы ведь ваш амбар разрисуем, картинку из него сделаем!
— Ладно! — махнул рукой купец. — Только мне двадцать контрамарок, а ещё, как взойду, чтобы лев поднимал лапу.
Пришлось всё обещать.
Ефим Зак взялся за работу.
Через несколько дней зверинец открылся. У разрисованного входа стоял и зазывал один из Рабиновичей:
— А вот чудо природы, звери различной породы! Не дерутся, не кусаются, на посетителей не кидаются. Детям — забава, взрослым — наука, билет — гривенник штука!
Я выпрашивал у матери гривенник. Она ругалась:
— Вот ещё зверинец на мою голову! Нету денег, нету! Придёт отец, он тебе покажет зверинец ремнём!
Я тёрся у входа, но Рабинович отпихивал меня своей толстой рукой, продолжая выкрикивать свою «зазывалку».
Я обошёл амбар со всех сторон, разглядывая расписные стены. Все краски, какие только были у Ефима Зака, легли на стены антоновского амбара удивительными животными.
Там были замечательные лиловые львы с ярко-зелёными гривами и оранжевыми хвостами. Свирепые красные тигры с чёрными полосами раскрывали багровые, как огонь, пасти. Синие обезьяны висели в фантастических позах на причудливых тропических деревьях. Великолепные жёлтые слоны с непомерно длинными хоботами стояли в голубой пустыне. Пёстрые, в крапинку, крокодилы высовывали из небесно-синей воды зубастые челюсти.
Тропические звери сводили меня с ума. Пять раз обошёл я амбар справа налево и слева направо — нигде ни щёлочки, ни дырочки. Я поплёлся домой. Потом мама послала меня за хлебом. Я взял корзинку и вышел на улицу. Ноги сами собой привели меня к Базарной площади. Завидев разрисованные стены, я не выдержал: пускай ругают, пускай без хлеба, пускай ремнём — теперь всё равно!
Я купил билет и прошёл в зверинец.
Там было полутемно и душно. Постепенно я стал различать клетки и надписи на них.
Вот самая главная надпись: «Царь зверей — африканский лев». Под ней, за решёткой, в тёмном углу спал и сам «царь» — дряхлый, облезлый лев с вытертой гривой, худой и невзрачный.
В клетке рядом скучала обыкновенная рыжая кошка, над ней была надпись: «Не дразнить — карликовый тигр».
В клетке с надписью «Слон временно заболел» — сидели два зайца.
Ещё там был «кровожадный орангутанг» — забитая мартышка, вроде тех, что вытаскивают «счастье» у шарманщиков.
Под вывеской «Белый арктический медведь» сосал лапу бурый медвежонок. А вместо «сибирского волка-материка» по клетке металась лохматая дворняга.
Помню, я чуть не заплакал и побежал к выходу. Там стоял Рабинович:
— Меня за хлебом послали, а я сюда… Отдайте деньги!.. Я не знал…
— Что? — Рабинович засмеялся, потирая руки. — Проваливай, не то брошу тебя льву в клетку!
Я закричал:
— Разве это лев?! Это обман, а не лев! Вон там на стене настоящие львы и тигры, а здесь обман, и отдайте мне десять копеек назад!
Рабинович щёлкнул длинным бичом:
— А ну, марш отсюда, пискунчик!
Я выскочил на улицу. Домой идти без хлеба я боялся и всё бродил вокруг амбара и всё смотрел и смотрел на нарисованный зверинец, который оказался в тысячу раз лучше настоящего. Потом отец нашёл меня возле амбара, привёл домой и отстегал ремнём. Я заснул в слезах. Зато мне всю ночь снились лиловые львы, малиновые тигры, жёлтые слоны, синие обезьяны и пёстрые крокодилы — весь «тропический зверинец» великого Ефима Зака.
НАТЮРМОРТ
Весь угол от комода до маминой кровати носит гордое название: «моя комната». Здесь я хозяин! Стенку я залепил картинками из газет и журналов. Тут всякие. Вот слон Ямбо из Одессы. Вон артистка иллюзиона Вера Холодная. Вот мировой силач Мацист. Вот красавица с замечательным именем Метаморфоза. От неё вкусно пахнет мылом. Вот танцующая парочка, а под ней стихи:
Падекатр танцевать—
Всё одно маршировать:
То налево, то направо,
А руками хлопай браво!
Мама каждую пятницу соскабливала картинки, ругалась: — Опять налепил! Опять клопов разводить! Но я их снова наклеивал. Доставать картинки было нелегко, особенно виды. Это такие открытки: с одной стороны пишется, кому что надо, а с другой — картинка. Один вид я выпросил у нашей соседки Матильды Казимировны; ей прислал жених из Варшавы. Там были нарисованы какие-то заграничные фрукты, цветы, ваза, даже ковёр. На обороте была напечатана непонятная надпись. Я показал вид Ефиму Заку. Зак бросил работу — у него был срочный заказ для уездной управы — и долго любовался чудесной картинкой: — Оранжевые — это апельсины. Тёмно-красные — это гранаты. А это, если я не ошибаюсь, настоящие ананасы… Да, Гиршеле, это мастер! Он мог бы сделать бакалейную вывеску первый сорт! — Учитель, а что там на обороте? — На обороте? «Моя золотая, бесценная Матильд очка, я…» К нам не относится, Гиршеле, не будем соваться в чужое дело. — Нет, там ещё печатными! Внизу! — Печатными — другой разговор. — Он снова стал читать — «Ант-вер-пен-ский му-зей». Так! «Не-из-вест-ный ху-дож-ник сем-на-дца-то-го века»… Такой мастер и вдруг — неизвестный! «На… на…» — Он запнулся. — Дальше, Гиршеле, напечатано на докторском языке, на котором пишут рецепты… Постой! — Он позвал старшую дочку: — Мира, сегодня твой Цирельсон придёт? — Почему «мой»! — смутилась Мира. — Придёт, наверное. — Скажи нам тогда. И не красней, пожалуйста! Цирельсон, аптекарский ученик и друг Миры, пришёл к обеду. Зак показал ему вид: — Прочитайте-ка «рецепт»! Цирельсон прижал к рыжеватым бровям пенсне на шнурочке и с важностью произнёс: — На-тюр-морт! Мира гордо улыбнулась. Зак спросил: — А что это такое? — Натю-ююр… — протянул Цирельсон. — Это, скорей всего, натура, а «морт» — значит мёртвый! Всё? — Не совсем, — отозвался Зак. — Что же это всё-таки значит? Мира покраснела. Цирельсон размахивал шнурочком: — Ммм… Я ж вам объяснил… А если хотите подробней, зайдите как-нибудь в аптеку. Сейчас мы с Мирочкой торопимся. Он бросил открытку на стол и увёл Миру в иллюзион. Зак почесал голову, на которой когда-то росли пышные волосы, и сказал: — Что же мы имеем? Мы имеем «натуру» и «мёртвый». Мёртвая натура? Я знаю, натура бывает широкая, испорченная, сильная, но… мёртвая? Я разглядывал апельсины. Вдруг меня осенило: — Учитель, помните, вы говорили: надо рисовать с натуры и… — Умница, — перебил Зак, — золотая голова! Ну конечно же, всякие штуки — фрукты, посуда, вещи — это же мёртвая натура. Натюрморт! Я был польщён. Набравшись храбрости, я сказал: — Учитель, а мы тоже неизвестные художники! Давайте наберём всякую мёртвую натуру, разложим, как на картинке, и нарисуем. А что? — Для Антверпенского музея? — засмеялся Зак. Он стал внимательно изучать открытку. — Какие краски! И это у них называется неизвестный художник! А где мы с тобой найдём такие ананасы и апельсины? Греческую вазу? Персидский коврик? Впрочем, постой! — Он живо отодвинул «срочный заказ», вышел из комнаты и через минуту вернулся с тремя большими луковицами: — Вот тебе апельсины. Разложи их справа, как на картинке. А я схожу за этими… за гранатами. Он сбегал в кладовку и принёс несколько красноватых картофелин. — На картинке они слева, и у нас они будут слева. Он снова взглянул на открытку: — Посерёдке у этого неизвестного художника написан кавун. Этого добра у нас много. Это же, слава богу, не ананас. Мы с Заком пошли на базар и выбрали хороший, могучий арбуз, не хуже, чем на открытке. — Теперь, — сказал Зак, которому затея стала нравиться, — ты должен раздобыть приличную греческую вазу. Я побежал домой, долго тёрся на кухне. Как только мама отвернулась, я схватил высокий глиняный горшок, в котором она маринует селёдку, выплеснул остатки и, обняв его, понёс к. Заку. Учитель был доволен: — Как раз то, что нужно. Настоящая музейная вещь! Ставь сюда! И он торжественно опустил в «вазу» бумажную розу, которая обычно висела над зеркалом Миры. Теперь у нас почти всё, как у неизвестного художника семнадцатого века. Дочки Зака — Сонечка, Басенька, Ривочка — с жадностью следили за нашими приготовлениями. А когда мы вырезали арбуз, как на открытке, и положили ярко-красный, сочный кусок около «вазы», поднялся рёв: — Папа, дай! Папа, арбузика!
Учитель был доволен: Как раз то, что нужно. Настоящая музейная вещь!
Но Зак выставил всех за дверь и накинул крючок: — Нет, Гиршеле, ты посмотри, какой у нас получается натюрморт. Это же прелесть что такое! Мы быстро набросали контур и взялись за краски. Весело блестели луковицы. Красным фонариком сияла роза. Зак, не отрываясь от работы, говорил: — Мой знаменитый земляк Исаак Левитан
учил меня: «Главное, Ефим, это натура! Без натуры художник высыхает!» За дверью плакали дети. Зак время от времени покрикивал: — Тише там! Сонечка, уведи Ривочку!.. И ещё он говорил: «Искусство требует жертв. Потому что…» В дверь забарабанили изо всех сил. Зак взмолился: — Детки, перестаньте стучать! Но это были не «детки». Это была сама жена Зака, Фейга. — Ефим, открой сию минуту! Зак побледнел и сладким голосом сказал! — Фейгеле, мы сейчас немножко заняты. — Открой сию минуту, или ты получишь такой скандал!.. Зак поднялся, виновато посмотрел на меня и откинул крючок. Фейга ворвалась в комнату: — Ищу, ломаю голову: где лук? «Дети, где лук?» — «Папа взял!» Она шагнула к натюрморту. — Фейгеле, — сказал Зак, — не трогай. Это же апельсины! — Апельсины? — Она засмеялась. — Дети, он решил стать городским сумасшедшим. Уездная управа будет ждать, а он будет представлять цирк. — Она схватила луковицы. — Апельсины на твою лысину! И вышла. Зак печально улыбнулся: — Ничего, Гиршеле, Искусство требует жертв… Вдруг я услышал голос мамы: — Фейга, мой бездельник у вас? — У нас, у нас! Зайдите полюбуйтесь на эту сумасшедшую парочку! Мама, пугливо озираясь на Зака, вошла в комнату и зашептала: — Ты брал маринованный горшок? — Мама, горшка я не брал. Я взял только греческую вазу и скоро верну! — Что? — Она растерялась и холодной рукой пощупала мой лоб. — Там же были две селёдки и ещё хороший хвост. Тут она взглянула на подоконник: — Ой, вот же он стоит! Извиняюсь, Ефим, но я его забираю… Куда ты девал селёдки, я тебя спрашиваю? Подожди, папа всё будет знать! Она взяла нашу «вазу» и шагнула за дверь. Я побежал за ней: — Мама, отдай! Мама, нам только дорисовать! Она отвечала на ходу: — Больше ты у Зака не работаешь. Кончено! Сумасшедший сын мне не нужен. — Мама, постой! Мама, я ж тебе объясню! Она не слушала. Я бежал за ней до самого дома. Там у нас с папой вышел крупный разговор. Под конец он взялся за ремень — он слишком любил маринованную селёдку… Но я удрал к Заку. Учитель, хмурый, невесёлый, сидел на крылечке. Он погладил меня по голове: — Гиршеле, ты не расстраивайся… Получился маленький погром. Я вышел на базар поискать другую вазу, а когда вернулся… Я не дослушал учителя и толкнул дверь… Всё было кончено! Груда арбузных корок украшала подоконник. Бумажная роза валялась на полу. Дети Зака ходили с мокрыми, сияющими рожами. Учитель подолом испещрённого всеми красками халата покорно вытирал щёки то Сонечке, то Басеньке, то Ривочке… Я подобрал бумажный цветок: — Учитель, а как же наш… натюрморт?.. Зак сел на табуретку, взял палитру и, размазывая чёрную краску, сказал: — Пока что, Гиршеле, надо закончить вот этот «натюрморт». А ты свой вид спрячь. Когда-нибудь… в другой раз… Он придвинул к себе начатую вывеску и стал ловко выводить прямые чёрные буквы: УЕЗДНАЯ УПРАВА. Этот шрифт у нас назывался «двойной губернаторский». А я поплёлся домой и прилепил варшавский вид к стене — между мировым силачом Мацистом и душистой красавицей Метаморфозой.
НОС
В десяти, верстах от нас, в губернском городе, открылось «Художественное Имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Терезы Константиновны Училище». Я тогда состоял учеником при живописце вывесок Ефиме Заке. Он относился ко мне хорошо. Он верил, что из меня выйдет второй Исаак Левитан. Он говорил: — Если ты не поступишь в это самое «имени княгини такой-сякой» училище, я тебя знать не хочу! — Разве они меня примут? — А ты пробуй, лезь, добивайся! Как только закончим корову, я сам поеду с прошением! Корову заказал мясник Лейзер Бланк. — Вы понимаете, Ефим, — объяснил он, — мне хочется, чтобы это была медальная корова. Чтобы все части выделялись. Чтобы хозяйки не могли оторваться! Намечая углём
МЯСО ЛЕЙЗЕРА БЛАНКА
Зак говорил: — Вывеска, Гиршеле, должна кричать. Если она молчит, она не вывеска. — Кричать? — Только! Например: у тебя разболелись зубы, ты лезешь на стенку, ты бегаешь по улицам как сумасшедший. И вдруг среди вывесок ты находишь большое чёрное: «ЗУБ». Ты бежишь туда. Помогут ли тебе там, это другой вопрос… Значит, вывеску для дантиста делай: чёрный прямой шрифт на белом, крупно: «ЗУБ» и мелко, косым: «ной врач». И она будет кричать! Он бросил уголёк и стал искать подходящую корову. Мы долго перелистывали замызганный букварь, откуда Зак часто срисовывал разное для вывесок. Хорошей коровы там не было. Зак сердился. Я сказал: — А что, если я схожу в стадо и попробую срисовать с живой коровы? Зак улыбнулся: — Золотая голова! Иди добивайся! Я схватил папку и побежал за город, на луг. Коров я очень боялся. А там ведь не одни коровы, там ещё настоящий бык. Всё-таки я смело шагал по кочкам. И вот я добрался до стада. Пастух Трофим спал под вербой. Коровы с удивлением посмотрели на меня. Я выбрал самую толстую, самую рыжую и стал выполнять её портрет во весь рост. Сначала я то и дело озирался на лежащего в стороне быка. Везде мне мерещились страшные кривые рога. Но скоро я позабыл обо всём и только старался возможно точнее передать все изгибы коровьего тела. Рыжая позировала хорошо. Я весь вместе с папкой отражался в её выпуклом тёмном глазу. Иногда она передвигалась по лугу, и я, спотыкаясь, бежал за ней по кочкам и коровьим «блинам». Злющие мошки и голосистые комары одолевали меня. Я даже не отмахивался — я работал! Скоро портрет был готов. Зак радовался: — Какая тушёвка! Какой глазомер! Вот тебе мои кисти, пиши корову сразу на железе. И, если ты не подашь прошение, я тебя выгоню! Не веря своему счастью, я корову расчертил, увеличил; наколол по контуру дырочки, толчёным мелом перебил рисунок на грунт и стал разрабатывать масляными красками. Я сделал круглый синий глаз, в котором отражаются зелёный луг и голубое небо. Розоватыми белилами тронул хвост, ноги, вымя. Коричневой умброй наметил причудливые пятна на спине. Рога сделал голубые, с зелёными кончиками. Зак подправлял, советовал: — Ярче! Чище клади краску! Чтобы она кричала! Чтобы она пела, наша вывеска! То и дело он вырывал у меня кисть, и я бормотал, суетясь и приплясывая около учителя: — Я сам, я сам… Корова вышла на славу. Когда мы вешали её над лавкой Лейзера Бланка, мясник стоял внизу и, вытирая фартуком руки, говорил: — Эта блондинка мне нравится! Зак показывал на меня: — Ему, ему кричите спасибо! Ого, вы ещё о нём услышите! Лейзер, вы завтра поедете на городскую бойню? Захватите меня. — С удовольствием! — отвечал Бланк, не отрываясь от вывески. И Зак поехал в город, и привёз оттуда два листа гербовой бумаги, и уселся писать прошение.
Его Превосходительству господину директору художественного имени…—
выводил он буковку за буковкой своим самым лучшим шрифтом, «королевским рондо», —
Покорнейше прошу принять…
Он сам отвёз прошение в город и вернулся важный, озабоченный: — Гиршук, послезавтра экзамен. Мясник нас подвезёт… Спросят домашние работы… Где твоя корова? — Я её всю тогда исчертил, испортил… — Эх ты, цыплёнок! Возьми зеркало, рисуй себя, чтобы завтра была домашняя работа. Я рисовал себя в зеркале: унылый нос, испуганные глаза, космы вдоль ушей. Зак всё забраковал. Домашней работы так и не получилось. Пришлось ехать без неё. Рано утром мы пошли к Лейзеру. Городишко ещё спал, хотя петухи уже давно будили его. Мясник выкатил дряхлую окровавленную телегу. Солнце снизу освещало бродячих собак около домика Лейзера, вывеску над крылечком. Зак долго смотрел на неё и вдруг закричал: — Бланк, я хочу украсть у вас вывеску! — Ша! — шёпотом отозвался Лейзер. — У нас ещё спят… Вы с ума сошли! — На денёк! — уговаривал Зак. — Надо же помочь мальчику. Вы сами видите его работу. Эго же второй Левитан! Будьте хоть раз человеком, а не только мясником! Он подтолкнул телегу к дому, забрался на неё и стал снимать с крюков вкусно пахнущую краской вывеску. Бланк шипел: — Я подам в суд! Я буду жаловаться! Вы мне испортите торговлю! — Ничего, ничего, — утешал его Зак. — Вечером ваша красавица к вам вернётся. Мы уложили вывеску на телегу, прикрыли мешком, уселись, и Лейзер погнал лошадь. Всю дорогу он ворчал: — Ефим, вы ненормальный… Н-но, скотина!.. Нормальные так не поступают… Н-но, чахотка! А Ефим Зак за его спиной подталкивал меня локтем, веселился: — Теперь у нас есть домашняя работа. Пускай полюбуются! Такая корова! Через два часа мы подкатили к зданию с колоннами, над которым желтел двуглавый орёл. Швейцар с возмущением посмотрел на наш «парадный выезд». Мясник сказал: — Чтобы вечером вывеска была на месте, Левитаны!.. Н-но, мешок с костями! Зак сбегал в канцелярию. — Сейчас начнётся, — сказал он, вернувшись. — Экзамен лёгкий: кого-нибудь срисовать. Когда тебя примут, я тебя устрою здесь, у сестры. И, когда ты станешь знаменитым, Янкель-Гирш, не забывай старого Ефима Зака, из которого тоже мог бы получиться второй Левитан и… не получился. — Он обнял меня. — Ну, иди! Он остался внизу, около вывески, а мы все, податели прошений, поднялись по широкой лестнице и разошлись по классам. На стенах висели белые гипсовые носы, уши, рты. Я искал: кого рисовать? Но все уже взялись за работу. Податели прошений усердно вырисовывали носы и рты. Мне стало не по себе. Как это рисовать отдельное, точно отрезанное от громадного трупа ухо! Мне достался нос. Большой, прямой, белый, как сахар. Нос — и больше ничего! Справа и слева, сзади и спереди скрипели угольки и тушевальные карандаши. Я тоже стал срисовывать висящий передо мной холодный, бессмысленный нос. Я не слишком вглядывался в его белизну. Скорей избавиться, скорей на улицу, увидеть что-нибудь живое — собаку, лошадь, корову!.. Ломая угольки, я торопливо выводил громадный нос и тёмные дырки ноздрей. Через час раздался звонок, захлопали подставки, задвигались стулья. Служитель стал собирать рисунки. Я побежал к Заку. — Ну? — спросил он издали. — Нос. — Что-о? — Нос… Я рисовал нос… — Чей нос? Что ты болтаешь? — Отдельно нос… и больше ничего. Зак растерялся: — Это, наверное, такая новая система. Ничего… Ты забыл про это! — Он щёлкнул пальцем по железу вывески. И, когда нас позвали в актовый зал на заседание художественного совета, Зак сам понёс нашу вывеску. Под портретами Николая II и «той самой» княгини сидели люди в мундирах и эполетах. Я боялся на них смотреть — они были слишком важные, но Зак их не боялся. Как только председатель вызвал «Липкин Гирш», Зак вскочил и весело сказал: — Он здесь, вот… Это, извиняюсь, мой ученик… — А вы кто? — Кто я? Я живописец вывесок… Тут, из местечка… Исаак Левитан тоже из нашего местечка… — Домашние работы представлены? — Сейчас… — Зак взгромоздил закутанную в мешок вывеску на крытый зелёным сукном стол. — Одна минута… Мешок упал на сукно. Рыжая корова с голубыми рогами спокойно смотрела на председателя. Стало тихо. Кто-то громко и раздельно прочитал: — «Мясо Лей-зе-ра Блан-ка». — Что?! — Председатель махнул рукой, и корова с грохотом полетела на пол. — Да как… да как вы… смеете? Зак побледнел. — Извиняюсь… если это не подходит… Я думал, но ведь мой ученик рисовал ещё нос. Председатель платком вытирал руку: — Николай, подайте лист Липкина Гирша! «Мой нос» появился на столе. — Николай, гипс номер два!.. Спасибо… Теперь, господа, сравните этот благородный греческий нос, — он приподнял бумагу за уголок и показал всему залу, — с этим… горбатым уродством. — Он повернулся к нам. — Ваш ученик, господин маляр, нарисовал свой… свой нос! Да, это он сделал талантливо. Но нас, господа, такой нос не устраивает! Он усмехнулся. И все — сидящие за столом, и вдоль стен, и в креслах, и служитель у двери, — все засмеялись. И под этот смех мы с Ефимом Заком, неся «Мясо Лейзера Бланка», вышли из Художественного Имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Терезы Константиновны Училища…
ПОРТРЕТ
Работы не было. Жена Зака, Фейга, говорила: — Ефим, что ж это будет? Надо за что-нибудь взяться! Ты изверг над детьми… Зак стоял у окна, слушал и пальцем рисовал на запотевшем стекле разные узоры. Потом он широкой ладонью смазал всё нарисованное и сказал: — Не надо нервничать. Кажется, я что-то придумал. Он взял кусок слоновой бумаги, написал на ней красивыми буквами:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Сходство гарантируется.
И повесил плакат над крылечком. Слезая с лестницы, он сказал: — Хорошо, если пришёл бы какой-нибудь богатый, бородатый клиент! Какой-нибудь коммерсант. Я спросил: — Почему бородатый? — Бородатый клиент, — ответил Зак, — это лёгкий клиент. Сделаешь ему бороду, усы — и сразу будет похож. Очки тоже хорошо. Но клиенты не шли — ни бритые, ни бородатые. Время было тяжёлое — война! Никто не хотел увеличиваться. Но вот один раз Фейга, открывая форточку, закричала: — Ефим, встречай! Клиентка идёт! Зак открыл дверь. В комнату вошла молодая, чисто одетая женщина. — Здесь делают портреты? — спросила она, не вынимая рук из белой муфточки. — Здесь, здесь, пожалуйста! — засуетился Зак. — Фейга, стульчик мадмазель! — Не беспокойтесь! А можно посмотреть образцы? — Образцы? Мммм… конечно. Фейга, образцы мадмазель… Нет, постой, я совсем забыл: я же их послал на выставку… эту… в Академию художеств. — В Академию? — почтительно повторила клиентка и присела на краешек табуретки. — А долго это — увеличиться? — Для вас недолго. Сегодня закажете — завтра готово. Тем более, ваше лицо… — Нет, не моё… — Ну, значит, кавалера. Тоже недолго… Клиентка засмеялась, достала из муфточки карточку и протянула её Заку. Я заглянул. Там была изображена кудлатая собачья морда. Зак испугался: — Да-а-а… Это кавалер… — Видите, — стала объяснять клиентка, — у моей хозяйки умер пудель Бижу. Мадам очень убиваются. Они хотят повесить большой портрет Бижу у себя в спальной. Кругом они просили сделать рамочку, обвить её веночком, а внизу подписать: «Спи спокойно, незабвенный друг!» Зак покосился на карточку: — Сказать по правде, собачьих портретов я ещё не делал. Собак я не люблю… Ефим! — закричала Фейга. — Ефим, ты любишь собак!.. Не верьте ему, он очень любит собачек… — Ну ладно, оставьте, — смягчился Зак, — я подумаю. Клиентка ушла. Фейга всплеснула руками: — Ефим, а тебе не всё равно! Собака так собака! — Она оглянулась и закричала: — Ой, кажется, ещё клиенты идут! Мы кинулись к окну. Длинный, костлявый и сутулый старик поднялся на крылечко. За ним ковыляла толстая, закутанная в платок старуха с красным, одутловатым лицом. — Можно ей присесть? — спросил старик, войдя. — У неё больные ноги… Блюма, сядь… Эти самые, ну, эти портреты. Это вы делаете?.. Сядь же, Блюма! Блюма села. Старик тоже сел, но сразу же вскочил: — Зачем ей портрет! Просто — женский каприз. Ведь это же грех! Ведь ещё пророк Моисея на горе Синайской сказал: «Не сотвори себе подобия своего…» И как — это выгодное дело? — Золотое дно! — усмехнулся Зак. — Это всё её выдумки! — Старик оглянулся на Блюму. — Понимаете, у нас есть сын. Или
былсын. Мейлах, способный мальчик, открытая голова, учился на провизора. И вот его забрали в солдаты. И, когда началась война, его погнали в самый первый бой. А потом мы получаем такую открыточку с красным крестом: «Рядовой Шифман Мейлах пропал без вести». Блюма часто-часто закивала головой. Слёзы покатились по её неестественно красным щекам. — Блюма, не надо! — стал утешать её старик. — Блюма, а если бы написали, что он убит, тебе было бы легче? — Не знаю! — всхлипывала Блюма. — Я хочу его видеть. — В том-то и дело. Она хочет его видеть. Я вам говорю: женский каприз! — Он передохнул и спросил: — Так на чём вы их делаете? — Он пощупал слоновку. — Как будто прочная! И получается похоже? — Сходство гарантируется! — твёрдо сказал Зак. — А сколько это будет стоить? Старик долго торговался, советовался с женой, потом вздохнул: — Делайте! — По рукам! — сказал Зак. — Давайте карточку! — Какую карточку? — Карточку вашего Зореха… или, как его, Мейлах а. Старик удивился: — Будь у меня карточка, я бы к вам не пришёл. Когда он был дома, он никогда не снимался. Зак рассердился: — Два часа вы мне морочили голову! До свиданья! Старик растерялся. Старуха поднялась и с трудом подошла к Заку: — Милый человек… Я вас прошу, сделайте! — Она схватила его за рукав. — Он же был у мае красавчик. Сделайте! Фейга не выдержала: — Вам же объясняют — без карточки нельзя! Зак задумался: — Фейгеле, подожди… Скажите, может быть, он у вас носил бороду? Хотя бы небольшую бородку? — Бородку — нет, — ответила Блюма. — Он носил усики, которые он так закручивал… Он же был красив, как весенний день! — Усы были? Это хорошо. Может быть, очки? — Пенсне! Пенсне на шнурочке. Он же учился на провизора. — Тоже хорошо. Брюнет? Блондин? — Волосы не очень тёмные, а глаза чёрные… — начал было старик. Но Блюма перебила его: — Что ты говоришь, Ойзер! Светлые волосы, как золото, и мягкие, как пух. А глаза, как две звёздочки! Правда, тёмненькие. — Худой? Или скорей полный? — Кругленький, как солнышко! — торопилась старуха. — Щеки румяные, как яблочко. — А на кого похож? — На меня! — ответила гордо Блюма. — Вылитый я! — На неё! — подтвердил старик. — Её нос, её глаза, её рот. Только характер мой. — Ну хорошо, — сказал Зак, пристально вглядываясь в лицо Блюмы, — попробуем. Только никакой гарантии. Похоже будет — хорошо, а нет — как хотите… Закройте дверь. Фейга закрыла за стариками дверь: — Тоже мне клиенты! Зачем ты с ними связался? — Фейгеле, — ответил Зак, — ты ведь тоже мать. Имей сердце, Фейга! Он взял бумагу, приколол её к фанерке, очинил тушевальный карандаш и стал набрасывать контуры молодого черноглазого солдатика в бескозырке, с усиками. — Ефим, когда ты возьмёшься за собаку? — ворчала Фейга. Но Зак не отвечал, увлечённый работой. Он то и дело поправлял рисунок, растирал пальцем полутона, растушёвкой смягчал переходы, остреньким угольком старательно выводил брови, ресницы, усы. На другой день пришли старики. Блюма опустилась на табуретку и, переводя после каждого слова дыхание, спросила: — Ну как?.. Что-нибудь… получается? — Что-нибудь! — ответил Зак. Он поставил фанерку с портретом на стол. Старик и старуха долго смотрели на круглое, весёлое лицо Мейлаха, на лихо подкрученные усики, на сдвинутую к уху бескозырку. В комнате стало тихо, и только слышно было тяжёлое дыхание Блюмы. Потом она повернулась к мужу и тихо сказала: — Ой, это он! Старик пригнулся к рисунку, покачал головой: — Это наш Мейлехке? Если бы ты мне не сказала, я бы его не узнал. — Ойзер, это он! Мой красавчик, моё солнышко! Она не отрываясь смотрела на весёлого солдатика. Старик обернулся к Заку: — Если ей правится, пускай будет он! Он полез в карман за деньгами. Зак сказал: Когда он вернётся, я с него сделаю другой… Как живой будет!.. С гарантией… Дайте, я заверну. Но Блюма вцепилась в портрет, не отдавала его. Так она и унесла его, с фанеркой. Зак проводил их, достал карточку Бижу и весело сказал: — Фейга, придёт эта собачья заказчица, отдашь ей. Скажи, пускай несёт куда хочет… Хоть к ветеринару. Он бросил карточку на стол и засмеялся: — Спи. Спи спокойно, незабвенный друг!..
ЛЕТНЕЕ УТРО
Настало голодное время. Мы давно обменяли на картошку два стула, комод и гардероб с зеркалом. Дома пусто, тоскливо… Я без толку слоняюсь по комнатам. Отец придумал мне обидное прозвище:
— Эй, министр без портфеля! Принеси крапивы!
Обжигая пальцы, я рву злые стебли. Мать варит из них суп. Пробуя и отплёвываясь, она ворчит:
— В художники ему захотелось, в маляры!.. Вот и сиди теперь. А пошёл бы к сапожнику в ученики — по деревням ходил бы, каблуки там, набойки, стельки, я знаю!.. Хлеба приносил бы…
— Или портным! — подхватывает отец. — «Духовный и статский портной». Чем плохо?
Я убегаю к своему учителю, знаменитому живописцу вывесок Ефиму Заку. Его замечательные вывески украшают наши узкие улицы.
Заку тоже приходится туго. Его жена ноет, точь-в-точь как моя мать:
— Люди достают хлеба, люди достают муку, а меня бог наказал! Ну, что ты лежишь, как султан?
Учитель, поджав ноги, сидит на скрипучем топчане, курит махорочную цигарку, вздыхает:
— Никто нам с тобой не закажет хорошей вывески. Никому не нужны плакаты: «Булочные изделия прима», «Сморгонские булочки», «Виленские баранки»., Олифу изжарили, краски сохнут…
— Чтоб ты сам иссох! — не унимается Фейга. — Люди пшено достают! Сапожник Илья, например…
— Ну, я не Илья, — перебил Зак. — Ну, что ты от меня хочешь? Где я тебе возьму работу? Если учреждения сами себе пишут вывески… Чернилами на бумаге!
Он нагибается к коптилке прикурить, громадная его тень закрывает потолок.
— Ничего, Фейгеле, война кончится, ещё какая будет жизнь, ого! Все будем кушать булочные изделия прима и все будем от такие толстые!
Фейга злится:
— Что будет через сто лет, ему интересно! А мне интересно, что будет завтра с детьми… — Она ставит на стол горшок с мутной бурдой. — Иди к столу, султан!.. И ты тоже иди, помощничек!
Зак ест.
— Этот замечательный суп, — говорит он, вытирая рот, — в парижских ресторанах называется «бульон консоме, пшенина за пшениной гоняется с дубиной».
Он снова садится на топчан, курит, обволакивается дымом, думает…
Я ухожу к себе.
Утром прибежала младшая дочка Зака, Евочка.
— Гиршеле, вас папа зовёт! Я тороплюсь к учителю.
Он сидит у окна и рисует на фанерке речку. Она изгибается правильными кольцами. На зелёных берегах стоят кудрявые, точно завитые, берёзки. Вот появилась лодочка. Ещё мазок — розовая тучка. Другой, третий — стайка белых птиц. Скорей всего это лебеди.
А вот аккуратный красный кружок — это солнце. Мягкой кистью Зак во все стороны разбрызгивает весёлые малиновые лучи.
Евочка шепчет:
— Ай, речка! Ай, птички!..
Зак оглядывается:
— Ну, как твоё мнение, помощник?
Мне странно видеть эти горячие, праздничные краски здесь, в убогой, затянутой дымом комнате.
— Учитель, это… это замечательно!
— Конечно, — разводит руками Зак, — здесь нет перспективы, но ничего! Называется: «Лето». Нет, «Летнее утро». Пейзаж! А теперь, Гиршеле, живо, садись делай копии!
— Зачем?
— Надо. Штук пять.
Мы стали делать копии. Зак рисовал, я раскрашивал. Зак рисовал, я раскрашивал. К вечеру уже были готовы пять одинаковых «Летних утр».
Зак выстроил их около печки:
— Пускай подсохнут. Эх, если бы я знал перспективу! Фейга, ты там полегче у печки — ты нам испортишь всю выставку!.. — Он повернулся ко мне. — Завтра придёшь пораньше, слышишь?
— Слышу, учитель.
Я пришёл рано-рано. Из дому я захватил мешок — будто пошёл за крапивой.
Зак уже не спал. Он укладывал в корзину всю нашу выставку:
— Ну, помощник, неси!
— Куда?
— Куда надо!
И вот я с корзиной на плечах покорно шагаю за учителем. Летнее утро занимается над мёртвыми трубами нашего города. На улицах тихо: не поют петухи, не кудахчут куры, не лают собаки.
Куда он меня ведёт? Ей-богу, на базар! Ну конечно, на базар! Вот же каланча, вот пожарная бочка, рундуки, ларьки.
Правда, это уже не тот базар, что раньше. Магазины закрыты. С виноватым видом висят над запертыми дверями знакомые вывески — слишком знакомые! Ведь на каждой в углу подпись: «Художественный салон Е. Зак».
Нет крикливых, краснорожих торговок. Никто не кричит: «Только у нас! Эй, навались, у кого деньги завелись!» Крестьяне из-под полы, озираясь, меняют каравай на пиджак, горсть пшена на зеркало, ведро картошки на граммофон. Одинокая старушка застыла около кучи ржавого хлама.
Зак остановился рядом с ней:
— Тише! Выставка пейзажа открывается… Гирш, выкладывай!
Одно за другим наши «утра» легли в густую грязь Базарной площади. На улице краски засверкали с новой силой.
— В парижских ресторанах, — сказал Зак, — это называется вернисаж…
Я отвернулся. Народ шёл мимо нас, и серая пыль садилась на белые берёзки, голубую речку и малиновое солнце.
Крестьянин в рыжем зипуне подошёл к нам. Он долго разглядывал «выставку».
— Натуральная ручная работа! — сказал Зак. — Только что рама не золотая. Бери, кум!
— Хороши!.. — вздохнул крестьянин. Он оглянулся и тихо спросил — А того… чёботов… у вас нема?
— Чёботов! — усмехнулся Зак. — Ни, чёботов нема. Так без чёботов меньше хлопот, а то ещё мазать, обуваться…
Крестьянин улыбнулся, махнул рукой, отодвинулся. Подошли две молодицы — в кумачовых платках, в полусапожках, с кошёлкой. Зак оживился:
— Купляйте, красотки! Имеете картину всеми красками под названием «Летнее утро».
— А богато просите?
— Ни! С вашей ручки хоть мешок мучки. А что у вас в кошёлке?. — Та ничого! — А например? — Та мерочка бульбы!
— А ну сыпь её сюда, сыпь! — Зак подставил корзинку. — Сыпь, кума, не журись!
Картошка с приятным грохотом покатилась в нашу корзину.
— Самое главное, — сказал Зак, — это почин. Теперь дело пойдёт!
Старушка с хламом сердито щурилась на нас:
— Штоб вас квочка забодала! Штоб вас буря вывернула!..
Зак отшучивался:
— Меньше хмурься, бабуся, дальше побачишь!
…К концу дня мы разделались со всеми нашими «летними утрами». Добыча не влезала в корзинку: пшено, огурцы, картошка, три кочана капусты…
Зак отвалил мне львиную долю. Я помчался домой, прижимая к груди мешок. Отец открыл дверь.
— Ша, — сказал он, — министр без портфеля явился!
Мать сердито спросила:
— Почему крапивы не принёс, бездельник?
Я опустил мешок и грохнул изо всех сил капустой:
— Вот вам крапива!
Я вывалил картошку на пол:
— Вот вам духовный и статский портной!
Стукнул огромным огурцом:
— Вот вам сапожник Гирш!
Хватил другим огурцом:
— Вот вам министр без портфеля!
Отец с матерью кинулись ко мне, к продуктам… О чём-то заговорили, но я их не стал слушать. Я убежал к учителю.
А там — пир на весь мир! Дети сидят за столом, посередине, как султан, возвышается Зак. Он гладит Миреле по голове и неторопливо рассуждает:
— Ничего!.. Война кончится… Все будут сытые, нарядные. И все будут художники с образованием, которые знают перспективу и анатомию…
Фейга кивает головой, поддакивает и то и дело подбегает к печке, где в громадной кастрюле весело вскипает крупная золотистая бульба.
ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
В годы гражданской войны Ефим Зак торговал на базаре «лунными ночами» и «малиновыми восходами». Свой товар он выносил обычно в солнечный день. При этом он говорил мне:
— Ты, Гиршеле, мой второй помощник!
— А кто же первый?
— Первый — это солнце. Обыкновенное местечковое солнце, которое светит нам сквозь базарную пыль и дым лачуг. Оно помогает мне подобрать колер, сдать заказ, показать вещь лицом. Краски, Гиршеле, — это же целая химия!
Но вот настал день, когда «первый помощник» светил вовсю, а Зак на базар не вышел. И никто не вышел. Город притаился, все спрятались кто куда, потому что ждали белых. Мы сидели в погребе. Наверху стреляли из винтовок, из пулемётов и даже из пушек. Мама причитала:
— Ой, когда уже перестанут стрелять эти пули!
А папа шептал:
— Только тише, только ещё тише!
Потом стрельба кончилась, где-то заплакала женщина, зазвенело стекло, грянула пьяная песня…
— Пришли! — вздохнул папа. Мама снова запричитала. А я сказал:
— Давайте вылезем! Посмотрим, что за белые!
Мама изо всех сил дёрнула меня за рукав:
— Сиди, сумасшедший! Разве ты не слышишь, что там делается?!
Но не век же тут сидеть, в темноте! Потихоньку мы выбрались из погреба. Горячее солнце ударило в глаза. Я долго щурился, мигал, жмурился, потом, улучив минутку, улизнул к Заду.
На улице было пусто — все ещё прятались. Прижимаясь к заборам, я добрался до Базарной площади. Там хозяйничали белые.
Какие же это белые! Обыкновенные солдаты, грязные, потные, бородатые, в зелёных штанах и рубахах, с погонами. Только на рукаве у каждого разноцветный уголок: полоска белая, полоска синяя, полоска красная. Я знаю, это царский флаг. Царя уже два года нет, а они всё ещё за него.
Одни белые поили из брезентовых вёдер худых лошадей, над которыми клубился пар. Другие прикладами ломали ларьки и рундуки, ковырялись штыками в замках, отдирали двери и ставни. Стук прикладов, ржание лошадей, треск, окрики, грохот стояли над площадью.
Один солдат гнался за курицей. Я сразу узнал её — это была пёстрая несушка Ефима Зака. Она вопила так, как будто её уже резали, и мчалась прямо на меня. Солдат, стуча сапогами, крикнул:
— Держи, коли хочешь жить!
Жить мне хотелось. Я растопырил руки, пригнулся и ухватил бедную курицу за хвост. Она так и затрепыхалась. Солдат проткнул её штыком и понёс. Я опрометью бросился к учителю. Он как ни в чём не бывало сидел у окна и писал «лунную ночь».
— Учитель, белые пришли! Они убили вашу…
— Кого? — вскочил Зак, впиваясь в меня глазами.
— Вашу пёструю куру…
Зак успокоился:
— Фу, как ты меня напугал! Что значит курица, когда убить человека для них тоже не вопрос.
— Кругом стреляют, — сказал я, — а вы себе рисуете…
Зак стал размешивать краску:
— Однажды, Гиршеле, древние римляне захватили греческий городок Сиракузы. А греческий философ Архимедус задумался и не слышал, что кругом идёт бой. Он чертил себе свои фигуры на песочке…
Шум за дверью перебил его.
— Кто там? Фейгеле, ты? — спросил Зак.
Дверь открылась, и в комнату ввалились двое: один с наганом и с шашкой, наверное офицер, другой с винтовкой, наверное простой солдат. Но оба с погонами и с трёхцветными полосками па рукавах: полоска белая, полоска синяя, полоска красная…
Я забился в угол. Тот, который с наганом, сказал:
— Кто тут малярных дел мастер? Хайка, ты?
Зак ответил не сразу:
— Хайка — это женское имя. Меня зовут Ефим Зак, живописец вывесок.
Он поставил свою картину лицом к стене, выпрямился, и солнце скользнуло по его круглому и сейчас бледному лицу.
Офицер достал из военной сумки бумажку и концом нагана расправил её.
— К утру изготовишь плакат. Вот рисунок для образца. — Он стал дулом водить по рисунку. — Это наше трёхцветное знамя. Под ним напишешь воззвание: «Все честные люди, идите сражаться под это славное боевое знамя!» Большими буквами надо, понятно? Живей, малярная душа, принимайся за дело!.. Харченко, — обернулся он к солдату, — неси фанеру.
Солдат втащил четыре листа фанеры. Офицер сказал:
— Большой сделаешь, на все четыре листа. На площади его поставим. Если к сроку не поспеешь, мы из тебя, господин живописец, кишки выпустим и на штык намотаем!.. Правильно я говорю, Харченко?
— Так точно, господин прапорщик! — деловито отозвался солдат.
Они вышли. Я вылез из-за печки. Зак сидел, закрыв лицо руками. Потом он отнял руки и посмотрел в окно на солнце:
— Ну-с, помощники, за работу!
Я шёпотом спросил:
— Учитель, неужели мы будем рисовать этот флаг?
Зак ничего не ответил.
Мы молча разобрали фанеру и разложили её на полу, лист к листу. На одном было написано: «Зода, мило, чернило», и мы узнали в нём стенку одного из базарных ларьков. Потом мы развели в ведре мел и широкими флейцами, нагибаясь к полу, загрунтовали все листы. Я спросил:
— Учитель, а чем кончилось с этим… с философом?
— С Архимедусом? — Зак махнул рукой. — Они его убили, что ты думаешь! Убить человека — это же для них тоже не вопрос.
Он взял линейку, начертил на фанере длинное Древко с острым наконечником и принялся старательно закрашивать его ярко-красным цветом.
— Учитель, неужели вы даёте красное древка под их поганое знамя?
— Помалкивай! — проворчал Зак. — Мастер всегда должен угодить заказчику.
Около древка он нарисовал развевающееся знамя и разделил его на три части. Я не утерпел.
— Я всё-таки не понимаю, почему мы так стараемся?!
Он рассердился:
— Или ты будешь молчать как рыба, или ты уберёшься домой!
Я замолчал. Я уже догадался, почему он так старается. Он просто боится, что его убьют, как того Архимедуса. Учитель между тем закрасил верхнюю полосу на знамени белым. Я взялся было готовить синьку и киноварь. Но Зак забрал у меня горшочек:
— Я сам! Не думай, что ты уже всё умеешь! Вместо обычного ультрамарина он развёл берлинскую лазурь, долго её размешивал и, закрашивая синюю полосу, сказал:
— Я, правда, химических академий не кончал, но мой опыт — это же лучшая академия!
Вот и синяя полоса готова. Зак взялся за красную. Он сделал её чуточку пошире и аккуратно закрасил огненно-яркой киноварью, куда для крепости подбавил краплаку. Плотная краска наглухо закрыла «зоду, мило и чернило». Широкое трёхцветное знамя развевалось теперь па полу мастерской Ефима Зака. Он забрался на стул, посмотрел сверху на работу и, видимо, остался доволен. Потом взялся за шрифт. Жирные и ровные, точно печатные, буквы одна за другой вырастали под его кистью.
— Завтра, — сказал Зак, когда всё было кончено, — почаще бегай на площадь, любуйся нашим знаменем.
Утром я побежал на площадь. Наш плакат уже был прибит к верхушке телеграфного столба и сиял, освещенный горячим июльским солнцем. Нарисованное трёхцветное знамя развевалось над разграбленным городом. Напротив, в синагоге, помещался штаб. Часовые у входа глазели на плакат. Я побежал к Заку:
— Учитель, наше знамя уже на месте.
— А какое оно?
— Вы же сами делали — белое, синее и красное.
— Ладно. После обеда, Гиршеле, ещё сходи. После обеда я снова вышел на площадь, посмотрел на столб — и ужаснулся. Красная полоса сверкала вовсю, ещё сильнее, чем утром. Зато белая и синяя полосы заметно полиняли. Через полминуты я уже был у Зака и, задыхаясь, говорил:
— Учитель… беда! Надо скорей… исправить… а то…
— Тише! — сказал Зак. — Кого исправить?
— Флаг. Он портится. Неправильные краски.
Зак усмехнулся:
— Видно, первый помощник не даром кушает хлеб!.. Успокойся, Гиршеле, а главное — молчи, молчи как рыба.
«Первый помощник» исправно делал своё дело. К вечеру белая и синяя полосы на плакате окончательно выцвели. Я боялся смотреть на столб. И всё-таки меня всё время тянуло на площадь. Но вот наконец настала ночь. Слава богу! Хоть бы она тянулась без конца!
Я плохо спал. За городом стреляли пулемёты красных. Я часто просыпался и всё думал об одном: «Что будет, когда белые заметят перемену на плакате!»
И они заметили. Часовые, которые весь день поневоле пялили глаза на плакат, увидели неладное и доложили начальству.
Утром я, как всегда, направился к Заку. Открывая калитку, я услышал шум в мастерской. Я подкрался к окошку. Тот самый офицер, «заказчик», размахивая револьвером, кричал на Зака:
— Ты что это, малярная душа! Какие краски поставил? К стенке захотел?
Зак посмотрел в окно, заметил меня, отвернулся и сказал:
— Ваше благородие, господин полковник, я извиняюсь, но я же не виноват, что красный цвет — это более прочный цвет!
— Молчать! За ноги повешу! Закрасить сию минуту!.. Харченко, веди!
И они повели моего учителя к Базарной площади. Он шёл медленно, держа в одной руке ведёрко с краской, а в другой — длинную лестницу. По обеим сторонам его шагали белые, точно конвой. Мне было жалко учителя, я хотел его позвать, но не решался и тихонько крался сзади.
На площади была суматоха. К синагоге то и дело подъезжали верховые. Оттуда выносили разные папки, сундуки, ящики и грузили на зелёные повозки. Я взглянул на плакат. От синей и белой полос и следа не осталось. Узкое красное знамя на красном древке темнело над площадью. Зак сказал:
— Ай-я-яй, какой конфуз получился! Какие сейчас делают плохие краски, кто бы мог подумать! Ведь краски — это же целая химия. А откуда мне знать химию, господин полковник?
— Сейчас узнаешь химию! — закричал офицер. — Пошевеливайся!.. Харченко, слетай в штаб, узнай, в чём дело.
Зак долго пристраивал лестницу около столба и стал медленно взбираться по ней, кряхтя на каждой перекладине. Вот он уже наверху. Не спеша он повесил ведёрко на белую, разбитую пулей телеграфную чашечку, окунул в него кисть и стал размешивать краску. Синяя капля упала на землю. Зак посмотрел ей вслед. К офицеру подбежал Харченко, подвёл ему лошадь и что-то сказал. Офицер, ругаясь, сунул револьвер в кобуру, вскочил на коня и поскакал прочь. Харченко за ним. На окраине уже стреляли красные. Я притаился в канаве под мосточком. Другие белые солдаты и офицеры тоже вскакивали на коней и мчались к Варшавской дороге.
Стрельба становилась всё громче. Уже слышно было, как воют, пролетая, пули. Мне стало очень страшно, я заплакал и, не вылезая из канавы, стал кричать изо всех сил:
— Учитель, слезайте, слезайте — в вас пуля попадёт!
— Нет! — закричал он не оглядываясь. — Они же видят, что я около красного знамени! — И он замахал рукой, призывая тех, кого ещё не видел.
А над его головой, освещая узкое красное знамя и буквы: «Все честные люди, идите сражаться под это славное боевое знамя!» — сверкало горячее июльское солнце — первый помощник моего учителя, живописца вывесок Ефима Зака.
УПОЛЗАГ
— Для красных, — говорил мой учитель, живописец вывесок Ефим Зак, — я все вывески делаю красным. Больше ничего не придумаешь. Раньше я знал: «Оптик» — это глаз, «Сапожник Блюмберг» — это туфля, «Бакалея Мошковской и сыновья» — это сахарная голова в синей рубашке. А теперь? Что я могу нарисовать к слову УИК? Или вот это… — Он ткнул пальцем в начатую вывеску, — УПОЛЗАГ. Я обрадовался: — Ой, здесь я знаю, здесь надо, которое уползает. Какую-нибудь змеюку! — Новая жизнь, новые слова! — махнул он рукой. — Слова непонятные и жизнь непонятная!.. Натри мне, Гиршеле, киновари для… Но тут жена Зака, Фейга, ворвалась в мастерскую и стала прижимать к груди липкие, в тесте пальцы: — Ефим, Ефим, что ты сидишь? За тобой уже пришли! Мы с Заком кинулись к окну. Высокий красноармеец в очках и в добела выстиранной многими дождями гимнастёрке привязывал коня к столбику, на котором красовалась яркая, как пламя, вывеска: «Художественный салон Е. Зак». Завидев нас, он крикнул: — А который тут Заков? — Это… скорей всего… я! — ответил чуточку побледневший Зак. Красноармеец подошёл к окну. — Получите… из штаба! — Он снял будёновку, вынул из неё конверт, чернильный карандаш и бумажку, на которую щедро цыкнул: — Распишитесь! Потом он сел на коня и поскакал, с восхищением оглядываясь на огненную вывеску «салона». Фейга опустилась на топчан. На груди её отпечатались все десять пальцев: — Что там, скорей! У меня бьётся сердце! Зак разглядывал письмо: — У всех оно бьётся, Фейгеле, и это ничего не значит. Гиршеле, подай очки. Посмотрим. Второе письмо за этот год. Что-то меня стали забрасывать письмами! Он осторожно разлепил конверт, стал читать и вдруг рассмеялся. Фейга бросилась к нему. Я схватил письмо, прочитал: — «Товарищ Зяк. Просьба к вам явиться в штаб, не откладывая. Комиссар Бубенчик». Зак засмеялся, протирая очки: — У них сломалось «а». Я уже стал «Зяком». Я спросил: — А как это может сломаться «А» или «Б»? — Это же напечатано на пишущей машинке, — ответил Зак. — Скоро, наверное, и для вывесок придумают такую машинку, которая сама будет печатать любым стилем «мясо», «часовой мастер», «уик» и «уползаг». И мы с тобой, Гиршеле, останемся без работы. Он снял заляпанный красками халат, надел пиджак, на котором тоже немало было разноцветных пятен, причесал на лысине три волоска, которые всё равно опять вздыбились, и отправился в штаб. Он вернулся не скоро. Фейга напекла миску кукурузных блинов, дети успели их расхватать, я натёр гору киновари, а Зака всё не было. Наконец он пришёл и, перешагивая через порог, снял шляпу: — Пролетар де ту ле пей, унитеи ву! — Что? Что-о?.. — испугалась Фейга. — Ничего! — Он сел к столу, снял пиджак, подхватил холодный блин. — Я пришёл, вижу дверь с надписью: «Комиссар». Написано неважно, чернилами… Ты бы, Гиршеле, это лучше сделал. Ведь каждая буква имеет свой закон построения. Возьмите букву «О». Её надо… — Ефим! — перебила Фейга. — А-а-а, да. Так я зашёл в ту комнату. И угадай, кого я там встретил? Мусю из Дубравичей! Я говорю: «Мусечка, ты не знаешь, где тут комиссар?» Она говорит: «Знаю». — «Так скажи мне скорей, потому что мне некогда с тобой разговаривать!» А она смеётся: «Придётся, потому что это я, и я вас уже жду. Садитесь!» Я так и сел! — Я помню её рождение, — сказала Фейга. — Она была семимесячная… Дальше! — Сейчас!.. Дай-ка мне ещё блин!.. Нам предстоит большая работа. По эскизам! Это, Гиршеле, самая солидная, самая настоящая работа. Эскиз — это предварительная… — Ефим! — Фейга стукнула вилкой. — Да. Она сказала: «Зак, вы должны нам помочь воевать с бароном Врангелем!» Я сказал: «Мусечка, то есть, извиняюсь, товарищ комиссар, стрелять я не люблю. Если выстрелишь и не попадёшь, так нечего было и браться, а если выстрелишь и, не дай бог, попадёшь в человека, так это ещё хуже. Ефим Зак, — сказал я, — человек искусства». Она сказала: «Мы как раз хотим, чтобы человек искусства помог нам». Я сказал… — «Я сказал, она сказала»!.. — передразнила Фейга. — Оставь хоть один для мальчика. —Она пододвинула миску поближе ко мне: — Ешь, Гиршеле! Зак смутился: — «Вы знаете, — спросила она, — что такое агитваг?» Я говорю: «А это случайно не то, что уползаг?» — «Нет, это агитационный вагон. И вы нам должны его расписать. Снаружи! Чтобы каждый, кто увидит этот агитваг, записался в Красную Армию. И надо сделать эскизы. А наверху надо написать…» Сейчас… — Зак достал из кармана бумажку, прочитал: — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пролетар де ту ле пен, унитеи ву!» Фейга стала убирать со стола: — А сколько они дают? Зак поднялся, зашагал из угла в угол: — Фсйгеле, это же не «Мясо Лейзера Бланка», не «Сапожник Блюмберг»… Это же агитваг! — Он постоял у окна. — Не обидят! Не такие люди! — Вагоны красить! — сказала Фейга. — Нет, заказ мне не нравится! — и вышла на кухню. Я спросил: — А что же надо нарисовать? — В том-то и дело! Я её тоже спрашивал: «Что?» Она говорит: «Вы же мастер, вы должны сами придумать». С тем я и ушёл… Давай, Гиршеле, думать. И вот мы стали думать. Мы всё время думали. По утрам, когда мы встречались, Зак говорил: — Ну как? Что придумал? — Ничего! А вы?. — Ещё меньше! Он садился на топчан, закуривал: — Давай, Гиршеле, рассуждать! Чего хотят красные? Чтобы не было бедных, чтобы все стали богатые… — Ага! — подхватил я. — Ой, давайте нарисуем человека и около него много денег! Как будто вот он был бедный и вот он стал богатым… — Ты думаешь? Нет, это не совсем то. А если, Гиршеле, нарисовать райский сад, эдем? Значит, жизнь на земле будет, как там. Нарисовать Адама, Еву, ну, кто там ещё был… Он стал набрасывать эскиз: — Видишь, так вот Адам, здесь Ева, тут яблоки, тут какие-нибудь пальмы… — Он посмотрел на рисунок. — Пойду к Мусс, посоветуюсь. Она же комиссар всё-таки! Два часа он пропадал в штабе и вернулся весёлый: — Гиршеле, эдем не годится! Она всё объяснила, всю программу. Никакого Адама не было. Слушай! Диктатура пролетариата! Классовая борьба! Дружба народов! Кто не работает, тот не ест! Очень хорошая программа! И надо делать скорей, потому что эшелон ждать не будет. Теперь я знаю: на одной стенке — дружба народов и ту ле пеи, на другой — союз между рабочими и середняцким хозяйством… Даёшь эскизы, Гиршеле! Он сел рисовать. Я в меру своих сил помогал ему. Мы торопились. Потом мы аккуратно раскрасили эскизы акварелью и понесли в штаб. Муся утвердила их. И мы пошли на вокзал выбирать вагон. Нас провожал тот самый красноармеец, высокий, в очках. Его звали Филат. — Ты сделаешь хорошо, товарищ Заков! — говорил он, перешагивая через рельсы. — Я твою руку видел там, на вывеске около вашей хаты. Удалая работа! В тупике стоял длинный, необычный вагон. — Так называемый международный, — сказал Филат и похожим на пробочник ключом отпер дверь. — Раньше в нём самые миллионщики катались! — Классовая борьба! — ответил Зак. Мы прошлись по узенькому коридору, посидели на мягких диванах, погляделись в зеркала. Вдруг Зак нахмурился. — Окна! — закричал он. — Что я сделаю с окнами? Восемь окон — восемь дырок! Но рассуждать было некогда. Филат поторапливал нас. Он принёс много всяких красок, олифу, сиккатив, кисти, стремянку. В роскошном купе мы устроили мастерскую, развели белила и загрунтовали наружные стенки вагона. На другой день Зак стал разрисовывать его сообразно с эскизом. — Окна, окна! — ворчал он. — Зачем столько окон? По соседним путям сновал маленький маневровый паровозик, расталкивая теплушки. Проезжая мимо нас, машинист высовывался из будки и кричал: — Эй, художники, быстрее малюйте! Скоро я ваш пульман заберу! Зак отвечал со стремянки: — Не гони! Не паровозная машина! Он увлёкся работой. Дотемна он стоял у вагона то на лестнице, то на платформе — красил, подправлял, очищал… Мне тоже доставалось. А ночевали мы в купе, на мягких полосатых диванах. Фейга приносила нам еду на станцию. Развязывая узелок с пайковым хлебом и селёдкой, она сердито сопела: — Я не могу лазить через ваши рельсы и шпалы. Я же не кондуктор. — Она оглядывала ярко расписанный вагон, качала головой. — Что это за компания? — Фейгеле, это же дружба народов! Вот еврей, вот китаец… — Ефим, там пришёл этот… за уползагом… — Подождёт!.. — отвечал Зак, наскоро съедал липкий хлеб, иногда кукурузный блин, и принимался за кисти. — Теперь, Гиршеле, я хорошо понимаю, чего добиваются красные. Чтобы все — еврей, татарин, какой-нибудь цыган или даже самоед, — чтобы все были равны! Очень хорошая программа! А если барону не нравится, так ему надо утереть нос! Иногда по главному пути проходили эшелоны с красноармейцами. Они мчались на юг, на Врангеля. Красноармейцы махали нам руками, кричали что-то громко и неразборчиво. В некоторых составах тоже были «агитваги», только не такие, как у нас. Наш был лучше. Очкастый Филат приходил каждый день, хвалил: «Аи, добре, аи, ладно получается!» Один раз он сказал: — Кончайте, художники! Расписывайтесь! Сегодня комиссар придёт! Погрузка будет… Слыхали, белые напирают! Зак разволновался: — Так надо им дать отпор!.. Гиршеле, эту звёздочку поярче крась, поярче!
Дотемна Зак стоял у вагона — красил, подправлял, очищал…
Мне тоже доставалось.
Муся пришла вечером. На ней была кожаная куртка, сапоги, сумка, револьвер. Она быстро шла по платформе, поглядывая на вокзальные часы, которые давно заснули на половине третьего. Каждая фигура нарисована в простенке, а руки соединяются под окнами. А наверху, вдоль крыши, под выпуклыми словами «Международное общество спальных вагонов», я написал русскими буквами, как на эскизе: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пролстар де ту ле пей, упитеи ву!» — Дружба народов! — объяснил Зак, вытирая тряпкой кисть. — Очень хорошо! — ответила Муся. Она спрыгнула с платформы, обошла вагон и посмотрела с той стороны. Там тоже всё готово. Слева нарисован рабочий в синих штанах, в синей рубашке со сборками на груди. На плече у него громадный молот. У ног — груда пёстрого ситца. А сзади — фабричная труба. Много труб, и они страшно дымят. А справа, на зелёном поле, крестьянин — с бородой, в панамке, лаптях, в полосатых штанах. На плече у него серп. Около лаптей — пузатые мешки с мукой или зерном. Через всё поле, через красные трубы он протягивает руку рабочим. — Союз с середняцким крестьянством! — объяснил Зак. — Ещё не совсем кончено! — Нет, очень хорошо! Больше ничего не нужно! Муся крепко пожала руку Заку, а потом даже мне: — Спасибо, Ефим! Вот записка: получите хлеба, крупы немного, селёдки… Филат, беги в комендатуру, скажи: «Всё готово!» Пусть ведёт на посадку. Оружие раздашь ты. Добровольцев — по особому списку. Литературу — сюда… Вы слышали новости, Ефим? Она зашагала по платформе. Филат побежал вперёд. Из вокзальных дверей повалили красноармейцы. Некоторые были в форме, а некоторые — просто так, в своём. Среди них мы узнали знакомых. Вот подручный мясника Лазарь, вот сапожник Блюмберг, которому белые спалили бороду. Все они бежали к пакгаузу — получали оружие. Зак позвал: — Блюмберг! Но сапожник не ответил. Длинный состав подошёл к нашему вагону и легонько толкнул его. Сцепщик накинул кольцо, свистнул. И международный вагон, с которым мы сжились, который стал для нас вторым домом, двинулся на главный путь. На платформе стало светло, просторно и пусто. Зак посмотрел на пакгауз, потом на меня, подёргал свою закапанную бороду и сказал: — Гиршеле, вот что… Подержи-ка кисточки!.. Он сорвал с себя халат, кинул его и побежал к пакгаузу. — Учитель, куда? Он не обернулся. Вот он скрылся за тяжёлой железной дверью. Вот он снова показался. В руках у него была большая настоящая винтовка со штыком. Он держал её неумело обеими руками, словно лопату, и шагал с ней вдоль эшелона. Красноармейцы в теплушках закричали: — Папаша, к нам, к нам! У нас баян, папаша! Вдруг откуда-то из-под вагона вынырнула Фейга: — Битый час я вас ищу. Я принесла ужин. Картошечка… А где Ефим? Она оглянулась, увидела Зака, уронила миску и побежала к нему: — Ефим, что это? Ефим! Отдай сейчас же, Ефим! Красноармейцы в теплушках засмеялись: — Тётка, не трогай! Папаша, не поддавайся! Фейга дёргала приклад, хваталась за штык: — Ефим, ты же человек искусства! Отдай, или я брошусь под колесо! Она вырвала винтовку и поволокла её обратно в пакгауз. — По вагона-ам! — По вагонам! — откликнулись дневальные у теплушек. Паровоз загудел. Лязгнули буфера. Состав дёрнулся. Тронулся и наш агитвагон. Еврей, татарин, негр, рабочий, пожимавший руку крестьянину, поехали на фронт. Подбежала запыхавшаяся Фейга, схватила Зака за рукав: — Ефим, а они рассчитались с тобой? Но Зак не ответил, глядя, как всё уменьшается поезд, который увозит агитваг на юг, на барона, на Врангеля… — Ну вот, уехали… — сказал он потом и невесело улыбнулся. — А мы с тобой, Гиршеле, уползаги, вот кто!.. И ты тоже, Фейгеле.
ВСЕОБЩАЯ ВЫСТАВКА
На Базарной площади стояла огромная пожарная бочка. В пятнадцатом году она загорелась, но её спасли. К её рассохшимся и пробитым пулями бокам приклеивали всякие распоряжения и объявления. Ещё недавно на ней висели грозные приказы белых: «Немедленно сдать лошадей, несдавшие будут расстреляны. Есаул Серьга». «Немедленно сдать оружие, несдавшие будут повешены. Атаман Маруся». Теперь там старая Ариша торговала семечками — по три миллиона за стакан. Я дал ей пять и, получая сдачи, заметил на бочке только что наклеенный плакат:
Губнаробраз.
ОТДЕЛ ИСКУССТВ
Подотдел ИЗО.
1 сентября 20 года.
В бывшем Художественном училище
ВСЕОБЩАЯ ВЫСТАВКА
«Искусство народу!»
Для всех желающих.
Я позабыл про семечки и побежал к своему учителю, живописцу вывесок Ефиму Заку: — Учитель, вы сегодня читали бочку? — Нет, а что? — спросил Зак, который деревянной ложкой кормил свою младшую дочь. — Там же выставка!.. Искусство народу! Для всех желающих… — Для всех желающих? — Зак стал громадными порциями вбивать в дочку пшённую кашу, потом облизал ложку, крикнул жене: — Фейгеле, я на минуточку! — и побежал со мной к бочке. Плакат был виден издалека. Голодная коза облизывала свежий клейстер. Зак палкой прогнал её, прочитал плакат и торжественно сказал: — Гиршеле, твой час пробил! — Почему только мой? А вы? — Нет, моя песенка уже спета. — Он отвернулся и снова стал читать: — «Губнаробраз… ИЗО». — Учитель, а что такое «ИЗО»? — В городе мы всё узнаем! Давай отбирать экспонаты. Мы вернулись в мастерскую и притащили ворох своих рисунков. Зак отобрал два автопортрета, набросок с козы, портрет Ариши и эскиз картины: «Мальчик попал в плен к белым, они его пытают, а он не отвечает на вопросы». — Интересно, что скажет жюри? — проговорил Зак, складывая рисунки в папку с тесёмками. — Это особенное чувство, когда твои работы на выставке. Ты стоишь в толпе, будто чужой, а сам всё ловишь: кто что скажет, кто что подумает… — Учитель, а вы много раз выставлялись? Зак завязал тесёмки: — Нет, не приходилось. Но я знаю. Мой земляк Исаак Левитан рассказывал. Давай собираться… Я побежал домой, нацедил в солдатскую фляжку молока, захватил кусок хлеба и вернулся к учителю. Он повязывал вокруг шеи чёрный бант. Его жена ворчала: — Куда ты вырядился? — Допустим, что в город. — Это же двенадцать вёрст! — ужаснулась она. — Там будет всеобщая выставка, Фейгеле! Наш Гиршеле будет. — Чтоб вас обоих выставили оттуда!.. Дети, не пускайте его! Но Зак шмыгнул за дверь. Я схватил шапку и — за ним. Мы зашагали по старой дороге. Денёк был хороший — синий с золотом. Такие, кажется, бывают только осенью. — Смотри, Гиршеле, — вздохнул Зак, — какой замечательный пейзаж! Поля были изрыты окопами, которые ещё не успели зарасти травой. За кладбищем тянулась длинная братская могила. Кое-где, уткнувшись дышлами в землю, лежали зелёные двуколки и военные кухни с заржавленными трубами. — Конечно, — рассказывал Зак, — будь у меня хороший меценат, я бы давно выставлялся. Помню, приехал к нам богатый лесной торговец: «Ефим, я тебя возьму в Киев, будешь художником, я меценат». Пришёл я к нему в гостиницу, а он сидит пьяный и в компании. Увидел меня, ткнул пальцем в грязную скатерть: «Вот тебе полотно, пиши мой портрет!» — «Полотно, — это я ему, Гиршеле, говорю, — хорошее, но где же краски?» Он схватил горчицу: «Вот тебе краска!» Я говорю: «Краска чудная, но ведь кистей нет!» Он вынул из чемодана кисть для бритья, суёт мне, хохочет. Тут я не выдержал и горчицей прямо на скатерти нарисовал на него карикатуру. А в глазах у меня слёзы — немножко от горчицы, немножко от обиды… Ах, Гиршеле, какие берёзки! Это же прелесть!.. Дорога шла лесом. Берёзы стояли тоненькие и беленькие, будто колонны сказочного дворца. За ними блестела река и синел луг. Далеко было видно, потому что воздух был очень прозрачный. Зак опустился на траву: — Посидим, сынок! Всё-таки ноги уже не те! Он взял папку, нашарил в кармане уголёк и стал на обороте моего эскиза «Мальчик в плену…» рисовать с натуры. Я лёг в сторонке, чтобы не мешать. Берёзы позировали хорошо — не качались, не шумели, только изредка роняли оранжевый лист то на лысину Зака, то на рисунок, то на прозрачную воду, и тогда листок медленно уплывал, точно маленькая жёлтая лодочка… Я позвал: — Учитель, пора! — Сейчас, сейчас!.. — А сам всё рисует, всё кряхтит и бормочет. — Учитель, уже время! — Сейчас! Какой быстрый!.. Наконец он повалился на выгоревшую траву. Я кинулся к рисунку. Свет, тени, блеск реки, крапинки на белых стволах — всё это было сделано обломком простого, вроде самоварного, уголька. Я осторожно побрызгал молоком на рисунок, чтобы уголь не стёрся. А Зак уже храпел, и чёрный бант на его шее взмахивал крыльями, будто настоящая бабочка. В город мы пришли вечером. Высокие колонны сторожили парадный подъезд Художественного училища. При свете керосиновых ламп в зале шла какая-то непонятная работа. Стучали молотки, шипели рубанки, кто-то кричал: «Давайте гвоздочков», кто-то горячился, размахивал вилкой: «Прошу меня не учить, я сам футурист». — Это, наверное, самый главный, — решил Зак и подошёл к нему. — Скажите, коллега, а где здесь жюри? — Какие вам тут жюри!.. — ответил тот сквозь зубы, так как у него был полон рот гвоздей. — Надо же записать экспонаты… для каталога… — Место, место захватите! Это же сплошная стихия… — Может быть, зайти завтра? — Интересно, где вы завтра будете вешаться! — сказал главный. Но мы ошиблись. Главным оказалась наша знакомая Муся из Дубравичей. Она помогла нам отвоевать кусочек стены, и Зак развесил мои работы: эскиз мальчика посередине и рисунки с натуры по бокам. Потом велел подписать: «Гирш Липкин, 13 лет». Ночевали мы в канцелярии, под белой фигурой с отломанными руками. Мне не спалось. На рассвете я прокрался в зал. Мои рисунки висели такие важные, будто не мои. Я тихонько встал на стул, снял эскиз пленного мальчика и снова увидел на его обороте замечательные берёзы учителя. Оглядываясь, я стал прибивать рисунок к стене. Вдруг открылась дверь. — Ты что тут делаешь? Я чуть не упал со стула: — Учитель, пускай!.. Такой хороший этюд!.. — Кто тебе позволил? — Он взял рисунок и повернул его берёзками к стене. — Это твой лучший эскиз, а ты его будешь прятать! Я поплёлся в канцелярию. Мы с Заком бродили по залам. Больше всего нас заинтересовала картина футуриста «Обед». Нарисован круг, и в него воткнута настоящая вилка с чёрным черенком. — Учитель, а зачем она? — Сейчас спросим у автора, — ответил Зак и пошёл искать футуриста. А я прокрался к нашему кусочку стены и снова повернул свой эскиз лицом к стене. А под берёзками подписал: «Ефим Зак, 47 лет». Через пять минут было открытие. Муся сказала речь. Зак увидел свой рисунок и схватил меня за шиворот. Я взмолился: — Учитель, сейчас уже нельзя трогать. Уже было открытие! — Тоже меценат нашёлся! — ворчал он. — И вовсе не сорок семь, а сорок шесть! Что ты меня старишь! Потом мы пошли в столовую. Футурист жаловался: — Народ не понимает искусства! Из моей картины всё время выдёргивают вилку. Это варварство! После обеда мы снова мчались на выставку. Однажды мы под этюдом Зака увидели записку: «Приобретено губмузеем». Зак покраснел: — Это, наверно, всё твои штучки! Он побежал к Мусе. Она взяла толстую тетрадь: — Сейчас выясним. Вот протокол: «…Постановили приобрести этюд с берёзами для музфонда. Автора в счёт развёрстки Наркомпроса направить в Москву, в студию ИЗО». Зак побледнел, покраснел и налил себе кипячёной воды из графина: — Я… я не поеду! — Вода в стакане покачивалась и капала на тетрадь. — Учтите, сорок шесть — это уже не тот возраст… Потом мой ученик Липкин… Муся забрала стакан: — Липкин? Он ведь ещё мал. Его нельзя отрывать от семьи. — А я? — сказал Зак. — Я же ему буду лучшая семья! Он повёл Мусю наверх и заставил сё снять этюд и посмотреть на изнанку, где был изображён мальчик, который попал в плен к белым, и они его пытают, а он не отвечает на вопросы. — Хорошо, соберём комиссию, — сказала Муся. Через неделю нам обоим выдали командировочные удостоверения и командировочный паёк: по осьмушке махорки, по две нитки грибов и по фунту детской муки «Геркулес». Самое трудное было расставаться с семьёй. Фейга плакала: — Куда тебя, старая лысина, несёт? Что там ещё за ИЗО на нашу голову?! — Фейгеле, я же скоро вернусь… Я буду посылать… Вот за один рисунок. — И Зак положил на стол грибы, «Геркулес» и семьдесят пять миллионов, вырученных за этюд с берёзами. Фейга смягчилась и стала собирать мужа в дальнюю дорогу. Посадка была тяжёлой. Московский поезд был доверху набит пассажирами. Мы с Заком метались по платформе, сзади бежала его жена: — Ефим, скорей, а то он уйдёт. Пиши письма, ты слышишь! — Обязательно! Зак на ходу поцеловал её и махнул мне рукой: — А ну, меценат, давай на второй этаж! Он ловко стал карабкаться на крышу вагона. Я едва поспевал за ним; Поезд тронулся. — Гиршеле, держись за вентилятор! — весело крикнул Зак. Он с треском распечатал новенькую пачку махорки и задымил не хуже, чем паровоз, который не торопясь вёз нас в Москву, в Центральную студию ИЗО…
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|