 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович :: Толстой Лев Николаевич :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Лучшее из времён :: Арестант :: Миша Ласкин :: Покупаем Юпитер :: Герцог и я :: Война и мир. Том 1 :: Справочник по реестру Windows XP :: The Beach :: Ночное лицо |
РезервацияModernLib.Net / Научная фантастика / Синякин Сергей / Резервация - Чтение (Весь текст)
Сергей СИНЯКИН РЕЗЕРВАЦИЯ 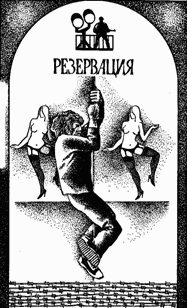 ГЛАВА ПЕРВАЯ Давид сел, раскаянью оглядывая заставленный бутылками стол и белеющие вокруг стола листы бумаги. Ему стало муторно от мысли, что все это надо убирать. Славное жилище было у лауреата премии Флиппса! Рядом с постелью стояла любимая пепельница Давида. Из толстых вывороченных губ негритянки торчала недокуренная сигарета. Давид потянулся за ней и закурил. Поеживаясь от холода, он подошел к столу и оглядел бутылки. Последним пришел Влах, это Давид помнил точно. Белеющие на полу листы были рукописью Скавронски. Давид присел на корточки, собрал листы воедино и, вернувшись на постель, попытался прочесть написанное. Из-за разноцветных правок сделать это было довольно трудно. За окном ударил орудийный выстрел. За выстрелом послышалось долгое карканье ворон у костела. Давид бросил рукопись на смятую постель и подошел к окну. Уже совсем рассвело. Моросил затяжной дождь. Улица и тротуары масляно чернели от воды, и у здания совета стоял приземистый пятнистый танк, похожий сверху на размалеванную черепаху. Улица была пуста. Давид выщелкнул сигарету в форточку, вернулся к постели и облачился в халат. Телефонный звонок застал его разбирающим рукопись. – Алло? На другом конце трудно дышал человек. Человек молчал. – Алло? – раздраженно повторил Давид. – Я слушаю! Послышались короткие гудки. Давид положил трубку на рычаг и снова углубился в рукопись Скавронски. “Водоем без лягушек можно смело уподобить стопке без закуси – и то и другое противоестественно. Болото наше ничем не выделяется из тысяч таких же болот, а потому в особом названии не нуждается; всякая лягушка увидит в нем что-то знакомое и даже родное. Жизнь на болоте отличалась высокой нравственностью и спокойствием. Обыватели вечерами вели бесконечные беседы, которые при всей их внешней несхожести сводились к тому, кто кого съел, в каком количестве, а также к тому, когда комар вкуснее – весной или в разгар лета. Жил лягушиный народ в душевном равновесии и опасался лишь длинноногой и длинноклювой цапли, воспринимая ее, впрочем, как неизбежное природное зло…” Звонок в дверь был неожиданным. Давид торопливо собрал листы и сунул рукопись на книжную полку. На лестничной площадке стояли два солдата в пятнистых комбинезонах и офицер, отличающийся от подчиненных лишь фуражкой с высокой тульей и витыми погонами поверх комбинезона. У офицера было неприятное белое лицо с темными глазными впадинами. Офицер смотрел на Давида с непонятным уважительным высокомерием. – Господин Ойх? – голос офицера был требовательно резок. – Да, – растерянно сказал Давид. Офицер терпеливо ждал, и это несколько успокоило Давида. Он посторонился, пропуская незваных гостей в квартиру. Солдаты за командиром не последовали. Это также обнадеживало. При арестах солдаты вели себя более бесцеремонно. Несколько дней назад Давид был на приеме у стоматолога. Врача арестовали прямо в рабочем кабинете. Солдаты прошли мимо ожидавших в приемной людей, в кабинете послышался звук пощечины, и дверь медленно отворилась под тяжестью навалившегося на нее тела. Солдаты бесцеремонно рылись в вещах, разбрасывая бумаги и с треском кроша ампулы с лекарствами. Врач лежал в дверях, и с желтого лысого черепа стекала тоненькая струйка крови. В кресле сидел городской распорядитель, некстати собравшийся удалить кариесный налет; распорядитель жалобно спросил у руководившего обыском офицера, что ему делать; офицер бешено глянул на него и посоветовал распорядителю бежать к чертовой матери, пока ему есть чего беречь и лечить. Давид вошел в комнату вслед за офицером. Тот бегло оглядел неприбранный стол и показал хозяину сложенную вчетверо бумагу. – Я должен доставить вас к господину референту по государственной безопасности, – сказал он. – Вы можете взять вещи. Только поторопитесь со сборами! – Разумеется, я не могу отказаться? – Разумеется, не можете, – любезно отозвался офицер. Длинноногий, плечистый, спортивно подтянутый, он стоял рядом со столом, разминая сигарету. Перехватив взгляд Давида, офицер усмехнулся и, словно выполняя правила обязательной, но ненужной игры, попросил разрешения закурить. – Угостите и меня, – попросил Давид. Офицер протянул ему сигареты и вновь любезным тоном попросил его поторопиться. Похоже, что это был арест. Для простого вызова достаточно было позвонить по телефону. Подумав об этом, Давид вспомнил утренний звонок и понял, что звонили не зря. Солдаты должны были прийти наверняка. Затушив сигарету, он принялся собираться. Поверх вещей он бросил в сумку чековую книжку. Из книжки выпала фотография Лани, и Давид сунул фотографию в карман куртки. Офицер терпеливо ждал, разглядывая пепельницу. Из губ негритянки вился голубоватый дымок. Наличных денег было мало, но Давид вспомнил, что на холодильнике лежит двести эвров, возвращенных вчера вечером Скавронски. Он сходил за деньгами. Вернувшись в комнату, он не удержался и спросил офицера: – Не боитесь давать мне свободно расхаживать по квартире? – Вы же умный человек, Ойх, – сказал офицер. – К тому же вы не держите дома оружия. Давид рванул “молнию” сумки. – Все-то вы знаете, – сказал он. – Кажется, служба безопасности пересчитала в моем доме даже грязные носки! Офицер поставил пепельницу на стол и глянул на часы. – Вы готовы? – А что мне остается делать? – пожал плечами Давид. На пороге он остановился, вспомнив о рукописи Скавронски. Дома оставлять ее было рискованно. Не менее рискованным было брать ее с собой. Поколебавшись, Давид решился. Вернувшись, он взял рукопись и пошел на выход, запихивая на ходу свернутые вчетверо листы в боковой карман. Солдаты курили на лестничной площадке. Увидев выходящих, они вытянулись, пряча сигареты в кулаки. Спускаясь по лестнице, Давид слышал за спиной стук солдатских сапог. Офицер шел впереди, и Давид чувствовал резкий запах одеколона и мужского пота. – Плохо дело? – спросил он. – К сожалению, вы подпадаете под действие принятого вчера Манифеста о культуре, – не оборачиваясь, сказал офицер. – Почему же “к сожалению”? – Потому что своей писаниной вы развращаете человеческие души, – сказал жестко офицер. – Вы только вредите государству! Если бы не приказ, я бы вас расстрелял в ближайшем переулке! Ненависть была в его словах, и Давид промолчал. Он перекинул сумку через плечо и пошел вниз. ГЛАВА ВТОРАЯ Референт – маленький худой человечек в старомодном костюме и роговых очках – казался лилипутом, случайно попавшим в апартаменты Гулливера, такими непомерно огромными выглядели окружающие его вещи. – Деятели искусства являются капиталом любого общества, – сказал референт, протирая очки и близоруко щурясь. – Мы вынуждены обеспечивать охрану нужных обществу людей в эти тревожные дни. Остров Ро не тюрьма, это ни в коем случае не антовские лагеря. На острове вам будут предоставлены все возможности для плодотворного творчества. – Но я не хочу уезжать, – упорствовал Давид. – Я должен все видеть собственными глазами. Для того, чтобы писать, надо знать. – Мы не можем обеспечить вашу безопасность иначе, – твердо сказал референт. – Вы меня понимаете, Ойх? Давид встретился с референтом взглядом и понял, что у государства действительно нет возможности защитить непослушного художника от убийц, которых оно само же направляет. Давиду стало страшно от неуступчивой решимости маленького человечка, твердо определившего его судьбу. – Хорошо! – сдался Ойх. – Но я оставляю за собой право выехать с острова в любое время. – Разумеется! – референт закивал маленькой головкой с аккуратным пробором. – Будем считать, что мы достигли соглашения и ваш сопровождающий может оформлять все необходимые документы? – Зачем же? – возразил Давид. – У меня достаточно средств, чтобы добраться до места самостоятельно. – В мирное время, господин Ойх! – отозвался референт. – Сейчас это слишком опасно. Страна втянута в братоубийственную войну. Вас доставит на остров военный вертолет. – Какая забота! – Давид не мог сдержать иронической улыбки. – Вы так торопитесь доставить меня на остров? – Не только вас, – невозмутимо сказал референт. – И, честно говоря, не столько вас. Хотя вы и доставили правительству немало хлопот. Год назад издательство “Стаут” предложило Давиду написать биографию Главы Государства. Выбор не был случайным. В этот год Давид стал лауреатом премии Флиппса, несколько раз был издан в Штатах и имел там успех. Давид понимал, что написанная им биография Стана будет редактироваться прежде всего самим героем. Тем не менее он согласился, поставив условием, что каждая глава биографии будет печататься в журнале издательства. Издатель Харт согласился после очередных консультаций с генералом Станом. В течение шести месяцев Ойх ежедневно общался с генералом, выслушивая его воспоминания о детстве и монологи о генеральском предназначении в обществе. Никогда еще Давид не работал так тщательно, как над биографией диктатора. Каждая глава будущей книги рецензировалась лично Главой Государства и была полна его безудержного восхваления. От Давида отвернулись друзья. От него ушла жена. В листовках ФНО Давида называли апологетом кровавого режима. Но изданная отдельной книгой биография вызвала настоящий политический взрыв, карикатурно высветив Стана, его зависимость от иностранных монополий, его беспомощность в решении социальных вопросов и жадность единоличной власти. Динамитные строчки, вкрапленные в отдельные главы, объединились в заряд огромной силы. Многие ждали ареста Ойха. Кормчий Нации оказался умнее. Генерал сделал вид, что ничего особенного к, произошло. Книга вышла полным тиражом, правда, не поступила в свободную продажу. По указанию департамента просвещения книга была распределена в общественные библиотеки, откуда весь тираж благополучно изъяло цензурное ведомство. Гонорар Ойху выплатили полностью, более того – Стан обеспечил выдвижение произведений Ойха на Литературную премию Нации, но, к сожалению, для получения ее писатель не набрал нужного количества голосов. Генерал Стан добродушно отозвался о своем неудачливом биографе: “Он слишком мелок для описания крупных фигур!”. Иных последствий смелая и довольно безрассудная выходка Ойха не имела. На остров Ро Давида доставил армейский вертолет. Всю дорогу он сидел в тесном грузовом отсеке, заваленном какими-то синими баллонами. У провожатого в пятнистом комбинезоне был усталый вид. Впрочем, он и должен быть усталым. С началом крестьянских волнений в Нагорье работы у жандармерии, несомненно, прибавилось. Судя по отрывочной информации, там и регулярной армии приходилось несладко. Давид покосился на руки офицера. На ребрах ладоней и костяшках суставов угадывались мозоли, нажитые упорными занятиями каратэ. Во время первого переворота несколько таких спортивных молодчиков изнасиловали в полицейском участке, откуда разбежались стражи порядка, дочь соседей Давида. Девочка повесилась на пятый день после случившегося, мать ее была близка к помешательству, и Лань (тогда они еще жили вместе) неотступно сидела подле нее. Давид измучился, оказывая соседу помощь в оформлении кладбищенского участка и приобретении гроба – в те страшные дни это был самый ходовой товар. Все на острове выглядело безмятежно. Рядом с вертолетной площадкой находилась лодочная станция. Десяток разноцветных лодок болталось на серой воде. На понтонах станции с удочками в руках сидели, и стояли полураздетые солдаты. Из вертолета они пересели в армейский “джип” и вскоре уже ехали по направлению к белеющим в зелени деревьев зданиям. Машина притормозила у полосатой будочки перед опущенным через дорогу шлагбаумом. Офицер протянул подошедшему автоматчику какие-то бумаги, часовой внимательно изучил их, вернул и привычно откозырял: – Проезжайте! Шлагбаум поднялся, и машина въехала на широкую тенистую аллею, в конце которой возвышалось тридцатиэтажное здание гостиницы. – Я вижу, здесь пропускной режим? – заметил Давид. Офицер удивленно взглянул на него. – Господин референт заверил меня, что в любой момент я могу покинуть остров. У меня действительно свободный выбор? Водитель по-лошадиному всхрапнул, но осекся под суровым взглядом офицера. – Господин государственный референт не солгал, – вежливо сказал офицер. – У вас действительно свободный выбор, господин Ойх! В последний раз на этом острове с Давидом разговаривали так вежливо. После полудня, уже разместившись в гостинице и пообедав в превосходном ресторане, Давид решил прогуляться. Пройдя по аллее, он вышел на караульный пост, и часовой немедленно повернул в его сторону автомат. “Назад!” – повелительно крикнул солдат. “Что это значит?” – по застарелой интеллигентской привычке возмутился Ойх. Вместо ответа часовой ударил короткой очередью над его головой. Инстинктивно пригнувшись, Давид бросился назад, чувствуя спиной насмешливый взгляд часового и черный зрачок автоматного дула. В вестибюле гостиницы сидел скучный пожилой бригадир жандармерии, и Давид излил свое возмущение на него. Бригадир равнодушно выслушал писателя и вместо ответа протянул ему свежеотпечатанную листовку, из которой Давид узнал, что, находясь на острове, он пользуется всеми правами гражданина Эврии и вместе с тем ему запрещено выходить за посты жандармерии, покидать остров без предупреждения жандармпоста, приближаться к Больничному Центру острова и административным зданиям без специального на то разрешения. Схема запретных и свободных передвижений прилагалась. Давид прочитал листовку с бешенством и отчаянием, но не подал виду. Бригадир выжидательно смотрел на Давида, и писатель вдруг ощутил свое полное бессилие перед этим великолепно отлаженным роботом, понимающим только язык приказов и военных наставлений. И Ойх молча отошел в сторону. На его вопрос о свежих газетах администратор гостиницы, превращенной в фешенебельную тюрьму, лишь развел руками. Давид вернулся в свой номер и не обнаружил в нем даже намека на приемник или телевизор. Он пожалел, что не захватил из дома свой походный приемничек. Сев на подоконник, Давид принялся обозревать остров. Сразу же вспомнилось, что с утра он не выкурил ни одной сигареты. Он тщетно похлопал себя по карманам и в боковом обнаружил туго свернутые листы. В суматохе дня он совсем забыл о рукописи Влаха. Ай-яй-яй! Как же это он так? При полковнике Огу и за меньшие грехи расстреливали прямо на улицах! Давид положил рукопись на подоконник, расправил листы и задумчиво смотрел на разноцветные разводы правок. Где сейчас ее автор? Вряд ли Скавронски простили все его издевательские притчи. Ойх вызвал по телефону прислугу и заказал в номер сигареты и несколько жестянок пива. Странно все-таки к нему отнеслись, весьма странно. Надо же – комфортабельный номер в развлекательном комплексе, ресторан, относительная свобода… Правда, нет ни радио, ни телевизора, зато есть прекрасная библиотека и штат машинисток. Развлекательный комплекс окружен вооруженными патрулями, и это, конечно, минус, но для его же благополучия, чтобы писалось спокойнее. Да-а, это совершенно не похоже на остров Ант! “Литовский ад” называли остров те, кто узнал колючую проволоку лагеря. Жизнь впроголодь, грязная, со стоками вода, от которой заключенные лагеря мучились кишечными заболеваниями. Лауреата Нобелевской премии народного поэта Фрагу охранники заставляли декламировать стихи в сортире, натешившись же, выпускали старика и лицемерно благодарили за выразительное чтение стихов. Рядом с сортиром располагался лагерный карцер, куда сочились вонючие стоки. Среди заскорузлого окаменевшего тряпья бегали юркие злые крысы. Выдержать в карцере можно было не более двух–трех суток, а председателя Молодежного Союза Дери Оорта вытащили из карцера умирающим, с обгрызенным крысами лицом… В дверь постучали, и Давид сел на постели. Вошла маленькая хрупкая горничная в форменном коротком халатике и белом передничке. Перед собой она толкала столик, на котором стояли жестянки с пивом, лежали сигареты, несколько пакетиков с солеными палочками и краснело великолепными раками овальное блюдо. Нет, решительно ничем это не напоминало тюремный ад! Горничная выставила привезенное на столик у постели, кокетливо выстрелила из-под челки откровенным, зовущим взглядом и вышла, сверкнув на прощание белизной крепких стройных бедер. Давид остался один. Он снова сел на постель, вскрывая банку пива, сделал несколько глотков и разорвал пакет соленых палочек. Положив рукопись приятеля на колени, Давид снова принялся разбирать каракули Влаха Скавронски. Болото Влах списал один к одному. Было, все было – и мечтатели кувшиночные, и рассуждения об избранности, и проекты грандиозные, и тиран долгоносый, выщипывающий цвет нации острым клювом службы безопасности… Влах, Влах, бесшабашная твоя голова! “Первое потрясение на болоте случилось, когда заблудившиеся охотники со зла застрелили цаплю. В ту пору лягушки высыпали на берег, безбоязненно и радостно обнимаясь, и с криками: “Конец тирану!” – провозгласили на болоте отныне и вовеки республику. Каждая лягушка мнила себя заговорщиком, и нашлись такие, что писали уже мемуары о своем участии в убийстве тирана посредством предупредительного кваканья охотникам. Начался период вольного существования. Кувшинки заполнились праздно рассуждающими философами, слагались и исполнялись бесконечные оратории, а на теплых кувшиночных листьях в академической заводи уже шептались о необходимости всеобщего заболачивания суши для получения безмерного комариного поголовья. Живя в безопасности, лягушки окончательно уверовали, что являются избранным народом. Отложив прожекты всемирного заболачивания, лягушиный народ нашел-таки достойное применение своим силам. Удумали мыслители кувшиночные прорыть от болота канал и соединить тем каналом болото с бегущей неподалеку рекой, что по всем расчетам должно было приманить к болоту речных комаров и тем создать для лягушиного поголовья своеобразный Эдем. И закипела на болоте великая работа! Строители гибли тысячами, но истово исполняли мечту лягушачью и добились-таки того, что вошли в болото воды речные, разбавив мутную затхлость его. Но хотя больше стало комара на болоте, не было в том радости лягушиному народу, потому что принесли воды речные в болото великую по размерам и безмерную по жестокости щуку. И стала та щука тираном лягушиного народа заместо убитой цапли!” Ну, Влах! Давид вдруг обнаружил, что пиво в жестянке кончилось. Он отложил рукопись и вскрыл новую банку. В дверь постучали. – Войдите! – Давид сел, нащупывая ногами сброшенные туфли. – Литературные гении изволят почивать? – громогласно осведомился вошедший. Давид вздрогнул от неожиданности. На пороге стоял Влах Скавронски – молодой независимый литератор, и под правым глазом его фиолетово высвечивал обширный синяк. ГЛАВА ТРЕТЬЯ В зале притушили свет. Под экзотическую слащавую музыку модного в это лето шлягера на сцену выплыли длинноногие лохматые девы, едва прикрытые лоскутьями, символически обозначающими трусики. Вслед за музыкой девицы потянулись в зал, покачивая крутыми бедрами, проходили мимо столиков, и Давид чувствовал смешанный терпкий запах духов и женского пота. Запах этот заставлял мужчин чувственно раздувать ноздри и зажигал нескромностью взгляды посетителей ресторана. Давид смотрел на Скавронски. Влах потягивал из высокой рюмки коньяк и разглядывал девиц. В номере Скавронски долго отказывался от авторства, потом поморщился и неожиданно для Давида сказал: – Не убеждай, что это я написал такой злобный политический пасквиль! – Влах, – спросил Давид, – разве ты когда-то писал не политику? Скавронски усмехнулся. – Это было ошибкой, – сказал он. – Главное – это юмор. Не обязательно над кем-то издеваться. Вместо этого можно весело посмеяться вместе. Он хотел разорвать листы рукописи, но Давид не позволил ему этого сделать. Сейчас они вместе сидели за столиком и рядом с ними были Бернгри, медленно пьянеющий Блох, а на сцене пел полуголый певец в черном кожаном переднике и в напульсниках, блестящих от множества заклепок. Низкий густой голос его, звучащий под вкрадчивую музыку, будоражил все то, что скрывалось в темных закоулках подсознания слушателей. – Иди ко мне! – пел певец, потрясая сильными и властными руками. Его грубое лицо было полно мужской силы. – Иди ко мне, и мы достигнем острова счастья! Хочешь испытать настоящее блаженство? Иди ко мне! Танцовщица легко присела на колени Давида. Он ощутил острый запах ее надушенного и – напудренного тела, почувствовал желание, и женщина угадала это, на мгновение прижавшись к мужчине твердой обнаженной грудью. – Иди ко мне! – прощально загремел на сцене певец, потрясая бутафорскими цепями. – Иди ко мне, если хочешь проснуться счастливой! Если ты хочешь быть любимой всегда – иди ко мне! Танцовщицы начали сходиться к сцене, словно шли на зов неистовствующего там самца. – Иди ко мне! – уже животно хрипел певец, стоя на коленях. – Иди ко мне! – И к нему приближались тоненькие фигурки танцовщиц. Свет на мгновение погас, а когда вновь загорелся, то сцена была пуста, и только запах духов, еще не перебитый сигаретной гарью, напоминал о женщине, секунды назад сидевшей на коленях Давида. На освещенной сцене появился лысоватый невзрачный саксофонист. Музыкант начал выдувать из своего инструмента замысловатую тягучую мелодию. Было что-то фальшивое в веселье зала. Давид огляделся. Лысые и лохматые, сияющие обворожительными улыбками и шамкающие беззубо, толстые, полные, худые, задумчивые и энергичные, знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые люди окружали его. В зале стоял приглушенный гул голосов, звенели фужеры и рюмки, ложки и ножи, скрежетали по фарфору тарелок вилки, поднимался к потолку густой сигаретный дым, и даже невозможно было представить, что где-то в пригородах Бейлина падали во рвы окровавленные люди, а деловитые жандармы в черной униформе посыпали трупы вонючей хлоркой, что именно в этот момент, разваливаясь на куски, падал к земле истребитель, сбитый меткой партизанской ракетой, что где-то умирали, плакали над мертвыми, что где-то кричали в предсмертном ужасе, в то время как здесь пили, жрали, снова пили, и снова жрали, не вспоминая о чужой боли. Изможденный старик, искавший на лагерной помойке картофельную шелуху, был разительно не похож на нынешнего респектабельного Бернгри, потягивающего коньяк в ожидании очередного пикантного зрелища. Затравленный издевательствами охраны молодой парень с тоскливыми безумными глазами был абсолютно не схож с ухмыляющимся, не верящим ни в бога ни в черта Влахом Скавронски. Седенький писатель, смакующий за соседним столиком пиццу, в лагере был похож на маленький живой скелетик и получил там прозвище Дух, которое настолько прилипло к нему, что в Авторском Союзе после освобождения из лагеря его никто не называл иначе. “Неужели мы все прошли через лагерный ад?” – подумал Давид. Правые и левые, умеренные, радикальные, клерикальные, левацкие, прокоммунистические, анархистские, верующие и атеисты, пишущие гениально и марающие бумагу, – все они были сегодня собраны в одну свору, которая пила и жрала, не бросаясь в привычные драку и склоки, потому что чувствовала запах крови и свежей хлорки, от которых уже отвыкла. Для чего их собрали здесь? Глава Государства был слишком рационален, чтобы позволить себе роскошь бесцельно содержать в райской неволе писак, которых он нисколько не уважал и более того – некоторых ненавидел. Генерал Стан. Глава Государства. Великий Кормчий нации, правящий веслом мудрости в бурных потоках современности. Так его назвал в своем выступлении председатель Авторского Союза? Исподволь пробираясь к власти, от начальника финансового управления армии до министра финансов, от министра финансов до референта по государственному строительству и далее к референту по иностранным делам, к министру обороны страны, он, взяв власть над армией в свои руки, неожиданно укусил своего благодетеля. В один день он занял место укатившего с отдыхом на Багамы полковника Огу, объявил себя пожизненным президентом, присвоил себе очередное генеральское звание и объявил своего предшественника государственным преступником, навсегда запретив ему въезд в страну. В течение года он ликвидировал все остатки свобод, еще сохранявшихся по нерасторопности полковника Огу. Изощренный в финансовых вопросах, новоиспеченный диктатор надумал оздоровить экономику страны, продавая государственную территорию иностранным концернам, за что получил в народе титул Главного Продавца Родины. Потерпев неудачу в бизнесе, генерал Стан начал шарахаться из крайности в крайность, что привело к росту безработицы, крестьянским выступлениям и образованию Фронта Национального Освобождения. Помимо воли Давид мысленно вернулся к рукописи Скавронски. “И стала та щука тираном лягушиного народа заместо убитой цапли. Правила она по строгости, в соответствии с артикуляцией и уставами: кого заметит, так сразу ест и никаких оправданий не слушает. Затосковал от такой напасти лягушиный народ, и не стало прежнего спокойствия на болоте. Стали пустеть широкие кувшинки и глянцевые листья лилий. Многие лягушки отправились на поиски более спокойных мест и из дальних лесных ям хаяли родное болото, и уже клялись в любви к новым местам, обещая не жалеть для защиты нового отечества ни капли своей холодной лягушачьей крови. А те, кто на болоте остался, старались приспособиться к новому властелину. Жизнь лягушек стала опасной – успевай лишь приспосабливаться! Шкурку своевременно сбрось, температуру вовремя уравняй с внешней средой. Ловя мошку, внимательно наблюдай – не ловит ли и тебя кто-нибудь. Выводя рулады в образованном в угоду новому властелину сводном хоре, не теряй головы и поглядывай, где слушатель. Щука до хорового пения оказалась великой охотницей. Приплывет, слушает внимательно, рыло кривит одобрительно. Что ж кручиниться, коли заглотнет по окончании концерта парочку упитанных хористов? Комары тоже жить хотят, да становятся пищей лягушиному народу. Чего Ж кричать, чего сопротивляться, коли едят по справедливости? Нашлись среди обывателей и ловкачи, что принялись анонимки писать, и в том свое спасение видели, что хрустнут на щучьих зубах не их, а ближнего косточки…” Шум в зале отвлек Давида от размышлений. Багрового от злости Влаха Скавронски держали за руки незнакомые Давиду молодые ребята. Против Скавронски стоял надсадно кашляющий Бернгри и между ними темнела лужица пролитого коньяка и блестели осколки разбитой рюмки. – Старый маразматик! – сказал зло Скавронски. – Где бы ты стирал свои подштанники, если бы о нас не позаботился Стан? – Что случилось? – спросил Давид флегматичного Блоха. Тот держал в руках мельхиоровую вилку и растерянно разглядывал ее узоры. Бернгри ударил Влаха. – Авис? Авис ударил Влаха? – удивился Давид. – За что? – Влах предложил выпить за здоровье генерала Стана, обеспечившего безопасность творческих сил страны. – Влах? – Давид потрясенно уставился на товарища. – Влах предложил выпить за здоровье генерала Стана? “Были, конечно, среди лягушиного народа и вольнодумцы. Как без них обществу? Бесхитростные обыватели карбонариев сторонились, а приближенные лягушки шептали тирану о неслыханном вольнодумстве и даже добровольно образовали полицейские силы по борьбе с вольнодумством и покушениями на устои. Придворные философы прямо утверждали, что вольнодумство и покушения противоречат конституционным правам лягушек, ибо по конституции выходило: кто прав тот, кто ест. А из философских рассуждений вытекало, что новоявленных карбонариев надо из болота выселять навеки или отлавливать для щучьего удовольствия и вершения щучьей же справедливости, как единственно существующей на болоте. И выселяли. И отлавливали. И справедливым судилищам подвергали. А болото все гуще зарастало сине-зелеными водорослями, и все цвело на болоте, к ликованию лягушиного народа, ибо за цветением этим не было видно вонючих и нежилых куч плавника, а следовательно, можно было говорить о процветании и благоденствии народа. Находились отважные и любящие, что забрасывали щуку гирляндами белых лилий и желтых кувшинок, и осыпали тирана подобающими ему почестями…” ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Работа не шла. Давид отложил ручку и сидел над чистым листом бумаги. Все более он задумывался над изменениями, случившимися со Скавронски. Исчезла грубоватая язвительность Влаха, его открытое неприятие царящего в стране полицейского произвола и политического невежества. Давид не верил, что человек может так разительно измениться в столь короткое время. Неужели на Скавронски повлиял его разговор с государственным референтом? Какие доводы могли заставить согнуться человека, прошедшего семь кругов Анта? Государственный референт… Маленький, тихий, близорукий человек в старомодном костюме. По тайным тропам власти он пришел на свою должность из сельских фермеров, неожиданно обласканный диктатором и ненавидящий в душе своего покровителя лютой ненавистью палача. Нельзя было сказать о нем лучше, нежели это сделал сам Влах. “Медленно двигался тиран среди ряски, а за ним черной безмолвной тенью следовал Рак – верный слуга тирана и палач. Черный Рак был умудренным палачом. В порыве откровенности он не раз говорил тирану, что вольнодумство не рвут с корнем, полезнее оставлять известные ростки и знать впоследствии наверняка, где взойдет будущая опасность режиму. Против затейливого полицейского умысла крылся в том рассуждении и политический расчет, рожденный инстинктом самосохранения. Путь Рака к власти поражал злодействами и пугал замытыми пятнами крови. Черный Рак не расставался с портфелем, в котором покоились созданные искусными крючкотворами заговоры преданных и надежных. В застенках тирана шла кропотливая работа, и брата заставляли клеветать на брата, отца на детей, а детей на иных родственников. Непрерывным потоком шли анонимные доносы, и лягушиный народ, отдыхая ночью на кувшиночных листьях, вздрагивал от случайных всплесков на воде и долго смотрел на расходящиеся круги, гадая, чей час пробил в эту ночь. Черный Рак обычно присутствовал на допросах и не мог отказаться от удовольствия ущипнуть твердой еще клешней бледное от пыток брюшко жертвы. Не ради показаний, ибо палач знает цену признанию в крике, а в силу своей натуры, которая находила удовольствие и радость в чужой боли. Тысячи лягушек работали на канале, должном соединить болото с Зеленым Ериком. Тиран жаждал расширить свои владения, и бесконечные эти работы требовали все новых и новых строителей, а это увеличивало число анонимных доносов, поступающих в канцелярию тирана и обвиняющих одних подданных в том, за что награждали других. Если бы молитвы на смерть тирана и его палача дошли до бога, то болото испарилось бы силой гнева господнего. Но бог не имеет ушей для лягушек и не внемлет их горю. Рак опасался только серебряногалунного судака, прославившегося войной против Черного Ерика и потому пользовавшегося уважением и любовью жерехов и большого отряда подрастающих окуней, командующих когортами угрей и батальонами закаленных в боях лягушек. Это была сила, и Рак рассудительно считался с ней, раскланиваясь с судаком на приемах и вместе с тем тайно закладывая основы будущего падения блестящего победителя. Уже легли в знаменитый портфель первые анонимки о злоупотреблениях галунщика: запускал плавники в казну повелителя и пошаливал в обществе бойких плотвиц и распутных лягушек, а в экстазе молоковом высказывал тайные мысли, свидетельствующие о намерениях свергнуть тирана и круто повернуть к демократическим формам правления. В том же портфеле покоились личные письма судака к знакомым жерехам и между строк в тех письмах читались прозрачные намеки на глупость и ограниченность повелителя. Однако все это хранилось в тайне потому, что несомненно могло вызвать недовольство тирана, но не гарантировало гибели галунщика, а Черному Раку непременно надо было добраться до белого и скользкого судачьего брюха. Но время к тому еще не пришло…” Только за эти прозрачные намеки Скавронски должны были раздробить пальцы прикладом автомата. Тайная война референта с министром обороны была секретом полишинеля. О ней знали все. Борьба эта привела к формированию жандармерии, этой личной гвардии референта. В подозрительности своей референт привлек к сотрудничеству знахарей, которые силой подавляющих волю снадобий делали из человека покорного раба. Пластилиновая податливость сломленного человека использовалась для проведения шумных публичных процессов. Разговаривая с референтом, слушая его монотонные и обезличенные рассуждения о государственной пользе, Давид всегда испытывал какой-то нервный озноб. Неужели Скавронски попал в жернова жандармерии, перемалывающие людей во славу стоящих наверху? Тогда почему он, Ойх, оказался в относительной безопасности? Давид вышел на лоджию и сел в кресло, оглядывая окрестности. Вставало солнце. У разборных домиков охраны виднелись человеческие фигурки, выполняющие физические упражнения. В солдате должен жить здоровый и боевой дух! Он должен быть физически выносливой машиной, готовой выполнить любой приказ своего командира. Жестокость и правда кулака культивировались в армии еще со времен радикального правительства. Давид сам прошел через это, прослужив в армии около пяти лет. Иногда ему снились дни, проведенные в Порта-Фе. “Запомните, – вещал сверху сержант, пока они по-пластунски ползли через грязную лужу. – В армии для вас бог – сержант! Кого замечу с книгой, отправлю в сортир. Стишки сочиняешь? В сортир! Газеты хочешь читать? После отбоя – в сортире! Я из вас сделаю настоящих солдат! Бе-го-ом!” И они бежали, и грязь коркой засыхала на них под лучам и палящего солнца. “Потом скажете спасибо, скоты” – говорил сержант. Когда они покидали Порта-Фе, сержант стоял в воротах, и каждый новобранец, ненавидяще отводя в сторону глаза, благодарил сержанта за нравственное воспитание… Утреннее солнце еще не нагрело бетон здания, было прохладно, и стояла гулкая пустота рассвета. Давид задремал. Разбудила его длинная пулеметная очередь. Стреляли из тяжелого “Хаммарда” где-то на западной оконечности озера, скрытой зданием гостиницы. Следом раздалось еще несколько коротких очередей, потом одинокий выстрел из карабина, и Давид видел сверху, как торопливо разбегались по домикам солдаты, чтобы выбежать в полной форме, на ходу присоединяя к автоматам магазины. Не было на острове спокойствия! Давид вернулся в номер и принялся искать сигареты. Сигарет не было, и он заказал их по телефону. Через несколько минут в номер вошла все та же смазливенькая горничная в коротком халатике. Она принесла сигареты, но уходить не торопилась, поглядывая на постояльца с профессиональной улыбкой. Присутствие женщины волновало Давида. После ухода Лани он нуждался в утешении. Вместе с тем, достигнув определенной известности и общественного внимания, Давид обращению с женщинами не научился, и годы не прибавили ему смелости. – Не нуждаетесь ли вы еще в чем-нибудь? – спросила горничная. Давид нуждался. Ох, как он нуждался в смелости для ведения подобных бесед! – Как вас зовут? – спросил он неловко. Горничная одарила его кокетливым взглядом. – Это необходимо господину писателю для работы? Давид смутился. – Может быть, господин писатель желает познакомиться со мной поближе? – улыбнулась женщина. – Именно так, – признался Давид. – Право, мне неловко… – Меня зовут Крис, – перебила его горничная. – Вы так стеснительны, что мне неудобно брать с вас больше пятидесяти эвров. Весь день Давид будет испытывать неловкость, вспоминая прохладную кожу женщины, ее горячечно расширенные, темные глаза и опухшие губы, вновь и вновь переживая бесстыдство, рожденное их страстью. Но все это забудется, отойдет на второй план, когда он встретится со Влахом Скавронски. “Жил лягушиный народ в покорности и раболепии, обостренном до такой степени, что тирану отныне не приходилось шнырять по болоту в поисках жертв, те сами являлись к столу повелителя, и считалось это великой жертвой во благо всего лягушиного народа, и почитались жертвы великомучениками, боровшимися за нравственную справедливость. Нашлись обыватели, отрицающие полезность хорового пения и отлынивающие от него. Тате, естественно, выбирали вместо пения труд на благо всего болота, отправляясь полудобровольным порядком на строительство канала к Зеленому Ерику. Остальные с еще большим усердием предавались вечерним и утренним песнопениям, демонстрируя тирану полную свою лояльность. Отныне мало кто отказывался петь, но квакал каждый с умом, вкладывая в показное кваканье тайный сарказм и горькую усмешку…” – Глупости, – сказал Скавронски. – Никто меня не давил. Я не клоп. Меня легко не раздавишь. – Откуда же такая показная любовь? – иронически спросил Ойх. Влах задумчиво покусал губу. Не похож он был на раздавленного человека. Совсем не похож. – При чем тут любовь? – возразил Скавронски. – Тебе не кажется, что мы к нему относимся предвзято? Я долго думал, за что мы ненавидим Стана. В сущности, он неплохой человек, патриот, искренне желающий добра своей родине. Посмотри на все со стороны, как это сделал я, Давид! Что мы сами сделали для своего народа? Мне кажется, что время распрей кончилось. Пришла пора объединить усилия всех. Задача литераторов – объединять, а не разобщать людей. Мы должны делать то, к чему стремится Стан. Нация сильна своим единством, верно? – С кем ты хочешь объединить народ? – с любопытством спросил Давид. – С человеком, присваивающим пять процентов национального дохода страны? С тем, кто обокрал собственное государство, пытался продать его территорию, расплодил нищету, предоставил детям возможность умирать от голода? Ты же был со мной в южных районах и видел, что там творится! – В этом повинны сами люди, а не правительство! – возразил Скавронски. – Можно подумать, что Стан желает править покойниками! Не меньше нас он хочет стабильности в экономике, мира в стране и изобилия для всех. Ты поешь с чужого голоса, Давид! Мы должны выступать за правительство, а не против него. Надо прекратить гражданскую войну и дать стране долгожданный мир! – Чушь! – не удержался Ойх. – По-твоему, стоит уговорить голодных подыхать с голода, бесправных – продолжать кланяться палачам, нищих – смотреть на пузатую роскошь немногих, и все сразу станет хорошо, все устроится к общему удовольствию? Но нищий не хочет голодать и смотреть, как пухнут с голода его дети! Бесправные хотят наконец получить то, что им полагается по праву рожденного! Всем нужна справедливость! Влах угрюмо взглянул на товарища. – Я не считаю, что можно решить все проблемы сразу, – сказал он. – Но глупо валить общие ошибки на одного человека. – Хотя он и подталкивает всех к ошибочным решениям, а чаще принимает эти решения за других? – Что ты накинулся на Стана? Нормальный мужик, приятный в общении, в общем-то рассудительный. Я понимаю, что ты ему не угодил своей биографической книгой о нем. Имей смелость признать, что книга была твоей творческой неудачей. Кстати, он сам это понял и не преследует тебя. Верно? – Ты действительно веришь в то, что говоришь? – Было бы странно, если бы я поступал иначе. Я высказываю тебе обдуманное, наболевшее. “Господи! – подумал Давид, с жалостью оглядывая приятеля, – да когда же ты мог обдумать это, если еще несколько дней назад раскрашивал злыми красками своего сарказма рукописное болото, заселяя его персонажами нашей действительности? Неужели тебе сегодняшнему хватило одного удара о стенку вертолета?” Он склонился к Скавронски, внимательно разглядывая синяк на его щеке. Скавронски замолчал и машинально коснулся щеки кончиками пальцев. – Все еще заметно? – Ты к врачу не обращался? – Еще бы! Когда нас тряхнуло, я врезался в стенку вертолета так, что даже сознание потерял! – оживился Скавронски. – Ты не думай, никто меня не бил. Просто не закрепился, а тут вертолет тряхнуло. Очухался уже в клинике… Скавронски замолчал и подозрительно взглянул на товарища: – Или ты о другом? Может, ты намекаешь, что… – Успокойся! – миролюбиво прервал приятеля Давид. – Просто мне надоел наш разговор. Ну, и что там, в клинике? – Солидное оборудование, вежливые врачи. Проверили меня на сотрясение: мозговой алгоритм, биотоки там, температура, мозговой жидкости… Мне еще таблетки выписали, но ты же знаешь, как я к ним отношусь. Выбросил, конечно… – Странно с нами все-таки обращаются, – вслух подумал Давид. – Вежливо. Во времена полковника Огу к нашей интеллектуальной бражке относились пожестче. А сейчас, смотри – гостиница, отдельные номера, ресторан, клиника… Даже бабы! – Я и говорю, что другой человек Стан, совсем другой. Он-то понимает, что будущее связано с интеллигенцией. Он не желает с нами ссориться. Вы все еще поймете Стана! Для всех нас главное сейчас – найти общий язык. “Нашелся среди зеленокожего племени доктор гонорис кауза, обессмертивший себя трудом о вреде самодеятельного кваканья. Доказательно излагал он на тысячах страниц своего труда, что в любом обществе тиран есть производное от сложившихся отношений, а посему любое кваканье против тирана есть посягательство на существующие болотные основы. Замшелый хищник был тронут и приказал гениальное творение размножить поштучно на каждого обитателя болота, а самого автора приобщил к вечности, коснувшись гибкого тельца зубастой пастью. Тирану любовь не нужна, а нужны ему страх и благоговение. Потому тиран поощряет подхалимаж, развивая чувство здоровой конкуренции среди подданных. По сути своей тиран одинок, но одиноким себя не чувствует. Общность с другими определяется его властью. Тоска снедает тирана, и чем больше власти у него, тем больше тоски. И вот он уже набивает холодильники тушками своих подданных и ради собственного минутного развлечения угощает приготовленными из тушек блюдами своих приближенных и речных гостей. Приближенные выквакивали слова благодарности, ибо вступал в силу уже упомянутый конституционный закон: прав тот, кто ест. Оппозиция боролась с тираном легальным путем, но вся борьба сводилась обычно к нехитрой дилемме: выжить или быть съеденным…” – Что ты читаешь? – Твою рукопись, Влах. Неужели ты не узнаешь собственные правки? – Не помню, чтобы я писал когда-либо такое. – Тогда почитай. – Давид протянул Скавронски стопку листков. – Может быть, тогда ты поймешь, откуда у тебя появились новые мысли. ГЛАВА ПЯТАЯ Ужин в ресторане не всегда бывает приятным. Бернгри был угрюм. Скавронски и Блох к ужину вообще не явились. В зале слышались обрывки негромких разговоров. – Что вы делали сегодня утром? – спросил Давида маленький седой Дух. Глаза старичка слезились, и он поминутно промакивал их носовым платком. – Пытался работать. А что? – Вы слышали выстрелы? – Да. Вы знаете, что произошло? – Ночью несколько молодых литераторов взломали сторожку, забрали оттуда карабин и пытались бежать с острова, но были задержаны патрулем. Дух принялся вяло ковырять вилкой заливное мясо, принесенное официантом. Давид ощутил разочарование. Попав на остров, он быстро понял, что обещания референта – обычная словесная шелуха, обман, вроде красивого фантика на невкусной конфете. Старичок безрассудно сорвал фантик обещания, и оголилась горькая правда. – А эти, бежавшие, – спросил Давид старичка. – Их что – на берегу постреляли? – Нет. Одного, говорят, ранили. Того, кто с карабином был. – И где они? Дух принялся за кофе. – Мне сказали, что их поместили в изолятор клиники. Давид оставил на столике деньги и поднялся. – Идешь? – спросил он Бернгри. Тот отрицательно покачал головой. – В номере слишком тоскливо. Пожалуй, я загляну в видеобар. Давид вышел. Было уже сумрачно. Справа над черной полоской холмов висела огромная щербатая Луна. Нагретая за день земля отдавала воздуху тепло вместе с душными испарениями. В потемневшем небе повисли яркие одиночные звезды. В роще слышался монотонный крик какой-то одуревшей птицы. Мимо прошел патруль. Один из солдат держал на поводке здоровенного рыжего пса. Поравнявшись с Давидом, пес шумно втянул носом воздух и заворчал. Луч фонарика на мгновение осветил лицо Ойха, фонарик погас, и солдаты двинулись в направлении молочно высвеченного прожекторами куба Больничного Центра. Давид докурил сигарету и повернул назад. Прогулка после встречи с патрулем показалась ему глупой демонстрацией своей мнимой свободы. В вестибюле он встретил Бернгри. – У меня такое чувство, что я в чем-то виноват перед Влахом, – сказал Бернгри. – Он мне показался больным. – Он здоровее нас обоих. Просто он сломался, Два. Он устал бояться. Такое тоже бывает. – Это не делает ему чести. – Слова, – перебил его Давид. – Ты не знаешь, почему его не было за ужином? – После вчерашнего скандала я не хочу его видеть, – мрачно сообщил Бернгри. – Никогда не забуду его лагерных речей о роли художника в обществе и о низости тех, кто предает искусство. Где он был искренним – в лагере или здесь? Но ведь книги-то он писал честные! – Иногда благополучие испытывает людей больше, чем беда. – Почему ты его защищаешь? – раздраженно вскинулся Бернгри. – Потому что я отношусь к нему, как Рузвельт к какому-то банановому президенту. Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Давай зайдем к нему? – Иди один, – отказался Бернгри. Давид оставил его в вестибюле, поднялся на лифте на пятнадцатый этаж. Дверь номера Скавронски была заперта. Давид постучал, но ему никто не ответил. В своем номере он долго сидел за пишущей машинкой, пока не понял, что работать ему не хочется. Расточительно шло время на острове, ох, как расточительно! Уснуть Ойху удалось только со снотворным. Сквозь сон ему казалось, что в двери номера стучат, но подниматься не было сил. Давид все глубже погружался в бредовое забытье, раскланиваясь во сне с пучеглазыми лягушками, которые неуловимо походили на Влаха Скавронски. Лягушки снимали широкополые шляпы, вежливо отвечая на приветствия Ойха, но самая маленькая вдруг истошно закричала: “Предатель! Предатель!” Из густых зарослей подсознания немедленно выплыла огромная нахальная щука. Разинув пасть, она надвигалась на Давида. Он услышал за спиной громыхание и позвякивание, обернулся и увидел, что на него надвигается трамвай, которым управляет зеленокожий Влах. Вновь раздался звонок, и Давид понял, что звонит телефон. Он сонно поднял трубку. Незнакомый голос извинился и учтиво спросил, когда Давид в последний раз видел Скавронски. – Только что! – едва не ляпнул раздраженно Давид, но взял себя в руки и ответил, что видел Скавронски лишь в день появления на острове. Человек попросил Ойха выйти. Давид вежливо посоветовал ему смотреть на часы, прежде чем будить людей. Незнакомец повторил свою просьбу, присовокупив, что это важно лично для него, Давида Ойха. В трубке послышались гудки. Давид раздраженно бросил трубку на рычаг аппарата и крепко потер лицо, заставляя себя окончательно проснуться. Он надел спортивный костюм и выглянул в коридор. Сидящие в холле люди зашевелились, и кто-то поднялся навстречу Давиду. – Благодарю вас, господин Ойх, – сказал человек. Был он небольшого роста, крупноголовый и лысоватый. У него было обрюзгшее лицо человека, привыкшего приказывать. – Извините за столь ранний визит, но нам действительно важно узнать, когда и где вы в последний раз видели вашего приятеля Скавронски. – Если быть точным, то позавчера, – сказал Давид. – После обеда Скавронски был у меня в номере. Человек замялся. – Он не изъявлял желания покинуть остров? Вот оно что! Выходит, Скавронски валял дурака, а на самом деле готовился к побегу. Лихо! Аи, да Влах! Давид ощутил нечто вроде зависти и злорадства, и к ним примешивались разочарование и сожаление. Получалось, что Влах не настолько доверял ему, Давиду, чтобы открыть свои планы. Да черт с ними, с обидами! Молодец Влах, что там говорить! – Вы можете вернуться к себе, господин Ойх, – сказал властный собеседник. – Прошу извинить нас за беспокойство. – Может быть, он у себя? – предположил Давид. – Возможно, – на скулах обрюзгшего лица шевельнулись желваки. – Мы это проверим. Спокойной ночи, господин Ойх! Стоя у дверей номера, Давид видел, как ночные гости толпятся у лифта. Он вернулся в номер, сел на постель и задумался. Нет, Влах просто молодец! Вот тебе и покорное жвачное, именуемое интеллигентом! Так о нас отзывался в одной из речей ретивый полковник Огу? Интересно, где Влах раздобыл лодку? Он всегда был неважным пловцом, а до берега было не менее четырех километров. Давид вышел на лоджию. В рваные просветы облаков проглядывали звезды. Там, где располагался невидимый материк, поблескивал одинокий огонек. Давид никогда не был на острове, иначе он угадал бы в огоньке прожектор маяка Скорса. Ойх долго смотрел на мерцающую звездочку, потом взглянул вниз. На бетонной площадке перед входом в гостиницу стоял белый медицинский фургон и подле него курил водитель. Из гостиницы вынесли на носилках человека, прикрытого простыней. Носилки поставили в машину, и та торопливо унеслась, помигивая синими огоньками включенных маячков. “Вот и еще один, – отрешенно подумал Давид. – В такие душные ночи людей донимают застарелые болезни и сердечные приступы. Кто это был?” Возможно, что это был Дух. Слишком основательно доставалось старику в этой жизни. Впрочем, на месте Духа мог оказаться не один из знакомых Давиду литераторов. В который раз Ойх подумал, что ему нечего делать на острове. Полковник Огу был прав: в этом уютном теплом коровнике они и в самом деле становятся покорными жвачными животными. Здесь сытно кормят, дают спариваться, а главное – не дают задумываться над тем, что где-то гибнут позволившие себе восстать против рабской жизни люди. Бежать! Эта мысль все более укреплялась в Давиде. Пример Скавронски порождал уверенность в успехе. Остров был отделен от происходящего в стране не только узкой полоской воды, но и возникшей полосой' отчужденности, о которую разбивались волны бушующей в стране гражданской войны. Сейчас, когда страна разрывалась на части человеческими противоречиями, нельзя было оставаться в стороне и быть наблюдателем, требовалось найти свое место в этой борьбе, пройти через все ее перипетии и сделать все возможное для победы правого дела. В дверь постучали. Вошла Крис, и Давид испытал облегчение. Крис улыбнулась ему, ставя на стол поднос с двумя чашечками кофе. Она присела на постель, и Давид обнял женщину за плечи. Крис освободилась – Сначала получи письмо. – Письмо? От кого? – Не от меня же. Это тебе просил передать твой знакомый с пятнадцатого этажа. Давид недоверчиво взял в руки конверт. Конверт был из плотной бумаги и тщательно заклеен. Давид вскрыл его, чувствуя тепло прильнувшей к нему женщины, и сразу узнал руку Влаха Скавронски. “Не знаю, что было бы уместней, – писал Влах, – здороваться или прощаться. Я устал от двусмысленностей, мой литературный маршал. Рукопись, которую ты мне дал, действительно написал я. Пора сделать выбор. То, что я прочитал, противоречит моим убеждениям. Если это правда, то жить не стоит. Если это ложь, то жить недостойно. И в том и в другом случае единственно верным будет один выход. Передай Аве, что я на него не сержусь. Простите и меня, если я был несправедлив. Бог требует, чтобы мы прощали друг другу. Твой Влах”. С чтением торопливых строчек что-то рушилось в душе Давида. Он ощутил душевную боль и отчаяние. – Крис, когда тебе передали эту записку? – Вчера вечером, – женщина поцеловала его в подбородок. – Он меня просил, чтобы я отдала записку перед обедом. Но у меня оказалось свободное время, а в номере у тебя горел свет, и я подумала, что записку можно передать немного пораньше. “Немного пораньше!” – Давид скрипнул зубами. – Ты куда? – тревожно спросила женщина. – Я должен немедленно увидеть его. – Тебя не пропустит этажная стража. – Что? – Давид остановился. – На ночь всегда выставляют охрану на этажах, – сказала женщина. – К часу они обычно заваливаются спать в комнатах персонала, но уже утро… Давид сел на постель. – Что-нибудь случилось? – Крис заглянула ему в глаза. Давид протянул ей письмо Скавронски. – Жаль, – сказала Крис после чтения. – Твой друг был прав, и мне не следовало торопиться с передачей письма. – Ты что-то знаешь? – Я догадалась, – призналась женщина. – Подружка сказала, что кто-то повесился в номере на пятнадцатом этаже. Теперь мне кажется, что это был твой приятель. Крис ушла. Давид долго курил, лежа на спине. Неожиданная тоска, которую он пытался оставить в объятиях женщины, не только не ушла, но стала резче и осознанней. Влах, Влах! Давид думал о смерти приятеля как о свершившемся факте. Сомнений не было – случилось непоправимое. Уже собираясь уходить, Крис непонятно сказала: – Говорят, что вы здесь на перевоспитании? – Перевоспитывать нас? – Давид горько усмехнулся. – Что за странная идея? Нас уже пытались перевоспитывать при полковнике Огу. С чего ты это взяла? – Просто слышала один разговор, – неохотно отозвалась Крис. Она взяла со стола фотографию Лани. – Это твоя жена? – Бывшая, – неохотно ответил Давид. Лань ушла от него, когда Давид начал печатать главы биографии Стана. Доверяя ей во всем, Давид, однако, скрыл от нее задуманное им в этот раз. Потом, когда все стало на свои места, они не искали друг друга, полные ложной гордости и взаимной обиды. – Красивая, – заключила Крис, ставя фотографию на место. Утром Давид узнал от полного группенжандарма о смерти Скавронски. Группенжандарм положил перед Ойхом уже знакомую ему рукопись. – Это ваша писанина? – Нет, не моя, – сказал Давид, подобравшись внутренне. Группенжандарм пристально смотрел на него, и Давид уверенно встретил его взгляд. Жандарм сморгнул и отвел глаза. – Это было в номере у вашего приятеля, – нехотя сказал он. – Вы не знаете, где он мог взять эту дрянь? – Не знаю, – отрезал Давид. – Спросите у него самого. – Кого? Покойника? Группенжандарм откинулся в кресле. – Не делайте удивленного лица, – насмешливо посоветовал он. – Вы знали о смерти Скавронски еще на рассвете. Дайте записочку, что вам передала горничная! – Я ее сжег, – ответил Давид честно. – Прекрасно, – неопределенно отозвался жандарм. – Значит, вам неизвестен автор этой писанины? – Почему бы вам не предположить, что это написал сам покойный? – Это исключено, – отрезал Группенжандарм. Он был правопорядочным гражданином и не мог этого написать! – Мне трудно спорить, – усмехнулся Давид. – Я ведь не знаю, что в рукописи. Ему пришлось снова выдержать испытующий взгляд жандарма. “Если все больше лягушек квакает о свободе, то жизнь на болоте совершенно невыносима. Редкие покушения на тирана оказывались неудачными, икра демократических свобод высыхала на солнце, а ленивые приспешники тирана в темных омутах равнодушно стригли бритвами клешней бледные тела жертв. Все строже становилась цензура, и за каждым ластом потенциального квакуши наблюдала пара внимательных, на длинных стебельках глаз. Растопыренные же наготове клешни готовы были утянуть недовольного в воду и в черной воде омута внушить новоявленному карбонарию и нигилисту, что любые беспорядки в обществе оплачиваются кровью его членов”. ГЛАВА ШЕСТАЯ Давид равнодушно оглядывал зал. Люди вели себя так, словно ничего особенного не происходило. Словно существовали негласные правила, обязывавшие людей жить обычной жизнью, не замечая паучью сеть патрулей, нелепые смерти и безумные попытки побегов. Безликие жандармы в гражданских костюмах в глаза не бросались – сказывалась их многолетняя выучка. Дух был на обычном своем месте и, судя по аппетиту, чувствовал себя отменно. – Вы уже знаете, что произошло с вашим приятелем? – заговорщицки шепнул он. – Да, – сдержанно отозвался Давид, с удивлением обнаруживая отсутствие за столом Бернгри и Блоха. – Ужасно, – затряс головой Дух. – Такой приятный молодой человек и вдруг – такое! – Вы не знаете, где мои друзья? – спросил Давид. – Они живут на третьем этаже? – уточнил Дух. – Да. – Разве вы не знаете? – удивился Дух. – Все писатели, живущие по пятый этаж включительно, проходят обследование в Больничном Центре, Нет, это удивительно, не было еще государственного руководителя, который бы так заботливо относился к интеллигенции, вы не находите? Давид промолчал. – Генерал Стан – незаурядная личность, – продолжал старичок. – Признаться, я не ждал от него такого внимания к нам. Ойх удивленно взглянул на витийствующего Духа. Старичок оживился, выцветшие от старости глаза его налились живым блеском, он даже отставил тарелку в сторону. Давид вдруг вспомнил тот живой скелетик, каким выглядел Дух в лагере. Выжигая на нарах клопов, Дух вот так же увлеченно со ссылками на авторитеты предсказывал падение диктатуры полковника Огу и неизбежную гибель диктатур вообще. До чего же непримиримый был в лагере старичок! Помнится, однажды он угодил в карцер за то, что не снял лагерного кепи перед начальником лагеря, дерзко заявив тому, что высокий дух человеческий всегда свободен и никакими колючками невозможно оплести вселенную человеческого “я”. С этого времени и пристало к нему прозвище Дух, данное кем-то из неумирающей и в адских условиях породы остряков. “Что же делается с людьми? – мысленно изумился Давид. – Неужели сытость ломает человека более всех бедствий и несчастий на свете? Происходит что-то страшное, если ломаются такие, как Скавронски или этот седенький несгибаемый старичок”. – … вежливое обслуживание, предоставление условий, которые в разгар гражданской войны кажутся невероятными. Я убеждаюсь, что генерал Стан действительно в высшей степени трезвомыслящий человек, который понимает, что страну не поднять без усилий всех интеллигентных сил Эврии, – старичок, живо жестикулируя, уже сидел за его столом. “Подлость, – подумал Давид. – Незаметно и вкрадчиво она обгладывает человеческие души; и вот ее уже нет, души, и сам ты, одинокий и маленький, угодливо лежишь на ладони нечестности, принимая все ее прихотливые изгибы, и готов предавать, угождать, изменять идеалам, жить применительно к обстоятельствам, тайно ненавидя все то, что почитал когда-то за честь”. – … вы были неправы, Ойх, признайтесь, что ваша книга лишена объективности… Давид вскинул голову, и старичок испуганно затих. – Скажите, Ру, – осененный внезапной догадкой, спросил Давид. – Вы уже были в Больничном Центре? – Еще вчера. – Старик удовлетворенно улыбнулся. – Рекомендую, Ойх. Прекрасные врачи, великолепное оборудование. Вы ведь знаете, как меня донимал ревматизм. Можете себе представить – всего два сеанса, и никаких признаков болезни. Как тут не поблагодарить генерала Стана? Без сомнения, он очень любезно относится ко всем нам! Давид резко встал. – В другой раз я внимательно выслушаю вас, уважаемый Ру, – сухо сказал он. В вестибюле курила небольшая группа людей. Давид узнал в них леваков, пытавшихся, по уверениям Духа, бежать с острова, но задержанных патрулем. Один из куривших неожиданно шагнул к Давиду, и щеку Ойха обожгла хлесткая пощечина. Машинально он прикрыл лицо рукой. Нападавший больше не бил его. Улыбаясь, он смотрел на свою жертву. – За что? – Не понял? – ухмыльнулся левак. – Ничего, поймешь! Он вернулся к товарищам, и Давид услышал одобрительные возгласы: – Пусть съест! – Надо думать, чего пишешь! Правильно сделал, Кид! – Биограф вонючий! Надо же ухитриться так измарать человека! Я удивляюсь, что наш Стан простил ему его злобный пасквиль. Нет, господа, этот человек заслужил нечто большее, чем пощечина! Слова эти были еще более неожиданны, нежели пощечина. Давид видел, что жандармский бригадир следит за ними, но не вмешивается в происходящее. Он вышел на улицу. Лицо горело от испытанного унижения. Даже леваки! Бог ты мой, как они разделывали Стана в своих нелегальных, в четверть листка, газетках, которые в народе за размеры и злое остроумие называли “читушками”! Свободная ассоциация левых писателей шла к неизбежному концлагерю, в этом были убеждены все, включая самих леваков. Особенно после того, как “читушки” разоблачили аферу с продажей земельных участков иностранным концернам, в результате которой Стан положил в карман солидный куш. Перемены в левых писателях были так разительны, что Давид не мог в них поверить. На острове что-то происходило. Стал другим Влах Скавронски, ярый противник любой диктатуры, изменился Дух… Впрочем, этот-то мог сломаться без постороннего воздействия. В его возрасте больше заботятся об удобствах тела. Наконец, леваки, эти фанаты, которых даже смерть не смогла бы заставить сменить убеждения. Такие не поддаются воспитанию. Они из породы людей, которые, стиснув зубы, дробят камень в каменоломнях лагерей, захватывают самолеты во имя своих псевдореволюционных лозунгов, взрывают у зданий иностранных посольств и армейских казарм машины, начиненные динамитом, вступают в стычки с жандармерией при разгоне митингов и демонстраций. Но и они только что продемонстрировали свою лояльность режиму. Все они стали иными после посещения Больничного Центра. Что же происходит? Неужели нашли способ воздействия на самых стойких? Но как? Используя проверенный веками метод кнута и пряника? Вряд ли. Это не для людей, которые испытали на себе ужасы антовских лагерей. Может быть, на людей воздействуют знахари, которых так ценит господин референт по государственной безопасности? Давид видел работу знахарей, и ему было жутко наблюдать, как человек выполняет самые унизительные и грязные команды торжествующих колдунов. Уходить! Мысль о необходимости побега все более укреплялась в Ойхе. Унизительно для человека быть рабом обстоятельств, покорно склоняться перед случившимся и бояться будущего, которое за тебя определяют другие. “Жвачное стадо – вот кто мы есть, – думал Давид. – Где-то за грядущую справедливость дерутся и умирают настоящие люди, изнемогают в многодневных переходах, уходя от правительственных ищеек, бригады Сопротивления, а мы размениваемся на смачную похлебку, смазливых баб, дым хороших сигарет и ждем, когда нам позволят сказать что-нибудь из жизненной правды, еще не зная, какой эта правда будет. Боже мой! – Давид вздрогнул от неожиданной мысли. – Неужели и я когда-нибудь стану топтать все честно написанное и выстраданное мной, принимая ложь за правду?” – Назад! – услышал он привычный уже окрик и остановился, преодолевая безумное желание шагнуть вперед и ощутить удар пули, за которым одна пустота и… свобода. Инстинкт самосохранения увлек его к гостинице. Блох был в номере у Бернгри. Он сидел за столом, то и дело поправляя очки, мясистое рыхлое лицо его было совсем красным, и он смотрел, как Бернгри просматривает какие-то бумаги и рвет их. Блох повернулся на звук открываемой двери, увидел Давида и сказал: – А-а-а, еще один мученик идеи! Бернгри разорвал несколько листов бумаги и невпопад отозвался: – Это пройдет. – Ты о чем? – полюбопытствовал Давид, усаживаясь на стул. – Ревизуюсь, – опять невпопад отозвался Бернгри. – Представляешь, сколько разной дряни скопилось?! Он сунул бумаги в мусорную корзинку и принялся за новую пачку. – Ерунда… дрянь… – бормотал он. – Господи, неужели я столько лет писал подобную галиматью и воображал себя писателем? Он отправил в корзинку новую порцию исписанных листов и выпрямился, поворачиваясь к Блоху. – Все-таки в нем что-то есть. Пожалуй, это первый интеллигентный деятель. Не сомневаюсь, что он искренне хочет примирения нации. – Ты об Уолтике? – внутренне холодея, спросил Давид. Уолтиком звали любимого детворой героя серии мультипликационных фильмов. Мультфильмы были сделаны великолепно и всегда собирали массовую аудиторию. – Я о генерале Стане, – блеснул глазами Бернгри. – И не убеждай меня в обратном. Я ведь понимаю, что твоя работа о нем – первая и, дай бог, последняя творческая неудача. Ты писал одно, но люди ищут в твоей книге иной смысл. Книга оказалась двусмысленной, Давид, и в этом есть какая-то непорядочность! Господи, и этот туда же! Давид почувствовал, что его охватывает страх. – Говорят, что завтра в Больничный Центр отправляется и ваш этаж? – осведомился Бернгри. – Первый раз слышу, – сказал Давид. – А вы там уже были? – Сегодня. Первоклассная аппаратуру, скажу я тебе. Полчаса лечения, и я избавился от мигрени, которая донимала в последние годы. – Здесь совершенно нельзя работать, – вдруг сказал Блох. – Совершенно. Я не написал ни единой строчки. Давид почувствовал какую-то опустошенность. Бернгри жаловался ему на что-то, апеллировал к сидящему за столом Блоху, но все это воспринималось Ойхом как-то отстранение, словно он наблюдал сценку из любительского спектакля. Скука это была, невыразимая скука! До обеда Давид валялся в шезлонге на лоджии, подставив солнцу лицо. За широкой гладью озера чернела далекая полоска суши и слепящей искоркой отражались солнечные лучи от какой-то стеклянной поверхности. Пожалуй, он смог бы проплыть расстояние, отделяющее остров от материка, без лодки. Для вещей можно связать плотик из деревянных обломков, валяющихся на берегу. Решимость постепенно укреплялась в Давиде “А почему бы не проникнуть в Больничный Центр, – неожиданно для себя подумал Давид – Попасть туда и выяснить, что происходит, что там делают с людьми”. В том, что все происходит именно там, Давид уже не сомневался Он сел, внимательно разглядывая бетонный куб Больничного Центра Годы, проведенные в спецвойсках эвроарма, не забылись Дух джиэвра вновь проснулся в Давиде С высоты лоджии он принялся оглядывать лежащие внизу аллеи, автоматически отмечая расположение патрульных постов и рощицы, удобные для подхода к Больничному Центру. Подобраться к зданию можно. Давид прошел в комнату и вытряхнул на постель содержимое сумки. Черный тренировочный костюм как нельзя более подходил для задуманного. Требовалось найти, чем закрыть лицо. Давид сел на постель, задумчиво покусывая нижнюю губу, потом усмехнулся неожиданной мысли: кажется, он знал, где найти искомое. Перед ужином он получил нечто вроде повестки, отпечатанной на твердом картонном квадратике. Ему предлагалось прибыть в Больничный Центр для прохождения обследования не позднее одиннадцати часов следующего дня Давид улыбнулся: он собирался посетить больницу куда раньше назначенного срока. Ужиная, он наблюдал за товарищами. Бернгри и Блох обсуждали возможность общего обращения деятелей искусств к народу. Блох доказывал, что достаточным будет, если обращение подпишут председатели авторских союзов по каждой секции, Бернгри же упрямо твердил, что долг каждого интеллигента поставить свою подпись под обращением, призванным остановить братоубийственную гражданскую войну Каждый воображал, что творит историю, в то время, когда история творилась неграмотными и обездоленными людьми, умиравшими с твердой верой, что будущее равенство детей стоит проливаемой за это крови. Тирания обречена, даже если она затянута на десятилетия Залогом тому служит человеческая душа, которой со времен Спартака противны рабство и унижения. “Я не стану рабом на соленых полях Галахари, я, рожденный в Нагорье, земли голодающей плод”, — пел год назад во время публичной казни, устроенной полковником Огу, полуграмотный народный поэт Раду, и песня эта, рожденная не разумом, а человеческим сердцем, ожила сейчас в разворачивающейся душе Давида. Слова этой песни звучали в его душе и когда он преодолевал двадцатиметровую бездну, отделяющую лоджию его номера от сонной земли. В номере спала Крис, чей капроновый темный чулок он использовал в качестве маски, дрых на этаже в своем кресле дежурный жандарм, не подозревающий, что среди презираемых им хилых интеллигентов найдется человек, способный без разрыва сердца ощутить зыбкую многометровую пустоту под ногами. В своих номерах спали Блох и Бернгри, готовые наутро вновь спорить о судьбе нации и роли интеллигенции в решении этой судьбы. Время прошло, и его нельзя было повернуть вспять. “Ряска на болоте становилась все гуще, вода все зловоннее, и болото жило уже лишь дождями, приносящими свежесть из далеких рек и озер. Но чем зловонней становится болото, тем больше лягушек мечтает о свежей воде…” Влах, Влах, несчастный сломавшийся человек! Что произошло с тобой, где состоялся надлом твоей души? “Я не стану рабом на соленых полях Галахари…” Цепкие уверенные шаги патруля заставили Давида затаиться, распластавшись за низким рядом подстриженного кустарника. – Что там, Щур? Неприятный голос был у патрульного! – Сейчас Роки посмотрит, что там! Собака! Как же ему не повезло! Собака! В своих расчетах он совершенно упустил из виду, что у патрулей есть собаки. Это полностью ломало разработанный Ойхом план. Что-то с шумом приблизилось к нему, послышалось ворчание, и, подняв голову, Давид встретился с немигающим взглядом рыжего пса. Ойх замер. Пес снова заворчал, но не зло, а как-то недоуменно, словно удивляясь появлению Давида в пустом ночном парке. Давид нащупал нож, захваченный им из номера. Пес снова шумно вздохнул, с неожиданной грацией перемахнул через кустарник и вернулся к хозяину. – Что там, Щур? – снова спросил патрульный. – Крыса, должно быть, – отозвался его товарищ. – Здесь полно крыс. Разговор удалялся, и Давид сел, вытирая ладонями мокрое лицо. Пронесло! Господи, пронесло! Дай тебе, пес, таких же рыжих щеночков! Он пожалел, что не может закурить. Сигарета сейчас пришлась бы весьма кстати. “Уже слышались окрики с далекой Реки и призывы к гибкости политического мышления, указывалось, что прошло время безнаказанного лягвоедства, и необходимо навести косметику на внутриболотную жизнь, дабы укоризненного кваканья с других болот избежать. Щука увещеваний не слушала, и по-прежнему торчали из острой пасти хищника искалеченные лягушачьи лапки. И никто не знал, что участь тирана решена группой инициативных жерехов и судаков с серебряными лампасами и галунами. В тайных лабораториях была изготовлена карающая блесна, имитирующая любимую пищу тирана. Окуни метались по обмелевшему каналу, согласовывая с кем надо детали покушения, а напуганные пресноводные жабы, плотва, язи и другие деловые рыбы, взращенные на свободном предпринимательстве, удивленно глядели на стремительные разводы на воде”. Окно на первом этаже Больничного Центра было открыто. И в здание Давид проник на удивление легко. В вестибюле он долго читал кабинетный указатель, но все было написано на недоступном ему языке медицинских терминов, и Давид не знал, с чего ему начать. Он надеялся, что в кабинетах кто-то будет. Иначе его лихой ночной налет терял всякий смысл. Давид не ошибся. За дверью с табличкой “Кабинет психоинформационного анализа” разговаривали. Судя по голосам, за дверью было два человека. – К чему была такая спешка? – басовито сказал человек. – Использовать аппаратуру без предварительных испытаний глупо, согласитесь! – Вы же заверяли господина Тэта, что убеждены в действенности машины, – колко отозвался собеседник. – Потом у вас была удачная попытка на острове. Этот… Скавронски… Ведь опыт над ним был убедителен, верно? – А потом Скавронски покончил с собой! – возразил бас. – Мы еще не представляем, насколько глубоким является изменение личности, чтобы работать с людьми. – Пусть этот вопрос не слишком заботит вас, – отозвался собеседник. – Для вас это просто экспериментальный материал. Необходимо, чтобы программа изменений была стойкой. А со Скавронски мы уже разобрались. В период личностной ломки какой-то идиот из его приятелей подсунул ему его же собственную рукопись, написанную до информационного вмешательства. Нагрузка оказалась непосильной для этого неврастеника. Но с леваками у вас все получилось великолепно. Никаких побочных эффектов! Господин референт очень надеется на вас. В ближайшее время на остров будет доставлена партия захваченных в боях бойцов фронта национального освобождения. Среди них есть крупные руководители. От вашего участия зависит многое. Господин референт… – А вот это уже все равно, – сказал бас. – Я дал согласие на эксперимент по перевоспитанию людей с использованием комплекса психоинформационных изменений. Но я не обещал референту по государственной безопасности, что буду использовать комплекс для подготовки его шпионов. Голоса отодвинулись в глубину комнаты. Давид осмотрелся. Едва освещенный коридор был пуст, и в нишах стояли черные тени. В темном проеме окна метались голубые тени прожекторных лучей. От гостиницы доносилась приглушенная стенами и расстоянием ритмичная музыка. Информационные изменения личности… Надо же! Это тебе не знахари, пользующие клиентов дикарскими настоями трав, лягушек и пауков. Это наука! Значит, информационные изменения… Бедный Влах! “Чем зловонней становится болото, тем больше лягушек мечтает о свежей воде”. Тобой были написаны эти строки. Но они были незнакомы информационному уроду, подсаженному в твое сознание и читающему текст зелеными глазами лягушки… Давида знобило. Он осознал вдруг, что чертовски устал. ГЛАВА СЕДЬМАЯ Призрак ночи бродил по коридорам. Давид терпеливо ждал окончания спора, что продолжался в кабинете психоинформационного анализа. Лишь однажды мимо ниши, где он притаился, прошли молчаливые люди в белых халатах, толкая тележку, на которой лежало что-то длинное, накрытое простыней. Все было по науке! Посещение комплекса психоинформационных изменений, где тебя встречают внимательные вежливые люди в белых халатах, и ты выходишь из Больничного Центра внешне прежним, но духовно иным. Ты с брезгливостью смотришь на то, что еще часы назад составляло основу твоего существования, ненавидишь друзей и беспамятно любишь врагов; веришь в то, что было лживым всегда, без притворства ощущая духовные помойки своим идеалом. Эта участь ожидала их всех. Генерал Стан не боролся со своими политическими и идейными противниками. Он просто делал их подобными себе. Он создавал пирамиду из убитых личностей, полагая встать на ее вершине живым и в полный рост. А ведь все и шло к тому. В последнее время нейробиология в стране развивалась успешнее других наук. Кен Рост даже получил Нобелевскую премию за свои работы… Предстояло драться не столько за свободу других, сколько за свое личное освобождение. Давид снова вспомнил рукопись Влаха Скавронски, и каждая фраза ее теперь наполнялась особым смыслом. “И когда блесна врезалась в брюхо палача, острыми крючками разрывая его ожирелые внутренности, и тиран лягушиного народа закачался на темном зеркале воды, первыми вспрыгнули на белое и скользкое брюхо самые преданные, самые приближенные, а потому твердо уверенные в кончине своего повелителя. Вспрыгнули и длинными квакающими тирадами оповестили всех, что тиран мертв, что зло – наконец-то! – побеждено, что это они, они, они! – а не кто-то. другой – с риском для жизни готовили покушение на диктатора, приближая тем самым эру свободного кваканья; а страшные могильщики уже полосовали шкуру тирана, и тайно делились будущая власть и прошлое его богатство…” “Черта с два! – подумал Давид. – Хватит! Народ не допустит. Мало драться за свободу, надо программировать будущую жизнь, чтобы свобода не застала человека врасплох. Недостаточно быть готовым умереть, надо еще быть готовым жить, и жить так, чтобы не вскарабкались на твою шею будущие кровососы, уже готовящие программу твоего нравственного перевоспитания в своих личных целях”. За дверью кабинета послышались голоса. Давид собрался. Из кабинета, аккуратно прикрывая за собой дверь, вышел человек в сером костюме. Давид выждал, пока человек скроется за поворотом, и шагнул к двери. Дверь была заперта изнутри. Давид постучал. Уже знакомый ему голос брюзгливо проворчал: – Вы мне дадите немного поработать на себя, Барт? С поворотом ключа Давид резко ворвался в комнату, тесня противника в ее глубину. Прикрыв за собой дверь, он заставил хозяина сесть в кресло. Темная паутина чулка мешала ему разглядеть лицо противника. – Что вам угодно? – спросил хозяин кабинета. – Нам? – Давид судорожным вздохом выровнял дыхание. – Нам хочется узнать, что нам здесь уготовили! Давид всмотрелся в хозяина кабинета. Казалось, тот не был смущен. Напротив, он усмехнулся и закинул ногу на ногу. – Перестаньте играть в гангстера, Ойх! Давайте поговорим спокойно. Если вам обязательно что-то нужно для самоутверждения и уверенности, то пистолет будет лучше. Он лежит в верхнем ящике стола, и вы можете убедиться, что он заряжен. И снимите свой дурацкий чулок! Вы напрасно думаете, что он скрывает ваше лицо! Давид зашарил в с толе, наткнулся на холодную рукоять пистолета и проверил обойму. Пистолет был заряжен. Он сел в кресло, направив пистолет на собеседника, свободной рукой сорвал с головы чулок и спросил: – Откуда вы меня знаете? – Мы с вами встречались, Ойх. Я работал у Кена Роста в Шайхате: Помнится, вы частенько посещали доктора… – Постойте! – Давид всмотрелся в собеседника. – У доктора был помощник, и он носил фамилию Лонг… – Увы, – вздохнул собеседник. – Он сейчас ее носит. – Вы изменились, – признался Давид. – С вашего разрешения, я оставлю пистолет у себя. Он и в самом деле придает человеку некоторую уверенность. Доктор сел свободнее. – Я чувствую, что вы жаждете от меня подробностей, – сказал он. – Вам совершенно ничего не известно? – Почему же? – возразил Давид. – Кое-что я услышал сегодня. Вы изволили громко беседовать с неким серым человеком. Кое-что мне подсказали таблички на дверях кабинетов. Кое-что я домыслил сам. Как у любого писателя, у меня живое воображение. – Тем лучше, – деловито отозвался Лонг. – Мы можем говорить открыто. Все эти государственные тайны мне надоели до тошноты. Что вы слышали о проекте “Кузнецы грядущего”? – Ничего. – Перед вами один из кузнецов. Вам хочется узнать, что это за проект? – Разумеется – Вы когда-нибудь задумывались, что такое личность? Что отличает одного индивидуума от другого? Объем накопленной информации? Склад характера? Не отрицаю. Но этого недостаточно. Наряду с этими признаками личность определяется системой приобретенных социальных ориентиров, если хотите – социальных рефлексов. Измените их, и личность станет другой. Теперь вы понимаете, в чем состоит суть проекта? – Кажется, понимаю. Лонг удовлетворенно хмыкнул. – Название проекту дал лично генерал Стан. Занимаясь проблемой человеческой личности, мы пришли к выводу, что преступника можно изменить. Не перевоспитать – это слишком долгий путь, – а именно изменить. Для этого достаточно сменить социальный индекс личности. Хотя бы частично. Представляете, Ойх? Честный человек окажется способным на чудовищные подлости, закоренелый грешник станет ангелом, нежный монолюб обратится в растленного полигама, а у сексуального маньяка и насильника простая мысль о чужой женщине будет вызывать обморочное состояние. Для этого не надо закладывать в мозг новой информации, сойдет и уже накопленная. Достаточно изменить социальные ориентиры личности. – Но это безнравственно! – не выдержал Давид. – Наука сама по себе вненравственная категория, – прищурился Лонг. – Если бы люди соблюдали средневековую мораль отказались от потрошения трупов и изучения человеческой анатомии, они бы до сих пор подыхали от аппендицитов. – Так вот на что клюнул Стан! – Вы думаете, коммунисты бы отказались от перевоспитания своих жуликов? – Но вы-то взялись не за жуликов! Вы рубите цвет нации! – Пустое, Ойх. Это говорит система ваших социальных ориентиров, не более. Стоит вам побывать в нашей лаборатории, и вы с негодованием будете воспринимать подобные оценки других. – Это хуже, чем физическая смерть! Лонг вздохнул. – Знаете, о чем меня только что просили? Мне предложили осуществить социальную переориентацию группы руководителей ФНО, захваченных жандармским легионом во время последних боев. Генерал Стан не хочет проливать крови. Он жаждет мира, не желая убивать непокорных. – Он жаждет уничтожить их души? – А что есть душа? – спросил Лонг. – Простое колебание электромагнитных волн, набор биотоков, не более. Можно сохранить человеческое сознание и после смерти организма. Достаточно поддерживать систему в необходимом рабочем режиме. Представляете, Ойх, можно создавать души без помощи божьей… – Социальное переориентирование, – повторил Давид. – Слушайте, Лонг, ведь ваш учитель был порядочным человеком. Неужели вам не стыдно? То, что вы делаете, куда страшнее ремесла палача. Лонг встал и подошел к окну. Давид настороженно следил за ним. Некоторое время Лонг молчал, глядя на голубые лучи прожекторов, беспорядочно разрезающие тьму ночи. Он повернулся к Давиду. – Эта была неплохая научная проблема, – задумчиво сказал он. – Лепить человека, как– пластилин. Чувствовать, что ты можешь вылепить из него все, что угодно. В некотором смысле не только чувствовать себя богом, но и быть им. Не смотрите на меня так, Ойх. Вам интересно заниматься литературой, придумывая своих героев? Разве ваши герои не тот же пластилин, который вы мнете, как вам заблагорассудится, и из которого вы лепите все, что вам угодно? А мне нравилось лепить саму жизнь. Меняя человека, я изменяю мир. Сказать, что меня заставили, – значит, солгать. Я сам взялся за эту работу и делал ее увлеченно. В тюрьме опыты были довольно убедительны. Но что тюремная дрянь, она пластилин, который можно лепить кулаками и пощечинами, в них одна видимость человека. Они в массе своей готовы быть такими, какими им прикажут быть. И мне захотелось попробовать себя не на жаждущем выпивки скоте, но на человеке достойном, социально устоявшемся. Он мог измениться, и тогда я прав, и наше общество может пластилиново меняться под пальцами умелых рук. Такое общество не заслуживает снисхождения и достойно, чтобы им управляли сильные. Но он мог и остаться неизменным, и тогда бы можно было успокоиться на этом. Я хотел развеять химеры моей души. Самое страшное для человека – его нереализованный искус, он гложет душу и постепенно съедает ее, захватывая все человеческие помыслы и рождая сожаления о несбывшемся. У человека только один выход: покориться искусу или выбросить его из головы, навсегда забыть. Я покорился. Когда Стан сделал мне предложение совместной работы, я не особенно колебался. У меня руки дрожали от желания попробовать. Здесь, на острове, первым стал этот ваш Скавронски. Признаться, я испугался, узнав о его смерти. У меня и в мыслях не было, что есть и третий вариант для сильной личности. С последующими экспериментами я понял, что могу реально, понимаете, реально наводнить мир скотами вместо искренних и честных людей. Вы слушаете меня, Ойх? – Да, – с некоторым усилием отозвался Давид. – Презираете? – Лонг сел на край стола, впрочем, не решаясь приблизиться к ночному гостю. – Возможно, что вы правы. Это и в самом деле настоящее убийство. Со смертью одного человека рождается совершенно иной. Но прежнего-то никогда не будет! И я понял, что заигрался. Заигрался и проиграл. Я не хочу готовить для Стана и его референта доносчиков и предателей из настоящих людей. Я не хочу наполнять мир сволочами и нежитью вместо честных. Не хочу! Но что мне делать, если я подписал свой договор с дьяволом? – У каждого человека, – жестко сказал Давид, – есть выход. Если он человек. – А я не хочу подыхать! – поднял голову Лонг.- Мне нравится жить. Я еще не съел своей тысячи котлет, не выпил того, что мне отмерено выпить… Он неожиданно грубо выругался. – Я попал в жернова, и они крутятся, Ойх, крутятся! – Вы никогда не думали о побеге? – Бежать? – лицо Лонга нервно передернулось. – Куда? Через три дня меня приволокут к Стану, как взбесившегося пса, – на цепи, и я буду лизать ему руки, вымаливая прощение. Это унизительно, Ойх! – Но оставаться здесь еще унизительнее! – А вы? – укоризненно отозвался Лонг. – Вы сами? Читаете мне нравоучения, а вечерами просаживаете деньги в кабаке, валяетесь с женщинами в постели, а потом рассуждаете о предназначении человека. Это, по-вашему, нравственно? Давид почувствовал, что краснеет. – Кто вам… – начал он, но Лонг насмешливо перебил: – Анкета, Ойх, всего лишь полицейанкета, которую я получил в порядке ознакомления с будущим объектом. Жандармерия проявляет чудеса тайного сыска, не правда ли? У меня нет желания попасть под колпак собственного аппарата. Противно, знаете ли, становиться полярником. – Кем? – Давиду показалось, что он ослышался. – Полярником, – повторил Лонг. – Это наш жаргон. Так мы называем соиизменников. Они замолчали, и стала слышна далекая музыка – ресторанная вакханалия достигла своего апогея. – Я шел сюда узнать, что нас ждет, – нарушил молчание Давид. – Теперь надо думать, что я должен сделать, чтобы этого не случилось. Лонг хмуро смотрел на него. – Вы пойдете со мной, – продолжил Давид. – У меня нет ни малейшего желания… – А меня не интересуют ваши желания, – жестко Отрезал Давид. – Вы пойдете со мной, хотите вы этого или не хотите. – А если я не пойду? – Обойдемся безо всяких “если”. В самом этом слове кроется какая-то безнадежность для спрашивающего. – Давид прошелся по комнате и остановился перед пультом машины. – Я полагаю, что вся система коммуникационно связана с компьютером? – Да, – послушно отозвался Лонг. – Пароль?! – Что? – Я спрашиваю, какой пароль предусмотрен для входа в программу? – Зачем вам это, Ойх? – Узнаете. Назовите пароль. – Вы хотите уничтожить систему? Но это безумие! – Я думаю, что у вас предусмотрено уничтожение системы на случай непредвиденного вмешательства в вашу работу? Лонг невнятно выругался. – Почему вы думаете только о себе? Почему вы не спросите, хочется ли подыхать мне? – Я уже спрашивал вас об этом и знаю, что подыхать вам не хочется. Так что у вас предусмотрено для уничтожения системы? – Этого я вам не скажу. Давид повернулся к хозяину кабинета. Широкое лицо Лонга было в капельках пота. Лонг боялся, и, почувствовав этот страх, Давид понял, что Лонг ничего не скажет. – Повернитесь, – приказал он. Лонг догадался и покорно повернулся к Давиду спиной, скрещивая кисти рук. Давид связал ему руки капроновым чулком, туго затянув узел. – Мне жаль вас, – сказал Лонг, не оборачиваясь. – В одиночку воевать с государством – значит заранее обречь себя на поражение. Вас просто уничтожат. – Слишком много разговоров, – заметил Давид. – Жаль, что вы отказываетесь назвать пароль. Придется использовать более примитивные методы. – А что будет со мной? – Не знаю, – честно сказал Давид. – Самым разумным было бы застрелить вас. Но у меня не поднимется рука выстрелить в связанного и безоружного человека. Вы пойдете со мной. Хотя бы до берега. – Во всем обвинят меня. – Тогда у вас останется один выход: бежать вместе со мной. Что это у вас – спирт? – Черт! – почти прокричал Лонг. – Откуда у вас эта решимость? Вы всегда казались мне мягким человеком. – Вы сами загнали меня в угол, – Давид сунул в бутыль палец и принюхался к жидкости. – Похоже, что спирт. Чему же вы удивляетесь? Даже безобидные козы оказывают сопротивление волку в безвыходной ситуации. Я ненавижу тех, кто пытается меня мять, как пластилин. И мне кажется, что таких, как я, немало. – Я устал, – сообщил Лонг. – Вы больны, Ойх. Ведь это чертовски заманчиво создать общество единомышленников, общество, в котором нет разногласий, в котором все его члены подчинены единой цели. – Да, – отозвался Давид. – Только все это уже было. В Германии. Кончилось это душегубками и газовыми камерами концлагерей. Во имя единых целей. – Но почему нужно ждать самого плохого? Почему концлагеря, почему обязательно газовые камеры? Наоборот, существование “системы” отвергает саму необходимость существования концлагерей! – Общество единомышленников возможно только на добровольной основе. В рай взаимопонимания нельзя загонять плетьми. В противном случае это фашизм, а от него всегда смердело. Однако скоро рассвет, и нам пора заканчивать наши споры. Лонг тоскливо уставился в окно – Послушайте, Ойх, давайте договоримся? Я вам ключ, и вы оставите меня в покое. Идет? – Нет. К сожалению, я не могу оставить вас в покое. С вашими идеями переустройства общества вы мне можете здорово навредить. – Нет, я серьезно, – Лонг встал и остановился в нескольких шагах от Давида. – Давайте заключим сделку? Вы получаете необходимое и делаете свое дело. Я понимаю, что систему не сохранить. Жаль. В нее угрохано столько денег, что вашему вонючему Авторскому Союзу пришлось бы в полном составе творить бесплатно четверть века. Великолепная машина, Ойх! Впрочем, где вам это понять, вы же инженер человеческих душ. Ломать – не строить, так? Я согласен. Но меня вы отпустите. Вы собираетесь исчезнуть этой ночью, верно? Я не буду вам мешать. Я с удовольствием поразмышляю над вашими доводами где-нибудь на берегу. Такой вариант вас устроит? – Почти, – отозвался Давид, поразмыслив. – Не хватает только обещания, что вы не будете продолжать вашу работу. Хотя бы при жизни генерала Стана. Лонг негромко засмеялся. – А вот таких обещаний я давать не буду. Впрочем, это вас должно мало беспокоить. Для того чтобы построить такую систему повторно, придется продать с молотка всю нашу страну. Кредитоспособность Стана настолько сомнительна, что в долг ему не дадут даже на строительство личного бункера. Ну, что, скрепим наш договор? В той бутылке, что вы смотрели, действительно находится спирт. Путь к берегу оказался легче, чем рассчитывал Давид. – Не давит? – спросил он, проверяя узел на запястьях Лонга. Тот что-то проворчал, заворочался, усаживаясь удобнее. Над островом уже стоял серый полумрак, возвещающий скорое наступление дня. – Сколько осталось? – спросил Лонг. Давид взглянул на часы. – Пятнадцать минут. – Глупо. – Лонг посмотрел на серую гладь озера. – Знаете, что это там мигает? – неожиданно спросил он. – Нет. – Это маяк Скорса. – Лонг вздохнул. – Все-таки вы террорист, Ойх! Какую машину угробили. Ее память накапливалась нами четырнадцать лет! Представляете? – Значит, теперь у нас есть время – Подумайте, сколько людей вы обрекли на физическую смерть. Теперь Стан начнет уничтожать своих политических противников. Вы не кажетесь себе убийцей? – Нет. Я всегда считал, что духовная смерть страшнее физической. Человека рождает дух. Физическая смерть являет миру героев, в то время как духовная – предателей и ренегатов. Я знаю, что многие из тех, кого теперь ожидает смерть, благодарили бы меня за сделанный за них выбор. Он снова взглянул на часы. – Ну, мне пора. Прощайте! – Прощайте, – сказал Лонг. Усмехнувшись, он добавил: – Вы из породы бойцов. Поэтому звать на помощь я не буду, рот мне вы можете не затыкать. Тем более, что теперь кричать бесполезно. Давид спустился к воде, чувствуя спиной пристальный усталый взгляд. Он огляделся. Берег был пустынен, и только у лодочной станции раздавался негромкий хохот – солдатня боролась со сном нескромными анекдотами. Серый куб Больничного Центра был высвечен лучами прожекторов, и где-то в его кабинетах лишенный памяти компьютер выполнял свою последнюю задачу, отсчитывая время, оставшееся до самоуничтожения. По воде бежала мелкая рябь. Лучи встающего солнца окрашивали воду в розовый цвет. Давид разделся и выволок из кустов загодя приготовленный полиэтиленовый мешок, из которого он соорудил импровизированный водонепроницаемый рюкзак. В рюкзаке лежали костюм, документы и оставшаяся у него наличность. Надев мешок, Давид еще раз осмотрелся. Было тихо, редко посвистывали просыпающиеся птицы, но тишина эта была обманчивой и опасной. Озеро приняло его без всплеска. Некоторое время он разрезал воду сильными гребками, а когда решил, что отплыл достаточно далеко, перевернулся на спину и, покачиваясь на воде, увидел остров в последний раз. Здание гостиницы отражало окнами лучи восходящего солнца. Ее обитатели уже просыпались, и некоторые окна были открыты. Появившийся над горизонтом диск солнца стекал в воду алыми потеками зари. Давид перевернулся и медленно заработал руками – ему еще предстояло проплыть около пяти километров и надо было торопиться, пока на острове не началась паника. “Человек не должен оставаться сторонним наблюдателем, – думал он, ощущая ладонями упругость теплой воды. – Тогда страна действительно обратится в гнилое, дурно пахнущее болото, которым правят людоеды и палачи”. Время от времени он опускал лицо в воду. Это и резиновая шапочка на голове не позволили ему услышать рев патрульного вертолета. Давид продолжал плыть, еще не зная, что уверенная строчка всплесков приближается к его телу. Пулеметчик поднял голову от прицела, и сидящий рядом офицер показал ему жестами, что надо забрать тело подстреленного беглеца. И в это время бетонный куб Больничного Центра словно раскололся надвое, и над ним заплясало пламя. На острове завыла сирена, и вертолет повернул к суше, оставив на розовой воде безжизненное тело. В конце дня полумертвого Давида подберут рыбаки с материка. Несколько месяцев они будут выхаживать его, а когда на месте ран останутся багровые полоски шрамов, Давид уйдет в горы с партизанским отрядом. Через два года именно его группа совершит лихой налет на резиденцию референта по государственной безопасности. Летающие по комнатам резиденции листы бумаги заставят Давида вспомнить рукопись Скавронски: “И когда Черный Рак забился в крепких плавниках окуней, из портфеля его посыпались анонимные доносы и протоколы насквозь лживых показаний. Они всплыли на поверхность, прибиваясь к кувшиночным зарослям и будоража общественное внимание. Окуни проволокли Черного Рака по темным расщелинам его логова, и мольбы его о пощаде еще раз доказали, что всякий жестокий палач есть истинный трус и себялюбец, радеющий о собственном благополучии”. Давид встретится взглядом с референтом и не испытает прежнего чувства страха перед этим маленьким жестоким человеком. Через пять лет Ойх войдет в Бейлин впереди батальона регулярной армии фронта национального освобождения. За все это время он не напишет ни строки; он и его товарищи будут писать историю кровью, оставляя в лесах черновики могил. Вернувшись, он станет искать Лонга и товарищей по неволе на острове Ро. И никого не найдет. Радуясь со всеми победе, Давид будет с тревогой наблюдать за попытками похоронить революцию. Газетные кампании, выступления знакомых ему лиц будут утверждать в нем желание как-то ответить на происходящее. Он снова вернется мыслями к рукописи Скавронски. “В первый же вечер ликующий лягушиный народ высыпал на берег воспеть достигнутую свободу. Много было сказано слов о необходимости демократических преобразований и изменении внутриполитического курса болота, а с рассветом, когда первые лучи солнца коснулись болотной глади, самые нетерпеливые уже били ластами по воде и возглашали необходимость выбора нового диктатора, но обязательно из лягушачьего сословия, тайно готовя верного, уже отведавшего лягвоедского угощения. Многие побывали на отмели, где жутко скалился щучий остов и чернел панцирь его палача, и каждый возвращался с отмели, храня, как реликвию недавнего страшного прошлого, кусочек кости диктатора или панциря его приближенного. И хотя так заманчиво было жить в спокойном болоте, поросшем ряской, ловя комаров и рисуясь героем, находились на болоте такие, что кричали о необходимости допуска проточных вод в болото, в короткой памяти своей и по неведению лягушачьему не зная, что деловые рыбы Реки уже углубляют обмелевший было канал, приближаясь к болотным кормам и мечтая о природных болотных богатствах”. Давид сделает попытку написать книгу, о которой думал все эти годы. Он вспомнит Влаха Скавронски и его трагическую смерть, седенького Духа, озверевших от внушенной верноподданности леваков, гостиницу, патрули, циничного и откровенного Лонга, бои, смерти, увиденные им за долгие пять лет, и будет долго сидеть за письменным столом, перебирая в памяти прошлое, испытывая гордость за несломившихся и стыд за предавших. К утру он поймет, что писать ничего не надо. Все, что он хочет сказать, – суть действие. Довольно болтовни, надо засучить рукава и работать; надо драться, чтобы наше прекрасное завтра не обернулось нашим страшным вчера. И лист бумаги останется девственно чистым. 1, 2, 3, 4 |
|||||||