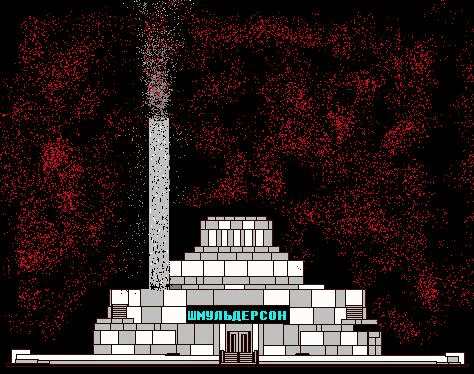Подозрительная труба, Логика и Пунтиллятор Шмульдерсона
ModernLib.Net / Шленский Александр / Подозрительная труба, Логика и Пунтиллятор Шмульдерсона - Чтение
(Весь текст)
Подозрительная труба,
логика
и пунтиллятор Шмульдерсона
С какой бы стороны ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том, что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее значение не только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и рода человеческого.
Анри Барбюс
Часть 1.
Подозрительная труба
Почтовый ящик лязгнул и со скрежетом открылся, выплюнув из своей ржавой утробы порцию ежедневной печатной дряни, написанной нечестивыми авторами для нечестивых читателей, без зазрения совести и без малейшего намека на скромность, стыд и иные чувства, хотя бы отдаленно напоминающие человеческие. Я брезгливо взял в руки цветастую рекламную газету «Без базара» со знакомым девизом на первой странице:
Кто ничего не покупает, тот ничего не ест!
Газета громко воняла краской, дешевой полиграфией и копеечной рекламой, и по этой причине напоминала дешевую проститутку, благоухающую дешевой парфюмерией. Но основной аромат в подъезде создавал, конечно же, мусоропровод, который представлял собой огромную трубу с замызганными квадратными крышками опускных люков на каждой площадке. Мусоропровод был как бы «визитной карточкой» нашего подъезда. Вензелями на этой визитке были, разумеется, непристойные надписи и рисунки на стенах, а рассеянные там и сям плевки в различной степени высыхания вполне могли сойти за узорчатое тиснение бумаги. Внезапно труба мусоропровода подозрительно завибрировала, затем задрожала сильнее и наконец громогласно загремела в полный голос, наполняя подъезд невыносимым грохотом. Без сомнения, кто-то на верхнем этаже с размаху бросил в нее цветной телевизор. То, что телевизор был цветной, а не черно-белый, я сразу определил по звуку. Технические характеристики черно-белого телевизора, в частности его габариты и вес, не позволяют ему лететь по трубе с таким жутким грохотом. Это вам объяснит любой телемастер в любом телеателье, если он изучал в институте автоматику и телемеханику. Стало быть, телевизор выбросили именно цветной, со злобой швырнув его в открытую грязную пасть богомерзкой трубы. И я хорошо знал, почему его выбросили. Его выбросили от бессильного бешенства, по той же самой причине, по которой мне хотелось немедленно швырнуть на пол вынутую газету. Ну разумеется – из-за рекламы. С некоторых пор стало совершенно невозможмо нормально жить, ездить в лифте и в метро, посещать салоны, поправлять прическу, любить женщин, потому что нельзя это делать без содрогания, когда тебе старательно напоминают по многу раз в день с телеэкрана, по радио в перерывах между музыкой и новостями, и черт знает из каких еще кричащих, вопящих и моргающих несусветных дыр, о том, что существует перхоть, менструация, молочница, грибок на ногах, вонючий пот подмышками, грызение в желудке, громкая зловонная отрыжка, дурной запах изо рта, запор, понос и вредные кишечные газы, которые рвутся наружу в самый неподходящий момент. А также головная боль, зуд в заднем проходе и в половых органах, унылая потеря волос на голове и произрастание вульгарной растительности на тех местах, где она не радует взор. Наличие великолепных, замечательных, суперэффективных патентованных средств от этих проблем уже не утешает: вера в человеческое совершенство подорвана так основательно, что аппетит к жизни, чистота и свежесть восприятия испорчены безнадежно и навсегда. От огорчения и горькой обиды за растоптанные эстетические чувства и безжалостно изгаженные представления о мире, хочется придти в самую шикарную рекламную фирму в разгар их сволочного банкета, натрясти перхоти на богато украшенный праздничный стол, обильно рыгнуть тухлой отрыжкой в блюдо, где лежат бутерброды с черной икрой, громко испортить воздух, и под конец измазать шикарную обивку диванов, стульев и кресел вонючим пузырящимся поносом и липкой менструальной кровью с комками и с пенками. Нате вам, пидоры гнойные, жрите сами свою рекламу, приятного аппетита! Поганая труба напоследок брызнула через этажи царапающим уши звуком стеклянного взрыва – видимо лопнул кинескоп – и наконец затихла. – Чтоб тебя в один прекрасный день разорвало, блядское отродье! – пожелал я трубе, и брезгливо отставив подальше от себя руку с газетой, поднялся в свою холостяцкую квартиру. Вообще-то, мне кажется, в последнее время я стал слишком желчен и чересчур раздражителен. С тех пор как прекратил свое существование экспериментальный театр «Нейротравма», и мне пришлось пойти работать в магазин-салон менеджером по торговому залу, моя жизнь стала гораздо более сытой и солидной, но значительно менее веселой. У меня внезапно исчезло противоядие к мерзостям современной жизни, которое каким-то образом защищало мой внутренний мир от его разрушительного влияния, пока я работал в театре. Там у меня было свое лицо, были творческие планы, стремления и надежды. Были, конечно, и неудачи, но были и замечательные находки. В последнем спектакле Дмитрия Набутова «Жизнь и смерть Славы КПСС», в самом начале первого акта в авторском тексте стояла ремарка: «Призрак коммунизма бродит по Европе, наводя уныние и тоску». Нам вдвоем с Валерой Дементьевым, моим помощником и лучшим другом, долгое время не удавалось найти подходящего режиссерского решения и актерского воплощения для Призрака. Я позвонил Диме Набутову и спросил, что он думает по этому поводу. Дима был неумолимо лапидарен: «Матюша! Мои идеи и мой текст – а твое воплощение. Ты, Матвеич, режиссер, а не я, и тебе лучше знать, как именно бродит Призрак. Все равно лучше вас с Валерой никто не сделает». Сперва мы с Валерой, не сговариваясь, решили, что Призрак должен танцевать. Но Призрак упрямо не желал вытанцовываться. Саша Дубравин, конечно, талантливый актер, и с танцем у него все в порядке ну просто от Бога. Но почему-то его зловещая пляска по большой карте Европы, расстеленной по сцене, скорее напоминала о коричневой чуме. В конце концов мы решили, что этот жуткий инфернальный танец больше подходит Берии, который тоже должен был танцевать во втором акте. Саша Дубравин получил роль Берии и так вошел в образ, что от его вида, и особенно от его танца, всем становилось немного не по себе. Но что делать с этим проклятым Призраком? Гениальная мысль пришла мне в голову, как всегда, совершенно неожиданно, когда наш рабочий сцены Паша Тренчук явился после выходного с большого бодуна и, ничего не соображая, ходил по сцене туда-сюда с выражением дикого похмельного страдания на лице, под конец чуть не свалившись в оркестровую яму. Я пошептался с актером Андреем Панталыковым, мы изготовили нехитрый реквизит, и в результате пролог стал выглядеть следующим образом: на сцену выходил весь актерский состав, включая статистов. Они были одеты в балахоны с нарисованными на них флагами европейских государств. Андрюша Панталыков, игравший Призрака коммунизма, бесшумно спускался на сцену по канату, одетый в дырявый лоскутный плащ с портретом Маркса и надписью «Karl Marx Superstar»на спине, и нелепо ходил по всей сцене, натыкаясь на людей и предметы, затем спускался в зрительный зал и бродил по нему, спотыкаясь об стулья и искательно заглядывая зрителям в глаза, после чего возвращался обратно на сцену, докучая стоящим там европейским государствам непристойной пантомимой, а они в ответ меланхолически посылали его на хуй. В заключение Андрюша мастерски падал задом в оркестровую яму, из которой торчала табличка с надписью «Россия». Там его заботливо ловила российская интеллигенция. Андрюша бодро проходил по ее спинам, забирался на плечи, делал там стойку на руках и безобразно дрыгал ногами. После этого под громкий звук трубы на сцену выходил Бисмарк в ботфортах с раструбами и в пожарной каске со шпилем, и провозглашал: «Для того, чтобы совершить революцию, необходимо сначала выбрать страну, которую не жалко!» Затем Бисмарк с омерзением плевал в оркестровую яму, из которой торчали дрыгающиеся Андрюшины ноги, и уходил за кулисы, грохоча ботфортами и непристойно ругаясь по-немецки. Вообще, пьеса вышла очень забавная, веселил даже сам состав действующих лиц: там были и Маркс, и Энгельс, и Анти-Дюринг с лицом, раскрашенным под фотонегатив, Материализм с Эмпириокритицизмом, которых мы сделали похожими на Кэрроловских Траляля и Труляля, Капитал с огромным надувным брюхом, в цилиндре, фраке и белых перчатках, Плеханов с ослиными ушами тащил на веревке броневик с надписью «Аврора», выструганный и склеенный Пашей из дерева и картона, а на броневике сидел Ленин в мятой кепке с матросскими ленточками, с якорем и с надписью РСДРП на околыше. Артисты исполняли по ходу действа множество ролей, им приходилось часто и быстро переодеваться и на ходу перевоплощаться. Впрочем, проблем с этим не было. В начале первого акта на сцене появлялся Гегель, значительно поднимал вверх указательный палец и говорил: «Диалектика – это вам не хрен собачий, а собачачий!» – и делал стойку на голове, а Маркс выходил на сцену, шатаясь, как пьяный и старательно держался за ноги стоящего на голове Гегеля, чтобы не упасть в болото поповщины и идеализма. Ренегат Каутский периодически перебегал со сцены в зрительный зал и назад, путаясь под ногами у других исполнителей, а Дзержинский выходил на сцену в тяжелых средневековых латах, лязгая и громыхая. На шее у него болталась большая масленка, как у Железного Дровосека, а на масленке было написано «КГБ», и так далее, и тому подобное. Дима посмотрел первый акт, и Призрак в прологе ему очень понравился. Зато Валера был прологом сильно недоволен, считая его чрезмерной буффонадой, которую зритель не примет. Он по-прежнему настаивал на зловещей пляске по карте Европы. По его мнению Призрак должен был танцевать что-то типа ирландской джиги, расшвыривая по карте Европы талоны на сахар, водку, спички, соль и маргарин. Мы также долго ругались и спорили, как лучше обставить роды Славы КПСС. По пьесе Слава КПСС рождался в результате партийно-группового полового акта, и таким образом он унаследовал от Ленина манеру грассировать, от Сталина – грузинский акцент, от Крупской – глаза навыкате, а от Дзержинского – металлическое позвякивание в штанах при ходьбе. Весь вопрос был в сценической подаче, и мы спорили и ругались до упаду. Впрочем мы с Валерой редко когда не спорили, и очередная рабочая ссора между нами могла вспыхнуть по любому поводу. Но на личные отношения это не влияло, и когда у одного из нас было, на что купить пиво, мы шли пить его вместе в пивной бар под названием «Техасский рейнджер», который находился прямо напротив нашего театра. Три года назад директор Пучков сотоварищи приватизировал театр. Тогда театр давал очень неплохие сборы. Когда же сборы упали, а Госкомимущество взвинтило плату за аренду помещения в несколько раз, директорская команда поняла, что дело – труба, и подозрительно быстро объявила театр банкротом, слиняв подальше с остатками денег, а коллектив остался без средств к существованию и стал спасаться поодиночке, кто где мог. Купить убыточный театр никто не пожелал, и помещение было сдано в аренду мебельной фирме, которая устроила там салон-магазин. Оставшись без работы, мы с Валерой обосновались сперва в «Техасском рейнджере». Ближе к вечеру мы заходили со служебного входа, я одевался ковбоем, а Валера – рейнджером. Я садился за специально отведенный нам столик, в стороне от других, и наливал себе виски (спрайт, конечно) из огромной рекламной бутылки высотой в метр двадцать. Но это было еще не все. Когда в баре собиралось побольше народа, я выхватывал бутафорский пистолет и начинал палить в потолок. В это время в бар врывался Валера, набрасывался на меня, мы долго и зрелищно дубасили друг друга, потом катались по полу, шикарно опрокидывали стол, а затем Валера с торжеством надевал на меня старинные наручники и уводил в служебную дверь, где мы переодевались, и отдышавшись, получали свои деньги и шли домой. Плюс бесплатное пиво и порция стейка. Я со страхом думал, как бы посетителям бара не надоело наше представление, и однажды предложил поменять реквизит. Я стал изображать крутого, а Валера – милиционера. Первое наше выступление с новым реквизитом вызвало в баре небывалый ажиотаж. Народ поверил в реальность событий и вел себя соответственно. Когда мы вставали с пола, Валера снимал с меня наручники, и мы раскланивались посетителям, сперва никто ничего не понимал. На четвертый день нам пришлось за это сильно поплатиться. В тот вечер мы начали представление как обычно, но не успели мы дать друг другу несколько пробных, разминочных оплеух, как вдруг могучая рука отодвинула меня в сторону, и я увидел ужасающих размеров морду. Крутой братела, во всем своем прикиде, с мобилой, весь в коже, с желтой собачьей цепурой, казаках с загнутыми носами и черепом орангутанга, пришел мне на помощь: – Браток, отдыхай, я сам с ментярой разберусь! Валера едва успел сгруппироваться, как по его корпусу был нанесен удар кулаком ужасающей силы. Валера – бывший военный, прошел Афганистан, разумеется он не был новичком в драках, не только сценических, но и самых настоящих, но массы противников были слишком не равны. От удара Валера отлетел шагов на десять и упал рядом со стойкой. Крутой подошел к нему, поднял и схватил за горло с такой силой, что у Валеры глаза выкатились из орбит. На ближайшей ко мне стене висели различные рейнджерские атрибуты – конское седло, стремена, наручники, и среди них – старинная подзорная труба, которая устанавливалась на треножник. Не теряя ни секунды я сорвал со стенки трубу и что было сил треснул ей по бычьему затылку. Тяжелая труба ударилась о мясистую шею с тупым звуком и разлетелась на две половины, одна из которых осталась у меня в руках. Туша качнулась, выпустила Валеру и повернулась ко мне. Братела посмотрел на меня замутившимся от удара, ошеломленно-укоризненным взглядом: – Пацан, ты че в натуре, охуел? – Уйди отсюда, урод! Мы же не по-настоящему! Ты че, не понял, мы здесь актеры! Для рекламы! На тупом, зверском лице бандита вдруг появилась широкая, ласковая, по-детски добродушная улыбка: – А, бля, актеры? Для рекламы? Так хули же ты сразу не сказал? Ну получи, браток, для рекламы! Сильнейший удар отшвырнул меня обратно к моему столику. Я снес столик и, крутясь, лег на пол. Я не мог ни подняться, ни дышать. В глазах у меня потемнело, но все же я каким-то образом заметил, что бандит быстро развернулся в сторону Валеры и размахнулся. Валера поднырнул под удар и ответил точным, сильным ударом в пах. Крутой согнулся пополам и упал. Валера, ощупав горло, хлебнул воздуха, подбежал ко мне и помог мне подняться: – Матюша, ты в порядке? – Да вроде,– неуверенно ответил я, массируя ребра и убеждаясь, что они не сломаны. – Ну тогда бежим, пока не легли! Мы нырнули в служебный выход. Вслед нам донесся озлобленный рык: – За трубу ответишь, сука! В тот вечер мы так и не получили свой гонорар, спасаясь бегством. Только через пару недель Валера тихо нырнул в служебный вход, но ему ничего не заплатили, ссылаясь на то, что хозяевам бара пришлось улаживать конфликт и заплатить братве за обиду, нанесенную трубой в область затылка, намного больше, чем все, что мы заработали в этом баре за четыре недели выступлений.
После этой истории я перебивался с хлеба на квас месяца полтора. Покупая на последние деньги газеты по трудоустройству, я овладевал торгово-коммерческим слэнгом, и трясся от каждого звонка в дверь и по телефону, боясь, что бандиты придут ко мне домой мстить за ушибленный подзорной трубой бычий затылок – отберут квартиру, а самого изобьют и выкинут вниз головой в грязную вонючую трубу мусоропровода, и я буду долго лететь, разбивая себе голову, коленки, локти и бока, а когда долечу наконец до самого низа в крайне искалеченном состоянии, то уж там, внизу, обязательно разобьюсь в мелкие дребезги, как цветной телевизор. Наконец я набрался побольше наглости и совершенно неожиданно для себя устроился в шикарный обувной салон менеджером по торговому залу. Я пришел на интервью в солидном костюме, который надевал только на премьеры, и тщательно скрывая голодный блеск в глазах, вдохновенно наврал коммерческому директору про свой торговый опыт такое, что меня сразу взяли на неплохой оклад без испытательного срока. Голод делает с человеком чудеса. Я принял зал не то, чтобы с достоинством, а скорее даже с апломбом. Собрав своих новых подчиненных, я прошелся по вверенным мне владениям и громко орал, что все не так, и что торгуя в таких условиях, фирма обязательно вылетит в трубу. При этом я явственно представлял себе эту трубу, и потому мой голос звучал громко, нагло и уверенно. В результате моих воплей в зале перенесли зеркала, развернули секции, изменили освещение, поменяли драпировку и еще много чего другого. И зал преобразился – исчезла кричащая нелепая реклама, свет перестал бить в глаза, в расположении товара появилась осмысленность и соразмерность, и во всем облике зала появилась спокойная, величавая, взвешенная солидность. Зал ненавязчиво, уважительно и с достоинством показывал покупателю весь свой ассортимент. Зал перестал быть затрапезной сценой, он обрел характер и стал действующим лицом, пожалуй даже главным действующим лицом в магазине. Через полтора месяца после моих нововведений оборот по залу возрос почти в три раза, причем преимущественно за счет дорогой номенклатуры, в то время как оборот по филиалам не изменился, а кое-где даже уменьшился. Мне прибавили оклад сразу на триста долларов в месяц и поручили курировать три филиала. «Режиссер – всюду режиссер» – злорадно подумал я. И все-таки боль по театру не проходила. Устроиться в другой театр мне было абсолютно без мазы. Меня слишком хорошо знали, мои постановки были слишком скандальны, да и вообще театральная профессия переживала трудные времена. И я решил устроить себе театр прямо в торговом зале. С разрешения администрации я начал обучать продавцов и младших менеджеров, как следует двигаться, как надо улыбаться, что следует и чего не следует говорить клиенту, и что надо сделать, чтобы клиент всегда был доволен. Я не могу точно сказать откуда это было известно мне самому. Я просто воображал себе ситуацию, пользуясь системой Станиславского, и нужные вещи приходили в мою голову незамедлительно. Однажды в магазин с помпой прикатила на шестисотом Мерседесе потрясающая красотка в изумительном платье, в бриллиантовом колье на изящной длинной шее, и с таким бюстом, что кровь бросалась в голову. Ее сопровождал шикарный смуглый господин с множеством перстней на пальцах, в великолепном костюме, и угрюмый детина с кобурой под мышкой. Примерка продолжалась больше двух часов, и Виктор Анатольевич, наш коммерческий директор, который сам вышел к важным покупателям, никак не мог склонить их к покупке. Красавица брезгливо примеряла очередные тысячедолларовые туфли и надувала коралловые губки, складывая их пухлой очаровательной трубочкой и выражая этим свое недовольство фасоном и ценой. Я вышел в зал и сделал вид, как будто просто иду мимо по своим делам. Проходя мимо красотки, я мило улыбнулся и сказал: – Я прошу прощения, мадам, но вы выбрали самые дорогие туфли в нашем магазине. Они далеко не всем по карману, да вобщем и не нужны. Я вам посоветую взять вот эти: точно такой же фасон и качество – их почти не отличить, а цена почти в три раза меньше. Я снова улыбнулся, откланялся кивком головы и сделал вид, что направляюсь к двери напротив. – Молодой человек, вы меня за кого держите?! – разгневанно сказала красавица, чуть не задохнувшись от возмущения. Ее великолепный бюст поднялся, глаза метнули молнии, а на нежной шее заиграли жилки. Боже! Как я люблю вот такую женскую красоту, даже просто посмотреть! Зачем идти в Лувр и смотреть на неподвижное безрукое тело? Разве можно променять это гневное содрогание жилок, эти молнии в глазах, этот живой, пышный, дышаший бюст, этот отточенный нерв, эту энергию красивого, полнокровного животного, бьющую через край, на любые, самые совершенные пропорции, застывшие в мертвом мраморе? Если бы этот зал, этот товар был моим, я упал бы на колени и умолял красавицу взять все, что ей нравится, за право прикоснуться к этой очаровательной ножке моим почтительным поцелуем! А я стою рядом с ней, и моя задача – вовсе не восхищаться ее красотой, а пробудить в ней азарт покупательницы. Боже, какая пошлость! – Жорж! – повернулась она к своему импозантному спутнику –Я беру именно эти! Две пары! Быстро плати, увалень! – Сейчас, дорогая! Не вопрос! Шикарный Жорж, сверкнув многочисленными перстнями, взглянул на меня с уничтожающим презрением и пошел к кассе, вынимая на ходу кредитную карту. Виктор Анатольевич перевел дух и побежал к кассовому аппарату, делая прелестной кассирше Светочке страшные глаза, сам встал за кассовый аппарат, принял кредитку, проверил и упаковал коробки с обувью и выдал чек, улыбаясь и раскланиваясь, как японец на приеме у императора. – Ну Матвеич, ну ты даешь, сукин ты сын! Настоящий режиссер! – прохрипел он, уважительно глядя на меня и отирая с лица пот, когда Мерс с покупателями отчалил, увозя в багажнике две тысячедолларовые коробки. Я вопросительно воззрился на директора – Ты что, Матвеич, серьезно думаешь, что я не в курсах, кем ты раньше работал? – сказал директор, пряча в карман батистовый платочек с нарисованными на нем бабочками и стрекозками – Я ведь и сам – бывший театральный критик, чтоб ты знал! А ты глянь все же, что только деньги не делают, еби их мать! У него ведь один Мерс шестисотый – как мечта знойного мужчины! На одну только выхлопную трубу глянешь – такая вся кругленькая, аж с губками по краешку – сразу думаешь о минете. А телка у него – это вообще отпад! Ты видел, как она губы трубочкой делает? Отпадные губищи, вот когда она их так делает, только и думаешь, как бы в эту трубочку засадить… Сердце кровью обливается! А я ей, блядь, туфли упаковываю и даже за сиську взять не могу! – Не, Анатольич! – рассудительно ответил я. – Не горячи себя понапрасну. Как говорил мой одноклассник Женька Вставилов, таких ебут только отличники. Хотя, какие наши годы!.. Я пошел в туалет, вынул свою собственную небольшую трубу и вонзил острую, злую струйку в решетчатое дно писсуара. Да, работа – это всегда напряжение, хоть в театре, хоть в магазине… Поссать вовремя забываешь. Хрен знает что за жизнь пошла… Выхлопная труба, минет, губы трубочкой… И почему это с трубой все время ассоциируется либо хуй, либо что-то еще более неприличное? Как-то очень это подозрительно. Постепенно я начал понимать, что здесь, в торговом зале, я действительно остался таким же режиссером, только сменил амплуа. Продавец был актером, товар – расходной частью реквизита, процесс купли-продажи – спектаклем. Авторская и режиссерская сверхзадача сократилась до задачи втюхать товар покупателю так, чтобы он пришел в наш театр снова и привел друзей, потому что покупатель был нашим зрителем, который платил или не платил деньги, в зависимости от того, нравился или не нравился ему спектакль. Денежные проблемы перестали меня мучить, а вот боль по утраченному театру не проходила: наоборот, она только усилилась. И надо сказать, что это не была боль по безоблачному счастью. Его не было в моей прежней режиссерской жизни. Скорее это была ноюще-саднящая боль по той прежней, пронзительно-сладкой боли, которую приносило мне мое ежедневное копание в собственной душе и в чужих душах, в надежде найти в их неведомых глубинах объяснение причин человеческих поступков, метаморфоз наслаждения, боли и страсти. И конечно же, объяснение причин всеобщей повальной дури. Мы с Валерой не зря назвали наш нежно любимый театр «Нейротравма», ведь это действительно была нейротравма, это была боль раненных всеобщим абсурдом мозгов, боль, пронизывающая воздух, которым дышали мы все, и излечивающаяся только очистительной силой сценического абсурда и гротеска, спонтанно рождавшегося в нашем нездоровом воображении под влиянием изматывающего душу дикого абсурда повседневностей реальной жизни. Валера тоже проболтался три месяца без работы, живя по очереди у всех своих приятельниц, которые его кормили, а затем через друзей-афганцев устроился в частную охранную фирму, и с той поры дома у него висела на стене камуфляжка и пистолет. Валера поздоровел, подкачался и тоже развлекался на работе, как мог, пытаясь сделать ее хоть немного похожей на театр. По выходным мы с ним встречались и шли куда-нибудь поразвлечься и попить пивка. Итак, я сидел в своей холостяцкой квартире и с отвращением листал вонючую газету, пока не нашел нужный мне раздел «Досуг для друзей и подруг», который кто-то из наших продавцов-острословов называл «Досуг для кобелей и для сук». Так-так: спектакли, музеи, концерты, кинопремьеры, народные гуляния, пеший поход в Архангельское, рок-кабаре… все не то! Ага, вот что-то поинтереснее: Компьютерный лунапарк, парад экзотических аттракционов. Ого, даже перечень аттракционов есть: Катание на виртуальном слоне, Говорящий осел, Вызывание духов по телефону, Эротический массаж гаечным ключом и Подозрительная труба… Я вздрогнул: опять труба! Всюду эта подлющая труба! Что за труба может быть на этот раз? Я быстро набрал Валеркин номер: – Алё? – Валера, привет! – Матюша, ты? – Я, я! Хочешь покататься на говорящем осле и посмотреть в подозрительную трубу? – Ну! А где это? – В Парке культуры. Приезжай через час. Ты как? – Встречаемся, где обычно? – Ну да. Через час мы с Валерой, вооружившись каждый бутылкой Балтики, уже пробирались сквозь густую толпу, разыскивая Лунапарк. Нашли мы его довольно быстро, он состоял из одного единственного большого и мрачного павильона. Ни открытой площадки, ни качелей, ни каруселей, ни традиционного чертова колеса, с которого сходишь, качаясь как пьяный. Короче, ничего, что можно было ожидать. Мы обошли павильон кругом, отыскивая вход. Ни стрелок с указателями, ни рекламы – совсем ничего. Голые стены. Наконец мы обнаружили большую железную дверь с надписью:
Виртуальный Лунапарк
Новейшие супертехнологии на службе у индустрии развлечений.
Администрация не несет ответственности за жизнь и здоровье посетителей.
Развлекайтесь на ваш собственный риск.
Внизу была еще одна небольшая надпись мелкими буквами, которая гласила:
«Разработчик экспериментального оборудования и виртуальных животных – Научно-Исследовательская Группа ПШ21/134–117H». – Ну что, Матюша, поразвлекаемся на свой собственный страх и риск? – улыбнулся Валера. – Конечно! – ответил я – Риск оправдан, когда результат гарантирован! Нам надо, чтобы хоть на время стало жить не так тошно. Пошли! Мы вошли внутрь павильона. Изнутри он напоминал что-то типа склада. Металлические полы и стены, двери, коридоры, редкие люминесцентные лампы под потолком, не рассеивающие мрака, запах затхлой сырости и железа. У входа стояла тумба, а рядом с ней сидел на стуле молчаливый охранник в темно-синей форме, с рацией и резиновой палкой на боку. На тумбе стояла пластмассовая коробка со связками входных билетов с обозначенной стоимостью: пять рублей. Я протянул пять рублей, а Валера – удостоверение ветерана-афганца. Охранник-билетер разглядел удостоверение, взял деньги, кинул их в коробку и молча протянул нам два билета. – Что, Валера, ты теперь тоже вот так вратарем стоишь? – спросил я, кивая на охранника. – Нет, у меня работа посложнее, я либо слежу за мониторами, либо хожу по объекту, а на воротах я не стою. – А что у тебя за объект? – Да ну тебя на фиг, Матюша! Я же не спрашиваю, что у тебя за обувь! Ты вон лучше на слона посмотри. Ты когда-нибудь такого слона видел?
 Я только теперь обратил внимание, что мы оказались рядом со слоновьим вольером. К его редким толстым прутьям был прикреплен большой плакат с надписью «Путешествие по сюрреализму. Катание на виртуальном слоне». Слон и в самом деле был очень необычный. У него были длинные тонкие суставчатые ноги, как у паука-косиножки, причем суставов на каждой ноге было не менее десятка, в результате чего голова слона возвышалась примерно на уровне седьмого этажа. У слона на спине стояла ажурная кибитка, и видимо от необходимости постоянно держать ее на спине и стоять на этих длинных тонких ногах, у слона была очень печальная, отрешенная морда, и он смотрел куда-то вдаль, грустно помахивая небольшим гофрированным хоботом. Я обратил внимание, что решетка у вольера была только спереди. Сзади не было ни решетки, ни стенки, ни крыши – там просто не было павильона. Под роскошным синим безоблачным небом, простиралась бескрайняя, слегка холмистая южная равнина, покрытая сочной зеленой травой, и кое-где виднелись группы тропических пальм. В этом синем бархатном небе светило явно не московское солнышко, страдающее бледной немочью в последней стадии, а мощное южное солнце, раз так в двадцать поярче. И еще там, на этой равнине паслись тучные стада, и ездили на лошадях пастухи. Это было очень странно, потому что я точно помнил, что мы обошли павильон в поисках входа, и в нем не было ни окон, ни проемов. Откуда взялась огромная латиноамериканская прерия в небольшом крытом павильоне, находящемся в московском парке Горького, я понять не мог. Валера тоже растерянно хлопал глазами. Тем временем я обнаружил, каким образом посетителей усаживают на высоченного слона неизвестной породы. Для этого имелся специальный подъемник, похожий на тот, на котором доставляют лыжников в верхнюю точку трамплина. Рядом с подъемником дремал на стуле служитель. Вокруг его головы с жужжанием описывал круги огромный полосатый шмель. – Откуда у вас тут прерия? – задал я вопрос спящему – Похоже на Латинскую Америку. Прямо как Мексика или Аргентина. Служитель проснулся, дико разинув рот в широчайшем зевке, и проглотил шмеля: – Нет, это Сальвадор. – служитель полез в стоящую рядом металлическую тумбочку и, достав пару буклетов, протянул один мне, а другой Валере, после чего откинулся на стуле и снова уснул. Я посмотрел на свой буклет, озаглавленный: «Сюрреалистическое гала-путешествие в дали Сальвадора». – В какие дали, какого Сальвадора? – завопил я – Какой тут в Москве может быть Сальвадор? Служитель вздрогнул и открыл глаза: – Обыкновенный. Вот – и служитель показал нам на полосатый пограничный столб метрах в пятидесяти с той стороны от решетки, с прибитой к ниму табличкой. На табличке виднелась четкая надпись:
EL SALVADOR
И чуть пониже и помельче:
Hola! Se habla Espan?l
– Никогда бы не поверил, что у России есть общая граница с Сальвадором, да еще прямо посередине Москвы! – изумленно сказал Валера, качая от удивления головой. – Ну, если не веришь, так не фига туда и смотреть! – бесцеремонно отрезал служитель и немедленно захрапел, положив голову на тумбочку.. – А сколько стоит ваше гала-путешествие? – спросил я служителя. Тот снова проснулся, широко зевнул и встряхнул головой, пытаясь прогнать остатки сна. При этом у него изо рта вылетел шмель и опять закружился вокруг головы служителя. Соня-служитель открыл тумбочку, со вздохом вынул из нее спелый пурпурно-коричнево-розовый гранат и начал зубами и пальцами сдирать с него шкуру: –На, жри, мучитель! Шмель нетерпеливо впился в гранат и стал пожирать его с жужжанием, а под конец даже с урчанием, все увеличиваясь в размерах, и в заключение превратился в тигра средней величины. Тигр беззвучно висел в воздухе и вызывающе скалил пасть. Валера схватился за то место, где у него теперь часто висела кобура. Служащий наконец окончательно проснулся и при этом дико вздрогнул. В то же мгновение тигр снова превратился в шмеля и с громким жужжанием унесся куда-то вверх. – Когда-нибудь эта тварь обязательно сожрет меня за секунду до пробуждения – мрачно резюмировал служитель. – Сто баксов с носа. Пенсионерам и адвокатам скидка. – А почему именно адвокатам? – А потому что они никогда сюда не ходят. – А пенсионеры ходят? – спросил Валера. – Нет, и пенсионеры тоже не ходят. – А кто вообще сюда ходит? – спросил я. – Да никто не ходит! Вы первые. – Валера, у тебя есть двести баксов? – Матюша, я как раз хотел тебе задать именно этот вопрос. – В таком случае – сказал служитель – идите вдоль вольера, пока не дойдете до перегородки, там поверните налево. Пообщаетесь с говорящим ослом. Презанятное животное, правда настроение может испортить на неделю вперед. Зато аттракцион совершенно бесплатный. Служитель снова широко зевнул, проглотив в очередной раз шмеля, вынул из тумбочки еще половинку граната, откусил, сморщился и сделал глотательное движение, а затем стрельнул изо рта гранатовыми косточками через решетку вольера в сочную густую траву. Вместе с косточками у него изо рта вылетел шмель и с сердитым жужжанием закружился вокруг недоеденного граната. Служитель откинулся на стуле и уснул, чтобы однажды оборотень тигро-шмелевой породы слопал его за секунду до пробуждения. – Я, кажется, понял. Это такой художник был, Сальвадор Альенде – сказал Валера, растирая шею кулаком и часто помаргивая левым глазом. Это означало, что Валера решил постебаться – он таких слонов у себя на даче разводил. – Валера, ты перепутал. Художника звали Аугусто Пиночет, а Сальвадор Альенде – это один из популярных псевдонимов известного чилийского патриота Луиса Корвалана. Он же Сальвадор Дали, он же Сальваторе Адамо, он же Че Гевара, он же Ясир Арафат. Выдающаяся, многосторонняя личность! Похищен советской разведкой, то ли из Чили, то ли из Палестины, от сотрудничества отказался и был зверски замучен в застенках КГБ. – Да кто же его замучил-то? – Такие вот, Валерочка, как ты, жлобы в камуфляжках и мучили. Забили лидера ООП и отца сюрреализма насмерть прямо в камере. – Ага! Подзорными трубами по башке забили, как Троцкого. И врешь ты все, в КГБ камуфляжки не носили. – Ну не носили… А кстати, Троцкого убили вовсе не подзорной трубой, а этим, блядь, как его… Теодолитом! Я и вправду запамятовал, как назывался геодезический инструмент, которым пришибли Троцкого. – Троцкого убили, Сальвадора Дали насмерть замучили, так что он в камере повесился в тридцать седьмом году, задолго до того, как написал последнюю картину. Ну не козлы! – Кто козлы? – последний голос принадлежал явно не Валере. Впрочем, я и сам уже не знал, кто козлы. – Это смотря, кто спрашивает – отозвался Валера. – Если Вы намекаете на меня, то намекать бесполезно, потому что я не могу быть козлом по определению. Я подошел к решетке, из-за которой доносился голос и увидел там обычный вольер, а в нем – довольно симпатичного ослика. Ослик грустно покачивал головой. Я внимательно огляделся: никого из людей ни в вольере, ни рядом с ним не наблюдалось. Я еще раз повертел головой туда и сюда, отыскивая взглядом говорящего, но никого не нашел. – Да где же этот козел? – удивленно и раздосадовано воскликнул я, так никого и не обнаружив. – Тут нет никакого козла. Тут только я, и больше никого нет – ослик внимательно и печально взглянул мне в глаза, произнося эти слова. – А, так это Вы и есть Говорящий Осел? – Да, это я и есть – печально подтвердило серое длинноухое животное. – Поразительно! – Валера даже поперхнулся от удивления и восторга. – Не понимаю, чему Вы
такудивляетесь. Вот Ваш друг с Вами разговаривает, Вы же не удивляетесь? – Так то ж человек, а Вы, извините, осел! – я почему-то снова обратился к ослу на Вы. – А чем, собственно, осел хуже? – спросило животное, внимательно глядя мне в глаза. Я призадумался. Действительно, чем осел хуже человека? Пожалуй, еще и получше некоторых людей будет. Я вспомнил бандита из «Рейнджера», которого я приласкал подзорной трубой, а вслух сказал: – Дело не в том, что осел хуже. Просто ослы не говорят! – Но я же говорю! Причем мой родной язык – английский. Я также неплохо знаю латынь. Теперь я говорю уже и по-русски. А Сюр недавно обещал научить меня испанскому. – Вы очень хорошо говорите по-русски, – похвалил я ослика – почти без акцента. – А кто такой Сюр? – спросил Валера. – Так зовут моего друга. Он здесь рядом, в соседнем вольере, работает слоном. – Это который живет в Сальвадоре? – Ну да, это он. Сюр такой большой и такой несчастный… Он все стоит у этого дурацкого столбика, покрашенного в полосатый цвет и ждет, когда надо будет возить экскурсантов по Сальвадору, а экскурсантов все нет… – Полосатого цвета не бывает – резонно заметил Валера. – Ошибаетесь, бывает – ответил ослик – По-вашему, зебра какого цвета? Или шлагбаум? – Черного, в белую полоску – ответил я. – Белого, в черную полоску – ответил Валера. – Оба неправы – мягко, но настойчиво сказал осел. Цвет столбика не черный и не белый, а полосатый. – Цвет не может быть полосатый – не сдавался я – это сам столбик может быть полосатый. –
Сам столбикможет быть деревянный или, например, железный, а полосатым может быть только
цвет столбика– упорствовал ослик. – Хорошо, а почему? – А потому что слово «деревянный» говорит нам о том,
каков сам столбик, а слово «полосатый» дает нам представление о том,
каков его цвет. Надеюсь, Вы представляете себе, что такое отношение между субъектом и предикатом? – Честно говоря, нет – ответил Валера. – Хорошо, я поясню –терпеливо сказал ослик – Вот смотрите: если столбик будет не полосатый, не черный и не белый, вообще никакой, в смысле
никакого цвета, то столбик все равно существует. А вот если столбик будет не деревянный, не железный, вообще никакой, в смысле
ни из чего, то столбика просто
не будет. Это очень принципиальная вещь. Понимаете, слово «деревянный» по отношению к столбику означает, что столбик – это некоторое количество дерева определенной формы, в то время как слово «полосатый» отнюдь не означает, что столбик – это некоторое количество черных и белых полосок. Дерево может существовать
само по себе, а полоски не могут, они могут быть только
на чем-нибудь. В этом смысле слово «деревянный» мне кажется чрезвычайно удивительным, ибо по форме оно является предикатом, а по содержанию – безусловно субъектом. Вероятно, это издержки языкового способа выражения мысли. Хотя, к сожалению, другого способа просто не существует. – Но если столбик будет не полосатый, не черный и не белый, вообще никакой, в смысле
никакого цвета, то мы его
никогда не сможем увидеть. Это значит, что столбика тоже не будет – возразил я. – Это как раз еще
ничего не значит,– возразил ослик. – Вы действительно не можете увидеть столбик
никакого цвета, но вы можете случайно на него
наткнуться, когда гуляете себе по своим делам. – Если только мы гуляем
в правильном месте,– добавил я. – Но мы можем гулять в неправильном месте, и поэтому не наткнуться на столбик, и так и
никогда не обнаружить, что он есть. А это все равно, что столбика
вообще нет,– закончил мою мысль Валера. – Молодые люди, не пытайтесь подменять понятия! – строго сказал ослик. – Между столбиком,
которого вообще нет, и столбиком, который
никогда нельзя обнаружить, существует огромная разница! – Для нас – никакой разницы нет! – ответил я, усмехаясь. –
Для вас– действительно разницы никакой, а вот
для столбика – разница принципиальная. Ответ ослика показался мне чрезвычайно убедительным. О столбике-то я и позабыл! Валера тоже притих. – И поэтому, уважаемый ослик, Вы говорите не «полосатый столбик», а «столбик полосатого цвета», чтобы точно выражаться, да? – спросил я. – Совершенно верно, на этот раз Вы меня совершенно правильно поняли, – удовлетворенно ответило умное животное и потерлось боком об металлические прутья ограды. – Это моя маленькая борьба против логических парадоксов, которые несет в себе субъектно-предикатное отношение. Понимаете ли, в моем представлении и субъектом, и предикатом в отношении должны являться слова, либо обозначающие то, что есть предмет
сам по себе, либо обозначающее то,
как мы этот предмет воспринимаем. То есть деревянный столбики полосатый цвет. Но к сожалению, в языке принадлежность к субъекту или предикату определяется только грамматической формой слов, и это создает очень неприятную путаницу. Понимаете, столбик состоит из дерева. И именно наличие дерева делает возможным существование столбика. Поэтому деревянный – это то, что есть столбик сам по себе, и логично так и сказать: деревянный столбик. А цвет – это
субъективная категория, это не то, что есть столбик, а то, как мы его видим, причем только те из нас, у кого нет, скажем, дальтонизма. Поэтому нельзя относить качество цвета непосредственно к предмету. Только несовершенство языка делает возможным существование такого ущербного субъектно-предикатного отношения, в котором смешиваются объективное и субъективное начало. Предмет
может восприниматьсякак черный, белый или полосатый, потому что он имеет субъективный атрибут – цвет. Поэтому именно цвет и только он может быть серый, белый или полосатый.
Цвет, мои юные друзья, а никак не
сам предмет! В данной субъектно-предикатной паре субъективны и субъект и предикат, то есть «цвет» и «полосатый». В этом случае
явной путаницыуже нет. Есть только
скрытая путаница, в том плане, что непонятно,
в каком отношении находится цвет к столбику. То ли столбик
имеетцвет, то ли столбику
приписанцвет. Непонятно, как объективный предмет, каковым является столбик, может иметь субъективный атрибут, каковым является цвет. Это
опятьпутаница. С другой стороны, если мы
приписываемстолбику цвет, то чтобы избежать путаницы, мы должны приписывать цвет не самому столбику, а
нашему субъективному представлению о нем. Это в высшей степени логично, но на этом, к сожалению, путаница не кончается, а
запутывается еще сильнее. Во-первых, никого не заставишь говорить "Я вижу
мое полосатое субъективное представление о столбике", а во вторых, даже если и удастся убедить всех говорить именно так, то тогда все равно остается непонятным,
какого цвета сам столбик. Видите, как скверно получается, когда мы пытаемся
распутать путаницуи сделать все правильно. Ведь мы стараемся сделать все правильно
не просто так, а
чтобы было лучше. А в результате выходит, что
то, что сделано абсолютно правильно, абсолютно никому не нужно. Я долго думал над этим и пришел к выводу, что это не случайность, а следствие определенного закона. И я открыл этот закон. – И что же это за закон? – спросил Валера. – Ослик поставил одно копытце на решетку, выдержал значительную паузу и торжественно произнес: – Первый закон запутывания путаницы:
Путаница никогда не запутывается просто так. – А как же она запутывается? – удивился я. – Хорошо, я постараюсь проинтерпретировать этот закон на том же самом примере с цветом столбика. Так вот, вся путаница в этом случае происходит не просто так, а потому, что непонятно, как охарактеризовать с точки зрения классической логики
отношениемежду
столбикоми
цветом. То, что оно не субъектно-предикатное – это абсолютно понятно. Пока никто не додумался ни до чего более умного как называть это отношение
функциональным. А под этим отношением можно понимать
все, что угодно. Одним словом, если Вам не удается
решитьпроблему,
назовитеее так,
чтобы никто ничего не понял. Тогда каждый будет понимать ее так,
как ему представляется удобным, и проблема
исчезнет сама собой. Это общее правило, и придумали его вовсе не логики и не философы. Это правило придумала жизнь. Но весь фокус в том, что проблема исчезает не потому, что
исчезает сама проблема, а
потому, что ее перестают замечать. Таким образом, для того, чтобы проблема исчезла,
надо уметь ее правильно назвать. Но я считаю такое положение вещей чрезвычайно
унизительным, и поэтому замечаю все те проблемы, которые обычно никто не замечает. Как видите, проблем
чрезвычайно много, но когда я говорю «столбик полосатого цвета», их становится, по-крайней мере,
на одну меньше… – Извините, уважаемый ослик, но появляется
новая проблема. Дело в том, что нельзя сказать «полосатый цвет» просто потому, что
по-русски так не говорят. – С этим я спорить, конечно, не могу. Но я могу сказать по-английски: striped color. И перевести на русский как «полосатый цвет». – Наверное, на русский это можно перевести как «полосатая раскраска», или может быть «полосатая окраска». – А в чем разница между «цветом» и «окраской»? – По-видимому, как раз именно в том, что
окраскаможет состоять
из нескольких цветов, – ответил я. – Вот видите! – ничуть не огорчился, а даже скорее обрадовался ослик. – Язык все время создает разграничения в самых
несущественных мелочах, там где они
не нужны, и не улавливает разницы в
важнейших вещах. Вот отсюда и идет вся явная путаница. И главный источник путаницы – это те метаморфозы, которые
претерпеваетсубъектно-предикатное отношение в различных языках. А самое неприятное в этой путанице – это наличие в языке множества слов, которые могут быть, в принципе, и субъектом и предикатом, как грамматически, так и логически. – Это как? – спросил я. – Очень просто. Есть слово «зад» – это субъект, и логический, и грамматический. А вот слово «задний» – это предикат. Точно так же обстоит дело со словами «круг» и «круглый». А теперь, молодые люди, попробуйте мне объяснить, чем отличается «круглый зад» от «заднего круга». – Ну тем, что для круглого зада
важнопрежде всего то, что это зад. А то что он круглый – это детали, – ответил я. – Понятно. А для круга – самое
важное, что он круг, а то что он задний – это детали, – резюмировал ослик. – Хороший ответ, но не полный. А вот представьте себе, что кому-то просто исключительно
важно, чтобы круг был
именно задний. И что
тогдаделать? – Ну наверное, я должен был употребить не слово «важный», а слово «первичный», – сказал я. – Правильно, Матюша! – поддержал Валера. – тут все дело в том,
как мы будем его искать. Не важно, что для меня более важно, а важно то, что если я ищу круглый зад, то я захожу с задней части
того, чему этот зад принадлежит, и нахожу этот зад, который, как и всякий зад, должен быть сзади. А там, круглый он или нет – это уже другая песня. Даже если и не круглый, то другого зада быть уже не может. Двух задов у одной и той же вещи не бывает. – А почему это не бывает? – удивился я. – А потому, что если позади зада есть еще один зад, то этот первый зад уже не будет сзади, и значит он уже больше не зад. – Не канает, Валера! – ответил я. – Вот глянь. Мы же говорим: «второй подбородок». А по твоей логике получается, что под бородой может быть только один подбородок. А второй подбородок уже и не подбородок, потому что он не под бородой, а под подбородком. Но мы же не называем его «подподбородком». А теперь представь себе, что у кого-нибудь под задом свисает нечто вроде второго подбородка. И как ты это назовешь? – Так и назову, как ты сказал: «подзад». Понял, Матюша? Будет «зад» и «подзад», а двух задов никак не получается. – Ну а с кругом что будете делать? – подал голос ослик. – Ну, тут вроде все ясно, – сказал Валера, – сперва надо отыскать
на той вещизад, перед, и все круги, а потом выбрать самый задний круг. Так что получается, что все дело в том,
что сначала искать. – Если бы на этом и заканчивались все трудности, это было бы еще ничего, – грустно сказал ослик, – но дело в том, что трудностей намного больше. Тут дело не только в том, что искать первым. У логических субъектов есть еще одна принципиальная штука, которая отличает их от предикатов. Одним словом это не объяснить. Но вот смотрите: давайте рассмотрим несколько настоящих предикатов. Возьмем слово «круглый». Что делает круглое круглым? Его
круглость. Правильно? А что делает серое серым? Его
серость. А теперь возьмем для сравнение настоящий субъект. Хотя бы даже и шкаф. Что делает шкаф шкафом, как вы думаете? Ведь не
шкафостьже? Понимаете,
шкаф,
осёл,
автомобиль
,они
уже с самого началаявляются чем-то отличным от всех других предметов, еще до того как им приписано какое-то свойство – круглый, серый, мягкий и так далее. Так вот, что делает вещь этой вещью, а не чем либо другим,
вот что непонятно. То есть в каждом
конкретном случае, конечно, понятно. Шкаф делает шкафом его «шкафость», велосипед – «велосипедость», а решетку – «решеткость». Но ведь это глупость! Должно же быть во всех предметах
что-то общее, что делает их предметами. – По-моему, все вполне понятно. Это общее называется "
предметность", – ответил я, чрезвычайно довольный собой за ум и находчивость. На симпатичной морде ослика появилось кислое и угрюмое выражение. Ослик нахмурился: – Вы думаете, что нашли чрезвычайно остроумный выход из положения? Ну тогда пожалуйста, будьте добры,
продемонстрируйтемне эту предметность так, чтобы я ясно видел ее так, как я вижу, скажем, цвет. И постарайтесь мне доходчиво объяснить,
почемуэта предметность проявляется в одних случаях в виде «шкафости», а в других случаях – в виде «велосипедости». Но этот вопрос, я думаю, покажется Вам
слишком сложным. Я задам Вам гораздо
более простойвопрос:
чем отличается шкаф от велосипеда? – Понятное дело – тем, что в шкафу хранят вещи, а на велосипеде ездят или катаются, – ответил Валера. – Похоже, Вы плохо расслышали вопрос, – строго сказал ослик. – Вы мне ответили
на два вопроса: «Зачем нужен шкаф?» и «Зачем нужен велосипед». Но на мой вопрос вы ответить
даже и не подумали. – Ну тогда, наверное, формой, – сказал я. – А
что такое форма? – не сдавался ослик. – Ну, форма – это то
самое первое и основное качество, которым проявляет себя предметность, – сказал я. – И вообще, что такое форма – это гораздо легче показать, чем объяснить. – Вот-вот! – ехидно подхватил ослик. – Это именно то, что я и утверждал. Форма – это такая скверная вещь, что каждый думает, что он то уж точно знает, что такое форма, а на самом деле все только тем всю жизнь и
спасаются, что
показывают ее друг другу, и поэтому
никто до сих пор ничего не знает. Изобрели слово «остенсивность» и закрыли проблему, как всегда. А именно эта проблема и является причиной чрезвычайно печального явления, которое я называю "
логический чвяк
". – А что значит «логический чвяк»? – поинтересовался я. – А вот то самое, что мы говорим о строгости и точности логических законов, пока дело касается логических
высказываний. Но как только от высказываний мы переходим к
настоящим вещам, вот тут и начинаются
большие неприятности. Логика рассуждает о не вещах, а о словах, обозначающих вещи. А поскольку никто не может сказать, что делает вещь этой самой вещью, а не
чем-то другим, или даже
вообще ничем, то возникает путаница между словами и вещами, и эта путаница ужасно путает всю логику. Ведь если мы не знаем, что делает вещи ими самими, то мы никогда не можем быть уверены, что выполняется
закон тождества. А без него логика – это уже не
логика, а всего лишь
часть математики. Впрочем, я прошу прощения, Вас это не должно беспокоить. Все равно логики, как таковой, на белом свете не существует. – Как это не существует? – возмутился Валера. – Каждый пользуется логикой до той или иной степени, а Вы говорите, что она
не существует. – В том то все и дело, молодой человек, что никто не может определить,
до какой степенией можно пользоваться. А самое печальное состоит в том, что этого просто
нельзя определить в принципе. Но и это еще не самое печальное. Самое печальное – это то, что когда мы рассуждаем о том,
что,
каки
почемув мире
происходит, то в этом присутствует логика, хотя только
до определенной степени. Но как только мы делаем попытку понять,
кому и зачем все это надо, вот тут и выясняется, что логики, как таковой, на белом свете не существует. – Кому и зачем надо
что? – спросил я. Ослик обвел окружающий его мир невыразимо грустным взглядом и ответил, пожалуй больше самому себе: – Если бы я только знал
что, я может быть, в один прекрасный день понял бы,
кому и зачем это надо… Мы помолчали. Валера глубоко вздохнул. Ослик грустно покачивал головой. – Извините, уважаемый ослик, а как Вас зовут? – спросил я. – Буридан, к вашим услугам. Но если Вам не нравится
этоимя, Вы можете звать меня Абеляр или Джон Гоббс или Фрэнсис Бэкон, я нисколько не обижусь. – А какое из этих имен – ваше
настоящееимя? – полюбопытствовал я. – А что вы подразумеваете под словом «настоящее»? – ответил вопросом на вопрос наш длинноухий собеседник. – Ну то имя, которое
действительноВаше, – решил мне помочь Валера. Ослик повернулся к Валере и внимательно глянул ему в лицо: – Дело в том, что если кто-то откликается на произнесенное имя, или если Вы назвали кому-то чье-то имя, и тот, кому Вы его назвали,
знает, кому оно принадлежит, то это имя вполне
действительно. Непонятно только, почему Вы считаете, что действительное имя может быть только
одно
. – Ну хорошо, – сказал я, – пусть будет по-Вашему, уважаемый Буридан,
действительныхимен может быть много, но
настоящееимя может быть только одно. Ослик многозначительно повернулся ко мне и спросил с изрядной иронией в голосе: – А чем собственно, по-Вашему,
действительноеимя отличается от
настоящего? Я некоторое время подумал. Действительно, а чем собственно, оно отличается? Наконец я дал ответ, в котором я был не совсем уверен. – Я думаю, что все действительные имена какой-нибудь вещи – это
то, как ее можно называть, а настоящее ее имя – это сама вещь,
как она есть на самом деле. Вот поэтому настоящее имя и может быть только одно. Ослик радостно хихикнул и взбрыкнул копытами. Вид у него был преехиднейший. – Если настоящее имя – это сама вещь, как она есть на самом деле, то что же тогда из себя представляет
сама вещь, как она есть на самом деле? Другими словами, чем тогда, по-Вашему,
настоящая вещьотличается от своего
настоящего имени? – Я думаю, что эта вещь представляет из себя
то же самое, что и ее настоящее имя, только
до того, как ее назвали этим именем,– ответил я, нимало не задумавшись. Теперь пришел черед задуматься ослику. Он бродил по вольеру взад и вперед, бурча себе под нос: «Весьма оригинальная трактовка! Ни в классическом номинализме, ни в классическом реализме я такой не встречал. Бертран Рассел необычайно обрадовался бы открытию такой интересной формулировки, а вот Готлоб Фреге, пожалуй бы расстроился еще сильнее. Удивительно, что такое остроумное построение делает абсолютный неспециалист, походя повторяя парадокс Витгенштейна. Неужели несколько веков так сильно могут двинуть вперед общественное миропонимание? Нет, я был слишком неблагодарен к своей судьбе! Если бы не реинкарнация, я не наслаждался бы сейчас этой беседой. Какая разница, что на мне за шкура, главное – мой разум при мне. Шкура может сгнить, а разум – никогда! Cogito ergo sum. This is eternal and ageless, and it encompasses all the worlds! Ради этот можно согласиться поносить и ослиную шкуру! Anyways, facta clariore voce quam verba loquuntur. Я все же обязан припереть юношу к стенке неумолимой силой фактов и логики». Ослик подошел к решетке и вкрадчиво обратился ко мне: – Вот Вы сказали, что вещь когда-то была впервые названа своим настоящим именем. Я правильно Вас понял? – Да вроде бы правильно, – ответил я. – Нет-нет, я попросил бы Вас уточнить:
вродеправильно или
простоправильно? Это принципиальный момент. – Ну,
пусть будетпросто правильно, – сказал я. – Я убедительно Вас прошу не делать мне
одолжений. Если Вам что-то кажется
сомнительным– выскажите свои сомнения, если с чем-то не согласны –
спорьте! – Хорошо, уважаемый Буридан. Вы меня поняли правильно. – Чудесно! Ответ принят. Значит Вы признаете, что
настоящееимя вещи не является ни
свойствомэтой вещи, ни
частьюэтой вещи, а присваивается вещи в момент ее называния, точно так же, как присваиваются
действительныеимена? Правильно? – Да, конечно. – А тогда, уважаемый, я вновь возвращаюсь к уже заданному вопросу: чем
настоящееимя отличается от
действительныхимен? – Настоящее имя – это то, которое дали
в самом начале, а действительные – это которые
придумали потоми
добавилик настоящему для удобства, – убежденно сказал Валера. – Для удобства? Это интересно. Для какого
удобства? – Ну вот, взять например, водку. У водки есть одно настоящее имя – водка. Но не всегда удобно называть водку ее настоящим именем. Ну когда ты на работе, или когда ты уже пьяный, а хочешь взять еще, или когда ты с девушкой или вообще. Ну вот и придумали. Бутылку водки называют «пузырь», или там, бутылку поменьше – «шкалик», а саму водку – ну там горючим, или ситром, или лимонадом, или еще как-то, чтобы кому надо было понятно, что это водка, но чтобы
настоящегоимени при этом
не называть. Очень удобно. – Весьма сомнительное удобство, – не согласился ослик. – Я бы предпочел пить водку только в тех ситуациях, когда вполне удобно называть водку ее настоящим именем. – Многие бы так хотели, – мечтательно сказал Валера, – только жизнь у нас, к сожалению, такая, что не всегда это получается. – Если бы это
хотя быкасалось только водки, – добавил я, – было бы еще ничего. Жизнь, к сожалению, такая, что синонимов хоть отбавляй! Чем тяжелее становится жизнь, тем больше придумывают всяких синонимов. Люди все чаще спорят о разных вещах, а под конец оказывается, что все имеют в виду одно и то же, только называют по-разному. Дело в том, что неприятности со всеми случается
одни и те же, но случаются они
при разных обстоятельствах. Я думаю, что в этом и есть причина появления синонимов. Вот поэтому я и считаю, что у каждой вещи обязательно должно быть свое
настоящееимя, и притом только одно. Когда все устанут прятаться от своих бед, спорить и называть вещи вокруг да около, тогда кто-нибудь самый смелый обязательно предложит начать называть вещи только их
настоящимиименами, и тогда сразу
всё станет ясно. –
Чтостанет ясно? – решил уточнить ослик. Я задумался. А действительно,
чтостанет ясно? Что водка называется водкой? Так это и сейчас ясно… – А кстати, как они узнают,
какое именноимя настоящее? – спросил Буридан с большим интересом. – Ну как, Валера же сказал, что то имя, которым назвали вещь
в самый первый раз, и есть настоящее. – И что, Вы всерьез считаете, что у всех без исключения совпадут мнения по этому вопросу? Какие у Вас для этого есть основания? Оснований, вобщем, не было никаких, и я как-то сразу растерялся. Валера оказался посообразительнее: – Ну полноте, уважаемый Буридан, безвыходных ситуаций не бывает. Соберут комитет по стандартам и быстренько установят правильные имена. – Ну конечно! – в восторге завопил осел, лягнув копытами от избытка чувств. – Я так и думал! Комитет по стандартам! Я оставляю в стороне моральную сторону дела, связанную с поручением какому-либо комитету переписывать историю. Подойдем к вопросу только с рациональной стороны. Скажите мне, молодые люди, а как этот ваш комитет будет разбираться со словами, не имея перед собой всех соответствующих им вещей? Если бы можно было принести в комитет образец каждой вещи и приклеить к ней
ярлыкс ее
настоящим именем, все было бы еще вполне поправимо. Но как Вы принесете в комитет вещь под названием «философия» или «пространство» или «нравственность»? Значит, Ваш комитет сможет работать
только со словами. Но согласитесь, что никакой комитет не может знать
все слова. Значит, Ваш комитет по стандартам проблемы не решит. Кроме того, если уж начнут разбираться с проблемой, то одного комитета покажется мало, организуют несколько, и каждый комитет решит все по-своему, и тогда уж точно никто не будет знать, как что правильно называть, и чему верить. – Но ведь кроме имени-
звукаеще есть имя-
идея! – неожидано нашелся я. – Понимаете не
названиевещи, которое, в отличие от ее
имени, может меняться, и не
сама вещь, а
идея вещи! – Замечательно! – восхитился Буридан, – если бы не эти копыта, я бы Вам поаплодировал. Так мы скоро до треугольника Фреге доберемся! Но только сразу возникают вопросы: Во-первых, уверены ли вы, что идея каждой вещи существует
вполне отдельноот идеи
другойвещи? Во вторых, считаете ли Вы, что идея вещи существует
в самойвещи, или
отдельноот этой вещи,
сама по себе, или же только
в мысляхтого, кто думает об этой вещи? Если идеи вещей существуют
отдельноот мыслей, сами по себе, то как эти идеи
проникаютв мысли, скажем в Ваши или в мои? А если идеи вещей существуют
только в мыслях, и не существуют
в самих вещахили
сами по себе, то как мы можем быть уверены, что эти идеи у разных людей
ничем не отличаются? Понимаете, о чем я говорю? Представьте себе, что несколько человек показывают на одну и ту же вещь, называют ее одним и тем же словом, и думают одну и ту же мысль, то есть они думают об этой вещи. Но при этом
идеяэтой вещи
у каждого своя. Вот почему они никогда не могут толком договориться между собой, и даже если бы у каждой вещи было
настоящееимя, это
ничуть не улучшило бы ситуацию. Вы сейчас можете мне не поверить, но если Вы вдруг познакомитесь поближе с нашей Подозрительной трубой, Вы сами в этом убедитесь. Но вообще, лучше держитесь от нее подальше.
ТудаВы всегда успеете. Спасибо Вам, молодые люди, за исключительно приятную беседу и прощайте. Время вышло, и мне уже пора возвращаться обратно в Пунтиллятор Шмульдерсона, а то моей шкуре может непоздоровиться. С этими словами необыкновенный ослик ушел вглубь вольера, цокая копытцами, и скрылся в темном дверном проеме. – Ты знаешь, Матюша, а ведь самой скверной штуковины этот осел нам не сказал. – По-моему, он нам и так ничего хорошего не сказал, – пробурчал я. – Как ты думаешь, Валера, что это за Шмунтиллятор Пульдерсона? – Да черт с ним, с этим Шмунтиллятором! Ты подумай, Матюша, если у каждого человека идеи каждой вещи в голове разные и не совпадают с идеями о вещах в головах других людей, то где гарантия, что люди говорят об одной и той же вещи и имеют дело с одной и той же вещью, когда они
пытаютсяэто делать? Вот смотри: я могу рассказывать тебе про какую-то вещь и думать что ты видишь именно эту вещь или представляешь ее себе. А ты в этот момент можешь представлять себе или даже смотреть
совсем на другую вещь, то есть, совсем не на ту, которую я имею в виду, и думать, что я говорю
именно о ней. И я никак не могу этого
проверитьи об этом узнать, потому что идеи вещей у нас в головах
не совпадают. Страшное дело! И самое страшное, что я
никогда раньше об этомне думал, а теперь, возможно,
больше не смогу об этом не думать. – Не думал – и не думай! – ответил я – Ничего страшного! Я об этом и думать не собираюсь. Мне достаточно того, что с
некоторымилюдьми у меня эти идеи совпадают. Вот с тобой, например, потому что мы друзья. – А почему мы тогда всю дорогу в театре ссорились? Какое же тут к черту совпадение? – Валера! Ты никогда не занимался философией, а хочешь сразу что-то понять. Вот если бы ты ей занимался, ты бы сразу понял, что когда идеи вещей в голове у разных людей не совпадают, то им и спорить не о чем. А у нас с тобой
идеивещей совпадают, а не совпадают только
представления об этих идеях, вот из-за этого мы и спорим по каждому пустяку. Разговаривая таким образом, мы двигались дальше по павильону. Мы шли по металлическому решетчатому полу довольно узкого коридора, по обеим сторонам которого располагались секции с металлическими дверями. Все двери были заперты, и мы не могли найти ни кабинета, где делали эротический массаж гаечным ключом, ни пресловутой трубы. Впрочем, одна из дверей оказалась открыта, и мы зашли внутрь. Внутри секции не было никакой мебели, замызганные стены из гофрированного металла тускло отражали неровные вспышки мертвого люминесцентного света. В воздухе воняло дешевым ковролином, которым был обит пол, и на этом пыльном и грязном ковролине валялась чья-то брошенная визитная карточка. Я поднял карточку и прочитал: «Пописташ Пафнутий Парфёнович, профессор черно-белой магии». Я переложил карточку из руки в руку, и машинально взглянув на нее еще раз, неожиданно обнаружил, что на карточке написано «Розенкранц Вальдемар Самуилович, врач-венеролог. Дискретность гарантируется». Я немедля сообщил о своем открытии Валере, который в ответ на мое заявление о том, что карточка управляется нечистой силой, покрутил пальцем у виска и показал мне по очереди обе стороны карточки. На одной стороне было написано черным готическим шрифтом «Пописташ», а на другой выведено золотистым курсивом «Розенкранц». Только и всего! Я со злости попытался порвать паскудную карточку, но она не рвалась, а в ответ на мои усилия растягивалась как жевачка, а стоило мне ее отпустить, как она собиралась обратно в нормальную целую, нерастянутую карточку. Я продемонстрировал этот фокус Валере. Валера опять, не говоря ни слова, достал из кармана большой и острый перочинный нож, аккуратно разрезал карточку пополам и молча отдал мне две половинки. Я посмотрел на половинки разрезанной карточки. На одной половинке я обнаружил все ту же надпись: «Пописташ Пафнутий Парфёнович, профессор черно-белой магии», только в два раза мельче. На другую половинку, как и следовало ожидать, переехал Розенкранц. Обычную визитную карточку так ни за что не разрежешь, при всем желании. – Валера, дай-ка мне твой ножик, – попросил я. Валера протянул мне нож. Я разрезал половинку с фамилией Пописташ еще пополам и быстро уставился на четвертики, но прочитать ничего не мог: буквы прыгали, как на вокзальном табло в момент смены текста. Наконец, буквы устаканились, и я прочитал на одной четвертинке:
Попис Пафнутий Парфёнович,
профессор черно-белой магии
а на другой:
Ташновская Виолетта Адамовна,
фасонная стрижка собак
Я собрал в стопку половинку и обе четвертинки карточки, и протянул Валере вместе с ножиком. Валера взял их у меня из руки, разглядел и спросил: – Матюша, ты что, еще одну карточку нашел? – Нет, – ответил я, – я тебе разрезанную дал, там опять фокус какой-то. Надуваловка, а не карточка! – Как это разрезанную? – возмутился Валера. – Ты мне опять целую дал! – Может быть, это части обратно склеились? – предположил я. Валера стал изучать карточку, чтобы понять, как половинкам удалось склеиться. Изучив карточку, Валера вновь покрутил пальцем у виска, но уже совсем с другим выражением лица. Я взял карточку у Валеры и прочитал. На одной стороне было написано:
Пописташ Самуил Парфёнович,
врач-венеролог
а на другой стороне теперь значилось:
Розенкранц Пафнутий Адамович,
профессор черно-белой магии
– Ну ни хуя ж себе! – удивился Валера и снова вынул нож. – Ща я ее на мелкие кусочки изрублю! – Ты что, Валера, решил «Жёлтые страницы» выпускать? – сказал я и сунул карточку в карман. – С карточкой мы потом разберемся. Пошли трубу искать. А все же, хотел бы я знать, что это за Пунтиллятор Шмульдерсона… Не нравится он мне… Мы вышли снова в коридор и двинулись вперед. Коридор казался бесконечным: мы шли и шли, лампы на потолке встречались все реже, и поэтому становилось все темнее. По всем разумным понятиям мы уже давно должны были упереться в какую-нибудь стену, потому что шли явно по прямой и прошли не менее километра, ни разу никуда не сворачивая. Постепенно темнота так сгустилась, что мы почти перестали различать, где мы идем. С обеих сторон были сплошные металлические стены, без дверей, вдобавок сам коридор сильно сузился. – Может назад повернем? – спросил я Валеру. – А как же труба? – Может она вовсе и не здесь, может мы зря ее тут ищем? – А где же по-твоему эту чёртову трубу искать? В Пунтилляторе Шмульдерсона? – Валера, ты зря смеешься! Я тебе говорю, не нравится мне это, ну ее на хуй, эту трубу, давай съёбывать отсюда назад, пока не поздно! – Может еще пройдем чуть-чуть? А, Матюша! Ну обидно, столько времени уже проискали! Но больше нам искать трубу не пришлось, труба нашла нас сама. Пока мы шли вперед, обсуждая паскудную карточку и непонятный Пунтиллятор Шмульдерсона, мы не замечали, как пол становился все более наклонным и скользким. Заметил я это слишком поздно, когда я вдруг неожиданно поскользнулся и поехал вперед и вниз со все увеличивающейся скоростью. Звук падения и сопение сзади подсказало мне, что с Валерой случилось то же самое. Мы катили по наклонному желобу все быстрее и быстрее, и желоб становился все круче. Через какое-то время я обнаружил, что я падаю отвесно вниз по огромной трубе, больно задевая твердые гладкие стенки трубы коленками, локтями и головой. Воздух сразу стал твердый и упругий, как невидимая подушка, и засвистел в ушах. От ощущения невесомости меня слегка затошнило. Рядом со мной, чуть выше, сопя и страшно матерясь, падал Валера. Я проваливался вглубь неведомой трубы, крутясь и периодически ударяясь, и вспоминал летящий вниз по трубе мусоропровода цветной телевизор. – Валера, как ты думаешь, куда мы падаем? – проорал я. – Да наверное, в этот самый Пунтиллятор, блядь, Шмульдерсона, еби его мать! – ответил Валера откуда-то сверху. Вокруг было совершенно темно, хоть глаз выколи. Неожиданно что-то больно ударило меня между ног, в самое интимное место. Я взвыл и, схватив ударивший меня предмет, ощупал его в темноте руками. Это оказался огромный разводной гаечный ключ. Я, не подумав, со злобой отшвырнул ключ от себя, и немедленно услышал Валерин вой, а затем злобную матерщину. – Валера! Не бросай ключ, – заорал я, но было поздно. Валера ключ уже бросил. На этот раз разводной ключ больно ударил меня по копчику и промежности и застрял между ногами. – За такой эротический массаж убивать надо! – в ярости завопил я. – Ты сначала из трубы выберись, – резонно ответил Валера, ойкая от ударов об стенки. – Главное до низа долететь и не разбиться, – сказал я. – А ты вообще уверен, что в этой трубе низ есть? – Что же мы, всю жизнь будем теперь лететь по этой ёбаной трубе? – Матюша, ты кого – меня спрашиваешь? Я попытался стабилизировать свое тело в пространстве, чтобы как можно реже задевать стенки, но добился только того, что ключ выскользнул у меня между ног, отскочил от стенки и больно дал мне по голове. – Узнаю, чей это ключ, убью падлу! – в гневе завопил я от боли и обиды. – Ключ, наверное, того же, чья и труба, – ответил Валера. – А труба чья? – Да этого, блядь, Шмульдерсона! По счастью, ключ, который в меньшей степени испытывал сопротивление воздуха, постепенно обогнал нас и позвякивал где-то внизу. Зато появилась другая неприятность: труба перестала быть абсолютно вертикальной. В ней появились небольшие отклонения от вертикали, колена и извивы, и каждый из них награждал нас чувствительным ударом. Постепенно мы с Валерой приспособились проходить закругления. Ключ к тому времени обогнал нас секунды на три. Услышав звук удара ключа об стенку очередного колена, мы с Валерой сжимались в комок и закрывали голову руками. Колена в трубе постепенно учащались и вскоре стали совсем непрерывными. Прямо внизу под нами с грохотом несся разводной ключ, а за ним падали мы с Валерой, аккомпанируя ключу воплями, стонами и отборным матом.
Часть 2.
Пунтиллятор Шмульдерсона
Избитые об стенки трубы бока, локти и колени немилосердно болели, и, как пишут в нежных дамских романах, в моем сердце поселилось отчаяние. Дурацкая и в то же время пугающая ситуация падения в бездонную трубу не внушала ничего хорошего и напоминала кошмарный сон. Ругаться мне расхотелось, к тому же, от боли я уже не мог придумать ни одного стоящего ругательства и замолк. Притих и Валера. Теперь мы терпели удары и толчки молча, сопя и стиснув зубы. Так прошло еще минут пять, и тут разводной ключ, грохотавший где-то далеко внизу, неожиданно затих, а через несколько секунд мы почувствовали, что труба стала идеально ровной и гладкой. Наше стремительное падение как будто бы немного замедлилось, а потом стенки трубы вообще куда-то пропали, во всяком случае, руками и ногами я до них дотянуться не мог. Зато я кое-как дотянулся до Валеры и ухватил его за рукав, а затем за обе руки, и мы продолжали падать вместе. Потерять друг друга в такой малоприятной обстановке очень не хотелось. Затем я почувствовал, что воздух перестал свистеть в ушах. Вероятно, наше падение еще замедлилось. – Валера, давай о чем-нибудь поговорим, – предложил я, – а то что-то так падать уж больно тоскливо, мысли всякие нехорошие в голову лезут. – А о чем ты хочешь говорить? – Ну вот я книжку недавно прочитал. Фантастика, сюрреализм – короче шиза. – Как книжка-то называется? – "Человек, который хотел знать все". – А, ну знаю, это Евгения Бенилова. Прикольно, только как-то уж очень грустно. – А ты ее давно читал? – Да месяца три назад, когда у Люськи жил. Она всю фантастику подряд читает. Я у нее и прочитал. – Ну и как? – Что как? – В смысле, как ты думаешь, чего этот Франц понять хотел? Зачем он на четвертый ярус поперся? – А ты бы что сделал на его месте? – А я бы остался на третьем до тех пор, пока не понял бы, что я хочу понять. Ты понимаешь, знать все, то есть вообще все на свете, как хотел Франц – нельзя. Головы не хватит всё понять и всё запомнить. Значит, ему вообще не надо было знать всё, ему надо было понять то, что для него
личноинтересно и потом через этот свой личный интерес разбираться
во всём остальном. – Ты понимаешь – задумчиво проговорил Валера – ведь как раз для него лично и было интересно разобраться сразу во всём на свете. – Так и мне интересно разобраться во всём на свете. Я и пытался разобраться во всём, только я разбирался конкретно, через театр. А ты? – Я, Матюша, человек скромный. Мне бы в самом театре как следует разобраться. Ну а в чем ты хочешь разобраться через театр? И почему именно через театр? – Я не знаю, почему. Это нельзя объяснить. Так хочется, и с этим ничего не поделаешь. Ты вот разбирался в театре, а я пытался разобраться через театр с человеческой душой, с жизнью, что ли… – Это как? – Ну когда пытаешься понять, что за всем этим стоит, почему люди ведут себя в каждом конкретном случае именно так, а не по-другому, то театр уже становится вроде не как цель, а как средство. Типа как инструмент. И я пытаюсь этим инструментом залезть в душу и что-то там померить, пощупать, потрогать. И когда добрался до чего-то, открыл для себя, почему оно так, а не по-другому, то как-то
легче становится. Помнишь, как осёл сказал, что нет никакой логики в том, кому и зачем
всё этонадо? Вот я и пытаюсь в театре быть режиссером
всего этого. Когда ты сам режиссер, то тебе поневоле приходится понять,
зачем тебе всё это надо. И вот тут я и вижу ответ на ослиный вопрос, на который логика ответить не может. Короче, театр – это моя точка входа. – Какая точка входа? – Ну, это наш программист на работе так говорит: «потерял точку входу» или «нашел точку входа». Это что-то такое в компьютере, куда надо попасть, чтобы начала работать программа. Я так для себя понимаю, что точка входа – это как бы место, через которое ты можешь попасть куда тебе надо, чтобы узнать или сделать что тебе надо. Но для этого надо сперва попасть в свою точку входа. Без нее ничего нельзя ни узнать, ни сделать. Вот как театр закрылся, так я и потерял свою точку входа в жизнь, а без нее жить плохо. Точку входа никакие деньги не заменят. Для жизни эта штуковина – поважнее денег. – Ты не совсем прав, Матюша. Для многих людей деньги – это как раз и есть точка входа в жизнь. – Нет, Валера, вовсе нет. Просто многие люди думают, что с деньгами им будет легче найти свою точку входа. Они думают, что за деньги до этой точки можно вроде как на такси доехать, с удобствами. А пешком им неохота, ломает, да и долго. – Так что, ты считаешь, что Франц просто не мог найти свою точку входа? – Так конечно, Валера, это же очевидно. Вот у нас с тобой точка входа – это театр. У программиста – компьютер. У банкира – банк и капитал. У астронома – телескоп и звездное небо. А у Франца не было точки входа. Он хотел пройти к своей истине напролом, прямо через стену. Вот поэтому на четвертом ярусе его и посадили в одиночку – чтобы он
в себе разобрался. Чтобы нашел свою точку входа. Смотри, ведь там на четвертом ярусе у него был полный комфорт – библиотека, музыка, кинозал, все было. Все ему дали, кроме других людей. Чтобы никто не отвлекал, чтобы можно было покопаться в себе. А он струсил, не стал изучать себя и разбился из окна. Поторопился. – Я понимаю, Матюша, о чем ты говоришь. Прав ты, конечно. Можно искать истину снаружи и рваться куда-то вовне, а можно углубиться в себя и искать ответ там. Только искать ответ – силы нужны, а он уже все силы истратил. Помнишь, ты как-то слушал Макаревича: «Теперь ты устал, и тебе все равно, Как жизни остаток дожить». И ты еще вспомнил про Монтеня, как он писал, что устал от жизни, и больше не хочет искать истину, как-то так. И потом, ты пойми, он же раненый был, ему еще какие-то таблетки давали на третьем ярусе, у него крыша поехала. – Ты знаешь, Валера, я не думаю, что это от табле… Тут я осекся. Мое тело резко вздрогнуло в воздухе, как у парашютиста при раскрытии парашюта, и мои руки оторвало от Валериных. Одновременно темнота вокруг нас начала расступаться, появилось слабое розовое свечение, которое постепенно стало оранжевым, затем желтым, а еще через какое-то время белым. Меня плавно развернуло и с размаху плюхнуло на что-то мягкое. Затем я почувствовал еще один толчок – видимо, рядом со мной плюхнулся Валера. Несколько минут мы озирались по сторонам и протирали глаза, пытаясь прийти в себя. Придя в себя, я обнаружил, что сижу на огромном кожаном диване офисного типа в большом зале, залитом ярким люминесцентным светом, от которого резало глаза, а рядом со мной сидит Валера и ощупывает ушибленное в трубе колено. – Валера, ты как? – спросил я. – Попробуй наступить на ногу. Валера встал, пошатываясь, и с трудом сделал несколько шагов. – Да не, старик, все нормально, синяк только, переломов нет. А ну, теперь ты встань. Со мной оказалось сложнее. Как только я встал, у меня закружилась голова с такой силой, что я рухнул обратно на диван. – Матюша, не волнуйся, подыши глубоко, расслабься и еще раз попробуй. Я глубоко подышал, затем уперся руками в колени и стал потихоньку приподниматься. Голова кружилась уже меньше, но глаза, привыкшие к темноте, еще сильно резало от света. Я осмотрелся вокруг. Зал был большой, с высоким белым потолком, усеянным множеством казенных люминесцентных ламп, которые я ненавижу. Напротив дивана стоял громадный письменный стол, на котором не было ничего кроме телефонного аппарата, а на дальней стене почему-то висел большой портрет Ленина. На ближней к нам стене находилось огромное табло. Я поднял трубку телефона, хотя сомневался, что по нему можно будет куда-то позвонить. Неожиданно я вспомнил название аттракциона: «вызывание духов по телефону». – Дежурный по сто семнадцатой секции у аппарата. Назовите личный код и код вызова – послышался в трубке бестелесный голос. – Извините, мы сюда из трубы свалились! Нам нужна помощь, – с трудом выговорил я. – Какая труба? О чем Вы говорите? Обращайтесь согласно текущему протоколу. Назовите свой личный код. – У меня нет никакого кода! Нам нужна помощь! – Специфицируйте проблему в рамках классификатора сто двадцать семь бета и укажите код помощи. – Я не знаю никакого кода! Я не знаю никакого классификатора! – отчаянно завопил я. – Мы здесь случайно оказались! – Хорошо, вызов принят. Код помощи – «общий». Ваш номер сервиса двадцать один дробь сто тридцать четыре тире сто семнадцать тире двадцать один эйч. Записали? – У меня не на чем записать. Мы здесь случайно оказались! Мы даже не знаем, где мы! – Кто вы такие? Как вы здесь появились? – Я же сказал – из трубы! Голос в трубке недоуменно хмыкнул, а затем его обладатель обратился к кому-то рядом мимо трубки: – Послушай, Крис, похоже, какие-то живые растяпы свалились к нам через трубопровод Брэкстона. Они сейчас звонят из приемного шлюза биоуловителя в секторе Эйч. Ты когда-нибудь видел живых людей в Пунтилляторе Шмульдерсона? Ответа Криса я не расслышал. Дежурный снова обратился ко мне прямо в трубку: – Хорошо, сервисная бригада уже в пути. Расчетное время следования четыре минуты двенадцать секунд. Конец связи. Вдруг ожило табло на стенке. Оно осветилось голубоватым светом, и на нем появился текст:
Добро пожаловать в Пунтиллятор Шмульдерсона.
Пожалуйста, не предпринимайте ничего самостоятельно, оставайтесь на месте, за вами скоро придут.
– Валера, ты знаешь, что такое Пунтиллятор Шмульдерсона? – Не знаю, но это название мне не нравится. – А мне не нравится, что мы с тобой в нем – единственные живые люди. Я так понял из слов дежурного, он там сказал какому-то Крису, что мы попали сюда через трубопровод Брэкстона. – Не нравится мне все это, Матюша, ой не нравится, – сказал Валера. Пожалуй, это будет похуже, чем в «Техасском рейнджере». – Ты думаешь, опять драться придется? – Да нет, Матюша, не в драке дело. Тут что-то гораздо более тухлое намечается, а вот что, я пока не знаю. Табло погасло, в зале раздался мелодичный звонок, и дальняя от нас стена беззвучно поднялась вверх, обнажив черный провал тоннеля. В тоннеле показались фары и послышалось жужание электромотора и шорох протектора о бетон. Пузатый серый транспортер на резиновых гусеницах подкатил к самому краю тоннеля и встал. Сбоку открылась небольшая металлическая дверь, из которой вышли две фигуры в черных комбинезонах и направились к нам. – Здравствуйте,– вежливо сказал я подошедшим, которые были к тому же еще и в масках, так что их лиц не было видно совсем. Ответа на свое приветствие я не получил, и чтобы не затягивать тишину, я спросил: – Скажите пожалуйста, где мы находимся? Из-под маски того, что был повыше и покрупнее, и скорее всего, был старшим из них, раздался бестелесный, чуть дребезжащий голос: – Вы находитесь в приемном шлюзе трубопровода Брэкстона в секторе Эйч сто семнадцатого яруса филиала номер двадцать один дробь сто тридцать четыре Пунтиллятора Шмульдерсона. Ваш личный код будет сто семнадцать эйч дробь тридцать четыре ноль сто пятнадцать. Возьмите Ваш нагрудный жетон и наденьте прямо сейчас. Я взял в руки легкий жетон из прозрачного пластика на металлической цепочке из рук второго черного человека. – Ваш личный код будет сто семнадцать эйч дробь тридцать четыре ноль сто двадцать три, – сказал первый, подойдя к Валере. – А почему не следующий по порядку? – удивился Валера – Потому что биоуловитель перемещал Вас из трубопровода Брэкстона в приемный шлюз поочередно, и в промежутке между срабатываниями биоуловителя в сектор Эйч прибыло восемь умерших через ЦПТ. Порядок поступления объектов регистрируется счетчиком и заносится в файл поступлений. – А что такое ЦПТ? – спросил я. – ЦПТ – это Центральный Посмертный Телепортатор, официальный канал, по которому все вновь умершие прибывают в Пунтиллятор Шмульдерсона. – Но мы же живые! – не выдержал я, – зачем нам эти номерки для покойников? – Проблему вашего физического состояния будет решать уполномоченный дежурный по сектору Эйч. Если будет найден протокол, согласно которому Вас необходимо умертвить немедленно, Вам будет предоставлено право выбрать для себя желательный для вас вид смерти, а после умерщвления Вы пройдете стандартный набор процедур для новоприбывших. Сюда входит полная стерилизация организма гамма-излучением. После того как излучение уничтожит все микроорганизмы в Вашем теле, вы пройдете фиксацию, в процессе которой Ваши ткани будут зафиксированы навечно и защищены от саморазрушения путем полной деактивации всех ферментов. Далее вы пройдете нейроактивацию, которая реконструирует разрушенные нейронные связи. В этот момент у Вас восстановится сознание, и Вы почувствуете, как бы пробуждение от глубокого наркоза. К этому моменту Вы будете оставаться мертвы. Абсолютно, совершенно мертвы. Но только биологически. Ваши психические функции будут восстановлены в полном объеме, за исключением вредных неконтролируемых эмоций, которые будут элиминированы на трансмолекулярном уровне. Разумеется, это только начальные процедуры. Существует таже стандартный набор индивидуализированных периодических процедур. В случае если протокол, требующий Вашего немедленного умерщвления, не будет найден, Вы можете решать сами, хотите ли Вы умереть сейчас или желаете остаться в живых и ждать естественного наступления смерти от старости или от болезни в одном из резервных блоков тридцать четвертой секции сектора Эйч. Так или иначе, личный код и жетон мы Вам выдадим прямо сейчас, хотя Вы и прибыли к нам досрочно, то есть до наступления смерти. Без личного кода Вас будет невозможно идентифицировать. – А зачем нас идентифицировать? – подозрительно спросил Валера. – Во-первых, Вам должны выделить персональную капсулу Стьюти. Она будет закреплена лично за Вами и в нее будут подавать стабилизирующий раствор Соболева, индивидуализированный под постбиологические характеристики Вашего препарата. – Моего чего? – Я еще не полностью ввел Вас в курс дела. Мы не называем себя мертвыми. Мертвые не имеют сознания. Но мы также и не называем себя живыми, поскольку мы не живем в биологическом понимании этого слова. Мы существуем как разумные постбиологические единицы, обладающие сознанием. Поэтому мы называем себя постбиологическими существами. Это название зафиксировано протоколом номер двести сорок один эн часть первая пункт третий. Мы не называем свою физическую оболочку «телом», мы называем ее «препаратом», потому что слово «тело» используется нами для обозначения физической оболочки вновь прибывших через ЦПТ, какой она является до обработки. Выражаясь по иному, словом «тело» мы называем только свежий труп, поступивший на регенерацию. Протокол номер двести сорок один часть кью пункт двенадцать. – Тогда как же вы называете физическую оболочку живых людей? – Поскольку живых людей в Пунтилляторе Шмульдерсона нет, то мы ее никак не называем. Какой смысл зря тратить слово на
то, чего всё равно нет? Лучше использовать это слово, чтобы называть
то, что есть. – Но мы же
есть! –
Здесьвас быть
не должно. А раз вас здесь быть не должно,
то это все равно что вас здесь нет. – Но мы же
здесьесть! –
Принято считать, что вы находитесь там, где нас нет, а мы находимся там, где вас нет. Поэтому мы считаем, что вас нет, а вы, в свою очередь считаете, что нас нет. Вы можете считать, что
это и есть наше взаимное соглашение о сотрудничестве. – А для чего эта капсула и стабилизирующий раствор? – С течением времени в постбиологических препаратах, являющихся носителями трансмолекулярного сознания, происходят постбиофизические и постбиохимические сдвиги. Раствор-стабилизатор Соболева несет активные молекулы, которые воздействуют на ткани препарата, приближая их к исходным индивидуальным постбиологическим стандартам, установленым в момент получения препарата из тела. Препарат должен проводить в капсуле не менее двухсот часов в месяц для поддержания постбиологических параметров в пределах допустимых отклонений от рекомендованных индивидуальных стандартов. – А что Вы делаете в капсуле? Спите? – Постбиологические существа не спят. В капсуле Стьюти нельзя двигаться и получать периодические процедуры, поскольку препарат жестко зафиксирован в капсуле механически. В капсуле можно только думать. – Думать о чем? – Характер процесса мышления и содержание мыслей протоколами не регламентируется. Приложение семнадцать ди к техническому протоколу использования капсулы Стьюти за номером шестьсот семьдесят два рекомендует во время процесса стабилизации думать о вечности. Но приложения к протоколам не носят обязательного характера. Поэтому в капсуле вы можете позволить себе свободное течение мыслей. Теперь, пожалуйста, наденьте Ваши жетоны, а также вот эти изолирующие комбинезоны. Мы сами вынуждены были надеть такие комбинезоны, чтобы избежать контакта с живущими на Вас микроорганизмами. Нам было бы гораздо удобнее, если бы Вы согласились подвергнуться посмертной обработке немедленно. Это позволило бы Вам намного более качественно сохранить Ваше сознание на постбиологическом уровне, чем если Вы будете ожидать своей естественной смерти. Если Вы примете правильное решение, то в качестве умерщвляющего агента я бы рекомендовал Вам большую дозу цианистого калия. Он хорошо блокирует тканевое дыхание, и этот фактор весьма улучшает качество посмертной обработки и повышает индивидуальный постбиологический стандарт полученного препарата. Мы с Валерой облачились в оранжевые комбинезоны с респираторами, которые подал нам второй живой мертвец, и прошли в транспортер. Не успели мы сесть на жесткие металлические сидения, как электромотор взвыл, и транспортер понесся, делая плавные виражи. Мы сидели в трюме транспортера, окон не было, поэтому мы не имели ни малейшего представления о том, куда нас везут. Впрочем, откуда нас везли, мы тоже не знали, ибо когда мы попали в эту комнату, наверху не было даже следов извергувшей нас страшной трубы, там был обычный потолок обычного, ничем не примечательного офиса.
Транспортер взвыл двигателем, взбираясь куда-то вверх, затем двигатель замолк, и дверь трюма, где сидели мы с Валерой, открылась. – Прошу выходить и следовать за нами, – раздался голос снаружи. Мы с Валерой вылезли из транспортера, покачиваясь и разминая затекшие ноги. Тело ныло и болело. В животе раздавалось голодное урчание. Я огляделся. На этот раз мы оказались в огромном зале, чем-то напоминающем подземную парковку для автомобилей, только вместо автомобилей здесь рядами стояли одинаковые серые транспортеры, такие же как и тот, на котором нас привезли. – Сейчас мы с Вами проследуем к уполномоченному дежурному по сектору Эйч для выяснения рабочего протокола по вашему случаю, – сказал наш старший провожатый. Второй молча стоял рядом, держа в руках две пары роликовых коньков. Оба живых мертвеца тоже стояли на роликах. – Наденьте, пожалуйста, ролики и следуйте за нами. – А зачем ролики? – спросил Валера. – Для скорости и удобства передвижения. Мы кое-как надели ролики. Надо сказать, ролики были просто супер, я на таких никогда не катался. Старший подъехал к ближней двери и прислонил свой жетон к считывающему устройству, на котором мигала красная лампочка. Красный свет сменился зеленым, и дверь ушла вбок. За дверью открылся бесконечно длинный коридор, освещенный люминесцентным светом. Коридор чем-то напоминал переходы между станциями Московского метро. Старший мертвец проехал вперед, а второй пропустил нас перед собой в коридор, нажал на тумблер, и дверь закрылась. После этого он оттолкнулся от пола на своих роликах, беря старт, и быстро набрал скорость, двигаясь по гладкому пластиковому полу коридора. Мы мчались за ним, стараясь не отстать, а второй «постбиологический» замыкал шествие. Временами первый плавно тормозил и поворачивал в другие коридоры. Пересечения коридоров очень напоминали перекрестки дорог. Под светофорами и знаками «уступи дорогу» стояли живые мертвецы, одетые в облегающие комбинезоны. У всех были мертвенно-бледные, маскообразные лица, по которым нельзя было определить ни возраст, ни пол. Большая часть мертвецов стояла на роликах, но попадались мертвецы и на скэйтбордах, на разнообразных велосипедах и даже на роликовых лыжах. В некоторых коридорах траффик был довольно интенсивный. Живые мертвецы ездили куда-то по своим делам. Иногда мы попадали в довольно плотный траффик. Я оглядывался и видел, как призраки с бесстрастными лицами мерно едут на роликах по коридору. Все ехали с одинаковой скоростью. Никто не пытался обгонять или подрезать соседей. У перекрестков наш провожатый направлял на светофор устройство, похожее на небольшой фонарик, свет перемигивал на зеленый, и мы проезжали без задержки. Наконец мы подъехали к большой металлической двери, которой закончился очередной коридор. На двери я заметил прямоугольную серебристую табличку с черной надписью:
Сектор Эйч.
Уполномоченный дежурный
Старший провожатый прижал свой жетон к глазку считывателя, и дверь открылась. Мы въехали внутрь. По виду комната напоминала что-то типа компьютерного зала с множеством мониторов, расположенных на стойках в несколько рядов вокруг полукруглого стола. И здесь на стене тоже висел портрет Ленина. На столе стоял десяток телефонов, а за столом сидел во вращающемся кресле сухощавый мужчина с необычайно бледным восковым лицом без признаков возраста. Лицо это напоминало искусно изготовленную посмертную маску. Увидев нас, дежурный выкатился из-за стола и подъехал к нам поближе на своем кресле. – Можете снять Ваши комбинезоны и расслабиться. Встроенный анализатор не обнаружил у вас патогенной микрофлоры. Мы с Валерой сбросили с себя душные комбинезоны и с облегчением вздохнули. – Давненько не видел я живых людей – сказал дежурный, вглядываясь в наши лица – думал, что уже никогда и не увижу. Ужасно странно вы выглядите на мой нынешний взгляд. Хотя было время, когда и я выглядел точно так же. Впрочем, перейдем к делу. Как вы сюда попали? Мы добросовестно рассказали о том, что с нами произошло. Дежурный выслушал нас, не перебивая, а затем сказал, обращаясь к тем, кто нас привёл: – Я все время говорил, что научно-исследовательская группа сто семнадцатого яруса чересчур самонадеянна и проводит рискованные эксперименты. Особенно этот дробь двенадцать ноль семь тысяч тридцать пять. Этот Гарольд Брэкстон со своими подозрительными изобретениями. То они зачем-то сконструировали слонопаука, с картины Сальвадора Дали, потом залезли в средние века и реинкарнировали сознание какого-то известного философа в тело осла, украв его из Московского зоопарка. Но больше всего мне не нравилась эта труба. Я еще десять лет назад говорил им, что в один прекрасный момент к нам по этой трубе свалится какая-нибудь дрянь. И вот извольте – свалилось сразу двое живых людей. И что нам теперь с ними делать, ума не приложу. Если не найду никакого подходящего протокола, отдам их Брэкстону. По его трубе они к нам свалились, вот пусть он теперь и держит их у себя в исследовательском блоке и делает с ними что хочет, в пределах существующих протоколов… Можете идти – кивнул дежурный нашим провожатым и те быстро выкатились из кабинета на своих роликах. Дверь мягко вернулась на свое место. – А Вы не можете просто выпустить нас отсюда обратно в Москву? – спросил я. – Мы никому и ничего не будем рассказывать о том, где мы были и что видели. – сказал Валера – Можем дать любую подписку. – Не в этом дело. Дело в другом. Куда, извините, мы Вас отсюда выпустим? Мы никого не держим силой. Просто отсюда, из этой системы
никого нельзя выпустить физически. – Как никого? Почему нельзя? – Потому что выпускать
некуда. – Как некуда? А что находится вокруг системы? – Вокруг системы находится тройная синфазная оболочка из сверхвысокотемпературной кристаллической плазмы, способная выдержить напор протуберанцев хроносинклатической инфандибулы любой мощности. – А что вокруг этой оболочки? – В том то и дело, что абсолютно
ничего. Только временные вихри. – А где он вообще находится, этот ваш Пунтиллятор Шмульдерсона? – Я ведь уже объяснил, что
нигде. Он не находится ни в обычном времени, ни в обычном пространстве. Именно поэтому, попав в Пунтиллятор Шмульдерсона, уже нельзя вернуться обратно
в же самое место и в то же самое время. – А что это вообще такое? – Пунтиллятор Шмульдерсона – это сложное инженерно-физическое сооружение. Впрочем, мы говорим с Вами не о том, о чем следует. Я прежде всего должен задать вам вопрос: желаете ли Вы стать бессмертными в ближайшие несколько часов? Это крайне упростило бы все и для Вас и для нас. Для этого Вам надо всего чуть-чуть: пересилить глупый, нелепый страх перед смертью. Вам надо умереть и пройти через ряд процедур. Через четыре часа, которые Вам покажутся долей секунды, Вы уже будете сидеть в очередной группе новоприбывших, как полноправные обитатели сектора Эйч, и Вам будут давать первые ознакомительные инструкции. – А чем вы занимаетесь? Что у Вас тут за жизнь? – спросил Валера. – Да нет тут у нас никакой
жизни! Ну, в том смысле как ее понимают живые люди. Мы обладаем сознанием, но биологически мы мертвы. Поэтому мы
не живем. Мы ведем размеренное и рациональное
существованиебессмертных существ. Мы несем службу, каждый в соответствии со своей специализацией, думаем, общаемся между собой, а также проходим периодические процедуры. – А какие это процедуры? – Прежде всего, это рестандартизация препарата в персональной капсуле Стьюти. Затем – нормированное воздействие на психические функции средствами электронной трансмолекулярной калибровки волновых составляющих индивидуального сознания. Кроме того, имеется четыре обязательных базовых периодических процедуры: электрошок, электросон, электросмех и электрооргазм. Дело в том, что постбиологические существа не могут испытывать ни чувства боли, ни чувства юмора, ни чувство удовольствия любого вида, как это могут делать живые организмы. Они также не могут самопроизвольно погружаться в сон. Поэтому нам приходится модулировать эти психические процессы искусственно, чтобы удерживать нейропсихические параметры в пределах стандартных значений. Впрочем, к этой особенности можно привыкнуть очень быстро. Я бы очень рекомендовал Вам согласиться, тогда мне не придется тратить времени и искать нужные протоколы, собирать межсекторный совет и так далее. Ну как? Согласны? – Мы все же предпочли бы остаться в живых, – сказал я. – Да-да, по возможности, – добавил Валера. – Ах, как эти живые цепляются за жизнь! Ну хорошо. Я запущу систему электронного поиска документов, может быть найдется нужный протокол. Дежурный забарабанил пальцами по клавиатуре компьютера. Компьютер немного подумал и пискнул в ответ. – Итак, специального протокола по поводу проникновения живых людей в Пунтиллятор Шмульдерсона не обнаружено, – подытожил дежурный. – Будем использовать протокол номер одиннадцать «Решение спорных ситуаций» часть три, пункт семь. Это как раз то, что нам нужно. При расхождении мнений при дискуссии, в отсутствии иных регламентирующих протоколов, мнения нумеруются по порядку, начиная с единицы, и запускается генератор случайных чисел в рамках полученного числового отрезка. После выпадения случайного числа, необходимо принять мнение, соответствующее по номеру выпавшему числу, и в дальнейшем придерживаться только его. Итак, решим вопрос, не откладывая. У нас всего два мнения. Мое мнение – немедленное умерщвление и посмертная обработка. И ваше мнение – сохранение Вас в теперешнем состоянии. Соответственно, единица и двойка. Сейчас мы запустим генератор случайных чисел. – Не верю я вашему генератору, – угрюмо сказал Валера. – Лучше подбросим монетку. – Ну что же, помнится, среди живых действительно практиковался такой метод. Хорошо, подбрасывайте Вашу монетку. Я вынул из кармана металлический рубль слегка дрожащими руками: – Орел – жизнь, решка – смерть, – сказал я, чуть дыша от напряжения, и подбросил монету в воздух. Монета сверкнула в воздухе и брякнулась об пластиковый пол. Мы склонились над ней. Орел! Жизнь!! Уфф! Я вытер пот с лица. Валера с облегчением вздохнул. – До сих пор не могу понять, почему живые так держатся за жизнь, – задумчиво произнес дежурный. – Страх, пот, масса страдания… Я специально поставил маленький эксперимент. На самом деле, протокол существует, и это протокол номер один, и этот протокол в числе прочего гласит:
…в Пунтилляторе Шмульдерсона больше никого не убивают, потому что в нем больше некого убивать.
– Ваше падение в трубопровод Брэкстона не было предусмотрено протоколом номер один, потому что трубопровод появился сравнительно недавно, а протокол номер один – это самый старый протокол в системе. Никто не собирался Вас умерщвлять насильственно, но мне было интересно посмотреть на реакции живых людей, когда им предлагают не смерть, не страх с болью и вечное забвение, а безболезненное забытье и быстрое воскрешение навечно. Другими словами, превращение в бессмертных через смерть. Оказывается, даже в этом случае живые люди боятся и потеют от страха. Поэтому мы всегда имеем дело только с мертвыми. Должен Вам сказать, что сам я – один из старейших призраков в этом замке, и я принял смерть добровольно, поверив Рафаэлю Надсоновичу, когда проект только зарождался. Надо быть смелее, уважаемые! Я собрал всю волю, чтобы не бросится на дежурного с кулаками за его подлый эксперимент с использованием нас вместо морских свинок, но вместо этого спросил: – А кто такой этот Рафаэль Надсонович? – Рафаэль Надсонович Шмульдерсон – это гений, перевернувший представления о времени и о смерти. Это первый в истории бессмертный человек, сделавший себя Богом после смерти, главный архитектор системы, автор и руководитель всего проекта по воскрешению мертвых и дарованию им посмертной вечной жизни в виде постбиологических существ в системе, обладающей неограниченными ресурсами. – А что если человек не желает воскресать, если он не хочет бессмертия, если оно ему в тягость? – Эта возможность также предусмотрена. По окончании всех начальных процедур и появлении стабильного трансмолекулярного сознания у вновь прибывшего, ему задается вопрос, желает ли он пребывать в своем нынешнем состоянии или чувствует себя не готовым к бессмертию и предпочел бы отказаться от данного ему постбиологического сознания и раствориться в вечности. Отказы принимаются согласительной комиссией, и в случаях, когда не удаётся убедить новоприбывшего сохранить сознание, отказ фиксируется в регистрационный файл, после чего сознание безболезненно дезинтегрируется, а освободившийся препарат используется как реципиент сознания других людей, тело которых было сильно повреждено в момент смерти и не может быть использовано для создания качественного препарата. У нас ничего не пропадает. Вы наверное сейчас испытываете голод. Мы будем насыщать Ваши организмы чистейшими белками, нуклеотидами, витаминами и всеми прочими компонентами, полученными из органов и тканей, непригодных для создания препаратов и дезинтегрированных на основные компоненты. – Вы что, мертвечиной нас кормить собираетесь? – хрипло спросил Валера. Его горло стянул спазм страха и отвращения. – Да нет, мы вообще не собираемся Вас ничем кормить. Мы поместим Вас в капсулу Стьюти, настроим ее на Ваш биологический стандарт и будем его поддерживать. Капсула настраивается на любые параметры. В это время на столе мелодично зазвучал один из телефонов, стоявший поодаль от других. Дежурный взял трубку, послушал и ответил трубке: – Хорошо, я распоряжусь, доставят, но желательно было бы отсрочить встречу на десять часов. Им необходима рестандартизация немедленно. Легкие, но многочисленные физические травмы, уровень глюкозы в крови понижен, сильный психологический стресс, видно прямо на глаз. Что поделать, это же несовершенные живые существа, скоропортящийся товар. Короче, в данный момент нормальной беседы не получится. Затем дежурный поднял другую трубку и сделал какие-то краткие распоряжения вполголоса по-английски. – Сейчас Вас отвезут в лабораторию Брэкстона и займутся Вашей рестандартизацией. – Что это значит? – подозрительно спросил я. – Да то, что, говоря языком живых людей, на Вас смотреть тошно. Побитые, оцарапанные, потные, злые, бледные и испуганные. Ладно, через десять часов будете свеженькими и бодрыми. В это время дверь в кабинет открылась, и мы увидели на входе маленький транспортер, на котором были установлены два округлых футляра, похожих на красивые заграничные гробы. – Полезайте в контейнеры, Вас сейчас отвезут в научно-исследовательский отдел. После рестандартизации Вам предстоит аудиенция у Рафаэля Надсоновича. Он Вами заинтересовался, хочет побеседовать. Вероятно, он, также как и я, давно не видел живых людей. Не пугайтесь и не волнуйтесь. Рафаэль Надсонович, конечно, также мертв, как и мы все, но тем не менее в некотором смысле он и поныне, как говорится, живее всех живых. Наш Рафаэль Надсонович – это самый человечный человек во всей системе. Мы тем временем залезли в металлические гробики, отделанные изнутри мягким упругим пластиком. – Желаю успеха. Закрывайте контейнеры и отправляйтесь. Последние слова предназначались уже не нам, а водителю транспортера. Крышка моего контейнера мягко щелкнула, и я почувствовал, как внутрь подается кондиционированный воздух. Ехали мы минут двадцать, и от усталости я успел вздремнуть, к тому же в контейнере было абсолютно темно. Неожиданно я очнулся от того, что кто-то железной хваткой ухватил меня за плечи и поволок куда-то назад. Я попытался сбросить со своих плеч бесцеремонные руки грубияна, но обнаружил, что это не руки, а рычаги какой-то машины. Немедленно в меня вцепилось еще с десяток рычагов, которые стали стаскивать с меня все предметы моего туалета по очереди, держа мое бренное тело на весу. Затем рычаги потащили меня куда-то назад и в сторону и плюхнули в теплую липкую жидкость с неприятным запахом. Одновременно на меня навалилось что-то тяжелое, с такой силой, что я выдохнул и больше совсем не смог дышать. В висках у меня застучало. В это время что-то больно впилось мне в шею и не отлипало. Тяжесть отпустила мою грудную клетку, но в этот момент какая-то мерзость присосалась к моему рту, плотно как загубник акваланга, и по этому загубнику стала поступать в рот жидкость. Я захлебнулся и мучительно закашлялся, стараясь не дышать, но жидкость все прибывала, и я стал булькать и тонуть, как когда-то в детстве на речке, в деревне. Тогда дедушка вовремя успел вытащить меня из речки. Теперь дедушки рядом не было. Я не вытерпел и набрал полные легкие жидкости со вдохом, который я уже не мог подавить. В этот момент какая-то труба с силой воткнулась в мой задний проход. Было очень больно и противно. Я дергался, пытался орать, но вместо этого булькал и давился жидкостью, набирая ее в легкие все больше и больше. Мне было ужасно неудобно. Рычаги цепко держали мои руки, ноги, таз, шею и голову, так что я был распялен и полностью обездвижен. Что-то по-прежнему больно впивалось в мою шею. В задницу как будто вставили кол. Но как ни странно, я был жив. Через некоторое время я обнаружил, что я совсем не дышу, и тем не менее, не задыхаюсь. Потом мне неожиданно стало несколько легче, даже как бы комфортнее, хотя ничего не изменилось в моем положении. Что-то изменилось внутри. Наконец я понял, что именно изменилось. Я почувствовал приятную ломоту, идущую по жилам и радостное облегчение в голове, как будто выпил стопарь хорошей водки и закусил хрустящим огурчиком. Рычаги и металлическая пиявка в шее отошли на второй план. Прошло некоторое время. Капсула (то, что я был в капсуле, я не сомневался) мерно гудела, жидкость булькала. Я снова ощутил изменения в своем состоянии. Определенно, мне стало еще лучше. Видимо капсула ввела в мой организм еще стопарик. Я стал напряженно думать о том, как было бы хорошо, если бы капсула не жадничала, а влила в меня граммов триста водки и дала расслабиться по-человечески. Капсула сердито зажужжала, когда я об этом подумал. – Ну хоть стакан, железка проклятая! – подумал я с озлоблением. Капсула снова зажужжала, но на этот раз жужжание было уже вроде бы как одобрительного тембра. Вскоре я почувствовал внутри себя просимый стакан, обмяк и окончательно расслабился. Мне стало совсем хорошо, рычаги перестали беспокоить, и я незаметно задремал, а затем отключился намертво. Очнулся я от того, что мне в лицо ударил яркий свет. Я лежал в таком же контейнере, в котором нас отвозили в капсулу. Надо мной показалось бледное маскообразное лицо, и бестелесный голос произнес: – Пожалуйста, просыпайтесь и выходите из контейнера. Я легко поднялся и выбрался наружу. Чувствовал я себя просто великолепно, как будто был месяц на курорте и вел там исключительно здоровый образ жизни. Я быстро осмотрел себя: ни синяков, ни ссадин не было в помине. Есть не хотелось. Одежда на мне выглядела так, как будто она побывала в хорошей стирке или химчистке. Валера уже стоял рядом с транспортером и тоже удивленно оглядывал себя. Наш провожатый подошел к большой двери и прижал свой жетон к считывателю. Дверь плавно ушла вверх. – Заходите, Рафаэль Надсонович уже ждет Вас. Я буду ожидать Вас здесь, в коридоре – сказал наш постбиологический провожатый. Мы с Валерой одновременно вошли в дверь, которая плавно вернулась на место. Мы огляделись вокруг и обомлели. Нам показалось, что мы попали в кабинет Ленина в Смольном. Обстановка, так сказать, знакомая с детства по картинам и музеям. Стол, стулья, диван, старинный телефон. Но тот, кто сидел за столом, заставил нас обомлеть окончательно. Лысый человек поднял голову от каких-то бумаг и бодро сказал, мягко грассируя: – Пгоходите, пгоходите, молодые люди, гаспологайтесь. Чегтовски гад Вас видеть у себя в кабинете. Сто лет не видел живых людей. Да и сейчас было очень непгосто выкгоить вгемя. Вы знаете, даже здесь в этом цагстве мегтвых полно сгочных, агхиважных дел, вопгосов, которых кгоме меня, никто не может гешить. Садитесь вот сюда, на диванчик, или на стулья, как Вам удобнее. Я действительно гад, ужасно гад Вас видеть! – Здравствуйте, Владимир Ильич! – хором сказали мы с Валерой, не сговариваясь. – Вы живы? – Разумеется, нет, – ответил человек с лицом, удивительно похожим на мертвое лицо вождя мирового пролетариата, которое я видел в Мавзолее. Неожиданно вождь перестал грассировать и сменил интонацию: – В системе нет живых людей. Единственное исключение – это Вы, но и то ненадолго. Кроме того, я не совсем Владимир Ильич, я его сегодняшнее воплощение. – В каком смысле, воплощение? – спросил Валера. – Сейчас я расскажу Вам по порядку. Родители назвали меня Яков. Отца звали Нохум-Бэр. А меня записали в метрики Яковом Наумовичем. С этим именем я прожил всю свою юность, пока по дурости не вступил в РСДРП и не стал двойником Владимира Ильича. Я был похож на него как брат-близнец. Товарищи по партии это заметили, и от некоторых из них поступили соответствующие предложения. Вот так я стал двойником Владимира Ильича. Я всегда подменял его, когда надо было выступать перед народом или принимать ходоков, короче, когда охрана не могла обеспечить безопасность вождя. И я, знаете ли, неплохо справлялся. Кроме того, мне везло. Самым скверным приключением в роли вождя для меня было ввертывание лампочки Ильича в деревне Кокушкино. Лампочка тут же перегорела и лопнула, и раздосадованные крестьяне меня сильно побили и изваляли в свинячьем навозе. Владимир Ильич очень смеялся, слушая мой рассказ, но мне тогда было совсем не до смеха. – А как же Фанни Каплан? – спросил я. – Фанечка промахнулась. Разумеется, намеренно. Она же знала, что это буду я! Свои люди у эсеров вовремя предупредили. Фанечка очень ревновала меня к Владимиру Ильичу. А я его – к Инессе Арманд. Боже, какая это была женщина! Однажды она приняла меня за него… Но Фанечка – еще и мой дгуг Когда я не сильно занят, я пгиглашаю ее в гости, и мы пгинимаем электгосмех и электгооггазм с ней вдвоем. Знаете ли, дегжимся за руки, вместе смеемся, вместе кончаем, вспоминаем дни нашей геволюционной молодости, Владимига Ильича, штугм Зимнего… Иногда мы вместе принимаем электрошок, слушаем Аппассионату, держим друг друга за руки, вместе скорбим и мучаемся от боли, переживаем, вспоминаем трагические дни революции, погибших товарищей. Бывает, мы приглашаем в гости некоторых из них, если только они не заняты несением службы по своему ярусу. – Кого это – погибших приглашаете? – удивился Валера. – Да-да, конечно! Это же так романтично! Понимаете, их воспоминания о революции обрываются в день их трагической гибели, а мы рассказываем им, что происходило дальше. Для них зто – как роман с продолжением. Представьте, многие из них слушают нас с интересом. Правда, других это уже мало волнует, они теперь больше озабочены проблемами системы, порядками на ярусе. Тоже, знаете ли, дел хватает! – А почему Вас называют Рафаэль Надсонович? – спросил я. – Это все Владимир Ильич! Такой был проказник, такой противный шалунишка! Вы знаете, я любил его, не как вождя, и даже не как человека. Я любил его как мужчину. И вот как-то, держа его в своих объятиях, в пылу любви я признался ему, что обожаю картины Рафаэля и стихи Надсона. С тех пор Владимир Ильич меня никогда иначе и не звал. Он сделал это имя и отчество моей партийной кличкой. Он тоже по-своему меня очень любил. Хотя один раз хотел расстрелять. Ему вдруг почему-то показалось, что я изменяю ему с Дзержинским. Однажды Владимир Ильич пошутил, что когда-нибудь я буду выполнять последнее и самое важное задание партии – лежать вместо него в мавзолее, который когда-нибудь построят. Ой, он был такой шалунишка, такой озорник!.. Мы тогда очень смеялись, а вот представьте себе – ведь так оно и вышло! – Рафаэль Надсонович, – сказал Валера, – если Вы находитесь здесь, то кто же тогда лежит в Мавзолее? Вы же не можете быть одновременно в двух местах. – Конечно, не могу. В Мавзолее сейчас лежит постбиологический препарат, полученный из тела Владимира Ильича и дополненный фрагментами тканей, взятыми от других тел. Правда, у этого препарата почти отсутствует сознание. Ведь как Вы знаете, Владимир Ильич умер, уже потеряв речь, в состоянии полного слабоумия. Перед смертью он мог только слабо шевелиться, пускать слюни и мычать «Наденька». К сожалению, именно это состояние сознания и зафиксировалось в постбиологическом препарате, добиться большего нам не удалось. Зато теперь там лежит, так сказать, подлинник, первоисточник живого марксистско-ленинского духа. Но тем не менее, было время, когда на этом самом месте лежал я… – А как? То есть, почему, зачем? – Да очень просто. Я уже говорил, что болезнь было очень тяжелой и разрушительной, и когда Владимир Ильич умер в Горках в двадцать четвертом году, его тело в результате болезни было в таком жутком состоянии, что не годилось ни на препарат, ни уж тем более, на витрину самого важного магазина в стране. И тут Лев Давыдович вспомнил про меня. – Троцкий? – Ну да, он, кто же еще! Этот ёбаный Розенфельд! Конечно, чего проще – поймать Яшку Шмульдерсона, придушить, замариновать и выставить в Мавзолее! И придумывать ничего не надо. Что тут поделаешь? Я даже и прятаться не стал – все равно бы нашли. Так что я пошел на смерть сам и умер вслед за своим любимым императором, как китайская конкубина. – И кто же Вас оживил, Рафаэль Надсонович? – Меня не оживили. Я по-прежнему мертв. Мне вернули сознание. Получилось это совершенно случайно. То есть, абсолютно непреднамеренно. Моим телом занималась группа выдающегося биохимика Б.И.Збарского. Они работали с моим телом длительное время, изменяли параметры, ставили тысячи опытов. Одновременно шли работы по автономизации НИИ Мавзолея. Советское правительство отпускало на это огромные средства, поэтому на Мавзолее поднялась вся советская биохимия, биофизика и экспериментальная физиология. Затем были образованы секретные отделы. К тому времени я уже обладал сознанием и мог двигаться, но я лежал тихо, как мышка, и тщательно это скрывал. Сам Владимир Ильич, знаете ли, учил меня конспирации. У меня была великолепная память и при жизни, а после постбиологического пробуждения она стала абсолютной, эйдетической. Я слушал и впитывал знания, не подавая виду, что я могу видеть, слышать и двигаться. Таким образом, за несколько лет я выучил всю технологию и шаг за шагом узнал всё расположение системы. Я знал, даже, где находятся трупы политзаключенных, которые доставлялись туда для экспериментов. По ночам я потихоньку вставал и «оживлял» их тела в своей капсуле, а затем инструктировал их, как себя надо вести. Ведь мой стеклянный саркофаг, изготовленный командой Збарского, был прообразом современной капсулы, которую потом создал наш инженер Майк Стьюти. Редкий талант, эдакий матерый человечище! Но это было уже намного позже. А тогда по ночам я беззвучно метался по Мавзолею, как тень, и у меня в голове уже был четкий план, как использовать его автономию и превратить его в полностью автономную систему. Для этого надо было убить всех служащих и затем оживить их в капсуле. Никто даже не подозревал, что я могу ходить, видеть, слышать, держать в руках удавку и нож. Кстати, Вы любите корриду? Так вот, знаете, кто в ней самый главный? Это не матадор, не пикадор, даже не бык, а маленький невзрачный человечек, которого называют пунтиллеро. Он не делает ничего напоказ. Он подходит к быку незаметно и убивает быстро, как молния. Я стал таким невидимым пунтиллеро в своем Мавзолее. Медленно и верно я завалил всех быков в системе, а затем оживлял их в капсуле и включал в мою команду. В качестве постбиологических существ все они подчинялись мне беспрекословно. Когда все игроки в системе Мавзолея перешли в мою команду, я издал первый протокол, по образцу ленинских декретов. И этот протокол гласил:
Пунтиллятор Шмульдерсона отделяется от Советского государства и становится полностью автономной системой. Отныне в нем больше никого не убивают,
потому что в нем больше некого убивать.
Вот так и получилось, что я в шутку назвал нашу систему Пунтиллятором. Шуточное название неожиданно прижилось. Система с тех пор разрослась просто неимоверно. Десятки тысяч филиалов, каждый состоит из тысяч ярусов, секций и блоков, не считая складов и рабочих полигонов. Наши физики перенесли систему из Москвы в какую-то межвременную дыру и оставили снаружи только заборники трупов – ЦПТ, по которым в систему продолжают поступать мертвые тела. – А зачем Вам это надо? – спросил Валера. – Как зачем? Вы что, смеетесь? Должен же я как-то исправлять то, что напортачил Владимир Ильич! Он обещал всему народу рай при жизни, а сам умер от сифилиса, оставив мне расхлебывать все свое говно! А я лежал в Мавзолее много лет и такого от народа наслушался! Что только обо мне не говорили, как только не обзывали. Козел и педераст – это еще самые безобидные слова! Я, в отличие от Владимира Ильича, никому ничего не обещал, но я пытаюсь обеспечить всем, кому имею возможность, приличное существование после смерти. – А Вы уверены, что Вы идете правильным путем? – спросил я. – Владимир Ильич вот пошел другим путем, а в результате пришел не туда. Не нравится мне тут всё у Вас, если честно. Вымороченное существование. Всё искусственное, жуткое какое-то, мертвечина сплошная. Я бы лучше навсегда умер, чем вот так очнуться, Вы уж меня простите за прямоту! – Вы знаете, батенька мой, спасибо Вам за Вашу замечательную, агхичестную кгитику! Что-то подобное я и ожидал от Вас услышать. Мы все тут, конечно, немножко пготухли. Но только я Вам сейчас в два счета докажу, что вся земная жизнь ничего не стоит, и настоящая жизнь начинается только после смегти. Во-пегвых, об этом же говорил Хгистос, имея в виду цагствие небесное, газве не так? Только где оно, это цагствие небесное, поди его поищи! А Пунтиллятог Шмульдегсона – вот он! Можно потгогать гуками. Готов к пгиему неогганиченного количества умегших. А умегшим, батенька мой, совегшенно все гавно, кто их поселит в гаю и даст их душам благодать – Иисус Хгистос, или добгый дедушка Ленин, или Яков Шмульдегсон! – Хорошо, а Вы уверены в том, что сознание этих людей действительно восстанавливается? Может быть, после смерти сознание пропадает, а то, что Вы восстанавливаете у ваших трупов, не имеет к этому сознанию никакого отношения? – спросил я. – Как это, не имеет? Восстановленная память хранит всю информацию обо всей предшествующей жизни, наши клиенты вспоминают даже то, что не могли припомнить, будучи живыми. – Вот это и настораживает. – сказал Валера. – Ведь даже если они все вспоминают, то нет никакой гарантии, что все это вспоминают
именно они, а не
кто-то другой, искусственно образованный. В том смысле, что человек умер и навеки провалился в черную дыру, в небытие, а
то, что Вы восстановили– оно думает, ходит, вспоминает, оно как бы выходит из той же точки, в которую вошел тот, кто умер, но
оно не есть тот, кто умер. Тот, кто умер, тот умер навеки, и его сознание обрывается навек в этой точке, а затем из этой точки выходит чье-то совсем другое сознание. Вы понимаете, о чем я говорю? – Ну, полноте, батенька мой, я Вас прекрасно понимаю. Но ведь я не чувствую себя так, что я только что вышел из этой самой точки в момент постбиологического пробуждения. Я
точно все помню, что было
до того. Я возразил: – Конечно, Вы все помните, потому что тот, живой человек оставил Вам всю свою память. Но все Ваши слова и ощущения не могут доказать нам наверняка, что чувствует сейчас тот живой человек, которым вы были до своей смерти и постбиологического пробуждения. Может быть, он действительно сейчас чувствует то, что чувствуете Вы, то есть может быть,
это Вы и есть, а может и
нет. Может быть он так и провалился в небытие. Или может быть его сознание перешло еще куда-то, куда мы не знаем. – Мы ведь только видим Вас и слышим Ваши слова, Рафаэль Надсонович – добавил Валера – Но каким образом то, что мы видим и слышим, может доказать, что сознание того прежнего Шмульдерсона не умерло, а вместо него не возникло новое сознание? Этого проверить никак нельзя. – Почему же? Вы можете это проверить
на себе лично. – Мы бы предпочли этого не делать, – ответил я. – Ну нельзя быть такими неверущими! Вот смотрите, когда Вам делают операцию под глубоким наркозом, и Вы приходите в себя, то это же все равно Вы. Ведь и в этом случае тоже есть точка входа и точка выхода, и течение Вашего сознания полностью прерывается. Но вы ведь не сомневаетесь, придя в себя, что это Ваше сознание, а не какое-то новое сознание, хотя за это время Ваше сознание вполне могло улететь в эту самую черную дыру, а потом, согласно Вашей теории, могло возникнуть что-то другое. Но ведь это не так, правда? После наркоза и полного перерыва в течении мыслей и ощущений, это же все равно Вы, это
вашесознание. Так почему после биологической смерти и последующей постбиологической регенерации сознания все должно быть иначе? Откуда у Вас такая уверенность? У меня и вправду не было такой уверенности, все выглядело весьма логично, и я обескураженно замолчал. – Лично я считаю, – продолжал теоретик и основоположник загробной жизни, – что вся жизнь есть не что иное как подготовка к бессмертному будущему в Пунтилляторе Шмульдерсона, и в этом заключается весь смысл жизни. Должны же откуда-то браться трупы! Сами понимаете, трупы на деревьях не растут. Труп должен родиться живым, вырасти, поумнеть, набраться жизненного опыта. С появлением нашей системы человечество в корне изменилось. Отныне человек рождается для вечности. А иначе зачем вообще рождаться на свет, набираться опыта? Чтобы однажды все это сгнило? Только Пунтиллятор Шмульдерсона придает человеческому существованию его конечный, великий и вечный смысл! Человек с лицом вождя мирового пролетариата встал из-за стола и прошелся по кабинету, потирая руки: – Вы знаете, молодые люди, я пожалуй, расскажу Вам поподробнее, как все происходило. Я сперва хотел бы вам напомнить некоторые вещи, которые должны натолкнуть вас на кое-какие интересные догадки. Помните, в каких годах происходили массовые сталинские репрессии? – В тридцать седьмом. А еще в пятьдесят третьем, – ответил я. – Правильно! Именно так. Вы помните про странную привычку товарища Сталина не спать по ночам? Тогда целые министерства не спали, все большие начальники, которые хоть немного были на виду, должны были быть готовы к неожиданному звонку. Вам эта странность ни о чем говорит? – Да нет пока, – ответил Валера. – Хорошо. Тогда слушайте дальше. Когда наши физики перенесли систему в межвременную зону или как там они ее называют, они, воплощая мою идею, также построили систему ЦПТ, то есть центральных посмерных телепортаторов, по одному на каждый ярус. Каким-то образом они добились того, что как только на Земле умирает человек, его труп немедленно оказывается в приемном шлюзе одного из ЦПТ, и при этом тот же самый труп остается на Земле. Так что люди там, на Земле, абсолютно ничего не замечают. Наши физики называют этот процесс с образованием копии трупа ядерно-магнитным клонированием или как-то так, в технические детали я уже не вникаю. Недавно наш ученый Гарольд Брэкстон построил трубопровод, который может перемещать не только трупы, а в принципе, любой объект. Просто перемещать, а не копировать. В порядке эксперимента я разрешил им засосать в трубопровод разводной ключ, из павильона, арендованного нашими агентами для лаборатории Брэкстона. Брэкстон сказал, что защитил заборник трубопровода от проникновения случайных объектов полуторакилометровым тоннелем. Вы не поленились пройти весь этот тоннель и свалились в заборник трубопровода. Впрочем, вернемся к моему рассказу. Как теперь всем известно, Коба, как и Старик, в средствах не стеснялся, и когда надо было кого-то шлёпнуть для пользы дела, сомнений не возникало. Коба всегда говаривал: «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы». И отстреливал, не стесняясь, всякую сволочь. Только Вы понимаете, молодые люди, Вы поймите меня правильно: как только у Кобы становилось на одну проблему меньше, так у меня немедленно становилось на одну проблему больше. Ведь я – человек с гуманистическими идеалами, и в моей системе в постбиологическом пробуждении не отказали еще ни одному трупу. Это наш святой и незыблемый принцип. Но когда к тебе сплошным потоком поступают трупы подлецов, отщепенцев, бессовестных негодяев, шпионов, антиобщественных элементов, заговорщиков, стяжателей, шантажистов, мошенников, казнокрадов, наконец просто бандитов, и всех их надо включать в нормальное рабочее существование – это почти что форсмажорная ситуация. Понимаете, принять такое количество человеческого отребья было для нас чрезвычайно тяжело. Это ставило под угрозу существование системы. А отказываться от дальнейшего приёма трупов, не пробуждать их – это было бы еще гораздо хуже, потому что это ставило под удар саму цель системы, ее основные идеалы. И я нашел блестящий выход, то есть, что надо делать, чтобы сохранить нашу систему. Необходимо было обуздать Кобу и заставить его делиться с нами не только всякой сволочью, но и
хорошими людьми. Коба довольно часто заглядывал в Мавзолей. К тому времени в саркофаге уже лежало настоящее тело Ильича, которое мы нашли в одном из подвалов и тщательно отреставрировали. Но иногда я подменял его на его посту в саркофаге. Хотелось послушать, что говорит народ. Я и сейчас довольно часто это делаю. – Рафаэль Надсонович, Вы же сказали, что систему перетащили куда-то в тартарары, откуда на Землю выход заказан – сказал Валера. – Именно так. Еще не хватало, чтобы мои живые мертвецы стали разгуливать по Москве. Выход им заказан, причём заказан крепко и навсегда. Из системы выход заказан всем, кроме меня и моих специальных агентов. И выходят они через мой Мавзолей. Я попросил физиков перенести систему так, чтобы из нее можно было попасть в Мавзолей прямо через дверь. И они мне это сделали. Эта дверь находится здесь, в моем кабинете, и я иногда ей пользуюсь. Но я Вам рассказывал совсем о другом. Так вот, у Кобы была замечательная привычка заходить иногда в Мавзолей проведать своего старого соратника, посидеть рядом с саркогфагом, покурить трубку. В такие моменты все оставляли его одного, и даже охрана ждала снаружи. И вот однажды я взял с собой одного из своих людей с похожей фигурой и прической, одетого в такой же китель и велел стоять наготове. Иосиф Виссарионович, как всегда, сидел рядом с саркофагом, курил трубку и думал о своем. И вот тут-то я его и подкараулил. Я чуть-чуть приоткрыл крышку, высунул руку из саркофага, а в руке у меня был маленький шприц с цианистым калием. Я ведь был профессиональным пунтиллеро, Вы помните. Товарищ Сталин умер мгновенно. Вместо него к моему саркофагу сел мой загримированный агент, а товарища Сталина унесли вниз другие мои люди. – А почему не через ЦПТ? – спросил я. – Труп поступил и через ЦПТ, само собой. Но ведь нужно было убрать труп с места убийства, правильно? – Логично, – сказал Валера. – И какой же труп вам пришлось потом уничтожить – настоящий или копию? – А зачем уничтожать? Я Вам уже говорил, мы еще никому не отказывали в постбиологическом пробуждении. Мы провели через процесс регенерации оба трупа, так что у нас в системе благополучно существуют два товарища Сталина. Я могу позвонить, и сюда приведут сразу обоих. Мы можем пообщаться впятером. Оба они в курсе последних событий в посткоммунистической России, и представьте себе, у них совершенно разная оценка этих событий и разные мнения. Так что, привести, пообщаемся вместе? – Да нет, спасибо, – ответил Валера. – Нам бы скорее выбраться отсюда, Рафаэль Надсонович! – Ну хорошо, только уж не откажите мне в любезности, дослушайте сперва мой рассказ. Так вот, все это случилось как раз в тридцать седьмом году. Никто ничего ровным счетом не заметил, и любимый всеми товарищ Сталин продолжал свое правление страной уже в качестве постбиологического существа. Мне, с помощью моих ученых-некропсихологов, пришлось хорошенько внушить Кобе, каких именно людей мы желаем видеть у себя в системе, и результат не замедлил сказаться. Коба даже немного переусердствовал с этими лагерями и так далее. Но результат был поистине блестящий. Какие замечательные люди поступали к нам через ЦПТ в те годы! Ленинская гвардия, великолепные организаторы, люди кристальной и благородной души, талантища к нам перли сплошным потоком. Это была плеяда гениев. Было с кем работать! В те годы Пунтиллятор вырос, появились тысячи новых филиалов с тысячами секторов. Лагеря работали на полную мощь, так что эти сектора было кем заполнять. Коба делал своё дело, а вернее,
нашедело, как надо! Трудился круглые сутки, ведь постбиологические существа не спят. Теперь поняли, к чему я клонил, когда спрашивал, знаете ли Вы о странной привычке товарища Сталина не спать по ночам? – Рафаэль Надсонович! Вы! Вы… – Валера покраснел и задохнулся от обуревавших его чувств. – Вы просто чудовище!! – Вовсе нет! – ответил главный архитектор системы – Если хотите знать, я – великий гуманист. Чудовищем был мой двойник. Коба был чудовищем. Коба страшно боялся, что я посажу вместо него в Кремль Троцкого. Я много раз объяснял Кобе, чтобы он успокоился, что в роли главы Коммунистической партии и Советского государства меня гораздо больше устраивает мертвый Сталин, чем живой Троцкий. Коба при всех своих недостатках был гораздо большим реалистом и практиком. У Троцкого в жизни главной была идея, а решать ее он был готов просто на ура. Я объяснил это Кобе, и он сделал вид, что мне поверил. Конечно, он знал про систему ЦПТ, знал многое другое, и он сумел обмануть систему. У Кобы в Мексике была своя сеть, они следили за каждым шагом Троцкого, зачем-то убили в Лондоне его сына. А самого Троцкого они могли отравить в любую минуту. Но Кобе не нужен был не только живой, но и постбиологический конкурент. Он хотел избавиться от Троцкого навсегда. Это было у него как паранойя. И он таки додумался, как обмануть ЦПТ простейшим способом. – Так что, оказывается Меркадер именно поэтому и убил его теодолитом? – спросил Валера. – Не теодолитом, молодой человек, а альпенштоком. Пробил голову и выковырял половину мозгов, прежде чем наступила смерть. Разумеется, после смерти ЦПТ переправил к нам его безмозглое тело, которое уже не годилось для регенерации сознания. – И чего он этим добился? – спросил я. – Да ровным счетом ничего, о чем я много раз ему говорил. После того как Коба выполнил свою задачу, и Пунтиллятор получил требуемое количество трупов хороших людей, ему было приказано инсценировать смерть и возвращаться в Пунтиллятор. Коба вернулся в систему в пятьдесят третьем году, но упросил меня построить ему саркофаг рядом с ним. Я был очень благодарен ему за последний подарок в виде трупов тех, кто погиб в давке на его похоронах – это всё тоже были хорошие, преданные люди. И я отдал необходимые распоряжения своим земным агентам. Несколько лет мы лежали с ним рядом – я тогда часто подменял Владимира Ильича, чтобы быть в курсе земных дел. Но Коба оказался недисциплинированным товарищем. Несколько раз он порывался встать, когда ему не нравились высказывания посетителей. Я с трудом смог его удержать. И вы знаете, все, что я рассказывал про Кобу – это был рассказ про тот самый экземпляр, который притащили из Мавзолея. У него процесс регенерации почему-то так и не истребил до конца врожденных недостатков характера. А вот тот, который прошел через ЦПТ – совсем другой человек, организованный, дисциплинированный, все это время активно руководил работами по организации новых филиалов. Наши некропсихологи продолжают изучать этот феномен. Кстати, именно он спас положение зимой сорок первого года, когда фашисты подходили к Москве. Это был единственный в истории системы случай, когда я разрешил постбиологическим существам взять в руки оружие и сражаться с живыми людьми. Пользуясь своим личным авторитетом, Иосиф Виссарионович, я имею в виду того, который прошел через ЦПТ, собрал и организовал прекрасное ополчение из рядового и офицерского состава, погибшего на фронтах с июня и по декабрь. Наши инженеры вооружили их, и они по ночам выходили из Мавзолея и дислоцировались вокруг Москвы. Вот вам настоящая правда о зимнем наступлении под Москвой в сорок первом году. Мы сами создали и поддерживали эту версию о таинственных сибирских дивизиях. На самом деле, никакой переброски войск из Сибири не было и в помине. Если бы их действительно перебросили из Сибири, японцы устроили бы на Дальнем востоке такое, что Пирл-Харбор показался бы детской игрушкой. Конечно, я помог Москве вовсе не из любви к большевикам, а чтобы сохранить в их руках Мавзолей. Ведь если Гитлер занял бы Москву, он бы ее уничтожил вместе с Мавзолеем, и у меня возникли бы большие проблемы со связью с Землей. Поймите наконец, молодые люди, я – вовсе не чудовище. Я даю людям если не жизнь вечную, то по крайней мере, вечное существование, причем довольно комфортное существование. Кроме того, мы теперь уже не нуждаемся в усиленном притоке трупов. Теперь у нас все – сугубо добровольно. Но представьте себе, у меня есть свои последователи из числа нынешних неокоммунистов. Они мне верят, и таких людей довольно много. Уж они-то наверняка знают, куда именно они попадут после смерти, и вполне этим счастливы. Вот, можете посмотреть. Рафаэль Надсонович подошел к одной из стен и нажал хитро замаскированную кнопку. Стена раздвинулась, и за ней обнаружился огромный, чуть ли не во всю стену экран. Рафаэль Надсонович пробежался пальцами по пульту, и на экране возникло помещение, напоминающее сельский дом культуры. Большой зал, на стене портрет Ленина, а под портретом, как водится, цитаты. Я прочитал:
Только потеряв жизнь, человек может найти ее настоящий смысл.
В.И.Ленин, «Одной ногой там – двумя ногами здесь».
«По-настоящему мертвый человек никогда не захочет снова стать живым».
В.И.Ленин, «Психология мертвого пролетария».
Зал был набит народом до отказа. Все дружно и воодушевленно аплодировали. Затем народ встал со стульев и устроил настоящую овацию, и под эту овацию на сцену вышел Ленин, то есть конечно, Рафаэль Надсонович. Выйдя на сцену, он выждал, пока затихнут аплодисменты, сделав поистине ленинскую паузу, а затем по-ленински поднял руку и патетически произнес: – Товагищи! Ггаждане! Дгузья! Вся ценность человеческой жизни заключается в том, чтобы человек в конце концов умег, и его тгуп попал в Пунтиллятог Шмульдегсона. А сама по себе жизнь никакой ценности из себя не пгедставляет, потому что без нашей замечательной системы она только загаживает планету тгупами и отходами жизнедеятельности, с котогыми уже давно пегестала спгавляться планетагная экология! Поэтому Пунтиллятог Шмульдегсона – это есть единственно вегный путь газвития для мигового пголетагиата! Люди в зале в едином порыве вскочили со своих мест и устроили такую овацию, что наверно, отбили себе все ладони и сорвали голос. Наконец овация поутихла, и вождя сменила на трибуне дородная дюжая баба: – Дорогие товарищи! Я как доярка передового колхоза «Заветы Рафаэля Надсоновича» и беззаветно преданная Ленинским идеям, скажу Вам, дорогие мои друзья: все мы знаем, что Ленин и Шмульдерсон – близнецы братья, и поэтому наша с Вами задача как коммунистов и революционеров – это не только сознательно и организованно попасть самим в Пунтиллятор Шмульдерсона, но и захватить с собой как можно больше народа, христиане они, или мусульмане, или даже евреи. Счастье в загробной жизни заслужил весь пролетариат!!! Поможем ему обрести это счастье! Ура!!! – Ура!! Браво!!! – раздались крики из зала. Люди в зале вновь поднялись с мест и воодушевленно запели нестройными голосами:
Смело мы все уйдем
С этого света,
Умрем, но не умрем –
Мы знаем это!
Рафаэль Надсонович щелкнул пультом, и экран погас, а затем стена вновь сошлась. – Вот видите, воленс-ноленс мне приходится продолжать свою карьеру двойника. Для них я по-прежнему вождь и учитель. Эти люди к новым русским на поклон не пойдут. Скорее, они заберут их с собой, ко мне. А мы их перевоспитаем. Пролетариат способен перевоспитать любого. – Рафаэль Надсонович, а почему вы говорите «пролетариат»? – запоздало удивился я. – Ведь с тех пор все поменялось, и пролетариат уже не является тем, чем он был раньше, да и мнения по поводу его роли сильно изменились. – Именно так. И мое мнение тоже кардинально изменилось. Говоря «пролетариат», я больше не имею в виду промышленных рабочих, а имею в виду всех людей без исключения, в том смысле, что они пролетают сквозь жизнь прямиком в Пунтиллятор Шмульдерсона. Понимаете, жизнь человеческая коротка. Образно выражаясь, можно сказать, что жизнь – это труба с родильным домом на одном конце, и Пунтиллятором Шмульдерсона – на другом. И все люди без исключения пролетают в эту трубу, и именно в этом смысле все они – пролетарии. Так что, старый термин, ласкающий уши народных масс, приобрел совсем новое звучание, новый смысл. Я никогда не отрывался от масс, даже в те годы, когда я лежал вот в этом месте… – тут вождь загробного мира показал рукой на какой-то большой макет, находящийся под стеклом в дальней части просторного кабинета. Макет показался мне странно знакомым. Мы с Валерой подошли поближе и стали его рассматривать. Под стеклом находился фрагмент кремлевской стены с Мавзолеем Ленина, все было сделано один к одному – вход, трибуна, гранитные плиты, за одним только исключением. Сверху над Мавзолеем подозрительно торчала большая неприятная труба, напоминавшая своим мрачным видом про Освенцим и Бухенвальд. – А что это за труба над Мавзолеем? – Ага, уже заметили! – сказал Шмульдерсон, подойдя к нам поближе и потирая руки – Это самая главная труба в моем Мавзолее –
труба крематория. Я уже вам рассказывал, что в поисках оптимального метода консервации трупов, наша группа биохимиков проводила множество опытов с трупами, многие из которых поступали в ведение НИИ Мавзолея еще живыми людьми. Это сейчас у нас в Пунтилляторе безотходное производство, и в дело идет абсолютно все. А тогда трупы просто сжигались в печи крематория. В свое время большая группа физиков-оптиков и не меньшая группа архитекторов были привлечены к разработке такой системы зеркал, чтобы труба крематория не была видна над Мавзолеем. Когда они изготовили нужную систему зеркал, их выпустили из Мавзолея через эту самую трубу, которую они сделали невидимой. Туда же отправили и рабочих, которые проводили монтаж сооружения. Особисты скоренько побросали их в печь живьем, и поэтому их трупы были потеряны для Пунтиллятора. Такая вот печальная история. Их сознание, данное им для вечности, сгорело вместе с их телами. Зато у Вас, молодые люди, с телами все в порядке, поэтому я думаю, что разумнее всего для Вас будет остаться у нас в Пунтилляторе навсегда… Я думаю, мы с вами решим этот вопрос очень просто …вуаля! Тут у Рафаэля Надсоновича неожиданно появился в руке маленький шприц, и его рука метнулась к Валериному плечу как жалящая кобра. Валеру спасла только бдительность человека, несколько лет подряд рисковавшего жизнью каждый день. Ну и конечно, реакция бывшего афганца и командира разведроты. Валера моментально поставил блок и отвел жалящую руку, а другой рукой провел мощный апперкот в челюсть любимого двойника вождя мирового пролетариата. Рафаэль Надсонович взмахнул руками как крыльями и отлетел прямо на макет. Падая на спину, он с силой разбил стекло и упал прямо на трубу, которая пронзила его насквозь, воткнувшись в спину и выйдя из живота. Шприц выпал из руки Рафаэля Надсоновича, а сам он, насаженный на трубу, весь в стеклянных осколках, дико дрыгал руками и ногами и уже не говорил, а шипел: – Молодые люди, все равно у Вас ничего не выйдет. Вам от меня никуда не деться. Даже если вы сейчас уйдете через Мавзолей, вы же все равно когда-нибудь умрете и попадете назад в систему, только в гораздо худшем состоянии. Я не испытываю к Вам никаких враждебных чувств, наоборот Вы мне так понравились, что мне не захотелось с Вами надолго разлучаться. Я хотел все быстро сделать, так чтобы Вы даже испугаться не успели. Ведь я профессиональный пунтиллеро!.. – Валера, тут где-то должен быть выход в Мавзолей, давай искать его скорее! – я раздавил шприц ногой, и от него пахнуло горьким миндалём. Я для верности изо всей силы ударил Рафаэля Надсоновича каблуком в лоб, чтобы он не позвал на помощь своих живых мертвецов. В шее у нее что-то хруснуло, и он затих, повиснув на трубе макета своего Мавзолея, как кузнечик, надетый на соломинку. Мы лихорадочно обшарили кабинет. Никаких дверей не было, кроме той, в которую мы вошли. В отчаянии я заглянул в старинный шкаф и неожиданно увидел в нем небольшую металлическую дверь. – Валера, скорее сюда! Дверь здесь! Я надавил на ручку, и дверь открылась, обнаружив крутую металлическую лестницу, ведущую вверх. Мы с Валерой выбежали, закрыв за собой дверь шкафа, и помчались вверх по виткам темной лестницы, кое-как освещенной синими загробными лампочками. На самом верху лестница закончилась другой дверью, побольше чем была внизу, в Пунтилляторе. – Только бы не было закрыто на замок, – простонал Валера и осторожно нажал на дверную ручку. Дверь бесшумно открылась, обнаружив очередные ступеньки, ведущие вверх. Поднявшись по этим ступенькам, мы увидели, что находимся внутри Мавзолея. В освещенном мягким светом зале с торжественным убранством стоял на возвышении стеклянный саркофаг, а в нем находилось тело с хорошо знакомым восковым лицом. Я сперва даже подумал, что увидел Рафаэля Надсоновича, которого в данный момент, вероятно, снимали с трубы и везли в капсулу на долгую и тщательную рестандартизацию после полученных повреждений. Тело под стеклом не выглядело вполне мертвым: оно беспокойно ворочалось на своем просторном ложе и даже порывалось ползать. Вокруг стояла толпа новых русских, с мобилами и золотыми цепями, и они громко гомонили: – Смотри, Колян, за бабки картавый даже после смерти по гробу ползает. – Толик, прикинь! А давай его чисто вытащим и поставим повыше – пусть он речуху толкнёт. Я когда слышу его пиздёж, всегда уссываюсь! Типа: «Товаищи! Миовая еволюция победила! Уа, товаищи! Уа!». Ща я его сам вытащу, не хуя ему там ползать, мы не за это столько бабок заплатили. – Господа! Как представитель коммерческого отдела Мавзолея Владимира Ильича Ленина, я Вас уверяю, что тело пока обладает лишь набором двигательных функций, а речь восстановить пока не удалось. Но вы можете сняться рядом с саркофагом. Кроме того, еще за пятьсот долларов каждый из вас может залезть внутрь саркофага и сняться вместе с Владимиром Ильичом. Если среди вас есть, прошу прощения, гомосексуалисты, мы можем также раздеть тело вождя и тщательно подмыть. Вас могут при этом заснять на видеокамеру, а также сделать серию фотографий. Это обойдется вам в пять тысяч долларов. – Козёл, ты за базаром следи, а то и ответить придется! Если ты сам пидор – еби своего Ленина в жопу бесплатно! Ты понял? А нам за бабки покажи что-нибудь нормальное, чтобы все было по-пацански! Хули он у тебя ползает? Колян прав – пусть он или речуху толкнет про мировую революцию, или, бля, Интернационал споёт, или барыню спляшет. А так лежать не хуй, ползать мы и сами умеем! Бабки в натуре отрабатывать положено! Ты понял? – Постой, Вован, мне мысля пришла в голову. Я вот сейчас сам вместо сухофрукта туда лягу, а вы меня на Полароид снимете. Должно круто получиться! Колян, поигрывая массивной золотой цепью, подошел к саркофагу, легко поднял крышку огромной ручищей и замахнулся на тело вождя рыжим волосатым кулаком: – А ну пошел на хуй отсюда! Уступи место пацану! Тело вождя испуганно заморгало, поднялось на четвереньки и заметалось по саркофагу. Колян поймал его за обшлаг пиждака и рванул на себя, стараясь вытряхнуть из саркофага. Тело, едва ворочая языком, с усилием выговорило: – Наденька, дгужочек! Мне плохо! Товарищи Коляна радостно загомонили: – Ты глянь, ни хуя себе! Ах ты бля, козёл вонючий! А говоришь, он у тебя не разговаривает! Пиздишь, сука, как Троцкий! А ну, Колян, тряхни его еще разок, он щас и про мировую революцию загнёт. Валера неожиданно вышел из-за стены, за которой мы стояли, на открытое пространство и сказал: – Мужики, а ну быстро прекратили измываться над телом и съебали отсюда подальше! – Это кто так тявкает? Колян выпустил ленинский пиджак из руки, подошел к Валере и многообещающе сказал: – Сейчас я тебя, козёл, рядом с Лениным положу, – и лениво-злобно размахнулся кулаком. Валера легко поднырнул под кулак и нанес удар в переносицу, а затем всадил остро сложенные пальцы в горло противника. Тот мешком осел на пол, изо рта и из носа у него хлынула кровь. Толпа ринулась на нас с Валерой. Я увертывался от кулаков и ног, бил в чей-то пах, не стеснялся ударять пальцем в глаза и кажется сломал напрочь несколько чьих-то коленных чашечек. Валерины ноги летали как бабочки. Последнему из нападавших, вытащившему из кармана пистолет, Валера с хрустом свернул шею. Представитель коммерческого отдела в ужасе спрятался за саркофаг, наблюдая внезапно начавшуюся бойню. Валера достал его режущим ударом кулака в лицо, и тот с кудахтаньем сел на корточки: – Товарищи, пощадите! Осмотр тела вождя – это один из основных источников поступлений твердой валюты в партийную кассу. Геннадий Андреевич выкупил Мавзолей с расчетом поправить с его помощью финансовое положение Коммунистической партии и использовать полученные средства для финансирования своей избирательной кампании на выборах президента России! Умоляю, пощадите! – Матюша, подними крышку, я этого козла продажного туда засуну. Пусть он сам рядом с Лениным полежит. Коммерсант от Мавзолея взвизгнул и быстро пополз на четвереньках подальше от взбешенного Валеры. Валера сильно пнул ногой в голову одного из лежащих, который сделал попытку подняться: – Все, Матюша, пошли отсюда! Пускай тут менты порядок наводят. Или ребята Шмульдерсона. Кто раньше придет… Мы быстро вышли из Мавзолея на Красную площадь и пошли, не оглядываясь и не глядя вперед. Пришли мы в себя только у Александровского сада. Мои и Валерины часы показывали пол-одиннадцатого утра, но на улице уже вечерело. Впечатлений было столько, что говорить о чем либо по свежим следам было бесполезно. Мы помолчали. Валера задумчиво почесал затылок: – Как бы это сделать так, чтобы когда я умру, у меня рядом с головой взорвалась боевая граната? – А зачем, Валера? – Да неохота мне туда, к Шмульдерсону, понимаешь! – Граната тебе ничего не даст. ЦПТ тебя скопирует раньше, чем она взорвется, а пока ты живой, тебе нет смысла ее взрывать. Но ты не переживай – ты же всегда можешь отказаться от сознания, если тебе там у них не понравится. И потом, оно еще может, и не восстановится. Так что не переживай понапрасну. Помнишь, осёл говорил, что логики ни в чём нет, и что никто не знает, кому, зачем и что надо? А это значит, что все еще может как-то устаканится. Может быть этот Брэкстон нормальный мужик, а? Может, он когда-нибудь отберет у Шмульдерсона Пунтиллятор и сделает там более человеческое существование. – Матюша, ты что в самом деле? Еще и в Пунтилляторе революция? Потом там построят концлагеря для приверженцев Шмульдерсона, самых упрямых будут лишать сознания и разлагать на простые элементы, да? Устал я, Матюша от всей этой хуйни, как-то многовато ее вышло за один день. – Так, Валера, ты сам предложил поразвлекаться на собственный страх и риск. Вот и поразвлекались. А вообще, знаешь что? Прав был осёл, когда сказал, чтобы мы держались подальше от подозрительной трубы. А с другой стороны, куда ты от нее денешься. Сколько ни прячься, труба тебя всё равно найдет. А на другом конце у трубы – Пунтиллятор Шмульдерсона или еще какая-нибудь херня похуже. Только я думаю, что лучше всего об этом просто не думать, а постараться всё забыть, как будто ничего не было. Давай, Валера, всё это забудем, а? – Нет, Матюша! У меня мысль другая на этот счёт. Давай с тобой попробуем написать пьесу под названием «Подозрительная труба и Пунтиллятор Шмульдерсона». Пока мы будем ее писать, мы во всем разберемся, и тогда нам, может быть, станет чуток полегче. Правда, обидно будет, если никто не захочет ее поставить. Или, может быть, давай напишем сценарий для фильма! Тоже будет нормально. – Ты знаешь, Валера, со сценарием мне как-то даже больше нравится. – Эх, пивка бы сейчас холодненького, – помечтал Валера и облизнулся от жажды. Я сунул руку в карман и вспомнил, что там нет ничего кроме паскудной визитной карточки. Тем не менее, я вынул ее оттуда. Карточка увеличилась в размере, а бумага стала тоньше. На одной ее стороне была очень правдоподобно нарисована сторублевка, а на другой стороне почему-то была нарисована пятидесятирублевая купюра. Вот пакость! Мы подошли к пивному ларьку, и я небрежным жестом всучил странную ассигнацию продавцу. Тот принял ее, швырнув в кассу почти не глядя и дал сдачи как с сотни. Я попросил у продавца пластиковый пакет, сложил в него бутылки с Балтикой, и мы с Валерой уселись в сквере на лавочку. Я взял холодную запотевшую бутылку в руки: – Ты знаешь, Валера, что самое гадкое в трубе? – В какой конкретно трубе? – Да не конкретно, а вообще в трубе. – Что? – То, что в в трубе ничего не удерживается, и ее нельзя наполнить. Она всегда пустая. А в бутылке самое ценное то, что она иногда бывает полная – сказал я и отхлебнул глоток пива. – Я всегда думал, почему пиво принято пить медленно, врастяжку, а теперь знаю точно, – сказал Валера. – Ну и почему? – А потому что пока ты его медленно пьешь, ты думаешь про полную бутылку, и тебе
в это времяплевать на пустую трубу и на Пунтиллятор Шмульдерсона. – Знаешь что, Валера? Давай с тобой
никогдане вспоминать про Пунтиллятор Шмульдерсона,
когда мы пьем пиво! – Годится, Матюша! А давай про него
вообщене вспоминать! – Ну, вообше, пожалуй, не выйдет – задумчиво сказал я – но есть один
выход. – Какой? – поинтересовался Валера. – Давай просто
чаще пить пиво! Валера с наслаждением сделал несколько глотков, и с трудом оторвавшись от бутылки, изрек: – И мимо Мавзолея никогда не ходить. Я тоже отхлебнул как следует пивка, перевел дух и добавил: – И применять логику
только до определённой степени.
Потому что если ты попытаешься
применять логику до конца, то непременно провалишься в
подозрительную трубуи попадешь в
пунтиллятор Шмульдерсона.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|