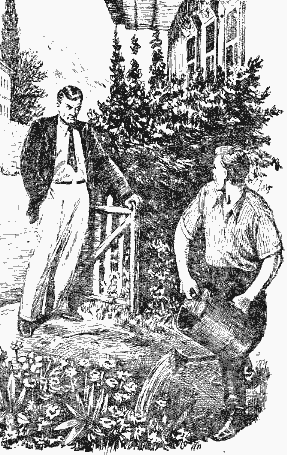…Услышав крик девушки, Колодочка в несколько скачков очутился около незнакомца. Стремительный удар по скуле отбросил субъекта в белых брюках шага на три в сторону. Затем Колодочка кинулся к девушке, приподнял бессильно запрокинувшуюся голову и голосом, в котором звучали тревога и нежность, позвал:
— Маруся! Голубка…
Девушка медленно открыла глаза, она с видимым трудом приходила в себя от потрясения. Губы разжались, и Колодочка услышал прерывистый топот:
— Вася… со мной — потом… его… его останови…
Эти несколько секунд позволили незнакомцу уйти от преследования. На четвереньках, с необыкновенным проворством он карабкался.
«Да, не хотел бы я попасть тебе под горячую руку!» — подумал Соболь, любуясь моряком. Колодочка, потомственный керченский рыбак, был чрезвычайно крепок и коренаст. Всем обликом своим — чистым, открытым русским лицом, могучей шеей, поднимающейся из разреза белоснежной форменки, широкими, чуть покатыми, литыми плечами, он напоминал Соболю молодого Добрыню Никитича. Старшина принадлежал к числу замечательных флотских силачей. Ударом кулака он забивал в деревянный стол положенную плашмя костяшку домино, скатывал меж ладоней в трубочку дюралевую тарелку, а недавно удивил весь флот, выбросив пятьсот с лишком раз двухпудовую гирю. В стенной газете базы торпедных катеров, где служил Колодочка, его изобразили в дружеском шарже выжимающим одной рукой торпедный катер. Впрочем, никому не пришло бы в голову видеть в нем какой-то феномен — рекорд его на другой день был перекрыт боцманом Смоляниновым. Колодочка являлся лишь одним из передовиков в богатырской семье флотских спортсменов, а спортом на флоте занимаются все. И это не был просто комок мускулов: Соболь обратил внимание на его правильную, выразительную, точную речь — говорил хорошо грамотный, культурный человек.
— Вы какое учебное заведение окончили, товарищ старшина второй статьи? — поинтересовался Соболь.
— В прошлом году экзамен сдал на аттестат зрелости, товарищ майор, — сообщил Колодочка. — А с осени заочно начинаю учиться в юридическом институте.
— Трудновато будет.
— Знаю, товарищ майор. Но привлекают меня гуманитарные науки.
Соболь подвинул стул.
— Да вы садитесь, товарищ старшина! Помнится, сказали вы, что находитесь сейчас в доме отдыха Черноморского флота?
— Так точно, товарищ майор!
— Мне все-таки не понятно, как же вы могли оказаться в пятом часу утра на пляже, в полутора километрах от дома отдыха?
Вопрос этот заметно смутил Колодочку, щеки его порозовели.
— Я, товарищ майор, после отбоя… гм… гм… когда огни погасили… оделся и ушел из дома отдыха. Гулял, товарищ майор.
— Один?
— Нет, товарищ майор.
— С кем же?
— А с ней же, товарищ майор, с Кулешовой Марьей Назаровной. Колхозница она, из селения Малый Маяк…
Колодочка поглядел в узкое, сухощавое лицо Соболя, прямо в серые глаза майора, на дне которых трепетала улыбка и, собравшись с духом, отрезал:
— Невеста моя, товарищ майор.
Майор потрепал каштановую прядь на лбу и улыбнулся. Ему стала ясна причина «самовольной отлучки» старшины.
— Рискованно она поступила! Подумала ли она о том, что этот тип, вероятно, вооружен?
— Не подумала, факт. Она ведь у меня, товарищ майор, ух! смелая!..
— Так вам не удалось догнать его?
Старшина сокрушенно вздохнул:
— Нет, товарищ майор, не догнал. Здорово бегает, собака!
…Колодочка гнался за неизвестным почти до самой Алушты, до места, где расходятся две дороги. Одна из них, шоссейная, образует здесь крутой поворот. Незнакомец бежал как призовой спринтер, слыша за собой ровное дыхание Колодочки, ему казалось, что оно уже жжет ему затылок. И здесь-то, на самом повороте, вывернулся и разделил их большой автобус. Пассажиры, пересевшие в него в Симферополе прямо с поезда, продолжали дремать за белыми занавесочками. А когда автобус прошел, незнакомца уже не было.
Колодочка метнулся в одну сторону — перед ним оказалась железная решетка сада, кинулся в другую — и уперся в белокаменную стену дачи. Преследуемый словно сквозь землю провалился.
Колодочка возвратился на место происшествия сердитый и сконфуженный. Было уже совсем светло. Подругу свою он нашел пришедшей в себя. Подняв тонкие девичьи руки, она оправляла волосы.
— Обидел он тебя? — спросил Колодочка, опускаясь на землю рядом.
— Нет, Вася, тут другое…
И она рассказала Колодочке, как, расставшись с ним, заметила тень, копошившуюся на пляже, как неизвестный связал и утопил какой-то узел (место она хорошо заметила), как решила пойти за незнакомцем и остановить его…
Солнце уже взошло и неторопливо расцвечивало спокойную гладь моря, берег и зелень над пляжем. Но этот любимый и прекрасный мир уже не казался молодым людям таким безмятежным, как накануне, во время прогулки. Оба они, и Колодочка, и Кулешова, родились и выросли на этой земле. Один охранял морские рубежи Родины, другая — мирно трудилась на этом берегу, и оба отлично понимали, что такое граница, и знали, на какие хитрости может пуститься враг. А враг — теперь это было ясно обоим — уже осквернил эту землю своим прикосновением, он топтал ее сейчас нечистой своей ногой, ходил среди мирных отдыхающих людей, приняв обличье курортника. Нужно было помочь найти его и обезвредить.
— Спасибо за сообщение, товарищ Колодочка! — сказал Соболь, пожимая руку моряка.
— За что благодарите, товарищ майор? Бить меня нужно, что упустил. Ну, уж если он теперь снова мне попадется…
— Теперь вы вряд ли его узнаете. Он уже, вероятно, «сменил кожу». А, впрочем, если это случится и вы сумеете узнать его — держите покрепче. Этот субъект так же опасен для каждого из нас, как ядовитая змея, выпущенная в курортный парк. Вот пока все, что я могу вам сказать.
Отпустив Колодочку, майор снял телефонную трубку.
— Товарищ полковник? Говорит майор Соболь: по имеющимся сведениям Безымянный прибыл… да… Есть, явиться доложить обстоятельства…
Майор Соболь достал из несгораемого шкафа папку и склонился над ней, перелистывая документы. Сообщение Колодочки не было для него новостью. В тот момент, когда моряк заканчивал неудавшееся преследование обидчика своей подруги, старший пограничного наряда сержант Гончаренко обнаружил на берегу участок гальки, забрызганный так, будто кто-то отжимал здесь мокрую одежду. Эта и еще некоторые мелочи, ничего может быть незначащие в глазах другого, заставили сержанта насторожиться. Он тщательно засек это место. Таким образом, донесение моряка оказалось уже вторым «узелком» нити, находившейся в руках Соболя. Третьим был извлеченный несколько позже из воды сверток. Но это явилось только началом большой, напряженной, сложной работы, в которой весома и значительна была каждая минута. «Почерк», повадки прибывшего были знакомы; таких субъектов не посылают по мелочам. Предстояло выяснить: куда же направлен удар, найти единицу, растворившуюся в многотысячной массе прибывающих и отъезжающих.
…В это время тот, кого майор Соболь сравнил со змеей, входил в небольшой домик с садом, расположенный в нагорной части Алушты. День был выходной, и он резонно рассчитывал застать хозяина дома.
Хозяин, действительно, находился в палисаднике и был всецело поглощен поливкой цветов.
— Добрый день!
— Здравствуйте. Вам кого?
— Товарища Щербаня.
— Это я.
— Не узнаете?
Семен Щербань, шофер одного из алуштинских учреждений, напряженно всматривался в лицо посетителя. Впечатление было такое, будто его ударили обухом по голове. День перестал быть «добрым», зловещая черная туча застлала сияющее солнце, сад, цветы, все и из этой тучи глядели мертвенные, не предвещавшие ничего доброго, глаза.
— Г… г… господин… штурмбаннфюрер?! — вымолвил он, наконец, посеревшими, трясущимися губами.
— Тсс! — оборвал посетитель. — Пройдемте в дом… И здесь, в комнате, когда Щербань оказался с глазу на глаз со своим гостем, встало похороненное, казалось бы, прошлое.
Семен Щербань, человек с весьма темной биографией, не испытывал никакого желания служить в Советской Армии. В начале Великой Отечественной войны он уклонился от мобилизации, забившись в какую-то щелку. А когда гитлеровцы оккупировали Керчь, он остался в городе. Щербань выдал нескольких известных ему коммунистов, тайно сотрудничал в гестапо, получал иудины серебренники из рук вот этого мертвоглазого, сидел за рулем машины, доставлявшей жертвы в Багеровский ров
.
После войны Щербань вынырнул на Южном берегу, нашел подходящее место, где можно было использовать казенную машину для работы «налево», обзавелся домом, садиком… И теперь — этот призрак!
Он пытался втолковать страшному гостю, что прошло слишком много времени, что все забыто, и ему, Щербаню, не грозит теперь суровая кара.
— Нет уж, избавьте!.. — сказал он, наконец, точно топором отрубил.
Посетитель, спокойно выслушав весь этот жалкий лепет и внезапную энергичную концовку, даже бровью не повел.
— Все?
— Да, все. Уж вы на меня не рассчитывайте…
— Так. Теперь послушайте, что скажу и. Как бы вы ни хотели избавиться от меня — сделать это вам не удастся. Напомню: недавно, находясь за рулем в пьяном виде, вы сшибли человека, он получил тяжелые повреждения. Вам удалось скрыться. Человек умер в больнице. Дальше…
Сухим, монотонным голосом он приводил один за другим факты. Щербань глядел на него с суеверным ужасом: зловещий гость знал все, даже то, чему, кажется, свидетелем был только один Щербань.
Гость достал из кармана пачку денег и отделил несколько сторублевых бумажек.
— Пойти выдать меня я вам не дам. Выбирайте: или вам не сдобровать, или — возьмите вот это авансом. Буду хорошо платить. Берите — бумажки не фальшивые.
Щербань колебался. Потом протянул руку…
— Что нужно?
— Во-первых, другой костюм. Во-вторых, выяснить, где остановился профессор Кристев, прибывший из Болгарии. Он здесь, в Алуште. В — третьих, вашу машину. Сегодня ваше начальство, видимо, отдыхает? Я так и думал. Вы сумеете незаметно вывести ее из гаража? Машина будет нужна вечером, часа на два — три. Я сам приведу ее обратно. Ну, что вы смотрите на меня? Поворачивайтесь. Я тороплюсь!
Глава IV
МЕЖДУ ДВУХ СМЕРТЕЙ
В полночь неподалеку от гостиницы «Магнолия» остановилась машина. Из нее выскочил майор Соболь в светлом плаще, низко надвинутой на брови шляпе и быстрым шагом направился к гостинице. С заднего сиденья машины вслед ему глядела огромная овчарка.
Швейцар, кряжистый старик в куртке с позументом, клевал носом за столом в застекленной будочке.
— Профессор Кристев у себя?
— Никак нет, они уехали.
Соболь сделал чуть заметное взволнованное движение.
— Давно?
— Да вот-вот, с полчаса. Они сперва уезжали ненадолго, вернулись пешком. Сказали — освобождают номер. Собрались быстренько, рассчитались, взяли документы, уехали. Я еще сам помогал им чемодан выносить.
— Куда уехал?
— Уж это они не сказали. Но так думаю, что на Симферополь, — старик махнул рукой налево. — Потому — пошли на автобусную остановку, как раз к подходу последней рейсовой машины.
— А перед этим, в первый раз, какая машина за ним приходила, не обратили внимания?
— Как же! Я у дверей стоял: «Победа» — новенькая, зеленая, как огурчик.
Соболь вместе со швейцаром поднялись в номер. Здесь еще не убирали, и комната сохранила кое-какие следы пребывания транзитного пассажира: недопитый стакан чая на столе, смятая обертка из — под печенья, забытый на умывальнике тюбик зубной пасты.
Соболь заглянул в шифоньер, внимательно осмотрел все углы, отодвинул стол. Между тумбой стола и стеной валялся небольшой листок бумаги. Это было незаконченное письмо Кристева к жене. Дверь на балкон оставалась незакрытой и, когда профессор с Выползовым выходили из номера, сквознячок подхватил письмо и унес его со стола. Соболь положил листок в карман и, не пускаясь в дальнейшие расспросы, выбежал на улицу.
— Скорее! — приказал он шоферу. — В институт имени Павлова, к Алмазову.
Машина помчалась в сторону, противоположную той, которую только что указывал дежурный гостиницы, — к Ялте. Соболь, сложив кисти рук, крепко хрустнул суставами пальцев. Это означало у него крайнюю степень волнения. Неужели поздно? Уже несколько часов кряду он вдумчиво и напряженно разматывал цепочку, которая привела его к порогу «Магнолии». К сведениям, которыми он располагал о личности ночного пришельца и намекам на его цели, к показаниям Колодочки и Маруси Кулешовой, к другим разрозненным звеньям, находившимся в руках Соболя, прибавилось еще одно, очень существенное звено. Соболь не терял ни минуты напрасно. Неужели теперь цепочка порвалась? Обрыв — это было опоздание, это, может быть, означало потерю дорогой человеческой жизни.
Профессор Алмазов, высокий, с крупными, привлекательными чертами лица, украшенного окладистой седок бородой, встретил Соболя по-домашнему, в пижаме. В правой руке у профессора была газета, в левой длиннейший янтарный мундштук, в котором дымилась ароматная папироса.
Соболю несколько раз в очень сложных и трудных случаях приходилось обращаться за консультацией к профессору, и тогда он дивился проницательности, искусству и глубоким познаниям этого незаурядного ученого.
Путь профессора Алмазова в науке можно было разделить на три этапа. На первом он прославился как выдающийся деятель судебной медицины и блестящий эксперт в этой области. Во время Великой Отечественной войны он занялся давно увлекавшей его хирургией. Профессор появлялся во многих санбатах и полевых госпиталях, расположенных в непосредственной близости к фронту, и — оперировал, оперировал, оперировал… Стоило только разнестись известию: «Савва приехал!» — и светлели лица даже у тяжело раненых. Действительно, нож (так хирурги запросто называют скальпель) в руках Алмазова творил чудеса, спасая жизнь многим десяткам солдат и офицеров, скорбный лист которых, казалось бы был дописан до конца. Об изумительно смелых операциях Алмазова много писали в центральной печати. Он не просто оперировал: он искал и вносил новое в науку, фундамент которой заложил великий Пирогов. В последние годы Алмазов целиком перешел на научно — исследовательскую работу, связанную с некоторыми новейшими проблемами физиологии.
— А, Виктор Михайлович! — добродушно забасил Алмазов. — Вы уж извините отставного медицинского генерала за простоту костюма! Чему обязан столь поздним посещением? Впрочем, — он пристальнее взглянул на Соболя, — сейчас вам, кажется, не до шуток?
— Угадали, Савва Никитич! — сказал Соболь. — Не откажите в участии. Дело чрезвычайно важное.
— Убийство?
— По всем данным.
— Факт установлен?
— Пока нет.
— Сейчас ехать?
— Сию минуту. Чем быстрее, тем лучше. Алмазов вышел в другую комнату, накинул белый халат прямо поверх пижамы. С юношеской живостью он пробежал по коридору, где жили сотрудники, и постучался в одну из дверей.
— Две минуты на сборы! — сказал он заспанному ассистенту. — Халат и, на всякий случай, все, что нужно для операции в полевых условиях.
Через пять минут санитарная машина вылетела из ворот института на ялтинское шоссе.
— Где труп? — осведомился Алмазов.
— Еще не обнаружен. Но я ясно представляю себе место, где он должен находиться…
На одном конце оборвавшейся цепочки был исчезнувший Кристев, не тот, что вышел полчаса назад уз гостиницы с чемоданом в руках, а другой, живой Кристев. На другом конце, ушедшем из рук, находилось его тело. Рядом глубоко продуманных заключений Соболь связывал оба конца воедино. Направление первой поездки Кристева, расчет затраченного времени определяли дистанцию. И на этой дистанции Соболь знал только одно место, где можно было надежно и быстро укрыть результат преступления.
— Убийца задержан? — спросил Алмазов.
— Нет. Но это — задача почти решенная. Сейчас нужно во что бы то ни стало найти тело его жертвы. Это — ключ к дальнейшему. Мы остановимся у спуска в «Хаос»…
«Хаосом» называлось дикое место, очень редкое НЕ этом хорошо обжитом, возделанном и плотно заселенном берегу, скопление бесформенных каменных громад, следы колоссального оползня, произошедшего на полуострове в незапамятные времена.
Соболь выскочил первым, зажег сильный аккумуляторный фонарь и взял собаку на поводок. Майор осветил начало тропы, отлого уходившей от шоссе в сторону и терявшейся в «Хаосе».
— Так! — Соболь указал спутникам на следы шин, явственно отпечатавшиеся на пыльной тропе. — Я не ошибся.
Он двинулся вперед, прослеживая путь недавно прошедшей здесь «Победы». Профессор и его ассистент, в белых халатах, шли за ним. Алмазов нес в руке чемодан чик, ассистент держал на плече легкие полевые носилки.
— Здесь он остановил машину, — говорил вполголоса Соболь. — Здесь разворачивался. Значит — тут или нигде. Вряд ли он мог оттащить тело далеко. Акбар, ищи!
Минут десять они блуждали в каменном лабиринте, то отдаляясь от исходного пункта, то приближаясь к нему, перелезая через мелкие камни и обходя большие. Наконец, собака забегала вокруг какого-то подобия пирамиды из огромных глыб и, подняв морду, коротко взлаяла.
— Акбар, фу! — остановил ее Соболь. — Где? Там?
Акбар поставил уши стоймя и шумно втянул носом воздух.
— Вперед, собачка, вперед!
С ловкостью завзятого скалолаза собака короткими, точными бросками взбиралась на камни. За ней поднимался Соболь. Луч фонаря осветил щель, заваленную обломками песчаника. Соболь принялся отваливать их. Перед ним открылось нечто вроде пещеры. Первой скользнула туда собака.
Соболь выглянул из пещеры и помахал фонариком.
— Савва Никитич! Здесь! Поднимайтесь справа, там есть что-то вроде ступенек…
На полу низкой и тесной пещеры лежало распростертое навзничь тело человека в одном белье. Смуглое, черноусое лицо было обращено вверх, смерть еще не побелила его. Над телом стоял Акбар и поглядывал на людей умными, почти человеческими глазами.
Соболь сразу же обратил внимание на странное обстоятельство: кругом не было ни капли крови.
— Светите! — сказал Алмазов, опускаясь на колени.
Он внимательно осмотрел тело.
— Задушен? — спросил Соболь.
— Нет. Картина представляется в следующем виде: его захлороформировали или с помощью какого-то похожего, очень сильного наркоза привели в бессознательное состояние. Затем его втащили в пещеру, раздели, и уже потом нанесли ножом удар в сердце.
— Понятно, — сказал Соболь. — Убийце были нужны его костюм и документы. Но почему же нет крови?
— Удар был нанесен с такой силой, что тонкий клинок, вроде стилета, сломался. Обломок сидит в теле, плотно запирая рану. Кровь даже не излилась в околосердечную сумку. При ранениях сердца смерть зачастую вызывается тем, что собравшаяся в перикардии кровь давит на сердце и не дает ему работать. Но он умер не по этой причине. В данном случае смерть последовала от травматического шока
.
— Давно был нанесен удар?
— Часа полтора назад.
— Он умер тотчас же?
— Нет. Всего несколько минут назад. Может быть, пять — шесть.
— Как же он прожил столько времени с ранением сердца?
— Ничего удивительного. Я знал человека, который жил с обломком кинжала в груди полгода, не подозревая об этом и сохраняя трудоспособность…
— Значит — смерть?
— Да. Но…
Соболь с удивлением посмотрел на профессора: какое же может быть еще «но», когда человек мертв?
— Но пока это только
клиническаясмерть.
— Я не силен в медицине, Савва Никитич, но смерть есть смерть.
— Объясню потом. А сейчас повторю вам ваши собственные слова: дорог каждый миг. Коллега, скорее — шприц!..
Ассистент приподнял голову убитого, и профессор Алмазов ввел иглу под кожу за ухом. Соболь широко открыл глаза — он ждал от профессора чуда, ему представилось даже, что вот сейчас Кристев поднимет веки, вздохнет… Но ничего не произошло. Ассистент осторожно опустил голову, оставшуюся безжизненной.
С чрезвычайной осторожностью тело на плаще Соболя спустили вниз и положили на носилки. Все это выполнялось с какой-то особенно четкой, напряженной быстротой.
— Теперь — в институт! — скомандовал профессор, когда носилки были задвинуты в машину. Шофер дал полный газ.
— Вы хотели пояснений? — услышал Соболь голос Алмазова. — Так вот, вкратце, Виктор Михайлович. Если вы, например, прикажете долго жить, и у вас остановятся сердце и дыхание, то это и будет
клиническаясмерть. Конец ли это? Прежде, когда полагали, что смерть наступает мгновенно, это считали концом. Сегодня советская наука, глубоко изучающая этот критический момент, говорит иное. Переход от жизни к смерти совершается не сразу, не внезапно. Это сложный, длительный процесс, распадающийся на отдельные этапы.
Соболь слушал профессора с напряженным вниманием. Майор имел, конечно, представление о современных — научных воззрениях на этот вопрос. Но то, что говорил Алмазов сейчас, в этой обстановке, приобретало особый смысл. Передовая наука, которая борется за самое драгоценное в этом мире — за человеческую жизнь, передовая наука во всем своем могуществе устами профессора Алмазова должна была решить судьбу Кристева: быть или не быть?
— После остановки сердца и дыхания в теле некоторое время еще теплится жизнь, в клетках еще происходит обмен веществ, — продолжал Алмазов. — И хотя клетки уже не получают кислорода, который доставлялся им током крови, они еще продолжают жить за счет накопленных запасов. Это и есть клиническая, относительная смерть, точнее — первые шаги умирания.
Затем в клетках начинаются процессы разложения, распада. Наименее устойчивыми оказываются самые нежные, самые сложные, нервные клетки мозга, особенно коры больших полушарий. Более грубые, простые клетки, кожных покровов, волос, ногтей живут еще очень долго. Клетки сердечной мышцы сохраняют свои свойства даже через сутки после установленной смерти. Но клетки коры головного мозга погибают безвозвратно через семь — восемь минут после того, как прекратятся дыхание и кровообращение. В этих клетках происходят, как выражаются физиологи, необратимые изменения. А это — самые ценные клетки, они управляют основными жизненными процессами в нашем организме, в том числе и дыханием. И тогда помочь не может уже ничто — это конец, небытие,
биологическаясмерть…
— Так все-таки, Савва Никитич, — оказал Соболь, — жив или мертв человек, которого мы везем?
— Ни то, ни другое. Он находится, если можно так выразиться, между двух смертей — клинической и биологической.
— И наука знает способы повернуть вспять процесс умирания?
— В недалеком будущем, вероятно, для передовой науки не будет невозможного в этой области. Я верю в это. Пока же хочу обратить ваше внимание на очень важную и интересную деталь: убийца сам испортил себе все дело. Он захлороформировал свою жертву, прежде чем нанести смертельный удар. Знаете ли вы, что недавно ленинградский патофизиолог, профессор Галкин, сделал удивительное открытие? Он установил, что в наркозном сне необыкновенно меняются многие свойства организма. Наркоз позволяет клеткам сохранять жизнеспособность в таких условиях, которые смертельны в нормальном состоянии. Искра жизни поддерживается минимальным количеством кислорода, находящегося в тканях и крови. Весьма вероятно, что именно это обстоятельство и оттянуло наступление клинической смерти. Оружие врага обратилось против него самого.
— Но есть ли возможность задержать наступление биологической смерти?
Алмазов помолчал.
— Еще недавно я ответил бы вам — нет. Сегодня скажу вам — да! Есть. Я вспрыснул этому человеку мой новый препарат, который отодвигает гибель клеток высших отделов центральной нервной системы. Срок их обратимости удлинился. Выигрыш во времени может быть невелик, но он достаточен для того, чтобы мы успели доставить нашего пациента на операционный стол…
— Савва Никитич! — Соболь горячо сжал руку профессора. — Неужели есть надежда?
— Я хочу разделить с вами эту надежду, Виктор Михайлович! Голубчик, для меня это, пожалуй, не менее важно, чем для вас. Это первый случай, когда препарат применен в конкретных условиях. Но не обольщайтесь — это лишь начало чрезвычайно сложной работы, которая сейчас предстоит. Не забывайте, что клинок еще в теле, что сердце остановилось и не сокращается, не гонит кровь по жилам, человек — не дышит. Он еще находится — между двух смертей…
Глава V
САД ЧУДЕС
Две небольшие группы людей ходили по огромному саду. Южное солнце стояло уже высоко, время шло к обеду, а гости, сопровождаемые радушными хозяевами, как будто не чувствовали усталости. Трудно было оторваться от живой, полной красок, картины, которая развертывалась перед ними и представляла взору изумляющее богатство и оригинальность растительных форм.
Большинство гостей прибыло накануне вечером, а двое — смуглый черноусый человек, к которому относились с особым вниманием, и приехавший с ним большой, грузный мужчина по фамилии Твердохлеб — в этот день утром.
Знакомство с хозяином сада было первым впечатлением черноусого гостя. Широкая и тенистая аллея привела его и Твердохлеба к дому на центральной усадьбе. Издалека увидели они на веранде статную фигуру, одетую в просторный длиннополый пиджак из желтоватой чесучи. Приставив ладонь щитком ко лбу, человек в пиджаке всматривался в приехавших. В грузном мужчине он сразу угадал своего старого приятеля, начальника областного сельхозуправления. Второй был ему неизвестен. Большие темные очки в роговой оправе прикрывали глаза незнакомца, в руке он нес объемистый портфель.
Человек в чесучовом пиджаке легкой походкой сбежал по ступенькам им навстречу. Черноусый принял его сперва за юношу.
— Тс-с-с! — шепнул Твердохлеб спутнику. — Да это сам академик Любушко!.. Павел Ефимович, — обратился он к хозяину, — разреши представить дорогого гостя: профессор Кристев из Софии.
— А! Долгожданный! — радушно сказал Любушко, крепко встряхивая руку гостя. — Ну, добро пожаловать!
Ошибку гостя, принявшего Любушко за молодого человека, нетрудно было простить: лицо академика с красивыми, правильными чертами, без единой морщинки, дышало свежестью. Это было лицо человека, отличающегося завидным здоровьем. На самый взыскательный глаз академику трудно было дать больше сорока лет. Но, когда Любушко снял свою соломенную с выгоревшей лентой шляпу, гость увидел совершенно белую шевелюру. Поразителен был этот контраст моложавого лица и седых волос, но самым удивительным на лице были глаза — тоже молодые, вдохновенные, искрящиеся умом и юмором.
И позже, присматриваясь к академику и беседуя с ним, черноусый гость только диву давался. Казалось невероятным, чтобы человек на закате жизни смог сохранить столько молодой творческой страсти, столько кипучей, неуемной энергии. Выбрав момент, Кристев наклонился к уху Твердохлеба и спросил:
— Слушайте, неужели ему 75 лет?
— Хорош? — также шопотом ответил Твердохлеб слегка толкая гостя локтем. — Коллеги его до сих пор вспоминают, каким он в молодости был. Точь-в-точь, как красный молодец из былины. Идет по улице —
Где девушки глядят —
Заборы трещат;
Где молодушки глядят —
Оконницы звенят…
Что говорить, и сейчас заглядишься. А красота душевная, а талант, а знания? Этому человеку, батенька, цены нет. Не подумайте только, что это какой-нибудь баловень счастья, которому все само в руки валится. Ему, конечно, большие возможности предоставлены. Да зато и работает он за десятерых! Сколько научных работников вырастил, скольких мастеров плодоводства!..
Сразу после завтрака отправились осматривать сад. Переднюю группу составляли Любушко, Твердохлеб и профессор Кристев. Во второй группе, следом, шли: помощник и правая рука академика, молодой ученый-селекционер Олег Константинович Костров, порывистый брюнет, со сросшимися на переносице бровями, затем научный сотрудник с корзинкой и несколько колхозных садоводов, приехавших из Саратовской области и с Алтая.
Самые разнообразные фруктовые деревья и кустарники пестрой толпой теснились перед посетителями. Здесь были яблони, груши, абрикосы, сливы, вишня, черешня, винная ягода, малина, заморские гости — авокадо и фейхоа и еще множество других фруктов и ягод. Ветви гнулись под тяжестью плодов. На фоне темно-зеленой, узорно вырезанной листвы были щедро рассыпаны фрукты: то палевые с тончайшим матовым пушком и нежным девичьим румянцем, то расписанные кармином по глянцевому шафранному колеру, то густо-фиолетовые, то янтарно-прозрачные… И все это было совершенно необычайно по форме и размерам.
Некоторые плоды гости затруднялись определить и назвать. Они останавливались перед ними, затаив дыхание, как остановились бы перед какой-нибудь новой изумительной машиной. Да, именно так: они восхищались не творчеством природы. Природа дала только материал, а творцом был человек, в талантливых, умных руках которого природа становилась податливой как воск. Человек заставил здесь персик побрататься с миндалем, лимон, выращенный в открытом грунте, — с мандарином, сладкий каштан — с грецким орехом. Любушко и его сотрудникам удалось скрестить растения, бесконечно далекие друг от друга, сама мысль о возможности скрещивания которых казалась, на первый взгляд, невероятной.
…Удивителен был сад. Не менее любопытна была история его возникновения.
«Сад чудес» раскинулся на берегу моря, обширной водной поверхности в две с половиной тысячи квадратных километров. Но это было совсем не такое море, какое привыкли представлять себе гости. Здесь не было голубого простора, ласкового в штиль и грозного в непогоду, ни дымков пароходов, ни белых парусов рыбачьих судов.
Сивашский водоем, расположенный у ворот Крыма, не бороздят корабли, он слишком мелок для этого, глубины здесь не превышают полутора-двух метров. Его бесчисленные заливы так тесно переплелись с сушей, так густо изрезано это море островками и мелями, что порой трудно определить — где же кончается вода и начинается берег.