 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Бородинское пробуждениеModernLib.Net / Детская проза / Сергиенко Константин / Бородинское пробуждение - Чтение (стр. 4)
Полчаса мы катили по дороге среди небольших рощ, деревень и усадеб. Показались ворота в виде псевдоготических башен, за ними каменные флигеля и желтый господский дом, тоже с башенками по краям. – Воронцово, – сказал Фальковский. – Послушайте, – сказал я весело, – я вас предупреждаю, что, как только сочту свое дело законченным, в любой момент могу исчезнуть. И не ищите меня. – Отчего же, – сказал Фальковский с улыбкой, – если уж я к вам приставлен, то постараюсь найти где бы то ни было. – Он посмотрел на меня как бы рассеянным, но таким пристальным взглядом и добавил: – И даже в другом столетии. 9 Я хорошо помнил историю с воздушным шаром Леппиха. Интерес к ней возник у меня, когда в документах штаба я встретил записку Кутузова к Ростопчину с просьбой сообщить о «еростате, который тайно готовится близ Москвы». Записка была датирована сегодняшним числом, и это позволило мне в разговоре с Ростопчиным играть роль провидца. Необычное предприятие привлекло мое внимание уже тем, что в наши дни оно было почти забыто, хотя в двенадцатом году порождало много толков и фантастических рассказов. Даже в «Войне и мире» есть несколько слов, как Пьер едет в Воронцово посмотреть на постройку Леппиха. Мне с трудом удавалось отыскивать достоверные сведения, чаще встречались невнятные упоминания об «огненном шаре» и близкой погибели от него французов. «Вот вам Русь-матушка», – сказал Листов, когда мы легко миновали Калужскую заставу, в то время как на Дорогомиловской нас долго бы проверяли. То же касалось и Воронцова. Постройка шара облекалась самой строгой государственной тайной, переписка Ростопчина с императором Александром об этом считалась секретной. В то же время десятки любопытных ездили в имение Репнина по пригласительным билетам, чтобы своими глазами увидеть шар и его изобретателя. Много я знал о шаре, но, как видно, не все. Не знал, например, что у Франца Леппиха есть второе имя – доктор Шмидт. Теперь же, когда мы подъехали к белым башенкам воронцовской усадьбы, когда далекая история с воздушным шаром приблизилась к моей жизни так, что повеяло чем-то неясно-знакомым, быть может, незримым присутствием той девушки с лицом Наташи, – теперь мне показалось, что я не знаю об этой истории ничего. Караульный солдат у ворот отдал честь, мы въехали в усадьбу. По двору в беспорядке раскиданы доски, пруты, куски листового железа. Вдоль забора на кольях развешаны длинные полосы желтоватой материи. Несколько рабочих стучали молотками в разных углах. Дымила кузня, оттуда слышался звон металла. Подбежал унтер-офицер в таком же, как на Фальковском, полицейском мундире. Одной рукой он застегивал воротник, другую поспешно прикладывал к треуголке. – Где доктор Шмидт? – спросил Фальковский. – В саду, стреляет из пистолета. – Все в порядке? – Так точно, господин штабс-капитан. – Караулы на месте? – На месте, господин штабс-капитан. – Смотрите в оба. Завтра-послезавтра начинаем. Советую пустить один караул по большому кругу вдоль забора. Там местные все толпятся. Гнать по домам. Иди. Унтер ушел. – Быть может, желаете для начала познакомиться с доктором Шмидтом? – спросил Фальковский. – Не откажусь. Но главное – отыскать девушку. В усадьбе есть женщины? Чем они могут быть заняты? – Женщин в усадьбе нет. По временам наезжает княжна Репнина со служанками, для них оставлен отдельный флигель. Впрочем, спросите доктора Шмидта. Он здесь безвыездно. Мы обошли дом. Среди лиловатых приземистых вишен спиной к нам стоял человек в белой рубашке. Он целился из пистолета в бутылку, надетую на обломанный сук. – Учтите, – сказал Фальковский, – доктор Шмидт одинаково плохо говорит на всех языках. Родного, по-моему, не имеет. Так что выбирайте для общения с ним любой. Раздался выстрел. Бутылка разлетелась вдребезги. – Mais vous (франц.).) – сказал Фальковский. Человек обернулся: – Vous (франц.)) Быстрый взгляд его маленьких, но каких-то горячих глаз скользнул по мне, но тут же он стал рассматривать пистолет, принюхиваясь к дымящемуся дулу и бормоча: – Was zum Teufel ist das f(нем.)) – Je veux vous pr(франц.)), – сказал Фальковский. – Vos curioux m’emb(франц.)) – Il avait tellement h(франц.)) – Quoi? (Что? (франц.)) – Человек с недовольным видом принялся забивать новую пулю. – Je dis qu’il a tant parl(франц.)), – сказал Фальковский. – Je ne comprends pas. (Не понимаю (франц.)) – Человек поморщился и вдруг перешел на русский с порядочным немецким акцентом: – Почему русские имеют страсть говорить не на своем языке? Кто это? – Поручик Берестов, – представился я. – Я доктор Шмидт, большая, но тайная знаменитость, – сказал он и вдруг показал ослепительную улыбку белых зубов. – Что вас сюда привело, поручик? Не вовремя. Приезжайте лучше на поднятие шара. Кто это? – снова обратился он к Фальковскому, ничуть не церемонясь. – Поручик ищет свою знакомую, – сказал Фальковский. 
Я разглядел Леппиха. На вид ему не больше тридцати. Крепкая, приземистая фигура, темно-русые спутанные волосы, крепкий упрямый подбородок, брови приподняты кверху, так что в живом взгляде все время не то изумление, не то насмешка. – Est-ce qu’on fabrique dans mon atelier des personnes qui se connaissent? (Разве в моей мастерской изготовляют знакомых? (франц.)) – спросил Шмидт-Леппих, взводя курок. – Pas mal de choses mysterieuses peuvent se passer dans votre atelier (Мало ли какие таинственные вещи могут происходить в вашей мастерской (франц.)), – ответил я. Леппих вскинул на меня глаза: – Кто вам нужен? – Я ищу молодую особу по имени Наталья. Недавно я получил от нее письмо, посланное из этой усадьбы. Быть может, вы будете так любезны и вспомните кого-нибудь в этом роде? – Aber so was! (Вот так номер! (нем.)) – А кто вам эта особа, родственница? – спросил Леппих. – О нет. Я рисовал с нее портреты. Это лучшая моя модель. – Хороший пистолет, – как бы не слушая, сказал Леппих. Он взял новую бутылку и надел ее на сук. – Английской работы, мастера Беркли. Тут старое изречение на стволе, не могу понять. Капитан, вы хорошо знаете по-английски? – Английского я не учил, – сказал Фальковский. – Excellent. (Отлично (англ.)) Вот не знал! Теперь назло вам буду говорить по-английски, а то ваша опека мне надоела. Он обратился ко мне: – May be you know English? (Может быть, вы знаете по-английски? (англ.)) – I do a bit (Немного (англ.)), – ответил я. – В таком случае, может быть, вы поймете? Слушайте, я прочту: «Your model is there. But she is locked in the cottage to the left of you». Как это перевести? Смысл от меня ускользает. Фраза мало походила на изречение. Леппих сказал буквально следующее: «Ваша модель здесь. Только она заперта во флигеле слева от вас». При этом он спокойно готовился к стрельбе, нащупывая ногой твердую позицию. Я сразу принял игру. – По-моему, здесь какой-то вопрос о смысле жизни. Примерно так: как я найду пути к желаемому? – На это всегда нечего ответить, – сказал Леппих, поднял руку и, почти не целясь, выстрелил. Пуля срезала горлышко. – Что же касается девушки, то не знаю, что и сказать. Девушки здесь бывали, но я не обращал на них внимания. Спросите лучше у штабс-капитана или его солдат. – Все возвращается на круги своя, – сказал я Фальковскому и, взяв его под руку, отвел от Леппиха, который вешал на сук новую бутылку. – Послушайте, вы не верили в мои способности. Хотите, я через две минуты скажу, где та девушка, которую ищу? – Буду рад за вас, – сказал Фальковский. – Вы намекаете, что она в усадьбе? – Давайте только пройдемся. Мы медленно пошли вокруг дома. За углом на дощатом помосте стояло сооружение, похожее на корзину с крыльями. Несколько толстых прутов скрещивалось над ней, образуя беседку. Видно, это была гондола аэростата. Я вел Фальковского прямо к флигелю, о котором сказал по-английски Леппих. Почему он сделал это, я еще не успел задуматься. – А что у вас там, во флигеле? – сказал я Фальковскому. – Нельзя ли зайти? – Извольте. – Фальковский усмехнулся. – But I’ll be surprised if you will find anybody there. (Только я удивлюсь, если вы там кого-нибудь найдете (англ.)) Он все-таки знал английский! На мгновение я растерялся. – Минуту назад вы уверяли, что не учили английского. – Это верно. Я никогда его не учил, – сказал Фальковский. – Поэтому вряд ли смог бы понять старое изречение. Но те крохи, которые знаю с детства, помогли разобрать, что доктор Шмидт читал вам вовсе не изречение. – Остроумно, – сказал я. – Послушайте, поручик, – сказал Фальковский. – В колдунов я не верю. А раз вы не разобрались, зачем мы сюда приехали, тем более в колдуны не годитесь. – Зачем же мы сюда приехали? – Особа, которой вы интересуетесь, все-таки содержится в усадьбе, только в другом месте. Не скрою, что ваша встреча мне любопытна. – Ну так устройте ее. – Тарантьев! – крикнул Фальковский. Прибежал унтер-офицер. – Переведите девушку из караулки в этот флигель и дайте мне еще двух человек. Тарантьев побежал к воротам. Значит, она в одной из белых башенок у въезда в усадьбу? Сейчас увижу ее. Кто же она, кто? Но вот Тарантьев бежит назад. Лицо его покраснело, глаза выкатились. – Ее нет! – кричит он издали. – Что-о? – Нету, господин штабс-капитан! – Там же нет окон! – закричал Фальковский. – Нету, нету! – отчаянно повторял Тарантьев. – Ушла! – Болваны! – крикнул Фальковский. Его взгляд метнулся по двору, туда-сюда, задел мое лицо. Тут же он повернулся и стремительно пошел к воротам. Тарантьев кинулся за ним. Остальное заняло буквально две-три минуты. Меня дернули за рукав. Я обернулся, это был Леппих. – Идите за мной, – прошипел он. В двух шагах от флигеля был сарай. Вслед за Леппихом я скользнул в его приоткрытую дверь. – Снимайте мундир. Быстро! – сказал Леппих. – Иначе вам не избавиться от вашего приятеля. Да быстрее, быстрей, говорю вам! Я поспешно стащил мундир. Он натянул его на свое плотное тело так, что затрещали нитки. Сорвал с меня фуражку, надвинул на лоб и вышел из сарая, буркнув: – Спрячьтесь на сеновале. В полуоткрытую дверь я видел, как он с неуклюжей быстротой дошел до коновязи, сел в дрожки Фальковского, развернулся по двору плавным широким кругом и, набирая скорость, помчался к воротам, одна половина которых была все еще открыта. Его сильно тряхнуло на выезде, пыль вырвалась из-под колес, и дрожки исчезли. В то же мгновение из караулки выбежал Фальковский. Он заметался по двору. – Лошадей! Лошади, где лошади? – кричал он неистово. Тарантьев бегом вывел двух лошадей. Они с Фальковским прыгнули в седла и, колотя бока каблуками, выскочили за ворота. 10 Я забрался на сеновал, еще не успев осмыслить, что произошло. В слуховое окошко было видно, как по двору бегали солдаты. Рабочие побросали инструменты и сели в тени у забора. Я повалился в сено и закрыл глаза. Так я лежал несколько минут. Неповторимый запах сушеной травы, то нежный, едва уловимый, то крепкий и густой, обвевал меня вместе с ветерками, летавшими под крышей. Я стал забываться… Горячий полдень, берег озера. Лежу и смотрю, как лениво качаются лодочки бликов, туда-сюда. Передо мной появляются ноги, чуть сбоку. Загорелые до сумеречно-радужного мерцания. Они вторгаются в пространство моего взгляда бесшумно, они вплывают, проскальзывают. Они вырастают прямо передо мной среди колеблющихся травинок и масляных чашек куриной слепоты. Край платья обвивает их бесшумной лентой, то приоткрывая, то припадая вплотную. – А, вот вы где прячетесь, – говорит она. Я приподнимаюсь, смотрю на ее яркие летние губы, на белую прядь, перечеркнувшую лоб. В уголке губ розовый след ягоды. – Я не прячусь, – говорю я. – Просто лежу. Она смотрит на меня чуть рассеянно. Она покусывает травинку. Я не помню ее имени. Среди тех, кто приехал на дачу в это жаркое воскресенье, я многих не знаю. – Хороший сегодня день, – говорю я просто так, лишь бы сказать что-нибудь. Она нагибается и срывает желтый блестящий цветок. – Садитесь, – говорю я. – Земля очень теплая. – Нет-нет. – Она берет цветок в губы, еще раз рассеянно глядит на меня и уходит туда, где бледно-зеленые кусты всплескивают серебристо, задетые ветерком. Я снова откидываюсь и смотрю в небо. Если смотреть долго, его голубизна начинает распадаться на дрожащие невнятные точки. Потом ветер холодком проскальзывает по глазам и смазывает картину. Несколько птиц заливается рядом. Одна пульсирующей трелью, другая точно крохотным молоточком по такой же крохотной мелодичной наковальне – тон-тон… Кажется, ее зовут Наташей, думаю я. Или Таней? Нет, Наташа. Висит надо мной серебристый шар неба, и так сладко, так сладко лежать в траве… Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной крыша сарая. Я сел и стал лихорадочно ощупывать руки, ноги, тело. Что со мной, где я? Это не сон. Что происходит, куда я попал? Кто я такой, наконец? Несколько мгновений длилось это мучительное недоумение. Потом оно отодвинулось, и телом снова овладело состояние отдаленности. Но вопросы не исчезли. Кто же я все-таки, Берестов или тот, прежний «я», ставший Берестовым на время? Быть может, мы поменялись местами, и сейчас по тому Бородинскому полю, на которое я пришел с рюкзаком, бродит мой изумленный двойник, переселившийся на полтора века вперед? Какой смысл в этом перемещении и надолго ли оно? Быть может, навсегда, и мне пора привыкать к новой жизни, гнать из себя раздвоенность и попытаться понять, что же я, теперь Берестов, представляю в этой жизни? Но это совсем не легко. «Наследство», которое я получил, опустившись по временной шкале, мягко говоря, своеобразно. Странная обрывочная биография, неясность во всем и водоворот событий, в который попал сразу. В какую сторону из него выбираться? Только лицо Наташи светило теплым фонариком. Я понимал, что надо стремиться к нему, искать ее, искать, цепляться за эту соломинку, идти на этот единственный проблеск прежней понятной жизни, и, может, тогда удастся выбраться на твердую дорогу… Леппих. Что-то в нем есть непростое. Как странно блеснули его глаза, когда мы подошли с Фальковским. Всем видом он показал, что меня не знает, но тут же ввязался в игру на моей стороне. Что ему нужно? Странное лицо у Фальковского. Загар не загар, даже не цвет кожи. Такое впечатление, что все его существо дает изнутри этот сумрачный глиняный свет. Даже в глазах пробивается глиняная сила. Глиняный человек… Вспоминаю Листова. Такое впечатление, что был знаком с ним давно, очень давно. Что-то удивительно близкое нахожу в его жестах, в том, как он говорит, как наклоняет голову, как идет. В памяти, как в фотографической ванночке, колеблются смутные силуэты опущенной туда фотографии, но она никак не может проявиться… Я спал, когда меня разбудил Леппих. Он стоял у лестницы сеновала франт франтом. Лиловый фрак, розовая атласная жилетка и черный шейный платок. В руках какой-то сверток. – Et bien, comment avez vous dor mi, homme curieux? (Ну, как вам спалось, любопытный человек? (франц.)) – Где Фальковский? – спросил я, спускаясь. – Как где? Вас рыщет. Наверное, поскакал в Москву. – Но я же здесь. – Если вы так соскучились по вашему приятелю, то можете отправляться за ним. Я дам лошадей. – Я бы перекусил, пожалуй! – Parfaitement. Прекрасно. Я такого же мнения. Как вы находите мою маленькую шутку? – Я боялся, они вас догонят и вам придется давать объяснения. – Объяснения? – Леппих поморщился. – Объяснения я стану давать только императору или, в крайнем случае, генерал-губернатору, а не такому сморчку, как ваш приятель. – Он вовсе мне не приятель. – Я так и подумал. Мсье Фальковский уже три месяца не дает мне покоя. С начала работ над воздушным шаром он приставлен здесь главным надсмотрщиком, шпионом, если хотите. Любая молва вокруг шара вызывает в нем священный трепет. Он сразу начинает рыскать, искать виноватых, запирать людей в карцер и писать докладные. – Он не показался мне таким полицейским простаком. – Oh la, la! – Леппих свистнул. – Он не простак, далеко не простак. Но я все-таки ловко над ним подшутил. Представляю, как он всполошился, когда я выкатил в вашем мундире! – Зачем вы это сделали? – Думаю, в суматохе он принял меня за вас. Мне-то, собственно, бежать незачем. – Они не догнали вас? – Какой там! За поворотом я сразу свернул, объехал рощу, а лошадей оставил в деревне. Ваш умный приятель, конечно, помчался к Москве, считая, что вам и бежать больше некуда. По крайней мере, до утра вы можете спокойно пользоваться моим гостеприимством. – Вы увели Фальковского, чтобы остаться со мной наедине? – Именно! Мне нужно с вами поговорить. Надевайте вот это. В свертке оказался новенький гусарский мундир, черный с красными шнурами и серебром позументов. – В нем вас никто, кроме Фальковского, не узнает. Это подарок, да мне оказался маловат. Мне тут многое надарили. Русские любят дарить. Приедет какой-нибудь граф или князь-гуляка и дарит то гончую, то трубку, то пистолет. Мундир мне пришелся впору. Я сразу почувствовал себя свободней, чем в старом тесном кителе. – Charmant, – сказал Леппих. – Очаровательно. Теперь пойдемте обедать. Вы мой приятель. У меня их тут много появилось, как только стали ездить по пригласительным билетам. Садом и через заднее крыльцо мы попали в дом. На блестящем фигурном паркете первого этажа были раскиданы те же доски и металлические полосы, что и во дворе. Мы поднялись наверх. В просторном зеленом кабинете с полукруглыми кожаными диванами нам подали обед. – Значит, вы ищете девушку по имени Наталья? – спросил Леппих. Я сказал: – Между прочим, не только вы провели Фальковского, но и он вас. Он знает английский и понял, что вы мне сказали. Леппих поморщился: – За кого вы меня принимаете? Конечно, я знал, что Фальковский сведущ в английском. Я специально подсунул приманку, а он проглотил крючок. – Вы специально для него сказали про флигель? – Bien sur, разумеется. Ведь я уже знал, что девушки нет во флигеле, хотя, по мнению Фальковского, должен был знать другое. Словом, я обеспечил себе алиби. – Какое алиби? – На случай исчезновения девушки. Mais sacredieu! Черт возьми, как вы этого не понимаете! Я хотел показать Фальковскому, что если девушка исчезнет, то я не буду иметь к этому никакого отношения. – Но она как раз исчезла! – В том-то и дело, – сказал Леппих. – Уж не хотите ли вы сказать, что именно вы помогли ей бежать? – спросил я. – Как раз это я и хотел сказать. Я замолчал. – Et bien, mangez done (Ешьте, ешьте (франц.)), – сказал Леппих, разламывая руками курицу. – Вы так доверяете мне, что признаетесь? – спросил я. – В чем признаюсь? – спросил Леппих. – А впрочем, разумеется, доверяю. – Но почему? – Во-первых, потому, что признаваться не в чем. Если я помог невинной девушке вырваться из рук этого блюстителя, то так поступил бы любой порядочный человек. Вы не согласны? – Допустим. Но в чем он ее обвинял и почему держал взаперти? – So ein Schwein! (Скотина! (нем.)) Черт его знает. Девушка кому-то о чем-то проговорилась в письме. Уж не вам ли? – Похоже, что мне. – Я так и подумал. Вы давно с ней знакомы? – Целую вечность. – Целую вечность? – Леппих насторожился. – Вы сказали, целую вечность? – Да. А что вас удивило? – Нет, ничего. Такие слова всегда сбивают меня с толку. – Какие слова? Такие, как «вечность»? – Да, да! – быстро и чуть ли не раздраженно сказал он. Странный человек, подумал я, изобретатель. Все они с причудами. 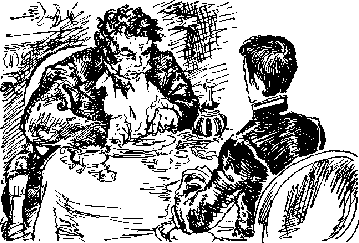
Обед подходил к концу. Я заметил, что Леппих стал нервничать. По его лицу вдруг пробегало волнение, глаза то и дело беспокойно останавливались на мне. Он даже начал постукивать ногой под столом и локтем чуть было не спихнул на пол большую соусницу. – Как думаете, – сказал он неожиданно резким голосом, – скоро ли будет сражение? – По-моему, в ближайшие дни, – ответил я. – Армия уже на позиции. – Где? – Под Можайском. – Через два дня я буду поднимать шар. Как думаете, он поднимется? – Почему вы меня спрашиваете? – Я всех спрашиваю, – буркнул Леппих и уткнулся в тарелку. – Скажите, – начал я, – вы говорили, что доверяете мне, и при этом употребили слово «во-первых». Быть может, существует и «во-вторых»? – Быть может, – сказал Леппих. – В чем же оно заключается? – Оно заключается в том, что я принимаю вас за одного человека. – Леппих встал и подошел к окну. – Поэтому вы и решили избавить меня от Фальковского? – Justement. (Именно (франц.)) Как раз поэтому. – А если я не тот человек? – Этого я и боюсь, – сказал Леппих. – Быть может, того человека вообще не существует. – Как так? – Ах! – Леппих взмахнул рукой. – Фантазия, домыслы! Послушайте… – Он повернулся ко мне: – Я только хочу вас спросить. Вы были в Финском походе? – Да, был. – А был ли у вас товарищ, который еще вам лошадь продал, белую лошадь? – Было такое. – А где он сейчас? – Погиб, – сказал я, вспомнив слова Листова. – Убит под Гриссельгамом. – Да, это вы… – пробормотал Леппих. – Кому же еще… Я как услышал фамилию Берестов, как посмотрел на вас, сразу подумал… Нет, но кому же еще, как не вам… – О чем вы говорите? – О чем я говорю? Если бы я сам знал толком… – Быстрыми шагами он стал расхаживать по комнате. – И все же? – Послушайте. – Он остановился. – По выговору за кого меня можно принять? – Пожалуй, за немца. – А так? Следите, следите за мной. – И чистой скороговоркой он выпалил: – Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком… Еще – шли три попа, три Прокопья-попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья-попа, про Проскопьевича! Все это он выговорил не переводя дух. – А так за кого меня можно принять? – За кого? – повторил я с недоумением. Я слышал бойкую русскую речь, особенно непривычную в устах иностранца, который до того говорил с сильным акцентом. – Скажите, – он подходил ко мне, словно подкрадываясь, глаза горели, – только одно мне скажите. Умоляю, скажите правду, – лицо его исказилось, сделалось неправильным, – только одно слово… Я уверяю, мне это нужно из высших соображений, вы не подумайте, ради бога… Нет, вы позволите мне задать вопрос? – Да спрашивайте. – Я пожал плечами. – Мм… он не из легких, этот вопрос… – На лбу его показались капли пота. – Ведь я-то вам почти уж открылся… Все рассказал. – Открылись? Но в чем? – Ах! – Он махнул рукой и вдруг выпалил почти с отчаянием: – Сколько вам лет? – Сколько мне лет? – Я удивился. – То есть… – забормотал Леппих. – Я не в том смысле… Вы не подумайте… Словом, вам, может быть, трудно назвать свой возраст? Это был, что называется, лобовой вопрос. Он что-то знал или о чем-то догадывался. – Мой возраст… – повторил я. – В некотором смысле мне и правда нелегко сказать, сколько мне лет. Но вы-то что имеете в виду? Я постарался, чтобы слова мои звучали небрежно и в крайнем случае их можно было обратить в шутку. Но для него они были облегчением. Он опустился на стул, вытер ладонью лоб, вздохнул с облегчением. – Так знайте, – сказал он, – я не Шмидт и не Леппих. Я русский, Иван Лепихин. Ребяческое оживление вдруг осветило его лицо. Он вскочил, подбежал к окну, выглянул, потом вернулся ко мне и шепотом, прерывистым от волнений, сообщил: – Думаете, я шар строю? Э, нет, я жизнь положил на это… Если бы только шар. А! Все равно не поверите! Он принялся расхаживать по комнате, махать руками, сбивчиво говорить. Он выпаливал длинную фразу, останавливался и смотрел на меня: – Не верите? Потом снова принимался рассказывать о себе, о своих похождениях. Опять останавливался. – Такая вот жизнь, ни слова не вру! Имя свое упрятал, мысли упрятал, ан своего добьюсь! Так вы хотите знать, что я строю? Шарик летучий, забаву? – Почти детское ликование сияло на его лице. – Нет, дорогой мой! Это… Дверь распахнулась – на пороге стоял Фальковский. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Приди, как дальняя звезда… 1 С Леппиха-Шмидта, с Ивана Лепихина, начались открытия, которых я не мог сделать за библиотечным столом или в музее. Нет-нет да на моем пути стали возникать расхождения с тем, что успел вычитать о двенадцатом годе, в который так стремительно переселился во время поездки на Бородинское поле. Не сразу я поверил странному изобретателю и сначала подозревал его в тайной игре. Еще бы! Все, что я знал об этом человеке, не очень сходилось с его признанием. Но потом события развивались так, что оснований не верить у меня не осталось. Яркая, необычная судьба! Его беспокоило то, о чем мечтают фантасты двадцатого века. Не воздушные шары, не полеты по воздуху – его занимали полеты во времени! Он вообразил, что может построить машину для постижения веков. Я не берусь объяснить, как он представлял себе эту машину, о ней он говорил слишком путано и сбивчиво. Но именно такую машину он и пытался строить в имении Репнина, одновременно готовя воздушный шар для полета. Его жизнь я узнал в самых общих чертах. Он рассказал, что родился в Туле и отец его был оружейником. Если тульский Левша блоху подковал, то и сын оружейника стал мастером на все руки. Да и не только на руки, мысль у него была любопытная, голова ясная, глаз острый. Учился он сумбурно, то в школе, то у знающих людей. Очень легко давались языки. Годам к шестнадцати он свободно читал на немецком, французском, английском, знал древнегреческий и латынь. – Я на пари в два месяца любой язык могу выучить! – говорил он. – Не верите? Такими самоучками богата наша земля. Легко пройдясь по верхам, а то и по глубоким пластам знаний, они в конце концов начинают вынашивать дерзкие замыслы. Лепихин был из таких. Когда семья перебралась в Москву, началась бурная часть его жизни. С каким-то штаб-лекарем он строил воздушный шар и даже пытался поднять его с Воробьевых гор. Он делал наброски паровых машин, летательных аппаратов и даже лодок, которые должны ходить под водой. Но одна мечта все более властно пробивалась в сумбуре его механических фантазий. Постичь время! Ни больше ни меньше. Он задумал серию опытов. Воздушные шары играли в них большую роль, но возможностей строить их не хватало. – Деньги, деньги! – говорил он. – Никто не давал денег! Кому нужны мои опыты? Лет двадцати он перебрался за границу, чтобы там попытаться сколотить средства. В Германии сумел прослушать несколько курсов Гейдельбергского университета, на учение зарабатывал летом в портах или на баварских виноградниках. Там же ему пришла в голову мысль, что если выдать себя в России за ученого немца, то можно добиться денег на опыты. Он пристально следил за сведениями о первых аэростатах и даже ездил во Францию, чтобы посмотреть школу воздухоплавания в Мобеже. Но Бонапарт уже закрыл эту школу и больше не строил шаров. – Аэростаты! Разве в них дело! – Он взмахивал рукой. – Но даже французский император давал на них деньги! Деньги, мне нужны были деньги и целые годы на опыты! Дальше биография Лепихина совпадала с тем, что я успел о нем вычитать. Он выправил себе документы на имя Франца Леппиха, уроженца Мюдесхайма, прибавив для солидности несколько лет. Год служил в инженерных войсках Виртембергского герцогства, а потом познакомился с русским посланником при Штутгартском дворе. Как и рассчитывал Лепихин, русский император заинтересовался предложением ученого человека из Германии, хотя тот же человек, только в русском обличье, уже выдвигал такую идею, но не мог допроситься средств для работ. Леппих-Лепихин обещал построить управляемый воздушный шар для военных целей. И вот он снова в России. Ему отведено целое имение, император Александр пишет об этом секретные письма, а генерал-губернатор Ростопчин пылко увлечен новой идеей спасения отечества. Он требует, чтобы с шара можно было забросать французскую армию разрывными снарядами. – Он верит во всякую чепуху! – сказал Лепихин. – Но вы обещали такой аэростат, – сказал я. – Никогда! Я только уклонялся от разговоров на эту тему. Если бы граф хоть что-нибудь смыслил, то понял бы, что шар не поднимет и пяти человек, не то что сто пудов бомб, которыми он хочет разнести в клочья французов. Ведь сколько раз смотрел чертежи и приезжал сюда! Этот граф, как красная девица, без ума влюбляется в то и другое, желает неисполнимого и ничего не видит перед собой. Потом он сказал: – Шар в смысле военном годится только для наблюдения, как у французов при Флерюссе. Но мне это не важно. С нашим бестолковым начальством не будет толка ни от какого шара. Другое мне нужно, другое!.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
|||||||