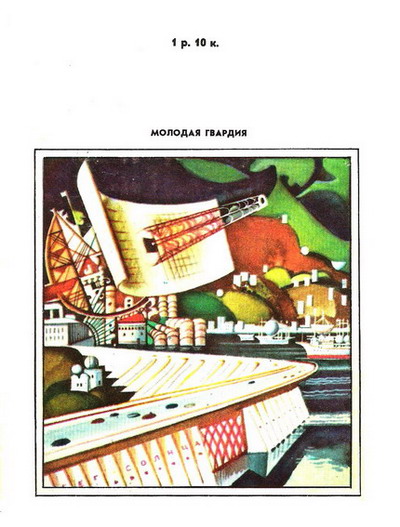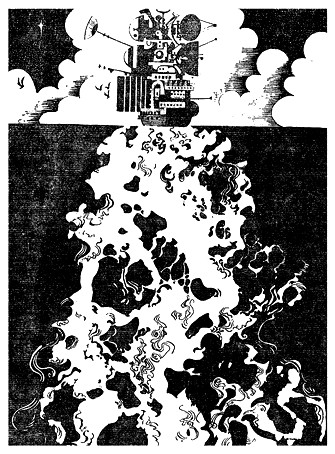Город стал похож на светлое облако. Рядом угадывались громады сопок, они постепенно закрывали свет. Пологие черные спины их поворачивались, медленно выстраиваясь в ряд. «Гондвана» выходила в залив навстречу океану. Я стоял на палубе до полуночи. Ветер доносил с далекого берега дыхание осени, первых морозов, снега, выпавшего на горных перевалах, свежесть леса. А над головой — высокие, по-южному яркие звезды.
Палуба незаметно опустела.
Я спустился в каюту, открыл окно-иллюминатор. В мой сон вошло светлое зарево города над морем, уплывавшего куда-то далеко-далеко, на край света, и я силился вспомнить (тоже во сне, конечно), где же это я видел его только что? И темные спины прибрежных сопок, и ровный блеск звезд?..
Сон кончился.
За бортом что-то происходило: легко толкали корабль волны, и набегал порой шквал, и недремлющее море говорило и напевало голосами северных и западных ветров о тайнах и давних историях. И так, казалось, будет вечно: ни автострад, ни террапланов, ни башен из стекла, бетона и пластика. Ни редакционной суеты…
Под утро мне снова представился остров. Обычный остров, какой может каждому представиться. И шлюпка. Я погружу в нее месячный запас провизии на закате, когда море окаймлено прощальным багрянцем, отчалю от борта. Пусть будут долгие дни пути — я войду в синюю молчаливую бухту. Остров должен быть необитаем, примерно пяти миль в окружности. Он может быть гористым, с пещерами, скалами, гротами или, на худой конец, ровным как стол, но с пальмовой рощей и лагуной — там, в жемчужном венце прибоя, я искал бы устричные раковины, нырял за крабами, спасался бы от акул и осьминогов. Такой оборот событий казался особенно желанным, когда мне приходилось листать полузабытые книги. Частые прогулки в батискафе роскошь, недоступная морским бродягам прошлых веков, — не могли излечить от легкой ностальгии. В конце концов, все отдаленные предки наши вышли из ласковых морских пучин, а кое-кто, у кого мозг побольше человеческого, успел и сумел вернуться в благодатные жизнеобильные края (дельфины, например, или касатки).
Итак, остров… Из бревен, выброшенных прибоем, я сколотил бы лачугу, крышу покрыл бы длинными листьями (вероятно, пальмовыми), прорезал бы два окна — одно, побольше, с видом на берег; другое, поменьше, выходило бы на склон, поросший кустарником. Из широкой доски сколотил бы стол, два стула, полки; тетради, записные книжки — исключительно из высушенных листьев (писать пришлось бы кисточкой, но чем больше внешних препятствий самому процессу письма, тем выше качество, уж это-то я знал твердо). И стол, и стулья, и полки пахли бы морем, водорослями, рыбой. Из камней я сложил бы камин. Наверное, пол был бы тоже каменный. Из скорлупы кокосового ореха вышла бы лампа, которую нужно заправлять акульим жиром и ставить на камин или на стол темным звездным вечером. Под окном шуршали бы сухопутные крабы и ящерицы, выклянчивая подачку. В углу хижины висели бы огромные снизки сушеных плодов, вкус которых хорошо известен по многочисленным описаниям они мучнистые и сладковатые.
Эффект необитаемости — так я назвал про себя эту тягу к морю и безлюдному острову с пальмами и янтарными пляжами. Я отлично осознавал, что островов таких осталось немного. На больших, давно освоенных островах на каждого краба приходится два терраплана или эля. Но даже там, у берега, на дне цвели еще первобытные сады. В подводных джунглях бродили покрытые панцирями существа, ползали морские звезды, порхали рыбы-бабочки и, как сказочные гроты и замки, высились громады кораллов. Право на такую мечту есть у каждого. На то и воображение, чтобы ставить мысленные эксперименты.
Иногда я ловил себя на желании узнать побольше о человеке по тому, как он относится к подобного рода замыслу. Но я далеко не был уверен, найдутся ли у меня на «Гондване» единомышленники. Судно шло в свой пятнадцатый исследовательский рейс, следовательно, народ попривык к романтике. Океаны. Вулканы. Подводные хребты. Заповедные архипелаги. Флора и фауна всех континентов. Это их будни. Что мои воскресные прогулки на эле или месячные поездки! Я уж не говорю о тех островах, куда ни элям, ни террапланам приземляться не разрешалось. (А «Гондване» они были доступны, как же иначе!)
Удивляли безлюдье, тишина, всеобщая неторопливость. «Гондвана» словно присматривалась к океану. Словно только так можно понять его нрав, выведать тайны.
Учтивые киберы сновали всюду, но, в общем, почему-то старались не попадаться на глаза. Вскоре я понял причину: на борту «Гондваны» был Энно. Однажды утром мы познакомились.
…Рассвет. Солнце вот-вот вынырнет. А пока становится все ярче алый свет над серой застывшей гладью. Я поднимаюсь на палубу и замечаю необыкновенное оживление. Поблескивая полированными боками, суетятся киберы. И каждый из них старается за двоих. (Может быть, так лишь казалось: механизм ведь точно рассчитан, из него не выжать больше того, что заложено создателем.) Откуда ни возьмись появляется статный бородатый человек. Вовсе не старик. Глаза пронзительно-светлые; серьезные. В рядах роботов замешательство. Кто-то падает. Живописная свалка, куча мала… Они бегут кто куда!
— Чтоб духу вашего здесь не было! — кричит бородатый человек и грозит им вслед кулаком.
Я не без интереса наблюдал сценку. Снасть в его руках точно живая. Пальцы у него длинные, ухватистые, подвижные. «Поработать не дадут, ворчит он, — дармоеды, олухи царя небесного!»
Он ловко вяжет канаты, крепит их к электрической лебедке, осматривает планктонные сетки, донные тралы, какие-то сложные глубоководные машины затейливой конструкции и непонятного назначения, проверяет шланги, датчики, провода.
Неожиданно он оборачивается ко мне.
— Подходи, научу! Киберу это ни к чему, а человеку пригодится.
Я подошел ближе и стал внимательно наблюдать. Сказать по совести, я никогда в жизни не видел ничего подобного.
— Тридцать три морских узла — это первая ступень нашего ремесла, сказал бородач как бы про себя. — Вот эти два троса, — он повысил голос, связаны прямым узлом, это значит, развязать его непросто, когда затянется. Если тросы толстые, нужно обязательно вставить клевант, видишь? А вот рифовый узел развязывается быстро…
И он показал мне, как вязать канаты, как крепить трос за скобу дрека, я узнал, что такое рыбацкий штык, найтовы, бензели, талрепы.
— Меня зовут Энно. — И он подал мне руку.
— Глеб, — представился я. — Журналист.
— Здесь все настоящее, — не без гордости заметил Энно, — фалы, гордени, шлюпбакштанги, шкоты, стеньги, мачты — все из натуральных материалов. Пенька, рангоутное дерево, сталь. Где еще увидишь такое? Кое-кто ворчит, разумеется. Не без этого… Но мало ли чудаков на свете, не правда ли?
Мимо нас пробежал маленький голубой кибер. Энно вернул его, деловито оглядел, потом спросил:
— Ну-ка скажи, дружище, как вязать шкентель с мусингами?
Кибер замигал и задумался.
— Отвечай, когда старшие спрашивают.
— Не знаю, — простодушно сознался кибер, — прошу извинить.
— Все в порядке, — сказал Энно, — исправен. Я их иногда проверяю: если сочинять начнет, значит, списывать надо с корабля.
— А без вас они справились бы?
— Может, и справились бы, да я не очень-то даю им экспериментировать. У них другой склад ума, да и практических навыков маловато. Боюсь, напутают.
Мы еще долго говорили, и я понял: он-то как раз не отказался бы побывать на острове! В тот день мы вышли с ним в океан на вельботе. («Гондвана» всю ночь шла к югу, а теперь остановилась над затерянной подводной долиной; трудно было бы говорить о ее курсе; в последующие дни плавание «Гондваны» напоминало броуново движение.)
Вельбот был очаровательно тихоходен и ненадежен. Энно расхваливал его морские качества так настойчиво, что я попробовал взглянуть на него другими глазами. И маленькая мечта об острове слилась отныне с вельботом Энно: ничего другого мне и не надо было.
…Мы шли со скоростью около двадцати узлов и скоро вошли в полосу прозрачной лазурной воды, теплой, как парное молоко. Метрах в ста от нас послышался всплеск.
— Повезло! — закричал Энно и тут же стал готовить линь с большим крючком (единственное разрешенное орудие лова). На крюк он насадил макрель и держал его наготове. Вельбот он направлял так осторожно, что это стало напоминать настоящую охоту.
Теперь и я увидел: впереди, совсем рядом с нами, дремала гигантская манта.
Скат утих, распустил крылья, и его плоское голубоватое тело казалось безжизненным, вялым, безвольным. Только выпуклые глаза, как я заметил секунду спустя, настороженно и смело разглядывали нас и нашу нехитрую снасть. На наживку этот зверь кинулся стремительно и жадно.
Макрель, насаженная на крючок, едва успела попасть в воду в двух метрах от борта, рядом с распластавшимся телом, над которым пробегали световые блики от легких волн. Морской черт схватил крючок с рыбой, и линь стал разматываться так стремительно, что я испугался. Рывок. Леса натянулась, и ее повело в сторону. Вельбот клюнул носом и пошел на поводу у пойманного нами ската. Нас слегка повернуло против ветра. Еще рывок. Линь пошел в другую сторону. Борт заскрипел, наше судно накренилось, и нас затрясло: в воде точно крутилось гигантское зубчатое колесо, неровно, но быстро, в лихорадочном ритме. Нет, рыба не тянула нас вперед или назад: скат явно не хотел катать нас бесплатно. Как злая лошадь, он брыкался. Мы не видели его, и потому казалось, что трос дергался сам собой, по странной воле сил, скрытых в толщах океана. Мне стало не по себе. Кто знает, что там, в невидимых сумрачных глубинах, действительно происходит? Уж не станем ли мы сами добычей?
Прошло несколько томительных минут. Скат уходил все глубже.
— Улов не по зубам, — заметил Энно и стал набивать трубку, как заправский морской волк из кино. Скат сделал маневр, снова дернул линь, Энно не удержался на ногах и выронил трубку за борт. Вельбот наклонился и едва не зачерпнул бортом воды. Энно вытащил из футляра широкий нож и полоснул по натянутому как струна линю. Освободившийся от нагрузки конец стеганул по борту, как кнут.
Наша охота закончилась неудачей, но я был доволен. Энно казался магом, единственным человеком, который еще умел управляться со шлюпками, парусами, якорями и тому подобными атрибутами морской старины. Я сказал ему:
— Только два средства передвижения подходят тебе, Энно.
— Какие же?
— Вельбот и машина времени.
…Вечер. Пустынное теплое море. Оно уснуло. Мы стоим на якоре: внизу слабо светится глянцевая вода, над ней возносится просторная палуба, освещенная огнями кают. А над головой — негасимые огни звезд. Их лучи приходят из всех точек пространства и времени. В бескрайнем просторе свет от них бежал неведомыми дорогами, потому что те пути, которые были измерены и вычислены астрономами, успели стать далеким прошлым, пока небесные огни стали видны нам.
Около полуночи подул ровный сильный ветер. Я хотел было уходить с палубы, да заметил невдалеке двух человек. Один из них был высок и худ. Я узнал Энно. Рядом с ним вспыхнул красный прожектор, луч его скользнул по палубе и ушел вверх. И словно растаял. «Локатор», — догадался я. Управлял им молодой человек, почти мальчик. Энно молча наблюдал. Я подошел к ним.
— Знакомьтесь, — сказал Энно, — навигатор всех наших автоматических аппаратов — зондов, батискафов, метеорологических ракет, глубинных буров.
Молодой человек приветливо, чуть небрежно кивнул.
— Мой ученик, — добавил Энно.
Еще один энергичный кивок. Опять вспыхнул багровый свет, как будто вокруг разлили красные чернила.
— Есть контрольный сигнал. Антенна в порядке, — негромко сказал навигатор.
— …Глеб, Николай, — назвал Энно наши имена.
— Запуск? — догадался я.
— Есть поправки на влажность и температуру, — негромко произнес Николай.
— Запуск, — сказал Энно. — Сейчас поднимем заатмосферную станцию.
— Это она? — я указал на овальный полированный контейнер, по крутым бокам которого скользили отсветы в такт с движениями антенны.
— Нет. Это энергоемкость. Станция на корме.
— Готов к запуску, — сказал Николай.
— Сейчас поднимем. Не спеши… Где же моя трубка? — Энно растерянно мял в руках кисет.
— Мы утопили ее, — напомнил я.
— Да, это была манта! — восхищенно пробормотал Энно. — Нам сегодня повезло.
— Повезло манте, — уточнил Николай. — А не Энно Рюону, который во второй раз не находит своей трубки. Отсалютуем океану!
— В мои годы можно позволить себе роскошь быть немного рассеянным, медленно, выговаривая каждое слово, произнес Энно и вдруг воскликнул: Давай!
В тот же момент щелкнул стандарт времени. Заработал ионный двигатель. Словно легкая метель пронеслась по кораблю. Над водой возвысилась радуга. И сразу же померкла. Зеленое пятно, рассыпая искры, поднялось над нами, погасило на мгновение звезды и понеслось в небо, оставляя на воде мимолетные блики.
Николай прильнул к наблюдательному стеклу прибора. Я давно уж потерял станцию из виду, а он еще долго после этого следил за полетом.
— Все. Пропала… — устало и весело сказал он.
— Пора, — сказал Энно. — Теперь ее след останется только на ленте. Она слилась со звездами. С туманностями. И стала неразличима.
Я заглянул в хрустальную прорубь оптического индикатора. Что это?.. Там мерцала зеленая искра. Станция?
Они по очереди прильнули к стеклу. Долго совещались, пока зеленая точка ползла с севера на юг, перебираясь из одного созвездия в другое.
— Спутник? — нетерпеливо спросил я.
— В том-то и дело, что нет… — задумчиво проговорил Энно. — Спутники я распознаю, как людей. По облику. По портретам. Да и он тоже… Николай.
— Другая станция?
— Ну, нет! Сегодня это наш квадрат. И никому не дано права работать здесь. Нам дали совсем крохотный участок, градус на градус, и притом на одни сутки, но отнять его никто не может.
— Посоветоваться с компьютером? — спросил Николай.
Энно поморщился, помолчал, потом сказал:
— Ладно.
Едва слышное щелканье клавиш… ноль-один, три-три, пять-два… шифр сектора, астрономические координаты, адрес оперативной и долговременной памяти. Ничего. Двадцать светящихся нулей.
— Адресует к центральному пункту, — устало и разочарованно сказал Николай.
— Вот они, компьютеры, — проворчал Энно. — Что в них заложишь, то и получишь, а когда надо… — И он безнадежно махнул рукой.
— Обращаться в центральный? — спросил Николай.
— Нет смысла, — ответил Энно, — скорее нам сообщат с континента, в чем дело. Будем ждать.
— Что бы это могло быть, как вы думаете?
Мой вопрос был чисто риторическим.
— Все, что угодно, гадать бесполезно, — скороговоркой ответил Энно.
— Значит, мы не сильнее компьютеров, — съязвил я.
— Увы, нет. Не сильнее и не умнее, — вполне серьезно, с расстановкой проговорил Энно.
Когда-то давным-давно жил я в сказочном краю, где были горы и реки, озера и тайга, чистые снега и просторные морские заливы, так что, куда бы ни пошел, придешь обязательно к морю, к его берегу. До горизонта вода, весной синяя-пресиняя, над ней чайки да пролетные птицы. Помню несколько оттенков летней воды: синий, зеленоватый, голубовато-серый, свинцовый, серебристо-желтый, и все тона и полутона живые, объемные, потому что свет, проникая в глубину, заставляет сиять само море и каждую волну, и каждый гребешок на ней.
Прилив быстрый, жестокий, пенный. В узкой скалистой расщелине многоводье долго терзало плоскодонку с пробитым днищем, лишь через несколько дней вынесло ее в открытое море. Чем не свидетельство морской катастрофы? И вот что странно: сколько бы книг ни прочитал я, сколько бы ни рассказывали бывалые люди о лихой судьбине, а вспомнишь море в бессонную ночь, и вот уж она — дырявая старая плоскодонка из далеких дней детства, и чужие слова и рассказы уступают ей место, а самые удивительные, казалось бы, случаи из книг и журналов забываются быстро. Что я могу вспомнить? «Марию Целесту», «Титаник»… А сколько прочитано!
Отливы стремительные, щедрые. Освобождается километровое поле серого песчаного дна, вдруг возникают зеркала озер, ямы с водой, лужайки с бессильно повисшими на камнях водорослями, из-под ног улепетывают коренастые прибрежные крабы, морские ежи сжимают иглы и на глазах врастают в песок, рыбья мелочь копошится в лужах, крупные червяки сами даются в руки — наживка, на которую хорошо идет навага. Раздолье. Когда было солнечно, перед нами открывался каждый раз новый мир, влажно сверкающий, зовущий. Если над крутыми прибрежными сопками блуждают туманы, в бухте уютно и чуть сумрачно, прибой утихает, весла ложатся на воду мягко, лодка идет споро — полюбились нам и такие дни. Переправившись через бухту, мы разводили на гальке костер, ставили чай в жестянке, на плоских раскалившихся камнях жарили рыбу, потом ловили крабов или собирали на крутом склоне сопки водянистую шикшу.
Однажды, возвращаясь в порт, мы увидели, как стоявший у причала огромный корабль вдруг стал разворачиваться кормой. Маневр показался нам нелепым. Еще мгновение — и корма теплохода задела буксир, стоявший рядом. Донеслись тревожные гудки, подала голос пронзительная сирена. Все в порту вдруг пришло в движение. Тревожно заметался луч прожектора.
— Тягун, — коротко сказал Янков.
Много позже я узнал, что тягун вызывается внутренними волнами: будто бы приходит невидимый, но сильный вал, который сдвигает корабли с места, срывает их с якорей, вызывает столкновения и аварии. А в тот давний день мой спутник коротко сказал: «Море качнулось». И я поверил. Янков был на год старше меня, но знал вдвое больше. Я уважительно звал его Борисом и охотно выполнял обязанности юнги: бегал за веслами, греб, привязывал лодку. Мы не были друзьями. Морские походы были для меня редкостью. Чаще всего Янков уходил на лодке со старшеклассниками. Это меня обижало, но через несколько дней, когда он дружески-призывно кричал мне с улицы и я видел, что он одет «по-морскому», обида мгновенно забывалась и я быстро собирался в путь.
Улица наша называлась Портовой: она отлого спускалась к самому морю.
Когда я думаю о прошлом, то оно как бы разрастается: приморский город теряется за чертой мысленного горизонта, его улицы превращаются в ослепительные проспекты, огни сливаются в сияние, и я ловлю себя на мысли, что так и не обошел его пешком в свое время. Портовая улица тоже вытягивается, я не помню, много ли было там больших домов и где она кончалась с противоположной от моря стороны. Та часть города, где я жил тогда, занимала весь пологий склон возвышения (его можно назвать холмом, быть может, даже сопкой). С этого возвышения хорошо просматривалась долина, и там тоже были дома. Река в долине делила город на две части. Висячий мост был хорошо нам знаком. У реки на песке летом цвели ирисы, серые большие птицы подлетали к воде, садились на гранитные валуны и поспешно улетали, как только наша ватага появлялась у берега.
Река с прозрачной водой несколько раз меняла направление и терялась в сопках. Воздух в той стороне казался синим, густым. И когда солнце клонилось к закату после долгого светлого дня, синева густела еще больше и долина пропадала в ней. Лишь зеленые от кедрового стланика горы оставались хорошо очерченными на фоне неба. Это были вторые ворота к морю. Река спешила к бухте Глубокой.
За мостом город опять взбегал на гору. Где-то был и другой мост для террапланов. Кажется, зимой мы бегали по нему на коньках. Так мы попадали в заречную часть города, все же никогда не добираясь до его окраины (даже у Янкова силенок не хватало).
Летом я хорошо видел другой берег. После полудня за рекой на взгорье светились желтые стены высоких старых домов. И это пустячное, казалось бы, воспоминание всегда тревожит меня. Желтые стены дальних домов казались недостижимыми, но там были люди, неизвестные мне и думавшие о чем-то своем, жившие своей жизнью. В этом я усматривал загадку. Наверное, в очень большом современном городе ничего похожего не испытаешь: даль закрыта небоскребами.
Зимой темнело быстро, только поля снега в широких распадках и на голых вершинах сопок сверкали закатными огнями, потом оставалось матовое холодное свечение. К пяти часам и оно гасло, таяло.
* * *
Совсем давно, еще до школы, я любил бродить по вздыбленным ветром сугробам. Жили мы тогда еще не в городе, а далеко от него, на метеостанции.
В поселке было двадцать-тридцать старых-престарых домов. На коньке пластиковой крыши над нашим подъездом я видел иногда белку. Испугавшись, она прыгала на одну из двух лиственниц, что росли рядом (их посадил мой дед), и замирала на вершине дерева.
У поваленного кедра за поселком после холодных ясных ночей я находил лосиные следы. Думаю, сохатый подолгу стоял и смотрел на огни человечьего жилья, не решаясь подойти и спрятаться от стужи близ домов.
Белые куропатки склевывали почки с розовых кустов, торчавших среди растрескавшихся каменных глыб. Темные бусины их глаз двигались на фоне снега, как будто ими играл ветер. За ними, прижав хвост, припадая и останавливаясь, хоронясь за заносами и белыми буграми, ползала лисица. Однажды я увидел ее совсем близко: мы подобрались к стае с разных сторон. (Я всерьез собирался поймать куропатку руками.) За большим серым камнем пути наши сошлись. Я увидел блестевшие колючки глаз, острую звериную морду и замер. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Потом лиса неторопливо пробежала мимо меня, проваливаясь в снег, и, остановившись поодаль, оглянулась.
Как-то я провалился; шел, шел, да и упал в яму, прикрытую снегом. Я как будто не испугался. Я едва дотягивался до глинистых промороженных краев неизвестно откуда взявшейся ловушки; выбраться из нее на волю мне бы самому не удалось. Я стоял на дне, по колено в снегу, который упал вместе со мной. Не помню, чтобы звал на помощь. Прошло примерно полчаса. Я увидел руку, протянутую мне, ухватился за женскую варежку и выбрался наружу. У моей спасительницы было серьезное лицо. Успел запомнить ее зеленое пальто с маленьким светлым меховым воротником и зеленую вязаную шапочку. Одета она была, пожалуй, не по-зимнему. Кажется, я забыл поблагодарить ее (в детстве я иногда забывал это делать). Ноги у меня озябли, и я направился прямо к дому.
Темнело. Когда через минуту-другую я оглянулся, женщины не было. Она как-то незаметно исчезла. А когда я рассказал эту историю отцу, он задумался на минуту и сказал, что женщины такой в поселке нет вообще.
— Как же, я видел! — удивленно воскликнул я, пытаясь убедить его.
— Могло показаться, — сказал он с тем удивительным хладнокровием, которое я не раз подмечал у взрослых.
Странная история. Продолжения у нее не было. Но я пытался придумать его… Я не забыл ту женщину.
* * *
…Прошло много лет. Октябрьским днем я вывел эль на загородное шоссе, сверкавшее после сильного холодного дождя. Со мной был друг. Мы сделали крюк, чтобы взглянуть на новый мост, державшийся на четырех металлических нитях. Над чистой темной рекой стелился белесый туман. Потом мы вернулись на шоссе. Машин было мало. С коричневых полей доносились влажные запахи земли. За полями виднелись лесистые холмы. Эль взлетел на подъем. Открылась легкая прозрачная панорама озера: голубоватый лес над массами дымчато-серебристой воды до самого окоема.
Дорога пошла вдоль мохнатого берега, и минуты две мимо нас скользил и струился влажный прохладный воздух, настоянный на хвое и озерных травах. Я уловил летучий аромат дыма, смолы и меда. Эль бодро пробежал мимо озера.
— Жаль, очень быстро, — сказал мой друг, очарованный мягкими красками осени.
Я повернулся к нему и что-то сказал. В тот же момент я заметил краем глаза большой шар впереди нас. Шар сиял, как большая жемчужина. Это было матовое ровное свечение с легким, едва заметным розовым оттенком. Мы быстро приближались к нему.
Впереди стеной стоял лиственный лес, украшенный багрянцем и золотом. Я различал там жаркие краски кленов и черемух, ярко-желтый цвет осиновой листвы, огненно-красные пятна кустов, исполинские кроны дубов.
Эль бежал вдоль пламеневшей стены леса. Рядом с высоким дубом, под самой его кроной светился шар. И возле него стояла женщина. Я узнал ее. Та же вязаная зеленая шапочка и пальто с меховым воротником: женщина из детства. Она как будто улыбалась.
— Смотри! — воскликнул я невольно в тот самый миг, когда узнал женщину.
Но эль проскочил мимо.
— Что случилось? — спросил друг.
Я махнул рукой. Слишком долго пришлось бы рассказывать. К тому же шар он просто не заметил. Когда мы вернулись, там никого не было… Только лес пламенел по-прежнему, и багряная его стена казалась бесконечной.
…Может быть, в этом и нет никакой тайны, просто я ошибся, вот и все. Что касается светящегося шара, то он вызывает в моей памяти случаи, рассказанные другими. Пожалуй, это загадка, если говорить искренне, и загадке этой двести лет.
Шар чем-то напоминает горящую лампу, но отгорожен как будто невидимым колпаком. Для меня эта встреча стала символом связи времен. Не исключено, что это одно из проявлений пространства-времени, которое с таким трудом поддается изучению.
Но загадку эту можно не замечать и не обращать на нее ровно никакого внимания.
Восемьдесят лет прошло с тех пор, как посланец Земли отбыл к созвездию Близнецов. И вряд ли о нем вспоминали: мириады пылинок на ночном небосводе, синих, голубых и зеленых, — это мириады миров. К ним неслись, обгоняя друг друга, новые и новые исследовательские станции. Сменялись поколения. А корабль шел, из дюз его вырывалось атомное пламя, хрустальные зеркала световых гироскопов направляли его курс, по металлическим нервам пробегали электрические волны, и в стеклянных глазах его пассажиров-киберов отражались небесные огни звезд, туманностей и комет.
Старая, полузабытая история… Наверное, даже в памяти компьютеров, бережно хранящих такого рода сведения, двойная звезда Близнецов была занесена в графу «необитаемые миры». Так именовались вселенские закоулки, куда еще не забрасывали на звездных ладьях лихие ватаги киберов — именно они-то и становились первопоселенцами планетных островов. Кому бы пришло в голову употреблять термин «обитаемость» в ином смысле? Ведь многократные попытки найти себе подобных кончались неизбежной, казалось, неудачей.
Звездный корабль напоминал допотопное чудище с шестью ногами-дюзами по вершинам правильного многоугольника — силового блока. Его радиоуши из-за перегрузок перестали быть похожими на зеркала-параболоиды, а за стеклами иллюминаторов угадывались потемневшие от времени реликвии века пара и стали.
И все же именно он доставил на Землю первое неопровержимое доказательство обитаемости отдаленнейших планет. Это о нем говорилось в утреннем сообщении:
«Космический зонд перенес на Землю живой организм растительного происхождения, обнаруженный за пределами солнечной системы… Растения похожи на водоросли и найдены на дне озера с горячей водой, на глубине около трехсот метров. Собраны образцы грунта. Ученые приступили к изучению находок».
Наверное, не случайно приснился мне в то утро сон: зачарованный подводный сад, легкая светлая вода, которую можно набирать в легкие, как воздух. Зеленоватые снопы света опускались до самого дна, где меж громадных камней скользили темные рыбы. Вокруг серебристое сияние. А вверху сверкало зеркало, но не было видно солнца. И не было волн на грани двух миров — подводного и надводного. Вдруг подплыла большая рыбина с умными глазами. Я ухватился за ее спинной плавник, и она понеслась так, что волосы, подхваченные стремительным водяным ветром, забились за моими плечами. Тело у рыбы было теплое, из-под жабр ее выскакивали воздушные пузырьки, и темно-зеленые губы шевелились, словно она силилась рассказать мне об этом зачарованном месте.
Становилось светлей, как будто мы поднимались вверх. Я пытался разобрать, что же бормотала необыкновенная спутница. Вдруг стало совсем светло. Я открыл глаза. И тут же услышал слово «Близнецы». Фон на «Гондване» включался ровно в семь.
…За окном, у моего изголовья, поднимался над морской далью красный теплый шар. Я еще не прислушивался к передаче — фон был для меня просто будильником. Но через минуту понял, что произошло то, чего можно было тщетно ждать годы и годы. Внеземную жизнь пытались обнаружить почти два столетия.
Вдруг я сообразил: на «Гондване» фон наверняка был с памятью.
Перевел стрелку с семи на шесть: музыка! Значит, фон все помнит. Я помог ему: подвинул вручную оранжевую стрелку на его деревянной элегантной панели еще на пару делений.
Я услышал подробности, относившиеся к полету. На всякий случай переписал в карманную память маршрут и координаты корабля в момент посадки. Еще раз увидел на объемном экране ракету.
Наверное, это можно назвать интуицией. Я смутно догадывался, что в сообщении словно чего-то не хватает: нет, не могла история межзвездного рейда окончиться так просто и буднично. И почему не показали ни образцы грунта, ни «первые живые организмы растительного происхождения»?
* * *
…Поллукс и Кастор, два главных светила Близнецов, удалены от нас на десять и четырнадцать парсеков. В день «второго открытия Близнецов» мы говорили о них с Энно даже на прогулочном вельботе. В тот же вечер звездный атлас рассказал мне о местах, откуда занесло к нам гостя. В круге света от лампы возникали контуры животных — кита, ящерицы, льва, ворона, рыси, змеи, обоих Медведиц — Большой и Малой. По странной прихоти астрономы вознесли на небо и стали писать узорчатой прописью: птицу Феникс, Летучую Рыбу, Голубя, Лисичку, Волка, Лебедя, Орла, Дельфина, Малого Коня.