 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: БСЭ :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Картленд Барбара :: Кларк Артур Чарльз :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Аскольдов Дир :: Дюна (Книги 1-3) :: Справочник по реестру Windows XP :: Король-Воитель :: Покупаем Юпитер :: Шесть рассказов :: Дезертир :: Тайны сибирских алмазов :: Жизнь с идиотом |
Колесница ГелиосаModernLib.Net / Историческая проза / Санин Евгений Георгиевич / Колесница Гелиоса - Чтение (Весь текст)
Евгений Георгиевич Санин КОЛЕСНИЦА ГЕЛИОСА  КНИГА ПЕРВАЯ Светлой памяти моей матери, открывшей мне неведомый мир античности. Если раб увидит во сне, что он освобожден, это означает смерть. Ибо только она освобождает раба от господина и от труда. Предисловие Последняя треть второго века до нашей эры вступала на изнемогающую от кровавой брани землю. Всюду, куда только ветер доносил звуки человеческого голоса, где шумели города, зеленели пашни, цвели сады, — люди воевали или готовились к войне. Скифы — с фракийцами, сарматы — с предками славян, египтяне — с сирийцами, парфяне — с армянами: не было такого дня, чтобы где-нибудь не скрещивались булавы с мечами, махайры с копьями, пики с палицами, чтобы не лилась человеческая кровь после короткого свиста нашедшей свою жертву стрелы. Слезы и смерть правили миром в то жестокое время. И все-таки жизнь брала свое. Как выросшие каким-то чудом среди гранитных скал былинки, таилась на земле любовь, жило искусство, дарила людям недолгое счастье нежность. Во Фракии и в Испании, в Армении и Парфии рождались дети, они отстраивали разрушенные города, возрождали выжженные сады и создавали поэмы и статуи, которые до сегодняшнего дня поражают наше воображение. Но было на земле и такое место, где пепелища зачастую так и оставались пепелищами, а руины — руинами. Имя ему — Средиземноморье. Первые две трети века пронеслись по многим его городам, грохоча обитыми гвоздями калигами римских солдат, сверкая серебряными орлами их непобедимых легионов, скрипя колесами обозов, наполненных награбленным добром. Стон и проклятья стояли над развалинами столиц и поселений, над бесконечными вереницами вчерашних пахарей и гончаров, кузнецов и поэтов, женщин и детей, уводимых угрюмыми легионерами в рабство. Казалось, не было в мире силы, которая могла бы спасти человека, будь он царем или рабом, от неумолимых римских когорт… Сокрушив в начале века Карфаген, Рим стал безраздельно господствовать в Западном Средиземноморье. Но уже вскоре это показалось ему недостаточным. Высмотрев новой жертвой Сирию, он подкупом, обещаниями и угрозами собрал вокруг себя многочисленных союзников и разгромил царство Антиоха Великого, вся «вина» которого заключалась в том, что он попытался присоединить к себе Грецию, чье богатство давно уже притягивало жадные взоры самого римского сената. Затем настал черед и самих союзников. Первой участь Сирии разделила некогда могущественная Македония. Римский консул Эмилий Павел в битве при Пидне нанес страшное поражение царю Персею и провел его перед своей триумфальной колесницей по ликующим улицам Рима. Потом подошла очередь острова Родос и Ахейского союза. Лучшие лучники мира, воины знаменитой македонской фаланги, ахейские пехотинцы-гоплиты теперь сами стали рабами и подданными великого Рима. Была отправлена в Италию заложниками и тысяча знатных греков. Но даже это не спасло Грецию от римского владычества. В печально знаменитом 146-м году до нашей эры почти одновременно с разрушением Карфагена был стерт с лица земли цветущий город Коринф. Оставшиеся в живых его жители были проданы в рабство, и с этого часа великая эллинская страна потеряла свою самостоятельность, превратившись в римскую провинцию[1] «Ахайя». К началу 620-го года от основания Рима[2] в число таких провинций, из которых наместники и римские купцы и ростовщики выкачивали все богатства, уже входили Италия, Сицилия, Корсика, Сардиния, Македония, Испания… «Вечный город» напоминал огромную акулу, переваривающую добычу и уже жадно поглядывающую на весь остальной мир, как бы собираясь заглотить его целиком. Останавливало его лишь то, что в последнее время ослабела армия республики, и все неспокойнее становилось в самом Риме. Воспользовавшись этим, восстала Испания. Упорно держалась в течение вот уже семи лет ее небольшая крепость Нуманция. Вновь ожила Сирия, а в пограничной с Италией Сицилии появилось целое царство восставших рабов. И тем не менее Рим продолжал оставаться самым могущественным и ненасытным государством мира. Поправить его финансовые дела, дать новых рабов и земли могла только новая провинция. Становилось ясно, что недалек тот день, когда римские легионы превратят в нее еще одно свободное царство. Но какое?.. В понтийских гаванях и пергамской библиотеке, в александрийском мусейноне и афинских термах, в иудейских дворцах и даже в далеких галльских хижинах только и говорилось об этом… ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  1. Филоромей [3] В мужской половине скромного дома Эвбулида, состоявшего, как и большинство афинских жилищ, из двух комнат-клетушек, задолго до рассвета собралась вся его семья. Морской ветер порывами налетал на дверь, и в обогретое лишь пламенем жаровни помещение доносилось влажное дыхание аттической зимы. Сам Эвбулид, сорокалетний грек с открытым, рано располневшим лицом, сидел за низким столиком и перекладывал из ларца в кошель серебряные монеты. — Сто пятьдесят пять, сто пятьдесят шесть, сто пятьдесят семь, — приговаривал он, посматривая сияющими глазами на жену и детей. Те, в свою очередь, неотрывно следили за каждым его движением. Крупные монеты с профилем Афины Паллады выглядели вызывающе среди убогой обстановки: старых клине-лежанок, грубых сундуков, дешевой глиняной посуды по углам. Единственной дорогой вещью в доме был мраморный канделябр в виде вазы, купленный хозяином полмесяца назад в лавке римского торговца. …В тот день, засидевшись в харчевне, Эвбулид явился домой навеселе и прямо с порога заявил жене: — Радуйся, Гедита, с этого дня мы начинаем новую жизнь! — Этого нам только не хватало… — проворчала Гедита и с укором взглянула на мужа. — Дети голодные, а ты тратишь деньги на вино. Небось, еще и угощаешь своих друзей, любителей выпить за чужой счет… — Глупая женщина! Я говорю правду! — воскликнул Эвбулид. — У нас теперь есть своя собственная мельница! — А может, новый дом или земельный участок за городом? — Будет тебе и участок! И новый дом, и дорогая мебель с фигурными ножками. Все будет! Но сначала нам принесут целую кучу денег, которую я одолжил у одного оч-чень хорошего человека! — Иди спать, Эвбулид! — не поверив ни одному слову мужа устало посоветовала Гедита. — Да, и когда принесут эту кучу денег, не забудь предупредить, чтобы сняли обувь за дверью… Однако Эвбулид вопреки обыкновению не спешил на свою половину. Хитро прищурившись, он вытянул вперед руку, которую до этого держал за спиной, и показал канделябр. — Значит, не веришь! А это тогда что? — О боги! — всплеснула руками Гедита, глядя на вырезанное в центре канделябра изображение Гелиоса, мчащегося в своей колеснице. Белые лошади, бог в лучистом венке, ужасные скорпион и рак были, словно живые. — Неужели в Афинах еще есть люди, которые могут позволить себе такую роскошь?.. Гедита проворно вытерла руки о край хитона, осторожно дотронулась до розового мрамора. Камень был нежным и гладким, как кожа ребенка. Подняла на мужа недоуменные глаза: — Откуда это? — Из самого Рима! — Тебе дал его на время кто-то из друзей? Надолго? Хорошо, если на весь завтрашний день, чтобы дети смогли налюбоваться им!.. Загадочно усмехаясь, Эвбулид поставил канделябр на столик, закрепил на подставках-лепестках три бронзовых светильника, залил их маслом и поднес поочередно к каждому раскаленный уголек. Весело затрещали фитили. Яркие язычки пламени наполнили комнату непривычно ярким светом. — Как красиво… — прошептала Гедита. — Еще бы! — важно заметил Эвбулид. — Ведь я купил этот канделябр, как символ нашего будущего богатства. И, зная твой несносный характер, как доказательство того, что я не лгу! — Так он — наш?! — Так же, как и твой заплатанный хитон! — И значит, мельница с кучей денег… — Мельница и двенадцать мин![4] — Правда?! Всю ночь Эвбулид не спал, обсуждая с женой, как счастливо они заживут, когда мельница начнет приносить им доход. Это уже не остатки от наследства умерших родителей и не жалкие пособия государства, которые едва позволяли сводить концы с концами! Эвбулид быстро успокоил Гедиту, что долг — дело обычное, многие афиняне теперь прибегают к его помощи, чтобы вырваться из нищеты, и она мечтательно шептала: — Первым делом соберем приданое для Филы! Девочке скоро двенадцать лет, еще год-другой, и пора будет замуж. — Выдадим ее за богатого афинянина! — Богатого и красивого, а еще — умного: пусть будет счастлива! — Диоклу справим новую одежду. Стыдно смотреть на него: парню тринадцатый год, а он ходит в лохмотьях! — Клейсе — красивую куклу… — Тебе — отрез на новый хитон и рабыню по хозяйству! — А твой римский друг не обманет? — вдруг испугалась Гедита. — Не передумает? — Квинт? Никогда! — засмеялся Эвбулид и торопливо зашептал: — Он уже дал мне сегодня сто драхм. И дал бы еще, да больше у него при себе не оказалось. Но он пообещал, что остальные через полмесяца принесет его раб! — Как это было бы хорошо… Наутро Гедита первым делом поспешила к жене соседа Демофонта поделиться радостью. Но та неожиданно огорчила ее. Целый час она рассказывала о жертвах ловких ростовщиков, окончательно разорившихся или даже проданных в рабство, обещала подробно разузнать все о мельнице и о римлянине, и так напугала Гедиту, что теперь она смотрела на монеты с нескрываемым ужасом. Несколько раз она порывалась остановить мужа и просить вернуть эти деньги пока не поздно. Но унылый в последнее время голос Эвбулида был таким ликующим, а всегда озабоченное лицо его излучало столько радости, что готовые уже сорваться слова замирали на языке. И Гедита, чтобы удержать слезы, только крепче прижимала к губам край хитона. … — Сто шестьдесят три, сто шестьдесят четыре, — словно почувствовав ее состояние улыбнулся жене Эвбулид. Подмигнул сыну: — Сто шестьдесят пять! Диокл, худой и юркий, как все дети Афин в его возрасте, мигнул в ответ сразу обоими глазами и снова впился в серебро восторженным взглядом. Фила зевнула в кулачок и украдкой оглянулась на дверь гинекея, где ее ждала, наверное, уже остывшая постель. Пятилетняя Клейса, укутанная в обрез старого гиматия, наклонилась к глиняной кукле и стала тихонько напевать, баюкая ее. — Диокл, не ослепни! — посмеивался подмечавший все вокруг Эвбулид. — Фила, так ты и свое приданное проспишь! Армен, а ты что — тетрадрахму решил проглотить?[5] Высохший, болезненный раб закрыл рот и горестно усмехнулся: — Зачем мне теперь серебро? Впору уже обол Харона[6] за щеку, да только нам, рабам, не положено… Он закашлялся, схватившись рукой за грудь, и так надсадно и долго хэкал горлом, что Эвбулиду самому захотелось прокашляться за него. Он с жалостью покосился на своего единственного раба и сказал: — Что закон жалеет для вас даже медный обол — это так. Но здесь все свои. Придумаем что-нибудь, когда Аид позовет тебя в свое печальное царство. — Как будет угодно господину… — благодарно взглянул на Эвбулида Армен. — Лишь бы у него потом не было неприятностей. Я уже и на могильную плиту накопил, господину останется лишь сделать надпись, какую он сочтет справедливой… — Это будет длинная и красивая надпись! — пообещал Эвбулид. — Как тебе нравится, скажем, такая: «Здесь отдыхает от земной жизни самый преданный и покладистый раб Афин — Армен, двенадцать лет верой и правдой прослуживший в доме Эвбулида. Кто бы ты ни был, прохожий, — свободный или раб, как и я — прощай!» — Нет! — всхлипнул Армен и замотал головой. — У господина будут неприятности, что он похоронил раба на кладбище, вместо того, чтобы бросить на свалку за городом. Пусть господин оставит одно только слово: «Прощай». Он задумался, но монеты, мелькавшие в руках Эвбулида, отвлекли его от печальных мыслей. Подбородок Армена опять отвис, обнажая беззубый, с острыми осколками корней рот. Морщинистое лицо раба выразило крайнюю степень изумления: откуда вдруг такое богатство в доме, где еще вчера за счастье почиталось иметь лишний обол?.. — Сто восемьдесят… Тонкие, холеные пальцы Эвбулида потянулись к теплу светильника и, подрагивая, замерли над ним. Холодна зима в третьем году 161-й Олимпиады[7], и, хотя как обычно, не принесла она в Аттику ни снегов, ни мороза, — этот предрассветный ветер с моря, эти дожди и промозглые туманы в этот раз кажутся особенно невыносимыми. Хвала богам, что наступил антестерион![8] И вот что особенно приятно было Эвбулиду: именно в этот месяц возрождения природы его семья начинала новую жизнь. Это ли не доброе предзнаменование самих богов? Довольная улыбка раздвинула его полные губы. Снова и снова переживал он тот счастливый миг, когда перед зданием суда он вдруг заметил лицо, поразившее его знакомыми чертами. Высокий стройный человек в римской тоге с усмешкой на тонких губах явно сердито выговаривал что-то склонившемуся веред ним афинянину. Где-то уже встречал Эвбулид этот презрительный взгляд, а еще суховатые щеки с острыми скулами, прямой нос, чуть навыкате глаза. Но где? Когда?.. Римлянин неожиданно оттолкнул рухнувшего к его ногам афинянина, замахнулся… И Эвбулид вспомнил: ночной бой у Карфагена, осажденного римской консульской армией и их вспомогательным отрядом… Жестокая схватка на стене, куда привел отчаянных смельчаков бесстрашный Тиберий Гракх… Занесенный над головой римского центуриона[9] длинный меч пуна и страшный удар его, Эвбулида, македонской махайрой по несущей смерть союзнику руке… Сомнения не оставалось — это был тот самый центурион. — Квинт! — радостно закричал Эвбулид, бросаясь к нему. — Пропорций!! Римлянин недоуменно повел головой. Остановил удивленный взгляд на Эвбулиде. Брови его узнавающе дрогнули. — Эв… булид?! Потом они сидели за кувшином вина в харчевне, куда Эвбулид затащил старого боевого друга. Квинт Пропорций, подобрев от второй кружки вина, стал упрекать его за то, что он живет в неподобающей славному прошлому нищете. — Но что я могу поделать? — разводил руками Эвбулид. — Хотел взять в долг, чтобы обзавестись прибыльным делом, да никто не дал даже двух мин! Кто может поручиться, что я не только выплачу проценты, но и верну сам долг? И потом, Квинт, у кого занять? Теперь в обнищавших Афинах таких, как я — считай каждый второй! Есть еще, правда, твои земляки, римские ростовщики, но мы, афиняне, м-м… боимся их! — Боитесь? — стукнул кулаком по столу Квинт. — Скажи прямо, что ненавидите нас! — Но, Квинт, ты должен понять моих земляков! — примирительно заметил Эвбулид. — За что грекам любить вас? Тебя я не имею в виду — ты мой друг, и мне хорошо известны твои честность и мужество. Но скажи: зачем Риму далась наша Греция? Воевали б и дальше с варварами, а мы бы помогали вам, как под Карфагеном или в Сирии. Так нет — зачем-то вам понадобилось разрушать прекрасный Коринф, играть на бесценные сокровища его храмов в кости! Ведь вы захватили всю Грецию, спасибо хоть для Афин сделали исключение… — Я воин! — багровея, уставился на него тяжелым взглядом Пропорций. — Что приказали, то и сделал. Приказал консул[10] Сципион Эмилиан сравнять с землей Карфаген — сравнял. Повелел сенат разрушить Коринф и продать его жителей в рабство — разрушил и продал. Ну а ценности храмов… Надо же было нам как-то развлечься после тяжелых боев! И потом — подумаешь ценности! Консул Муммий, отправляя наш корабль с ними в Италию, приказал: «Если с этими картинами, статуями и расписными вазами что-нибудь случится, если они разобьются или утонут, то вы должны будете изготовить новые, причем точно такие же!» И если бы так случилось, если б Нептун послал бурю или Марс — вражеские корабли, то изготовили бы! Приказ консула — высший приказ для римского воина! — Квинт, ты говоришь сам не зная что! — воскликнул ошеломленный Эвбулид. — Разве можно изготовить вторую Афродиту Праксителя или «Медею» Тимомаха?![11] И потом, выходит, если тебе прикажут идти на Афины… — Я воин! — вместо ответа повторил Квинт. — И если сенат решит взять Афины и продать в рабство твоих Просителей и Тимомахов — возьму и продам. Или прикажет консул убить тебя, и… — он красноречиво провел ребром ладони по горлу и вдруг расхохотался: — Ну ладно, ишь как побледнел! К тебе это не относится. Ведь ты однажды спас мне жизнь! А я умею платить добром за добро. Твое счастье, что ты встретил меня! Видел сегодня около меня грека? Это мой должник. Я через суд отобрал у него мельницу. С этой минуты она — твоя! — Квинт!.. — весь неприятный разговор мигом вылетел из головы Эвбулида. Он обхватил римлянина за плечи, заглянул ему в лицо: — Это правда? Ты… не шутишь?! — Разве я когда-нибудь шутил? — Но тот несчастный! — замялся Эвбулид. — Что теперь будет с ним? — А это уже его дело! — нахмурился Квинт. — И вообще — он или ты спас мне жизнь под Карфагеном? Почему я должен заботиться о нем? Ты говоришь, что тебе никто не хочет дать в долг? Я дам! Квинт небрежно бросил на стол тяжелый кошель. Развязал его, пересчитал монеты: — Здесь сто драхм, ровно одна мина. Завтра мой раб принесет тебе еще десять, даже — одиннадцать мин! — Квинт, так много… — Ровно столько, сколько нужно для начала выгодного дела. Суди сам: чтобы вертеть каменные жернова на мельнице тебе понадобятся ослы или мулы. Но у вас, в Афинах, они дорого стоят. И потом, как сообщил мне брат, этой весной ожидаются высокие цены на корма. Поэтому купишь на эти деньги пару подходящих рабов. Это обойдется дешевле. Ну и приведешь себя в порядок! — Квинт, ты спасаешь меня! — вскричал Эвбулид. — Тогда мы квиты, и совесть моя отныне спокойна! — кивнул Пропорций и деловым тоном посоветовал: — Дело веди, как следует, чтобы не получилось как с этим греком. Не хватало еще мне судиться со своим боевым товарищем! А какими будут проценты с мельницы и двенадцати мин, я подумаю… — Конечно, дружище! — кивал ошалевший от счастья Эвбулид. — В первый же нумений[12] я куплю рабов и тем же вечером с нетерпением буду ждать тебя на ужин!.. И вот этот нумений пришел… … — Сто восемьдесят один, сто восемьдесят два, — возобновил счет Эвбулид, стараясь отогнать навязчивую мысль, что он мог не встретиться с Квинтом. Мало ли: суд назначил бы тяжбу римлянина с должником на другой час, или он начал бы свой день с посещения гимнасия или цирюльни, а не здания суда… — Да… — зябко поежился Эвбулид. — Если бы я не увидел Квинта… — Не слишком ли ты доверяешься этому римлянину? — осторожно спросила Гедита. — Соседи говорят, что его мельница готова вот-вот развалиться. — Молчи, женщина! — скорее по древней традиции, чем со зла одернул жену Эвбулид. — Ты еще будешь вспоминать его имя в своих молитвах и обетах! — Да я хоть сейчас дам обет молчать целый месяц, лишь бы этот Квинт сегодня покинул Афины и забрал у нас все, что дал! Ведь на этой мельнице всего один раб… И к тому же совсем слепой! — Да, он слеп, — согласился Эвбулид. — Но дело свое знает лучше всех зрячих мельников Афин, вместе взятых! Он вспомнил свое первое посещение мельницы, тягостное чувство при виде ее покосившихся стен и уверенные слова Квинта: «При хорошем старании на этом месте через пять лет можно выстроить целый дворец из мрамора!» Эвбулид привлек к себе Гедиту, успокаивающе сказал: — Поверь, этому старому мельнику нужно двух, самое большее — трех рабов в подмогу. И тогда мельница будет приносить большой доход! Нам хватит денег и расплачиваться с Квинтом и самим жить в достатке! — А как это — в достатке, отец? — воскликнул Диокл. Эвбулид мечтательно прищурился. — А чтобы не ворочаться по ночам от мысли, что твоей матери придется наниматься на рабскую работу и идти в кормилицы, как это сделала жена нашего соседа Демофонта. Что тебе самому надо становиться позолотчиком шлемов или резчиком гемм, потому что в доме кончились деньги и неоткуда их взять. Нет, сын! Уж лучше самому носить позолоченный шлем и видеть такую гемму готовой — в перстне у себя на пальце! — Отец, я тоже буду носить позолоченный шлем и золотой перстень с самой красивой геммой! — закричал Диокл, не сводя с серебра загоревшихся глаз. — И это будет справедливо, ведь ты — свободнорожденный! — кивнул Эвбулид, с детства привыкший, как и все афиняне, с презрением смотреть на любой труд. Проводя все дни в развлечениях и степенных беседах, он был уверен, что труд — это удел рабов, а его долг — развивать свой ум и поддерживать в бодрости тело, чтобы быть достойным гражданином Афин. — Двести пятьдесят тетрадрахм или десять мин! — наконец провозгласил он, бережно похлопал кошель по вздувшемуся боку и высыпал оставшиеся в ларце монеты прямо на стол: — А эти полторы мины нам на безбедную жизнь и на то, чтобы достойно угостить сегодня ужином Квинта Пропорция, да хранит его Геркулес! — Геракл! — укоризненно поправила мужа Гедита. — С тех пор, как в Афинах появился этот Пропорций, ты даже наших богов стал называть по-римски, и они отняли у меня покой. Эвбулид, прошу тебя, одумайся! Открой глаза! Мельница, целая гора драхм — чем мы станем расплачиваться с ним? Говорят, он берет очень высокие проценты! — Все теперь берут высокие проценты! — Но не все грозят своим должникам подать в суд и продать за долги их мастерские, а самих их — в рабство! — Пусть это заботит других! — махнул рукой Эвбулид, умалчивая о прежнем владельце мельницы. — И вообще, слушала бы ты поменьше кудахтанье соседок! Запомни: мы с Квинтом — друзья! — Ну раз друзья — почему тогда проценты? — Уверен: это будут самые низкие проценты в Афинах! — А помнишь Фемистокла? — потеплел голос Гедиты. — Вот это был действительно друг. Вспомни: ведь это его эранос[13] спас нас от голодной смерти, а Филу — от тяжелой болезни! Как это несправедливо, что его изгнали из Афин лишь за то, что он хорошо отнесся к чужому рабу! Где он теперь? Жив ли?.. — Судьба изгнанника тяжела, — вздохнул Эвбулид, вспоминая яростного спорщика, а в сущности мягкого и доброго Фемистокла. — Многие из них попадают в рабство, лишившись поддержки родного города… — Но для вас, афинянин, это страшнее смерти! — ужаснулась Гедита. — Ведь вы совершенно ничего не умеете, не знаете ни одного ремесла! Вы изнежены, как дети! — Ты, кажется, забыла, что я воевал? — распрямил плечи Эвбулид. — Когда: двенадцать лет назад? А с тех пор вспомни: ты хоть раз оделся без помощи Армена? Или сделал что-нибудь своими руками? — Я? Афинянин?! — Ну да: подправил жаровню, заделал щели в двери, починил крышку сундука? — Своими руками?!! — А что? Не считает же зазорным Демофонт, такой же свободный афинян, как и ты, заниматься ремеслом! Все очень хвалят шлемы, которые он золотит… — О боги, слышал бы сейчас эти слова Квинт! Воспользовавшись спором родителей, Диокл изловчился и схватил лежавшую на краю столика монету. Армену он жестом объяснил, как вырывают глаз у слишком наблюдательных рабов, а распахнувшей глаза Клейсе показал остроклювую сову на монете и угрожающе промычал: — У-уу! Девочка заплакала. Гедита прижала ее к себе и снова принялась осыпать мужа упреками: — Все Квинт, Квинт, — ты прямо помешался на нем и на всем римском! Скажи, зачем ты купил этот мраморный канделябр? Из-за него соседи прозвали тебя филоромеем! Только богатые и беспечные римляне могли придумать такое расточительство! Мало того, что он дорого стоит, так на нем еще и три светильника — разве на них напасешься масла? — А тебе не надоел наш старый, глиняный, в котором вместо масла вообще трескучая пакля? От его жалких благовоний вечно свербило в носу! — не на шутку вспылил Эвбулид. — Все стены от копоти чернее моря в безлунную ночь. Мне будет стыдно сегодня перед Квинтом, что мы живем в такой нищете! И вообще, что ты, женщина, можешь понимать в деловых вопросах и настоящей мужской дружбе? Занимайся лучше своей прялкой, а то у тебя заболит голова! — А что такое настоящая дружба, отец? — сжимая в кулаке монету, спросил Диокл. Эвбулид потрепал его за вихры, и, прищурясь, вздохнул: — Это, сын, военные походы! Короткие ночи у костров, когда ты делишься с другом своим плащом. Это страшный бой, когда ты спасаешь его от неминуемой гибели. Это благодарность самого консула Сципиона Эмилиана, который дает тебе, чужестранцу, право пройти в его триумфе по вечным улицам Рима… Эвбулид умолчал, что пьяный Квинт, заблудившись, лишь раз ночевал в стане греческого отряда, отобрав у него в холодную ночь плащ, а все его участие в триумфе заключалось в том, что он нес перед римскими когортами одну из многочисленных корзин с награбленным у пунов серебром. — Да, я до сих пор помню тот день, — важно сказал он, путая мечту с явью. — Эх, еще бы хоть раз в жизни пройти вместе с Квинтом в римском триумфе! Ио (ура), ио, триумф! — подражая акценту римских торговцев, неожиданно затянул он слышанную в Риме песню, но его прервала звонкая затрещина, которой Гедита наградила потянувшегося за новой монетой Диокла. — Твой сын вконец уже распустился! — проворчала она, запуская руку в складки одежды Диокла и вытаскивая пригоршню альчиков для игры в бабки. — Гляди, чем он занимается вместо учебы! У него на уме одни только эти астрагалы, да проклятая игра в орлянку! Прикажи ему ответить любой урок — и не услышишь ни слова. Зато он с закрытыми глазами покажет тебе место, где живут беглые рабы и носильщики. Их вертеп стал для него вторым домом! Да отвернет от меня свой светлый лик Паллада, если он толком знает хотя бы алфавит! — Диокл, ты огорчаешь меня! — недовольно протянул Эвбулид. — А еще хочешь носить позолоченный шлем! Я, конечно, не в состоянии пока, как некоторые, покупать тебе двадцать четыре маленьких раба, имена которых начинаются на все буквы алфавита!.. Но если сегодня к вечеру ты не выучишь и не расскажешь нам с Квинтом за ужином урок, скажем… — на глаза ему попался канделябр, — о Гелиосе, или лучше — о его непослушном и плохо учившемся сыне Фаэтоне, то… — Выучу, отец! — закричал Диокл и умоляюще заглянул Эвбулиду в глаза. — Только и ты мне потом расскажешь про этот самый тр… триумф, ладно? — Ладно… — Честно?! — Слово воина! — кивнул Эвбулид и, увидев, как осветились щели в дверях, ахнул: — Армен, быстро лутерий[14] мне и гиматий! Гедита, где завтрак? Разве ты не видишь — солнце встает: мне давно уже пора на агору![15] 2. Главная площадь города Позавтракав, как обычно, кусочками хлеба, смоченными в вине, Эвбулид принялся за утренние возлияния домашним богам. Он подошел к очагу, считавшемся алтарем богини Гестии, плеснул в его сторону несколько капель вина. Повторил заведенный предками обряд в кладовой перед нарисованной по бедности прямо на стене фигуркой Зевса-Ктесия, умножителя богатства. Не забыл и Гермеса. Его терракотовая статуэтка с таким же дешевым алтариком стояла в нише за дверью. Шепнул ему: — Ниспошли мне удачу! Помоги купить на десять мин трех крепких рабов, и я поставлю тебе дорогую бронзовую статуэтку, куплю мраморный алтарь, принесу в жертву мясо лучшего поросенка, какого только можно будет сегодня найти на агоре! Бог молчал. Эвбулид внимательно изучал вылепленное из красной глины лицо, ждал, не будет ли ему какого-нибудь знака. Внезапно солнечный луч пробил тучи, скользнул по открытой двери и упал на статуэтку. Лицо Гермеса тронула загадочная улыбка. — Гедита! — закричал Эвбулит. — Сюда! Скорее! — Что случилось? — подбежала встревоженная жена. — Боги услышали нас! Смотри!! Эвбулид протянул руку туда, где мгновение назад сияла улыбка Гермеса. Но солнце уже нырнуло в тучу. На него смотрело безучастное лицо дешевого глиняного бога. Эвбулиду стало не по себе. Он с трудом заставил себя улыбнуться. Конечно, Гермес хитрый и коварный бог, недаром он покровительствует купцам, ворам и обманщикам. Но разве устоит он перед почетом, которым окружат его в этом доме в случае удачи, перед ароматом самого жирного поросенка агоры? Немного успокоив себя, Эвбулид взял посох, без которого ни один уважающий себя афинянин не сделает на улице и шагу, и вышел из дома. Армен с пустыми корзинами, вздыхая, поплелся за ним следом. Несмотря на ранний час улицы города были многолюдны. Афиняне привыкли начинать день с рассветом. Как и Эвбулид, они были жадными до свежих новостей и такими жизнелюбами, что не могли подарить лишний час даже приятнейшему из всех небожителей, сыну бога сна Гипноса-Морфею. Франты в вызывающе пестрых одеждах и отделанных серебром полусапогах, щеголи с длинными, аккуратно уложенными волосами, лохматые философы, атлеты с короткими стрижками, инвалиды и путешественники в шляпах, — казалось все население Афин уже вышло на улицы. Большинство из них тоже торопились на агору. Путь к этой главной площади города начинался для Эвбулида с узкой, кривой, донельзя загаженной мусором и помоями, улицы. Омерзительный запах застоялых луж вынуждал обитавших в районе Большого водопровода владельцев частных домов, ремесленных мастерских, лавок затыкать носы и, забывая о правилах приличия, прибавлять шагу. Дорога круто пошла в гору, на Рыночный холм. Армен стал заметно отставать, тяжело дыша и припадая на правую ногу. Эвбулид собрался поторопить его, но чувство вины перед этим немощным рабом, остановило его. Как не спешил Эвбулид оказаться на агоре в числе первых покупателей, он пошел медленнее, подлаживаясь под шаркающие шаги Армена. Когда они, наконец, достигли границы агоры, все пространство перед ней, насколько хватало взгляда, было запружено народом. Озабоченные граждане и праздные зеваки, путешественники и неприступные римские ростовщики, останавливаясь у лавок менял, толкаясь и споря, направлялись к нужным рядам. Миновав большой, грубо отесанный камень с надписью «Я — пограничный камень агоры», Эвбулид разменял крупные монеты на мелочь. Не задерживаясь, пошел дальше. По пути его то и дело окликали бесчисленные приятели, безденежные афиняне, с которыми он обычно стоял у границы агоры, рассматривая статуи богов и толкался перед главными зданиями Афин: Советом, храмами, архивом, судом. — Эвбулид, идем с нами к Пестрому портику! Послушаем философов! — Пошли посмотрим, кто судится сегодня! — С нами, с нами, Эвбулид! — Не могу! Некогда… — улыбаясь, разводил руками Эвбулид. — Надо купить… кое-что к обеду! Ему хотелось сообщить знакомым за чем он пришел сегодня на агору, но мысль, что приятели нахлынут к нему вечером останавливала его. Он мысленно увидел недовольное лицо Квинта и зашагал дальше, провожаемый недоуменными взглядами. Так он дошел до начала рыночной площади, и она вовлекла его в свой водоворот, оглушила многоголосым шумом, яростным торгом, опьянила запахом острых приправ, жареного мяса, духмяного хлеба. Отовсюду слышались зазывные крики: — Колбасы! Горячие колбасы! — Мегарский лук! — Чеснок! Клянусь Олимпом, не встретите на агоре злее чеснока! — Купите кардамон! Кто забыл купить кардамон? Отмахиваясь от назойливых продавцов, сующих товар прямо в лицо, Эвбулид первым делом отправился к мясному ряду. Чтобы попасть туда, ему пришлось как следует поработать локтями, пробиваясь через плотные толпы отчаянно торгующихся афинян. — Семь драхм — и этот товар твой! — кричали с одной стороны. — И ты утверждаешь, что твой чеснок зол, как Зевс в гневе? — возмущались с другой. — Лжец! Он же сладкий! Гляди, я ем его, словно спелое яблоко! — Пять драхм! — Так уж и быть — шесть с половиной… И учти, даже если передо мной встанет сама Афина, я не сбавлю больше ни обола! — Э-э! Положи чеснок, так ты съешь весь мой товар! — Вор! Держите вора!! Помятый и вспотевший, словно побывал в термах, Эвбулид, наконец, выбрался к полотняным палаткам, источавшим запах парного мяса и свернувшейся крови. Внимание его привлек огромный заяц, привязанный к концу длинной палки, которую держал на плече долговязый крестьянин. «Ну и зайчище»! — восторженно подумал Эвбулид, но по привычке сбивать цену, как можно небрежнее спросил: — И сколько ты просишь за это жалкое животное? — Жалкое?! — изумился крестьянин. — Помилуй, господин, это же не заяц, а целая овца! Он бежал от меня быстрее ветра! — Эта и видно — ты совсем загнал его! — не отступал Эвбулид, трогая зайца и убеждаясь, что в нем, как в хорошем поросенке, на два пальца жиру. — Или признавайся, ты, наверное, нашел его в кустах, подыхающим от голода, а теперь предлагаешь честным покупателям? — Да я и прошу за него всего три с половиной… даже три драхмы! — сник крестьянин. — Целых три драхмы?! — деланно изумился Эвбулид. Мысленно он обругал себя, что никак не может отделаться от старых привычек, недостойных его нынешнего положения. Но вслух сказал: — Полторы еще куда ни шло… Крестьянин завертел шеей, высматривая более сговорчивых и денежных покупателей, но хорошо одетые афиняне толкались либо у лавок со свининой, либо спешили покупать рыбу. — Ну ладно! — нехотя уступил он. — Пусть будет две драхмы… — Полторы! — проклиная себя в душе, стоял на своем Эвбулид. — Накинь хотя бы обол! — Сбавить могу! — Ладно! Грабь… — воскликнул крестьянин, которого дома ждали неотложные дела на весенних полях. Эвбулид тут же отсчитал ему девять медных монет и кивком головы приказал Армену положить зайца в корзину. Ловко торгуясь с простодушными крестьянами, он купил мясо, свиных ножек, козьего сыра, масла. В овощном ряду загрузил Армена репой и яблоками. Здесь его застали удары колокола, возвещавшие о прибытии новой партии рыбы, и вместе со всеми покупателями агоры он заспешил к рыбному ряду. В этом самом шумном и многочисленном ряду уже важно расхаживали рыночные надсмотрщики — агораномы, следившие, чтобы торговцы не поливали рыбу водой, а продавали ее быстрее. Здешние купцы в отличие от всех других, были хмурыми и неразговорчивыми. — Это моя рыба, и цена моя! — только и слышалось кругом. — Ступай дальше! — Ничего! — огрызались афиняне, — посмотрим, что ты запоешь, когда твоя рыба начнет засыпать! Но рыба успевала перекочевывать из осклизлых ящиков в корзины покупателей задолго до того, как ей уснуть. Нигде в мире не любили рыбу так, как в Афинах, предпочитая ее всем остальным продуктам. И сколько бы ящиков не привозили ежедневно на агору с Эгейского и Внутреннего морей и даже Эвксинского Понта[16], разбиралось все до мельчайшей рыбешки. Если бы не запрет агораномов, то эти надменные торговцы были бы самыми богатыми, а афиняне — самыми бедными людьми на земле. И тем не менее Эвбулиду удалось выгодно поторговаться даже здесь. Поистине этот день был счастливым для него! Довольный, он проследил, как в корзину шлепнулись морские ежи, сверкающий тунец, жирный эвксинский угорь и несколько кровяных крабов. Теперь можно было и в цветочный ряд, покупать гирлянду для венков во время пира. Самая скромная гирлянда из роз лежала перед молодой женщиной в стареньком пеплосе. Коротко остриженные волосы обозначали, что она носит траур по близкому человеку. Эвбулид мысленно разделил гирлянду на четыре части и, убедившись, что ее хватит, чтобы им с Квинтом дважды сменить венки, спросил: — Сколько? — Сколько будет не жалко достойному господину… — А может, мне не жалко всего лишь обол? — усмехнулся Эвбулид. — О, господин! Побойся гнева богов… — Значит, два обола? — Три… — чуть слышно прошептала женщина и робко взглянула на покупателя. Эвбулид достал кошелек и упрекнул ее: — Ты совсем не умеешь торговаться! Кто же так говорит: три… — передразнил он. — Надо говорить три! Твое счастье, что у меня сегодня большой праздник. Он покосился на короткую прическу женщины и смущенно кашлянул: — Прости, я радуюсь, а у тебя горе… Кто умер? Отец? Мать? — Муж… Рука Эвбулида дрогнула. — Какое несчастье! — Да, он полгода назад упал с лошади и разбился… — И у тебя есть дети? — посочувствовал Эвбулид. — Трое девочек… — А твои родители? — Они умерли. Давно… — Как же вы живете одни?! — Так и живем… Я покупаю розы, и мы все вместе плетем из них эти гирлянды. Плетем и плачем, потому что можем покупать все меньше роз, и с каждым разом наши гирлянды становятся все короче. — Но ведь это ужасно… — пробормотал Эвбулид. — Как же вы будете жить дальше? — Если б я знала! Еще месяц — и мне придется продать в рабство старшую дочь, а ей всего тринадцать лет… Иначе не выжить моим младшим деткам… — Как это ужасно… — повторил Эвбулид. — Что делать!.. Кому нужна в этом городе бедная вдова с ее несчастными детьми? Женщина сквозь слезы взглянула на Эвбулида и протянула гирлянду: — Ты добрый, и если хочешь хоть немного помочь мне, купи гирлянду за три обола… Эвбулид вытряхнул на ладонь монеты и выбрал среди меди тетрадрахму: — Вот тебе четыре… нет — восемь драхм! А это три обола детям на сладости. И не смей благодарить меня! Стараясь не смотреть в глаза несчастной, он сам вложил в ее ладонь монеты, бережно уложил гирлянду в корзину, подставленную Арменом. И заторопился нанимать повара. Полтора десятка наголо остриженных поваров поджидали богатых афинян в специальной части агоры. Некоторые подпоясали себя так, чтобы был виден выпирающий живот. Это, очевидно, значило: глядите, граждане, я — сыт, значит, умею вкусно готовить! Но у Эвбулида была своя точка зрения на этот счет. Видя в таких поварах прежде всего обжор, которые непременно объедят и нанявшего их господина, он подошел к неприметному повару: в меру худому и в меру упитанному. — Где ты обучался своему мастерству? — строго спросил он. — В Сиракузах, господин! — щегольнул названием лучшей кулинарной школы повар. — Гм-мм… Все вы говорите, что в Сиракузах! — проворчал Эвбулид. — А умеешь ли ты приготовлять миттлотос? Учти, у меня в гостях сегодня будет очень важный господин! — Миттлотос? Это же очень просто! Берется мед, лучше всего горный, чеснок, протертый сыр, все смешивается — и миттлотос готов! — А пирожки, которыми славится Аттика, печь умеешь? — Обижаешь, господин! — И соленые, и сладкие? — продолжал допытываться Эвбулид. — Поверь, твой гость будет очень доволен! — А кикеон?![17] Сумеешь ли ты удивить его, иноземца, настоящим эллинским кикеоном? — Он будет благодарить богов, что впервые попробовал его в твоем доме! — Если ты готовишь так же сладко, как и говоришь, то подойдешь мне! Сколько ты стоишь? — Две драхмы в день, господин! — поклонился повар. — Хорошо, получишь свои драхмы, если не обманешь, и не съешь сам больше, чем на обол! Внимание Эвбулида привлек торговец диковинными животными, перед которым резво прыгали смешные обезьянки и живым букетом прохаживался распустивший огромный хвост павлин. «А не купить ли мне эту птицу? Вот удивится Квинт и обрадуются дети! А что — куплю!» — решил он и обратился к повару: — Сейчас я куплю павлина, и ты отправишься с ним ко мне домой! — Мне можно относить продукты? — напомнил Армен, сгибаясь под тяжестью корзин. — Нет! — ответил Эвбулид, подумав, что этот день должен быть праздничным и для Армена. — Сегодня я найму носильщиков. А ты пойдешь со мной на сомату[18]! 3. Купец из Пергама Несмотря на то, что по пути на сомату Эвбулид задержался в винном ряду, где из множества сортов отобрал лучшие, завезенные с островов Фасоса и Хиоса, а потом с Арменом, который не знал куда девать непривычно свободные руки, заглянул к торговцам сладостями, когда они подошли к сомате, торговля рабами еще не началась. Поглядеть на рабов, оценить привоз этого месяца было невозможно: их, ожидавших своей дальнейшей судьбы, закрывала плотная стена покупателей и зевак. На ступеньках «камня продажи», так назывался высокий помост посреди соматы, были видны только глашатаи и агораномы. Глашатаи молчали, набираясь сил перед нелегкой работой. Агораномы смеялись и о чем-то спорили, бросая по сторонам цепкие взгляды. Чтобы отвлечься, унять поднявшуюся во всем теле дрожь, Эвбулид отошел в край огороженной забором соматы, где торговали кандалами, наручниками для рабов и домашней утварью. Он подержал в руках привычные для каждого дома зеркала в виде плоских дисков. Приценился к старинным: массивным, с ручками, украшенными золотом и серебром, — такие бережно хранят даже в богатых домах и передают по наследству, как самую дорогую вещь. У лавки невысокого скуластого купца с умными, насмешливыми глазами, спросил, сколько стоит ваза с вошедшим недавно в моду рельефом. Ваза была покрыта лаком тусклого, но приятно ласкающего глаза коричневатого цвета. — Три драхмы! Нравится? — спросил купец и щелкнул ногтем по краешку вазы. — Какая тонкая работа, а? Обрати внимание: плечи и горлышко, как у двенадцатилетней красавицы! А роспись? Что скажешь об этой позолоте? А эти точечки? Разве ты найдешь что-нибудь подобное на своей агоре? Такими вазами можно украшать только дворцы правителей Египта и Понта, и, клянусь Никой, они радуют сегодня взоры царя Птолемея и Митридата Понтийского! — Я куплю, но только в другой раз… — оглянулся на «камень продажи» Эвбулид. Купец перехватил его взгляд и понимающе улыбнулся. — Не нравится эта ваза? Тогда возьми мегарскую чашу — всего-то пять драхм! Беден тот дом, в котором нет таких чаш! Взгляни — эти фигурки людей и животных, словно живые! Посмотри, как напряжены их жилы, как безумны глаза… Или ты не любишь то, что рождено кистью живописца? Откровенно говоря, мне тоже больше нравятся скульптуры! Божественные, неповторимые линии… Что ты можешь сказать вот об этом сосуде? Купец бережно взял в руки вазу в виде головы девочки-африканки. Эвбулид равнодушно взглянул на покрытую мелкими завитушками волос голову, широкий плоский лоб, толстые, выпяченные вперед губы. — Это работа моей собственной пергамской мастерской! — пояснил купец. — Я особенно горжусь ею, потому что образцом для вазы послужила небольшая статуя, которую я ваял со своей юной рабыни! — Ты? Сам? — не поверил Эвбулид. — А что тут такого? У нас в Пергаме даже царь занимается скульптурой! Он ваяет из воска. Если тебе посчастливится когда побывать в Пергаме, заходи в гости! Я покажу тебе свои работы, которые хвалил сам царь. Меня зовут Артемидор, и моя мастерская находится… — Мне нравятся твои чаши и особенно эта ваза! — перебил купца Эвбулид. В другой раз он с удовольствием послушал бы о царе, который вместо того, чтобы управлять государством, лепит из воска статуи. Но ему не давали покоя рабы, закрытые от глаз стеной покупателей, и он честно сказал: — Только я пришел сюда покупать не посуду, а рабов. Скажи, ты видел их? Какие они? Купец нахмурился и сразу потерял интерес к Эвбулиду. — Мне некогда глазеть на рабов и даром терять с тобой время! — холодно заметил он. — Отойди в сторону, не закрывай мой товар! — Пожалуйста! — сделал шаг в сторону Эвбулид, но купец неожиданно ухватил его за локоть: — Вот если бы ты купил у меня что… «Ах, хитрец! Все он знает…» — подумал Эвбулид, и ему почудилось, что даже глиняная девочка-негритянка смотрит на него с лукавой усмешкой. — Хорошо, я, пожалуй, возьму вот это, — показал он пальцем на самую маленькую чашу с орнаментом. — И попрошу соседа написать на ней золотыми буквами… «Моему римскому другу — помни обо мне!» — Это меняет дело! — снова стал любезным купец. — Хотя я лично предпочел бы иную надпись в адрес римлян. Не хочу обидеть твоего друга, но с тех пор, как у нас появились их ростовщики и всякие посланники, в Пергаме житья не стало ни нам, купцам, ни даже бедноте! Одни вельможи только и довольны. Но ничего, мы еще до них доберемся! — пообещал он. — Так каких тебе нужно рабов? Понятливых и выносливых из Сирии или угодливых и развращенных из Малой Азии? А может, жителей Египта? Базилевс Птолемей поставляет вам, в Грецию, своих светлых подданных для тяжелой работы, а чернокожих — как рабов для роскоши. Или тебе нужны отличные пастухи? Тогда радуйся, сегодня пришла большая партия рабов из Фракии. — Ты говоришь совсем как глашатай! — усмехнулся Эвбулид. — Но мне не нужны развращенные сирийцы и тем более рабы для роскоши! Он перехватил понимающий взгляд купца, брошенный на немощного Армена и вспыхнул: — Пока не нужны! А сегодня я хотел бы купить двух или… трех недорогих, но крепких рабов для работы на мельнице! — Крепких и недорогих! — удивленно переспросил купец и вновь замолчал, красноречиво поглядывая на свой товар. — Хорошо! — воскликнул Эвбулид, мрачнея от мысли, во сколько ему обходятся сегодняшние покупки. — Я куплю и эту чашу, потому что чувствую, что ты что-то знаешь… — И ты не ошибаешься! — оживился купец. — А потому купи заодно и эту стеклянную колбу. Наши лекари ценят такие за стойкость даже к ядам, и сам Аттал хранит в них изобретенные им лекарства! Берешь? — У вас не царь, а прямо клад какой-то… — проворчал Эвбулид. — Что ж, беру и колбу! Моя жена будет держать в ней свои благовония. Но, клянусь вашей пергамской Никой, если обманешь, эта колба навек поселится в твоем желудке! — Воля твоя! — улыбнулся купец. — Слушай меня внимательно: когда глашатаи выведут на «камень продажи» партию рабов с Крита — не бери их. За этих отъявленных лгунов хозяин сдерет с тебя втридорога. Не торопись и тогда, когда поведут на продажу фракийцев. Я хорошо знаю их купца, он не сбавит ни обола. Не утруждай себя и осмотром воинственных пленников из Долмации. Но когда увидишь светлобородых огромных рабов с волосами цвета спелой пшеницы и глазами, как море в ясную погоду, не зевай. Возможно, это как раз то, что ты ищешь. А теперь прощай! Купец показал Эвбулиду на афинянина, который осматривал вазы, то и дело оглядываясь на «камень продажи», и заговорщецки подмигнул: — Меня ждет новый «покупатель»… Мои друзья из Пергама вовремя подсказали мне, где лучше всего бросать якорь на афинской агоре! 4. Сколоты Наконец торг начался. Глашатаи вывели на помост первую партию рабов — двенадцать сирийцев и, стараясь перекричать друг друга, стали расхваливать их достоинства. — Апамеец двадцати трех лет! Вынослив, быстр, не имеет ни одного расшатанного зуба! — Ремесленник из Дамаска! Сорок пять лет! Нет такого дела, которое не спорилось бы в его ловких руках! — Грамматик из Коммагены! Не глядите, что стар, его седина — признак большой мудрости! У себя на родине он был великим ученым, и по его книгам учат сегодня детей даже в египетской Александрии! — Одиннадцатилетняя красавица! Смышлена, покорна, хрупка! Разве вы найдете еще у кого в Афинах сочетание таких редких достоинств? А она, кроме этого, умеет петь и танцевать! Вытягивая шею, Эвбулид осмотрел рабов и расстроился: ну и привоз… Мышцы апамейца тонки для тяжелых мельничных жерновов; плечи ремесленника — слабы. Старик-ученый и прикрывающая руками свою наготу девушка, с которой предусмотрительные глашатаи сбросили всю одежду, вообще не в счет. Остальные тоже — либо стары, либо малосильны. Подивившись тому, что грамматик как ни в чем ни бывало с любопытством осматривает макушки городских храмов, Эвбулид перевел глаза на торговца рабами, коренастого перса с выкрашенной ярко-красной хенной бородкой. Шедший где-нибудь по просторам Малой Азии в поисках дешевой добычи за римской армией или войском понтийского царя Митридата, он кивал теперь в такт каждому слову глашатаев. Его бегающие глазки выискивали в толпе возможных покупателей. Долго ждать ему не пришлось. На помост поднялись сразу несколько человек. Те, кто уже не раз покупал рабов, тут же начали заставлять мужчин-сирийцев приседать и подпрыгивать, проверяли крепость их шей, рук и ног. Заглядывали даже в рот. Другие изучали таблички на шеях рабынь и стариков, спрашивали торговца, нет ли у них скрытых дефектов. Особенно много мужчин толпилось около девушки, в некоторых Эвбулид признал своих знакомых безденежных афинян. — Клянусь Беллоной, — лебезил купец перед знатным гражданином, облюбовавшим себе мудреца из Коммагены, — этот старик большой ученый! Он станет прекрасным педагогом для твоего смышленого сына! Афинянин хмуро возражал: — Мне нет никакого дела до его знаний! Я должен знать, хватит ли у него сил носить в школу книги и таблицы моего сына? Сможет ли он научить его ходить, опустив глаза и уступая дорогу старшим? Не выпадет ли розга из его рук, если он заметит моего сына на агоре, где можно услышать и увидеть неподобающие в его возрасте вещи? Он кивнул на вырывавшуюся из рук двух молодых афинян девушку. Купец понимающе хихикнул и торжественно заявил: — Клянусь в присутствии агораномов, что никаких дефектов, кроме старости, за этим грамматиком не водится! Если в течение полугода ты обнаружишь у него чахотку, камни в почках или другую болезнь, делающую раба непригодным к труду, я немедленно возвращу тебе все полученные за него деньги! — И сколько же ты просишь за него? — Пять мин. — Я покупаю! Домашний раб покупателя тут же набросил на своего нового товарища по жалкой судьбе короткий шерстяной хитон, оставив открытой правую часть груди, связал ему за спину руки и повел с соматы. К освободившемуся торговцу подковылял одноногий инвалид. — А как ты ценишь свою пугливую лань? — показал он костылем на дрожащую от холода девушку. Торговец важно огладил красную бороду. — Это очень редкая рабыня, и я прошу за нее восемь мин! — Не слишком ли дорого? — Дорого?! Перс цепкой рукой схватил упиравшуюся девушку и вывел ее на середину помоста. Властным движением оторвал ее ладони от хрупкого тела. Внизу послышались одобрительные возгласы афинян. — А ты говоришь дорого! — усмехнулся купец. — Да ты просто не разглядел ее как следует. Какой товар, а? — Такой товар в свое время я имел в достатке в каждой взятой крепости, причем совершенно бесплатно! — хриплым голосом бросил инвалид и обратился к испуганной девушке: — Полонянка? Сирийка непонимающе взглянула на купца, и тот ответил за нее: — Нет, она не была пленницей грубых солдат, и ее спину не прижимали к земле все, кому не лень. Ее семью правитель Коммагены отдал за долги в рабство. Отца, грамматика, ты только что видел. Мать же была так больна, что я вынужден был продать ее прямо на коммагенском рынке. Отдал, можно сказать, совсем даром, но что было делать — я бы не довез ее сюда живой. — Это плохо, что отец рабыни тоже будет жить здесь, — нахмурился инвалид. — Она будет все время плакать и умолять отпустить ее повидаться с ним. А я хотел бы всегда видеть подле себя веселую, радостную рабыню. Скажи, — снова обратился он к девушке, — ты будешь веселой и радостной? — Будет, будет! — закивал перс. — Но я не слышу ее голоса! Может, он хриплый и непевучий? Такая рабыня мне не нужна! — Она поет слаще соловья в клетке! — клятвенно приложил ладони к груди купец. — Просто ей неведома ваша прекрасная эллинская речь! И громко, чтобы слышали все, добавил: — Зато ей известен язык, на котором без перевода могут общаться между собой все люди земли: язык любви! — Я покупаю ее! Я! — закричал срывающимся голосом старик в измятом гиматии, с трудом взбираясь на помост. Очутившись наверху, он обвел девушку с головы до ног слезящимися глазами и прогнусавил: — Восемь мин? Инвалид костылем надавил на плечо старика: — Уходи! Я первый! — А я дам восемь с половиной мин! — А я — девять! — Десять! Эвбулид с усмешкой понаблюдал, как торгуются из-за юной сирийки калека и старик, и заработал локтями, пробиваясь вперед. Вдогонку ему понеслись возмущенные окрики. — На чем сошлись? — оказавшись у самых ступеней, спросил он знакомого философа, гладя как старик, схватив девушку за руку потащил ее за собой под одобрительные возгласы и недвусмысленные шутки зрителей. — На тринадцати минах… — нехотя ответил философ. — Тринадцать мин за сирийку! — возмутился Эвбулид. — Пять мин за старика!.. — А ты что хотел? — послышался рядом насмешливый голос. Эвбулид повернул голову и увидел дородного мужчину, судя по одежде и уверенным жестам, бывшего судью или даже архонта. — Сирийцы и в благословенные времена Перикла[19] стоили вдвое дороже обычных рабов! — раздуваясь от важности, сказал он. — Они с молоком матери впитывают покорность, и в то же время им не чужда великая эллинская культура, которую мы принесли им! Он бросил презрительный взгляд на поднимавшихся по ступенькам рабов из Фракии — бородатых, насупленных, с выбеленными мелом ногами и спросил: — Разве можно сравнивать их с этими дикарями? — Но цены! Такие цены… — простонал Эвбулид. — А как иначе? Ты знаешь, какими высокими налогами облагают наши Афины торговцев рабами? А расходы на умерших по дороге рабов? А, наконец, пираты? Разве есть у торговцев гарантия, что, везя на продажу рабов, они сами не превратятся в жалких пленников? — Что торговцы! — усмехнулся философ. — Даже знатные граждане должны помнить, что в любой момент они могут стать рабами. — Мы? Греки?! — воскликнул стоящий рядом молодой афинянин, очевидно, впервые попавший на сомату. — Увы! — вздохнул философ. — Пираты наводнили все Внутреннее море![20] — От них не стало житья даже на суше! — пожаловались откуда-то сбоку. — Мой знакомый из Фригии рассказывал, что пока он ездил по делам, пираты высадились в его городе и захватили в плен молодых девушек, среди которых оказалась и его дочь. Бедняга ездит теперь по всем рынкам, рискуя сам стать жертвой этих негодяев, и ищет ее… — Они не гнушаются ни свободными, ни рабами! — заволновалась толпа. — Свободные для них даже еще желаннее — за свободных можно получить богатый выкуп! — Ох, если он у кого есть… — Но закон! — воскликнул молодой афинян. — Куда же смотрит наше государство, судьи, архонты?! Важный гражданин заторопился к «камню продажи», подальше от разговора, принимавшего для него явно нежелательный оборот. Философ проводил его насмешливым взглядом и ответил юноше: — Все дело в выгоде! Торговля рабами, действительно, обложена крупным налогом, и Афины богатеют на ней, вернее, умудряются сводить концы с концами… Вот архонты в закрывают глаза на разбой пиратов. А они пользуются этой безнаказанностью. Вот и текут сюда нескончаемым потоком сирийцы, фракийцы и вон — рабы из Далмации. Эвбулид проследил глазами за взглядом философа и увидел на помосте увенчанных венками[21] далматов. Вспомнил слова купца из Пергама, который сказал: не утруждай себя их осмотром… — Впрочем, мы и сами платим позорную дань востоку! — продолжал разошедшийся философ. — Пелопоннес дает Сирии гетер, Иония — музыкантш, вся Греция посылает им своих молодых девушек! — И наши скромные девушки, славящиеся во всем мире своим целомудрием, стоят обнаженными на «камнях продажи»?! Позор! — закричал молодой афинянин. — Как же ценят на варварских рынках нас, греков? — не выдержал Эвбулид. — Справедливости ради надо сказать, очень высоко! — горько усмехнулся философ. — Нас считают красивыми и пригодными для всех видов интеллектуальных работ. Но, бывает, посылают в гончарные мастерские и даже на рудники. Эвбулид представил, как где-нибудь на Делосе или Хиосе глашатай расхваливает этого философа, как понтиец или критянин платит за него полталанта — обычную цену плененного стоика, хотел возмутиться, но вдруг увидел, что на помост начали выводить новую партию рабов. Это были высокие, широкоплечие северяне со светлыми волосами и голубыми глазами. Голова каждого из них была покрыта войлочной шляпой.[22] — Пять рабов из далекой Скифии! — закричали глашатаи. — Огромны и сильны, как сам Геракл! Пока пораженные необычным видом рабов покупатели вслушивались в слова глашатая, сообщавших, что эти громадные скифы умеют возделывать поля и корчевать лес, Эвбулид первым взбежал на «камень продажи» и подскочил к торговцу партией. Это был высокий, мужественный человек с лицом воина. Один из многочисленных шрамов был особенно ужасен: через весь лоб проходил глубокий рубец, прикрытый тонкой пленкой, под которой надсадно пульсировала жилка. Не узнавая своего голоса, хриплого и осевшего от волнения, Эвбулид бросил: — Сколько? — Дисат мин! — коверкая греческие слова, отрывисто ответил торговец. «Десять мин! — похолодел Эвбулид. — Проклятый купец! Чтоб ты не доплыл до своего Пергама! Десять мин за одного раба…» Чтобы не уронить своего достоинства, он не стал сразу сходить с помоста. Подошел к рабам. С напускным интересом пощупал у одного из них согнутую в локте руку. Поразился крепости ее мышц. Они были тверды, как камень. «Да, такие рабы как раз и нужны на мельницу… Но не один же!..» — Не так смотришь! — подошел к Эвбулиду торговец. Он похлопал раба по шее и резко ударил его кулаком под ребро. — Так надо смотреть! Раб даже не шелохнулся. — Так смотри! — Ударил второго раба торговец и заглянул ему в лицо, ища гримасу боли. Не найдя ее, довольно хмыкнул и ткнул в живот третьего раба, четвертого: — Так смотри! Так!! Торговец занес руку для нового удара, но тут произошло неожиданное. Пятый раб, с широким, скуластым, как у всех скифов, лицом, но непривычно большими для этого степного народа глазами, вдруг наклонил голову и рывком подался вперед. Рука торговца застыла в воздухе. Эвбулид невольно шагнул назад. Бывалые агораномы бросились к ним на помощь и с помощью глашатаев и отчаянно ругавшегося торговца связали рабу руки. — Всего дисат мин! — повторил торговец и развел руками. — Все пять здоровы, крепки, но я не отвечаю за них. Я купил у сарматов[23] дисат таких рабов. Два сразу бросились в море и утонули. Один разбил себе голову о мачту. А еще два прокусили себе вены. Вот — осталось пять. И я не отвечаю за них. Эти люди не могут без свободы, как рыба без воды. Разочарованные тем, что пригодные с виду рабы непокорны и так свободолюбивы, покупатели стали покидать «камень продажи». — Дикие люди! — оглядывая рабов, удивился Эвбулид. — Какого они племени? Скифы? — Пожалуй, что нет, — ответил торговец. — Скифы тоже любят свободу и редко сдаются в плен. Но не так, как эти! У скифов темный волос и узкие, как будто они щурятся от солнца, глаза. Нет, — уверенно заключил он, — это не скифы. Сарматы говорили — это сколоты. Хотя я могу проверить. Мне известны некоторые скифские слова. Торговец обвел глазами покупателей и указал одному из своих рабов на топор, заткнутый за пояс крестьянина: — Что это? — Ну, секира… — нехотя ответил раб. — Вот — это сколот! — многозначительно заметил торговец. — Скиф обязательно сказал бы — «топор»! Он с надеждой взглянул на Эвбулида: — Купишь? — Да нет, я так… — пробормотал Эвбулид, делая шаг к ступенькам. — Смотри — это хорошие рабы! — крикнул ему вдогонку торговец. — Сарматы говорили, они не склонны к воровству и вредительству! Всего дисат мин! — Дисат мин! — передразнил Эвбулид, взрываясь. — Да у нас один сириец-грамматик, знаменитейший, между прочим, ученый стоит в два раза дешевле! — То один! — с обидой возразил торговец. — А я предлагаю тебе сразу все пять! — Ну да, конечно! — не в силах остановиться, продолжал ворчать Эвбулид. — За ученого, по книгам которого учатся в самой Александрии, — пять мин, а за всех твоих пятерых… И только тут до него дошло, что ему предлагает торговец. — Постой! — вскричал он. — Ты сказал — все пять?! — Да. — Десять мин за всех твоих пятерых рабов?! — Ну да, только я не отвечаю за их поведение, клянусь вашим богом, который метает молнии! — Беру! — рванул с пояса кошель Эвбулид. — Дисат мин. Эвбулид разорвал завязавшуюся в узел веревку и, торопясь, стал ссыпать монеты прямо в подставленные торговцем ладони. Руки были темные, испещренные шрамами. Серебро — светлым, праздничным. Глядя на сверкающий в лучах появившегося солнца поток, Эвбулид уже видел роскошный дом в богатом квартале Афин, счастливое лицо Гедиты, Диокла, дочерей. Воображение рисовало ему новую мельницу, кузню, гончарную мастерскую, множество рабов, в том числе и темнокожих египтян, тех самых — для роскоши… Как они с торговцем ударили по рукам, как в сопровождении тут же нанятого надсмотрщика за рабами, он спустился с «камня продажи», Эвбулид не помнил. У края соматы его тут же обступили купцы и наперебой стали предлагать свои товары: — Хитоны! Самые большие хитоны — как раз для таких огромных рабов! — А вот цепи им на ноги! Клянусь молотом Гефеста, они ничуть не хуже тех, которыми был прикован к скале сам Прометей! — Кандалы на руки! Низкий купец с пухлым животом вкрадчиво ворковал в самое ухо: — Непременно купи мои железные ошейники! Покупка твоя не только удачна, но и опасна… Не искушай судьбу! Не надев ошейники этим сильным, как Геракл, рабам, ты не сможешь спать спокойно! Радуясь, Эвбулид купил цепи, кандалы и ошейники. Приказал суровому на вид надсмотрщику: — Пригласишь на месте кузнеца, пусть закует их, как следует, чтоб у них пропала всякая надежда бежать с моей мельницы! — Ты сказал, мельницы? — снова подался к Эвбулиду низкий купец. — Тогда тебе непременно нужна моя «собака»! — Зачем? — отмахнулся Эвбулид. — Хватит и ваших наручников! Купец забежал с другой стороны. — Ты меня не понял! — захихикал он. — Моя «собака» — деревянная. Но она не хуже живой охраняет хозяйское добро! — Как это? — не понял Эвбулид. — А вот как! Купец жестом подозвал раба-помощника, надел ему на шею широкое, плоское ярмо и, всунув в руку большой ломоть хлеба, приказал: — Ешь! Худой раб жадно потянулся губами к ломтю, но рука его натолкнулась на ярмо. Он наклонился вперед, пытаясь просунуть хлеб — и снова ничего не получилось. Раб извивался, отгибал тело назад, даже подпрыгивал, но каждая его попытка кончалась одним и тем же: он никак не мог донести хлеба до рта. — Видишь? — торжествовал купец. — Я не кормил его целых два дня, и все равно он ничего не может поделать! Ешь! — закричал он на раба. — Ешь, а не то я снова отниму у тебя хлеб, и ты не увидишь его еще два дня! Купцы хохотали, тут же заключались пари: удастся ли голодному рабу проглотить хотя бы кусок хлеба. Ставки возросли до десяти драхм. Смеялся и сам Эвбулид. После последней отчаянной попытки хлеб выскользнул из пальцев раба, он сел на пыльную землю и стал шарить вокруг себя руками. Слезы текли по его лицу, падая на ярмо. — Ну, что скажешь? — заворковал над ухом Эвбулида купец. — Надежна моя «собачка»? А теперь представь, что в руке моего раба не ломоть хлеба, а муха с твоей — да ниспошлют ей удачу боги — мельницы! С такой охраной ни одна горсть муки не будет съедена твоими прожорливыми рабами! — Ладно, беру! — смеясь, согласился Эвбулид. — Вели рабу надеть на моих сколотов по своей «собаке»! А ты, — нашел он глазами Армена, — отведешь их в мой дом и скажешь Гедите, чтобы она посадила к очагу и обсыпала их сухими фруктами и сладостями. Да чтоб не забыла произнести при этом пожелание, чтобы покупка пошла на благо дому. А потом на мельницу их — и сегодня же за работу! 1. Разрушитель Карфагена Консул Сципион Эмилиан был вне себя. Полчаса назад сенат на своем собрании направил его в восставшую Испанию, отказав при этом в дополнительном наборе войска! Оставшись наедине с городским претором[24], Эмилиан дал волю своему гневу. Он вел себя так, словно перед ним уже были стены Нуманции, а не почтенный сенатор и благородные своды храма Сатурна. — Не дать мне даже один свежий легион! — кричал он, брызжа слюной. — Мне, отправляющемуся под крепость, которую Рим не может взять уже семь лет! А ведь они прекрасно понимают, что можно ждать от разложившегося войска, где легионерами командуют не командиры, а торговцы и проститутки! Где командиры понаставили в палатки кроватей, а воины разучились даже маршировать! — Успокойся, Публий! — пытался смягчить гнев консула семидесятилетний претор. — Просто отцы-сенаторы помнят, что ты навел порядок в еще более худшей армии под Карфагеном! Грубое солдатское лицо Эмилиана налилось кровью. — Если мы не возьмем Нуманцию в ближайшее время — мы потеряем все! Нас перестанут бояться! На пример испанцев смотрят все их соседи. Ты заметил, как обнаглели их послы? И где — в самом Риме! Что же тогда делается в их землях, где одно только слово «Рим» еще вчера вселяло в сердца неописуемый ужас?! Вот почему я потребовал дополнительный набор. И что же услышал в ответ? «Нам не из кого больше набирать римское войско!» Каково, а? Резкие морщины у толстых губ делали лицо консула безобразным. Любому другому претор, оставшийся за главу государства, напомнил бы об уважении к богам и к себе. Но перед ним был приемный внук Сципиона Старшего — победителя Ганнибала, родной сын триумфатора Эмилия Павла, покорившего Македонию. Это был один из тех немногих людей, о которых в Риме с восхищением и страхом говорят: «То, что дозволено быку, не дозволено Юпитеру»[25]. И претор примирительно ответил: — Но, Публий, ты должен понять сенат. Откуда взять воинов? Вот уже несколько месяцев нам почти некем пополнять легионы. Кому, как не тебе знать, до чего быстро редеют они в боях! Раньше это делалось за счет крестьян. А теперь — где они? Почти все здесь, в Риме, питаются на подачки, живут рядом с помойками. Как городской претор, я готов засвидетельствовать, сколько их ежедневно приходит в Рим, лишая тем самым армию новых воинов…[26] — Зачем ты мне объясняешь это? — поморщился консул. — Ты знаешь, что я организовал кружок. Вот уже несколько лет мы бьемся над тем, как вернуть нашей армии былую силу. Ясно, что нужна аграрная реформа. Но попробуй ущеми интересы патрициев! Мы пока не пришли к общему мнению. — А тем временем Риму все труднее защищаться от внешних врагов и держать в узде миллионы рабов в самой Италии! — подхватил претор. — Стоит ли после этого обижаться отказу! — Но моему коллеге консулу Флакку сенат дал все, что он затребовал. И дал бы больше, попроси он еще — я ведь видел это по лицам отцов-сенаторов! — Фульвий Флакк отправляется в Сицилию! — напомнил претор. — Надо положить конец этому царству рабов под самым носом Рима! Подумать страшно: взбунтовавшаяся чернь перерезала своих господ, захватила почти все крупные города острова, провозгласила какого-то раба по имени Евн своим базилевсом и всем своим двухсоттысячным войском подступило к Мессане! К самой границе Италии! — Рабы останутся рабами, будь их хоть миллион! — отрезал Эмилиан. — Да, они разбили несколько небольших отрядов наших преторов. Но как только до них дойдет весть, что в Сицилии высадилась консульская армия, помяни мое слово — они разбегутся, как стая зайцев при виде волка! — Может, вместо осторожного Фульвия Флакка в Сицилию следовало бы отправиться тебе? Ведь у тебя такое громкое имя, что оно одно наводит ужас на целые народы! — Орел не ловит мух! — перебил претора Эмилиан. — С рабами справитесь без меня. Мне хватит дел и под Нуманцией. Нужно окружить ее двойной линией укреплений, заново обучить солдат военному делу, навести порядок, и мечом или голодом заставить эту крепость сдаться на милость победителя. А наша милость будет обычной: город разрушить, остатки населения продать в рабство! — Иначе нельзя! — кивнул претор. — И так уже Рим становится похожим на тунику жалкого раба! Не успеваем залатать одну дыру, как тут же появляется другая. Не Нуманция — так Сицилия, не Македония — так Греция! Успокоим Сирию — поднимется Египет, утихомирим Египет — снова поднимет голову Сирия! — Боги совсем забыли, что жертвоприношения Рима были всегда самыми щедрыми и желанными им! — вздохнул Эмилиан. — Боги помнят об этом! — торопливо возразил претор, косясь в сторону статуй. — И потому Египет и Сирия больше не опасны нам! Антиох Сидет, базилевс сирийский, правда, разрушил без нашего ведома Иерусалим, но дальше этого не пошел. А Птолемей Фискон не знает, как ему разделить ложе, а также трон со своими единокровными женами![27] До других ли ему границ, когда самого вот-вот выгонит из страны Клеопатра Старшая? — Выгонит — заставим принять! И на ложе, и на троне. Этот оплывший жиром любитель наслаждений полезнее нам, чем деятельный правитель. Страшнее то, что скоро и Риму будет не до других границ! — нахмурился Эмилиан. — А нам так нужны сейчас новые провинции. Вместо того, чтобы ехать под Нуманцию, с каким наслаждением я повел бы армию… — В Иудею? — Меня не интересуют развалины! Мои глаза пресыщены ими. Подождем, пока евреи отстроят Иерусалим и набьют его храмы золотой посудой! — Тогда… в Парфию? Консул вздохнул: — Парфия пока нам не по зубам. — Значит, Понт? — Понтийское царство с его энергичным царем Митридатом нам выгоднее пока использовать как союзника. Пока, — повторил Эмилиан. Но, клянусь Марсом, это уже горячее! — Малая Азия! — Жарко, совсем жарко! — Пергам?! — Попал иглою![28] Претор с изумлением посмотрел на консула: — Но разве ты не знаешь, что у Пергама очень сильная армия? — спросил он. И не менее сильный боевой флот… — Именно поэтому я и отправляюсь сегодня не в Пергам — нахмурился консул и испытующе оглядел претора. — А жаль! Это царство не дает мне спокойно спать так же, как Карфаген Катону![29] Кстати, ты бывал в Пергаме? — Да. — Давно? — Еще юношей. Кажется, лет пятьдесят… Нет — пятьдесят пять тому назад. — Значит, ты не знаешь Пергама. — Но я много слышал о нем. — Что именно? — оживился Эмилиан. — Говори! — Благодаря предшественникам нынешнего Аттала из крошечной крепости он превратился в огромный город, славящийся алтарем Зевса и невероятной чистотой улиц. — Так! — Он присоединил к себе многие города и государства, и… — И? — Стал благороднее Афин. — Так-так! — Образованнее и культурнее Александрии Египетской. — Говори! — Сильнее Парфии. — Говори, говори! — Крупнее всех в Малой Азии! — И это все? — Я сказал то, что слышал. Неужели этого мало? Губы Эмилиана тронула усмешка. — Для какой-нибудь Вифинии это было бы пределом мечтаний. Но речь — о Пергаме. Я же говорил, ты не знаешь его. А ведь о чем не знают, того не желают, как говорят у нас в народе! — снова испытующе посмотрел он на претора. — Что ты этим хочешь сказать? — Ты знаешь, мои глаза видели всякое богатство, — уклончиво ответил консул. — Вспомни хотя бы, сколько золота и серебра пронесли перед моей триумфальной колесницей после победы над Карфагеном… — О, это было незабываемое зрелище! — уважительно воскликнул претор. — Так это лишь пыль перед богатством, которое накопили в своих сокровищницах пергамские цари! Все эти Эвмены и Атталы, начав с небольшой части казны Александра Македонского за столетие сумели превратить Пергам в богатейшее государство. Они выжили все из своих рабов, плодородных земель, тучных пастбищ, лесов, рудников, удобных гаваней. Кто теперь не знает знаменитого пергамента и великолепного пергамского оливкового масла? И их армия, действительно, одна из сильнейших в мире! — Но такое богатство делает Пергам опасным Риму! — Верно. И — желанным! — многозначительно поднял палец Эмилиан. — Но мы не в состоянии пойти на него войной! — напомнил претор. — И это верно. Значит, нужен иной путь. — Дружба? — Дружба может быть только с равными! — Не война и не дружба? — претор с любопытством взглянул на консула. — Ты предлагаешь что-то третье? — Да! Иначе я не заводил бы весь этот разговор! То, что я тебе сказал, лишь половина истины. Своему быстрому взлету Пергам обязан не только тучным пастбищам и удобным гаваням. Не только воинской храбрости и дипломатической ловкости своих базилевсов. Этому он обязан в первую очередь нам, римлянам. Разве случайно диадема Эвмена, отца нынешнего царя, была украшена камеей с изображением моего славного деда? Ведь именно по предложению Сципиона за участие пергамцев в Сирийской войне сенат даровал Эвмену Эфес, Мизию, Ликаонию, обе Фригии. Все это втрое, впятеро увеличило доходы Пергама и в итоге до отказа наполнило его казну. Не пора ли теперь возвращать нам долги? Пусть Эвмен умер. Но жив Аттал. Какая нам разница — пусть вернет он. Да, он слушает нас во всем, провел в наших интересах у себя финансовую реформу, усилил налоговые поборы, но этого мало! Мы дали его отцу гораздо больше. А Рим никогда и ничего не дает даром! — Разве Аттал расстанется добровольно с частью своих сокровищ? — усомнился претор. — Речь идет не о жалкой части! — отрезал Эмилиан. — Тем более! Я слышал, что Аттал глуп и безволен. В последнее время он совершенно ушел от государственных дел, уединился и даже ищет смерти. Говорят, он сошел с ума, но не до такой же степени! — Этот «сумасшедший», — усмехнулся Эмилиан, — между прочим, изучает ботанику, пишет научные труды, ваяет прекрасные статуи из воска, наконец, изобретает лекарства. — Лекарства?! — Да, и не без успеха. Они излечивают печень и селезенку, помогают от кожных болезней. Одну из них — «Атталово белило» спасло мою жену от сильного воспаления, перед которым оказались бессильны знаменитые греческие снадобья и притирки! — А как сейчас здоровье Семпронии? — участливо спросил претор, отлично зная, что консул, не любивший свою жену, два года назад отправил ее в скромное сципионовское имение и до сих пор не разрешает вернуться в Рим. — Лучше. Но не настолько, чтобы дышать испорченным воздухом столицы. Если бы ее мать, Корнелия, не совала вечно нос не в свои дела, не напоминала, что она дочь Сципиона Старшего, я бы… Однако мы говорим не о моей теще — мужчине в женской одежде, — спохватился Эмилиан, — а об Аттале! Все слухи о его сумасшествии — вздор, выдумка его многочисленных врагов. — Но если он умен, то это только усложняет нашу задачу. — Наоборот — упрощает! Консул взглянул на недоумевающего претора и пояснил: — Ученый ум царя поможет ему быстро понять нас. А его ненависть к своим подданным и великое множество врагов еще больше ускорят это. Первое, — загнул он палец, — Аттал давно уже ищет случая, чтобы унизить, растоптать свой народ. Второе — в Пергаме сейчас крайне неспокойно: бунтуют рабы, волнуется сельское население, купечество, наемная армия. Все они уже открыто высказывают ненависть к Риму, вернее, к нашим ростовщикам. Вот-вот может начаться бунт, и без нашей помощи тогда Атталу и его знати не устоять. И третье: Аттал прекрасно понимает фактическое господство Рима над Пергамом, хотя его царство и самое сильное в Малой Азии. Что после всего этого остается делать Атталу? — Что?.. — Завещать после своей смерти царство Риму! — объяснил Эмилиан. — Завещать царство? — переспросил ошеломленный претор. — Да! — нетерпеливо вскричал консул, раздраженный непониманием старика, которому он вынужден доверить такое дело. — Царство со всеми подданными, нашими будущими слугами и рабами, гаванями, пастбищами и — сокровищницей! Надо только подать такую мысль последнему Атталиду. Понял наконец? Претор просиял. Двигавшийся несколько десятков лет по служебным ступенькам к вершине власти, отдавший все состояние на подкупы и подарки избирателям, влезший в неоплатные долги, связанный по рукам и ногам взятками, он уже видел себя наместником новой провинции. Да еще какой! Он выжал бы из Пергама столько золота, что возвратился бы в Рим самым богатым человеком, без труда расплатясь с кредиторами. «Бедным он приехал в богатую провинцию, — с завистью говорили бы о нем, — и богатым уехал из бедной провинции!» — Ну, — поторопил его Эмилиан, как бы читая мысли претора и думая про себя: «Ну, побудешь ты немного в новой провинции, много тебе при твоей старости там не выдержать. А потом, рассчитавшись с Нуманцией, я нагряну туда!» — Завещать целое царство, как завещают дом, виллу или несколько тысяч сестерциев?[30] — очнулся претор. — Ну наконец-то! — усмехнулся Эмилиан. — И без войны овладеть богатейшим государством, всей его казной?! — Ты делаешь успехи! — Но у Аттала есть брат! — вдруг вспомнил претор, и лицо его помрачнело. — Аристоник? — уточнил Эмилиан. — Этот сын царя и рабыни? — Он сейчас в расцвете сил, и по греческим законам может наследовать престол брата… — С каких это пор римский судья стал интересоваться греческими законами? — удивился консул и посоветовал: — Забудь про Аристоника. После убийства матери и невесты Аттал перебил почти всю свою родню. Аристоника же он посчитал убить ниже своего достоинства и ограничился тем, что запретил ему жить во дворце. Теперь его сводный брат разделяет трущобы Пергама с нищими и рабами. Помеха ли нам такой «наследник»? — Однако Аттал может не согласиться написать такое завещание! — продолжал сомневаться претор. — Конечно! — кивнул Эмилиан. — Но, я полагаю, всегда найдется искусный скриба, умеющий подделывать чужие почерки и подписи. Даже такие замысловатые, как подписи царей. Бумага не краснеет. Нам важно само завещание, а не то, каким путем оно добыто. Разве осмелится кто-либо спросить об этом у Рима? Сильного никто не спрашивает, где он взял, достаточно того, что он имеет. Если бы мои руки не были связаны Нуманцией, не прошло б и месяца, как Пергам превратился в римскую провинцию «Азия». А так должен перепоручать это дело тебе. Справишься? — Конечно! С радостью!.. — приложил ладонь к груди претор. — Но… — покосился он на консула, — Аттал может прожить и сто лет, написав завещание, а ему сейчас нет и тридцати… — Но ведь ты сам говорил, что в последнее время Аттал ищет смерти! — резко бросил Эмилиан. — А как любит повторять мой друг философ Панеций, кто спасает человека против его воли, поступает не лучше убийцы. Ты понял меня? — Д-да… — Ты чем-то удивлен? — Конечно… Если бы мне сказал это сенатор Квинт Помпей или Публий Сатурей, а не ты, славящийся своей справедливостью и неподкупностью… — А-а, вон ты о чем! — неожиданно засмеялся Эмилиан и, наклонившись к самому уху претора, прошептал: — Знаешь, как сказал бы по этому поводу тот же Панеций? Нехорошо пахнет тот, кто пахнет всегда хорошо! Итак, — снова стал серьезным он. — Берешься? — Да! — И у тебя есть надежный человек, который немедленно отправится в Пергам под чужим именем и прикрытием невинного должностного поручения? — Да! — Кто он? — Здешний торговец. Луций Пропорций. — Пропорций, Пропорций… — задумался Эмилиан. — Не тот ли это смельчак, который воевал у меня под Карфагеном? — У тебя прекрасная память! — восхитился претор. — Но только ты воевал с Квинтом, а я говорю о его брате — Луцие. — Что он из себя представляет? — Умен и осторожен, как никто другой умеет убеждать людей и обводить их вокруг пальца. Вообще эти братья очень разные и совершенно не похожи характерами. Квинт, которого знаешь ты, как бы это сказать… привык разить врага в грудь, а от Луция, которого знаю я, скорее надо ждать удара в спину. Если ты позволишь, он заедет за Квинтом в Афины, и они отправятся в Пергам вместе. — Пока пусть едет один, — подумав решил консул. — Нам больше подходит Луций. Можешь пообещать ему в награду… — Место в сенате! — опередил Эмилиана претор. — Хорошо. — Тогда я немедленно посылаю за Луцием! — заторопился претор. — И ты сможешь объяснить ему… — Ты сможешь! — поправил претора Эмилиан. — Объяснишь Луцию, что от него требуется простым, доходчивым языком. А я только взгляну на него. 2. Дело государственной важности Следуя за двумя молчаливыми ликторами[31], Луций Пропорций пришел на Форум, где разделившиеся на группы сенаторы еще оживленно обсуждали недавнее собрание. Один из ликторов жестом приказал следовать в храм Сатурна. «Зачем меня привели сюда? Да так спешно, ничего не объясняя?..» — переступая порог храма, думал Луций. Как и брат, был он худощав, высок ростом. Однако внешнее сходство братьев на этом и кончалось. Если Квинт был воином, и оставался им, даже став ростовщиком, то в Луцие все выдавало купца: беспокойные, цепкие глаза, суетливые пальцы, податливая шея, готовая угодливо согнуться перед сильным и надменно выпрямиться перед должником или клиентом[32]. Ни нажитый всеми правдами и неправдами капитал, ни переход во всадническое сословие не изменили в нем прежних привычек мелкого купца. «Кому я понадобился? — прикидывал он. — Хорошо, если городскому претору. Пятьдесят тысяч сестерциев, что ой якобы взял у меня в долг, еще долго будут закрывать ему глаза на мои грешки. А если что-то вынюхала и решила заняться мной сенатская комиссия?..» — Пойду доложу консулу, что он уже здесь! — сказал один из ликторов и скрылся за неприметной дверью у алтаря. «Консулу?! — ужаснулся Пропорций. — Неужели Фульвию Флакку стало известно, что я поставил его армии плохой ячмень? Тогда я пропал: меня ждет суд, штраф, может быть, даже отлучение от воды и огня!..[33] А вдруг, — мелькнула слабая надежда, — Флакк не успел закупить что-то для войска, и ему срочно потребовалось зерно или вино?» — Послушай, — обратился Луций к оставшемуся ликтору. — Зачем я понадобился Фульвию Флакку? Ликтор молчал, глядя поверх головы приведенного торговца. Луций достал расшитый жемчужным бисером кошель. — Вот тебе золотой! Ликтор затаил дыхание. Если бы не дернувшийся на его шее кадык, можно было подумать, что в храме стало на одну статую больше. «Не взял золото! Неужели мои дела так плохи?..» — Эй! — негромко окликнул Луций. — Два золотых! Ликтор очнулся и быстро спрятал монеты. — Тебя велел привести сюда не Фульвий Флакк… — шепотом начал он. — А кто же? Кто? Ликтор испуганно выпрямился и замолчал. Пропорций проследовал за его подобострастным взглядом и увидел входящего в храм Сципиона Эмилиана. «О боги! Сам Сципион… — узнал он прославленного полководца. — Но ведь у меня не было с ним никаких дел! На ячмень ему наплевать — консулы вечно грызутся между собой и завидуют друг другу, — ему даже выгодно, что голодные кони не так быстро понесут Фульвия к славе. Или ему донесли, что мои обвинения против Авла Секунда, которому я был должен сто тысяч — лжесвидетельство?! Но тогда меня ждет уже не изгнание, а Тарпейская скала!» Все эти мысли вихрем пронеслись в голове побледневшего Луция. Он уже видел перед собой отвесный утес на берегу Тибра, с которого сбрасывают государственных преступников, как вдруг следом за консулом в храм вошел городской претор. Эмилиан подошел к ожившему Луцию и сказал, оглядываясь на претора: — Похож! Они что — близнецы? — Рождены в одночасье! — воскликнул претор. Лицо Эмилиана смягчила довольная улыбка. — Близнецы — счастливая примета! — веско сказал он. — Не было бы Ромула с Рэмом, не было б и Рима! Сами боги дают нам знак своей благосклонности. Луций понял, что его привели сюда вовсе не для того, чтобы сбросить с Тарпейской скалы или изгнать из Рима. Склонившись перед консулом, он елейно произнес: — Ты — достойный сын Эмилия Павла! Претор из-за спины консула сделал предостерегающий знак, но Луция уже ничто не могло остановить. — Весь Рим знает, что он тоже свято верил в приметы! — частил он. — Когда перед войной с македонским царем Персеем дочь встретила его криком: «Папа, Персея больше нет!» — имея в виду издохшую собачку по кличке Перс, твой отец так обрадовался, что, не мешкая, повел войска в бой и одержал побе… Луций поднял глаза на консула и осекся. Лицо Эмилиана было багровым. О боги! Как он мог забыть то, о чем знает весь Рим: Сципион Эмилиан не выносит, когда при нем говорят о его родном отце, потому что в юности предал его, перейдя в более славную семью Сципионов. И его бедный отец Эмилий Павел умер от тоски в полном одиночестве… Но Луций не был бы Луцием, если бы не нашел выхода из этого щекотливого положения. — Но еще больше ты достоин славы своего великого деда, Сципиона Африканского! — повысил он голос и с облегчением увидел, как разглаживаются морщины на лбу консула. — Всему миру известно, что свои поступки он объяснял прямыми советами богов! И мне вовсе не кажется нелепым слух, — на всякий случай прибавил от себя Луций, — будто его отцом был сам Юпитер в облике исполинского змея! — Ну-ну, так уж и Юпитер! — засмеялся повеселевший Эмилиан и с одобрением оглядел Луция: — А ты понравился мне, Гней Лициний, хотя и бросил тень на мою бабку! — Но я не Лициний! — улыбнулся в ответ Пропорций. — Меня зовут… — Прощай, Гней! — перебил его консул и, глядя на обескураженное лицо Луция, доверительно добавил: — Через несколько часов мне уезжать на войну, а сегодня — Луперкалии[34], надо бы и развлечься перед работой, а? — Да, конечно… Луций почтительно проводил взглядом Эмилиана до самого выхода и поднял на претора удивленные глаза: — Он назвал меня Гнеем Лицинием… Что бы это могло значить?.. — Это значит, что ты счастливый человек, Гней, раз тебя заметил такой человек! — Но я — Пропорций! — воскликнул окончательно сбитый с толку Луций. — Луций Пропорций! Или ты… забыл меня? — Я помню! Претор жестом приказал ликторам удалиться. — Я прекрасно помню, — продолжил он, оставшись наедине с Луцием, — о той небольшой услуге, которую ты оказал мне, когда я м-мм… нуждался в некоторой сумме. Не забыл я и о своем обещании вспомнить тебя, если в сенате вдруг появится свободное место! — Неужели ты вызвал меня, чтобы предложить мне его?! — не поверил Луций. — Ну не для разговора же о бедном Авле Секунде и полуголодных лошадях конницы Фульвия Флакка! — усмехнулся претор, не сводя глаз с Луция. «О боги! — похолодел тот. — Ему все известно…» Удовлетворившись впечатлением, которое произвели на Пропорция его слова, претор сказал: — Запомни, то, что я тебе сейчас скажу — дело государственной важности! После нашего разговора ты получишь подписанную лично мной легацию на имя Гнея Лициния. Согласно ей, жители Италии и наших провинций обязаны будут предоставлять тебе повозки, упряжных животных, продовольствие, принимать к себе на ночлег… — Я готов делать все это на свои деньги! — воскликнул Луций. — Забудь о своих прежних частных поездках! — остановил его претор. — С этой минуты ты не просто торговец, а посланник великого Рима! — Куда я должен ехать? — с готовностью спросил Луций. — В Пергам. — Когда? — Сегодня. Не позднее полуночи. — И что я должен сделать там? Претор загадочно прищурился: — Твоя миссия будет выглядеть скромно. Скажем — закупка партии оливкового масла для… армии Фульвия Флакка! Ты ведь уже имел дело с ее казначеями! Луций смущенно кашлянул в кулак. — Главной же твоей целью, — продолжал претор, — будет войти в доверие к царю. — Атталу?! — Не забывай, что ты посланник не какой-то там Вифинии, а самого Рима! — назидательно заметил претор. — Но не думай, что это будет так просто, однако и не так сложно: в Пергаме среди знати должно быть немало друзей. Они помогут проникнуть тебе во дворец. — Да я подкуплю всю стражу, залью золотом каждую щель в дверях дворца, но проникну к Атталу! — пообещал Пропорций. — Именно поэтому я и позвал тебя. Кстати, местная знать тебе поможет безо всякого золота, отдай его лучше наемным убийцам или рабам: пусть найдут брата царя по имени Аристоник, и убьют его. Во дворце же ты сделаешь главное: постараешься убедить Аттала завещать свое царство Риму. Привезешь такое завещание — и ты сенатор! — Сенатор?! — Правда, скорее всего Аттал даже не станет слушать тебя! — сказал претор. — Тогда ты подделаешь это завещание и скрепишь его царской печатью. Подпишет ли это завещание сам царь или ты приложишь к нему печать уже его мертвым пальцем — мне безразлично. Главное, чтобы оно было в Риме, у меня в руках! — Я сделаю все, что ты приказываешь! — клятвенно пообещал Пропорций. — Не сомневаюсь. Претор снял с указательного пальца украшенный крупным рубином перстень и поднес его к лучу света. — Да, вот еще что, — любуясь игрой красок, задумчиво произнес он. — Если Аттал даже добровольно напишет такое завещание и после этого произнесет, допустим, такие слова: «Ну вот, а теперь можно и умереть спокойно», не мешай человеку. Как говорит Сципион, кто лишает жизни человека по его воле, поступает благородней убийцы! Под этим прекрасным камнем — яд, от которого нет противоядия. Одна капля — и лекари сочтут царя умершим зимой от сердечного приступа, а летом — от солнечного удара. Помоги Атталу умереть спокойно — и ты сенатор. Сенатор, Луций! — многозначительно сказал претор, протягивая перстень. — Гней! — Что? — не понял претор. — Гней! — напомнил Пропорций, надевая перстень на мизинец. — Гней Лициний. Претор с одобрением посмотрел на него: — Прекрасно! А теперь слушай и запоминай, какие доводы могут убедить Аттала завещать нам свое царство… 3. Испорченный праздник «Корнелия — Семпронии, своей дочери, привет. Не могу удержаться, чтобы не рассказать тебе того, что произошло сегодня на Луперкалиях. Да и ты в последнем письме молила меня описать подробно этот когда-то любимый тобой праздник; хочешь хотя бы в мыслях побывать в Риме, со своей матерью и братьями Тиберием и Гаем. Как же затянулось твое лечение, которое я сразу назвала изгнанием тебя в наше нищенское, по нынешним понятиям, родовое имение Сципионов! Под благовидным предлогом Эмилиан отослал тебя подальше от своих попоек под музыку и танцы греческих танцовщиц и флейтисток. Теперь он вместо того, чтобы спрашивать, как консулу, за нарушения законов с других, сам спокойно предается запрещенной игре в кости! И такой человек находится сейчас в зените славы, вершит всю политику Рима! Как же: хоть и приемный, а внук победителя Ганнибала. Разрушитель Карфагена! Наша единственная надежда в Испании! Видела бы ты, с какой царственной гордостью ловил этот солдафон, кичащийся дружбой с Полибием, Панецием, бездарным поэтом Луцилием, восхищенные взгляды толпы. Как вышагивал в сопровождении своих консульских ликторов по Палатину! Сердце мое обливалось кровью, когда я переводила взгляд с него, мнимого внука великого Сципиона, на внука истинного — Тиберия, сравнивая их. Эмилиан стоял как каменное изваяние — впору было переносить его из-под священной смоковницы, где волчица вскормила Ромула и Рэма, на Форум. Тиберий же, словно простой смертный, о чем-то мило беседовал в кружке знатной молодежи. Он все время смеялся и оглядывался на луперкальную пещеру, будто от того, появятся молодые патриции, принадлежащие к коллегии жрецов-луперков, сейчас или через минуту, зависело все его будущее! Я смотрела на сына и чувствовала, как закипаю при виде его беззаботности и равнодушия к славе и почестям! Но это было лишь началом. Молодые патриции в белых тогах и плющевых венках наконец появились в роще, посвященной богу Пану, виктимарии взялись за ножи и стали закладывать по двенадцать козлов и щенят. Все шло строго согласно обычаям: один из жрецов вымазал окровавленным мечом лбы юношей, остальные принялись вытирать ее шерстью, смоченной в козьем молоке. Я было уже успокоилась, увлеченная зрелищем, как вдруг услышала громкий возглас: «Глядите, глядите — вон теща Сципиона!» «Где? Где!» — раздалось сразу несколько голосов. И тут грянул громкий хохот юных патрициев. Ты не раз бывала на Луперкалиях и знаешь, что после того, как жертвенная кровь удалена, очистившиеся юноши должны по обычаю разразиться смехом. Сейчас-то я все понимаю, но тогда этот смех резанул мне в самое сердце, потому что мне показалось, что это смеются надо мной. Обида за сына, за славное имя Сципиона, чьи дела продолжает не его родной внук, а Эмилиан, вспыхнула во мне с новой силой… Между тем юные патриции с жрецами скрылись в пещере и предались буйному пиру. Зрители терпеливо ожидали их, а на Палатин поднимались все новые и новые люди: сенаторы, плебеи, крестьяне, римская чернь. Как всегда, очень много было женщин и незамужних девушек, ожидавших появления жрецов с особенным интересом. Они радостно переговаривались между собой, а я слушала их смех и повторяла про себя горькие слова: «Теща Сципиона, теща Сципиона!..» Наконец, нарядившиеся в шкуры жертвенных животных луперки выскочили из пещеры и помчались по холму, ударяя каждого встречного плетьми, вырезанными из полосок тех же шкур. Какой смех, какая радость поднялась вокруг! Так же, как и ты когда-то, бездетные женщины[35], веря, что удар такой плетью поможет им забеременеть, охотно подставляли луперкам свои руки, спины и плечи. Не уступали им и девушки, надеясь, что освященная богами плеть пошлет им вскорости мужа. Один из жрецов хлестнул и меня, и в его пьяных глазах я прочитала вызов: «Хоть ты и теща Сципиона, но сегодня я могу ударить даже тебя!» Дочь моя, разве я заслужила подобное?! Мне был всего лишь год, когда почти в одночасье умерли мой отец, Сципион Африканский и побежденный им Ганнибал. Мне было всего тридцать лет, когда умер мой муж, дважды консул и дважды триумфатор Тиберий Гракх, спасший моего отца от клеветы и позора. Будучи народным трибуном он наложил вето[36] на арест моего дяди, спасши тем самым и доброе имя моего отца… Мне было тридцать два года, когда моей руки стал домогаться сам царь Египта Птолемей, видевший меня еще пятнадцатилетней девушкой. Чего только не сулил мне этот сумасбродный, возомнивший себя богом, фараон[37]: горы сокровищ, посвященные мне дворцы и храмы, где стояли бы мои статуи! Наконец, он дал слово сделать Тиберия наследником египетского трона. Но я отказала царю, и всю себя посвятила вашему воспитанию. И, клянусь Юноной, мало найдется сегодня в Риме людей, которые могли бы похвастать таким блестящим греческим образованием, какое дала вам я, и какое вы заслужили хотя бы уже потому, что являетесь внуками великого Сципиона! Отца своего я, конечно, совсем не запомнила, но мать много рассказывала мне о нем. Тиберия с Гаем больше интересовали военные подвиги деда, известные в каждом римском доме, а ведь это был очень мягкий в обращении, умный, необычайно приветливый человек, привлекавший к себе все сердца. Выйдя замуж за Тиберия Гракха, человека менее прославленного, но не менее благородного, чем Сципион, я мечтала, чтобы хоть один из моих сыновей был похожим на моего отца. И боги, казалось, все дали мне для этого — у меня родилось двенадцать детей, но они же оставили мне только вас троих… Тем радостнее было видеть мне в подрастающем Тиберии ту же приветливость, мягкость и умение вызвать сострадание окружающих, что и у своего деда. Правда, в отличие от Сципиона, он не верил в пророчества и сновидения, мало времени проводил в храмах и, самое печальное, — постоянно сомневался в своем избранничестве. Но зато он с пеленок был также храбр, и под Карфагеном уже пятнадцатилетним юношей показал себя героем, имя которого было на устах всей армии и… завистливого Эмилиана. Как я была счастлива, когда после возвращения из Африки, Тиберия, совсем юношу, тут же избрали в коллегию жрецов-авгуров[38], в которую входят только самые знатные и уважаемые граждане Рима! Как радовалась, когда самый гордый и знатный сенатор Аппий Клавдий — принцепс сената! — предложил в жены Тиберию свою дочь. По всему Риму ходили восторженные рассказы, что он, придя домой, прямо с порога крикнул жене: «Антистия, я просватал нашу дочь!» И та удивленно ответила: «К чему такая поспешность? Или ее женихом стал Тиберий Гракх?» Казалось, перед моим сыном открывается блестящее будущее. Но проклятая Нуманция, куда сегодня отправился твой муж и наш Гай, несколько лет назад перечеркнула все мои надежды! Тиберий тогда был избран квестором в армию консула Манцина, который вел войну с непокорными испанцами. В одном из ущелий армия попала в окружение, и ее гибель казалась неизбежной. Консул посылал одного посла за другим, но нуманцы возвращали их с одними и теми же словами: «Мы согласны на переговоры только в том случае, если вести их будет Тиберий Гракх. Мы помним его отца, который был у нас наместником, и слышали о молодом Тиберии, что он не только смел, но также честен и справедлив.» Манцин дал согласие, и благодаря нашему Тиберию армия была спасена. Римляне получили наконец право отступления, правда, ценой заключения союза между Римом и Нуманцией. В старые добрые времена Тиберия встретили бы в Риме с благодарностью за спасение соотечественников. Но ты ведь знаешь, сколь «благороден» и «благодарен» твой муж! Снедаемый завистью, он настроил сенат против Тиберия и отцы-сенаторы отказались утвердить мирный договор. Обвинив Манцина в измене интересам государства, они, по наущению Эмилиана, выдали бывшего консула испанцам! И пожилой человек, словно раб, в одной рубашке, со связанными за спиной руками целый день простоял перед воротами Нуманции. Но благородные варвары отпустили его, не желая признавать расторжения договора… Если бы не мои связи, не помощь Аппия Клавдия, — та же позорная участь изгнанника ждала и Тиберия. Он был спасен. Но испытав на себе неодолимую силу сената, утратил всякое желание бороться с ним. А какие планы у него были до этого! С каким жаром, бывало, рассказывал он нам с Гаем о тех неизгладимых впечатлениях, которые дала ему поездка в Испанию. Проезжая через Италию, он увидел, как осиротела вся эта страна, где вместо трудолюбивых крестьян работали теперь на полях одни рабы в оковах. Он все говорил о том, как слабеет римское войско, как опускаются пришедшие в Рим крестьяне, занимаясь доносами и собирая милостыню вместо того, чтоб воевать, захватывая новые провинции, собирался аграрной реформой раз и навсегда изменить существующее положение… А я с радостью замечала в его глазах тот самый «огонь», который делал, по словам матери, Сципиона неотразимым, и который так воспевали поэты. И вот сенат отбил у Тиберия всякое желание действовать… После стычки с ним, я перестала узнавать своего сына. Даже растущая слава его ровесника и соперника в ораторском искусстве Спурия Постумия, так больно задевавшая Тиберия раньше, казалось, уже не волновала его. Скорее по привычке, чем по велению сердца, он изредка посещал бесплодные занятия в сципионовском кружке. Сдружился с живущим так же просто и скромно, как и он сам, Марком Октавием, воспитанным, но слабохарактерным молодым человеком. А после того, как у Тиберия с Клавдией родился сын, и вовсе позабыл о будущей славе и весь отдался семье… В отчаянии и упреках сыну протянулся последний год. И вот я дождалась этих Луперкалий, где меня принародно назвали тещей Сципиона!.. Признаюсь тебе: первый раз я пожалела о своем отказе Птолемею. И не потому, что напрасно принесла в жертву вашему воспитанию свою молодость. Не потому, что была бы сейчас царицей, и божественные почести окружали меня. А лишь потому, что Египет так далек от Рима, что там проще сносить такой позор… Мудрый Блоссий![39] Он единственный, кто понял меня в ту минуту без слов. Подойдя ко мне, он показал глазами на мирно беседовавшего с Марком Октавием Тиберия и сказал: «Успокойся, твой сын еще вознесется выше Эмилиана, который будет известен потомкам лишь тем, что разрушил прекрасный город!» «Вознесется? Когда?..» — усмехнулась я. Однако Блоссий не принял моей иронии. «Помни истину, — серьезно сказал он, — не приносит осенью плодов то дерево, которое не цвело весной. А дерево Тиберия цветет с того дня, как он впервые увидел бедную Этрурию с рабами на осиротевших полях, когда ему грозило отлучение от воды и огня! Я уверен, твой сын еще сравняется славой с твоим великим отцом!» «Но когда? Когда?!» — воскликнула я, требуя немедленного ответа. Но Блоссий вместо того, чтобы успокоить меня, пустился в свои обычные поучения: «Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает…» И дальше в том же духе. Ты ведь знаешь этого мудрого чудака. Словом, сам того не желая, он только переполнил чашу моего терпения. Я незаметно оставила его, продолжающего рассуждать на тропинке, и направилась прямо к сыну. Тиберий, как всегда, ласково улыбнулся мне. Я попросила его уделить мне несколько минут и, едва дождавшись, когда отойдет в сторону Марк Октавий, спросила: «Тебе известно, сколько лет было твоему деду, когда он прославился, как победитель Ганнибала?» «Да — слегка удивленный неожиданным вопросом, ответил Тиберий. — Ему было столько же, сколько сейчас мне.» «Столько же! — возмутилась я его спокойствием. — А знаешь ли ты, что Слава о справедливости твоего отца разнеслась по всему миру, когда он был еще моложе? Что вскоре после этого он разгромил Сардинию, убил и захватил в плен восемьдесят тысяч варваров, и рабы благодаря ему сделались такими дешевыми, что родилась поговорка: „Дешев, как сард!“ Неужели тебе не напоминает об этом прибитое к двери моего дома триумфальное оружие твоего отца, когда ты приходишь ко мне в гости?!» Тиберий, побледнев, молчал. А я, хоть и стыдно теперь в этом признаться, лишь распалялась его молчанием и растерянностью. «Значит, тебя больше славы отца и деда прельщает слава Гая Лелия, который тоже хотел провести аграрную реформу и вернуть крестьянам землю, но, испугавшись сената, отступился от своего намерения и заслужил благодаря этому прозвище „Мудрого“? — спросила я. Тиберий продолжал молчать, кусая, губы. И тогда я сказала то, что больше всего мучало меня. Я спросила: «Долго ли еще меня будут называть тещей Сципиона, а не матерью Гракхов?!» Повторяю тебе, я не запомнила твоего деда. Но теперь я прекрасно знаю, каким он был. Глаза Тиберия загорелись, он весь преобразился. Тень избранничества легла на его лицо, всю фигуру. Он сказал мне, по обыкновению тщательно отделывая каждую фразу: «Я полагаю, тебе совсем не придется ждать, когда тебя назовут матерью Гракха! Мне самому давно уже надоело бездействовать и видеть, каким опасностям подвергается республика как в самом Риме, так и на его границах. Я долго думал, не зная, как помочь римскому народу, а теперь знаю.» «Это правда?» — воскликнула я, и Тиберий, глядя мне куда-то за спину, твердо ответил: «Да. Я твердо решил бороться за преобразования в государстве и решения своего уже не изменю никогда, ибо я не Гай Лелий Мудрый!» «Интересно, и как же ты собираешься это делать?» — услышала я позади себя, обернулась и увидела твоего мужа, стоявшего в окружении Панеция, городского претора и разъяренного Гая Лелия. «Да, как? — поддакнул претор, этот алчный старик, известный всему Риму своей продажностью и умением за деньги раздавать должности. — По существующим обычаям предлагать проект новых законов может только человек, занимающий государственную должность!» «Я займу такую должность, — спокойно ответил Тиберий. — Займу, даже не прибегая к твоим сомнительным услугам. Я выставлю свою кандидатуру на выборах в народные трибуны!» Вот так, дочь моя, начался разговор нашего Тиберия с твоим мужем и его угодливым окружением. Был он трудным и долгим, и я расскажу тебе о нем чуть позже. А сейчас вызову табуллярия и прикажу ему доставить поскорей это письмо тебе в Кампанию. Будь здорова.» 1. «Собака» и «Венера» Прощальный ужин в доме Луция Пропорция подходил к концу, когда в комнату пирующих вошел смуглолицый раб. Щурясь от яркого света и, косясь на кувшины с вином, он нашел глазами хозяина, забавлявшегося на пурпурных подушках с юной танцовщицей тем, что то подносил, то отдергивал от ее губ сочную сливу. Подбежал к нему и шепнул на ухо: — Господин! Там в двери ломится какой-то оборванец! — Дай ему кость и пусть ступает своей дорогой! — благодушно махнул рукой Луций. — Кто поздно приходит — тому кости! — подтвердил один из его пьяных клиентов, роняя голову на стол. — Я так и поступил, господин, — ухмыльнулся раб. — Дал затрещину и бросил кость. Но он не уходит. Он сказал, что сгноит меня в яме! — пожаловался он. — Моего раба?! — вскричал Луций. — Спусти с цепи собак! — Я б так и сделал, господин но… — Но?! Рука Пропорция, не привыкшего к возражениям в собственном доме, да еще от раба, замерла в воздухе, и танцовщица проворно ухватила губами сливу. — Я не спустил на этого грязного оборванца собак только потому, что он непременно хочет говорить с тобой! — объяснил раб. — Оборванец? Со мной?! Прот, ты в своем уме?!! — Этот оборванец, наверное, сошел с ума, потому что утверждает, что он твой давний друг! — огрызнулся раб. — Луций, что я слышу! — воскликнул из угла взъерошенный клиент, вкладывая в ладошку флейтистки денарий. — Ты уже водишь дружбу с нищими? Пропорций, сопя, поднялся. Оттолкнув ногой недогадливого раба, из-за которого его подняли на смех клиенты, он с раздражением произнес: — А ну тащи его сюда. Да живо! Мне самому хочется взглянуть на этого «друга»! — Бегу, мой господин! — с готовностью бросился выполнять приказание Прот. — Постой! — окликнул его Луций. — Скажи прокуратору[40], чтобы принес сюда розги. Я думаю, они придадут нашим воспоминаниям о дружбе особую теплоту! — Слушаюсь, господин! — усмехнулся раб, выбегая из комнаты. — Это самый наглый и вороватый мой раб! — кивнул ему вслед Пропорций. — Но, клянусь Меркурием, именно этим он мне и нравится! Он вернулся к юной гречанке, которая тут же обвила его шею руками. Клиенты в предвкушении нового развлечения поднимали кубки и хвалили остроумие своего патрона. Наконец дверь широко распахнулась. На пороге появился однорукий человек в грязной одежде. Смех и пьяные крики оборвались. Луций и гости с любопытством смотрели на калеку с изможденным лицом, сохранившим следы жестоких пыток. — Так ты инвалид! — разочарованно протянул Луций, жестом разрешая незнакомцу войти в комнату. — Кто такой? Почему назвался моим другом? Не отвечая, незнакомец сделал несколько уверенных шагов. Не как нищий калека, — как хозяин встал по среди комнаты и обвел угрюмым взглядом яркие картины на стенах, статуи, уставленный яствами кедровый стол, отделанные черепаховыми панцирями ложа. Удивление гостей сменилось гневом, когда инвалид столкнул на пол пьяного клиента и, усевшись на его место, бесцеремонно потянул к себе серебряное блюдо с кусками холодной говядины. — Ах, ты, бродяга! — первым очнулся Луций. — Наглеть в моем доме?! Последний раз спрашиваю: как твое имя, и что тебе здесь нужно? Незнакомец, не торопясь, выпил кубок вина, взял рукой кусок мяса и усмехнулся, не сводя глаз с хозяина: — Не признаешь, Луций? Пропорций вздрогнул — таким знакомым показался ему этот голос. Безусловно, он видел раньше этого человека, и видел часто, совсем не в этой одежде… Сузившимися глазами он впился в его лицо, думая про себя: нет, это не из старых клиентов, не покупатель, не ответчик в суде… Инвалид же, насладившись растерянностью на лице хозяина, с усмешкой продолжал: — А ведь было время, когда ты почитал за счастье иметь такого друга, как я, и на званые обеды приглашал меня одного, чтобы я не дышал одним воздухом с этими пиявками! Незнакомец кивнул головой на вскочивших со своих мест клиентов. Все они бросились к Луцию, требуя наказать бродягу за неслыханную наглость, но, увидев, как меняется лицо патрона, в испуге остановились. Действительно, Пропорция трудно было узнать. Подбородок его отвис, глаза расширились и были готовы вылезти из орбит. — Ти-и-ит?! — не веря прошептал он. — Ну наконец-то! — усмехнулся инвалид, вальяжно откидываясь в своей грязной тоге на персидские подушки. Это было невероятно. Появись сейчас в доме Пропорция сам царь Аттал с уже написанным завещанием — и то он не был бы так изумлен, раздавлен, уничтожен. Живой Тит Максим, его самый крупный и безжалостный кредитор возлежал в его комнате, на его ложе! Но где же тугие щеки, налитые плечи, грузная фигура этого некогда богатейшего человека Сицилии? Искалеченный, высохший старик с голосом Тита Максима смотрел на него цепким, насмешливым взглядом. Луция бросило в пот от мысли, что теперь ему придется расставаться с миллионом сестерциев, который он привык считать своим, получив известие о смерти Тита. После недавнего ограбления пиратами двух триер, которые они с Квинтом как нарочно загрузили самыми дорогими товарами, у него кроме дома и рабов остался лишь этот миллион… — Тит! Ты… — через силу улыбнулся Пропорций, думая о том, что он теперь нищий, и все его мечты о сенаторской тунике останутся пустыми мечтами, потому что ему теперь никогда не дотянуть до сенатского ценза. — Но ведь ты… тебя же… — Как видишь, жив! — оборвал его кредитор, берясь за новый кусок говядины. — Да-да, — пробормотал Пропорций. — Просто прошло целых два года, и я… Он не договорил. Дверь в комнату открылась, и вошел прокуратор, огромный, заросший до бровей черной бородой испанец. В руках у него был пучок розг, из-под мышки торчала предусмотрительно захваченная плеть. Весь его свирепый вид говорил о решимости угодить хозяину. — Этот? — показывая на Тита, обратился к Проту испанец. Раб торопливо кивнул, и прокуратор тяжело шагнул к ложу: — Сейчас я покажу тебе, бродяга, как врываться в дом к благородному господину! — Вон! — очнувшись, замахал на него Пропорций и, оборачиваясь к гостям, закричал: — Вон! Все вон!! Оставшись наедине с Титом, Луций осушил большой кубок вина и лишь после этого немного пришел в себя. — Тит, как я рад видеть тебя! — изобразил он на лице подобие улыбки. — Давно из Сицилии? — Ты говоришь так, словно я вернулся из увлекательного путешествия! — Прости, Тит… — спохватился Луций, и, слабо надеясь на то, что кредитор даст ему хоть небольшую отсрочку, поднял новый кубок: — За твое спасение! Клянусь богами, я счастлив, что ты возвратился живым из этого сицилийского кошмара! — Так я тебе и поверил! — мрачно усмехнулся Тит. — Ведь вместе со мной ты похоронил и миллион моих сестерциев! — Тит, как ты можешь… — Могу. Похоронил, по глазам вижу! Но, Луций, я все равно не оставил бы тебя в покое. Я пришел бы к тебе за своими деньгами даже из подземного царства! Я подкупал бы Цербера и каждую ночь приходил сюда и мучал тебя… Кошмары, бессонница, наконец, — сумасшествие, вот, на что ты мог рассчитывать, а не на мой миллион! Так что тебе еще повезло, что я лично явился за своими сестерциями! — Конечно, Тит, ты получишь их… — Весь миллион?! — Да… — Сегодня же! — Д-да… — С процентами! — Да, но… — Никаких но! — отрезал Тит, показывая на свою грязную одежду. — Это будет для меня очень кстати, ведь я вернулся в Рим без единого асса! — Зато сегодня опять станешь богачом, — упавшим голосом заметил Луций. — А я… Он потерянно махнул рукой и, отбрасывая в сторону пустые кувшины, закричал: — Прот, вина! Да побольше! Раб принес целую амфору кампанского вина, самого старого, которое только сыскалось в подвалах. Луций и Тит жадно припали к кубкам, и вскоре обоих трудно было узнать. Тит сделался безвольным и плаксивым, Луций — злым и подозрительным. — Ты почему это не пьян? — накинулся он вдруг на гостя. — Или пей, или уходи! — Я пью, Луций! — всхлипнул Тит, неумело поднимая левой рукой кубок. — Но, видно, мое горе сильнее вина… Была у меня семья — и нет больше семьи! Был дом — самый большой и красивый дом в центре Тавромения, и нет дома! Была вилла — где теперь она? Даже правой руки, которой я считал свои деньги и обнимал самых красивых рабынь Сицилии — и той больше нет! Взбесившиеся рабы захватили дом, перерезали семью, сожгли виллу, отрубили руку… — Как тебе самому-то еще удалось выбраться? — неприязненно поглядывая на Тита, удивился Луций. — О, это тяжелая и долгая история! Два года эти рабы держали меня в тюрьме и пытали, допытываясь, куда я спрятал свои сокровища… Они издевались надо мной, пинали ногами, жгли огнем. Но я молчал… Я боялся, что, выведав от меня все, они убьют меня, как убили моих лучших друзей: Дамофила, Фибия, Пансу… Когда же одна из пыток была особенно изощренной, я не выдержал. И показал им пещеру, где спрятал… свои деньги. Луций покосился на пустой край туники Тита и покачал головой: — Ну и сволочи эти рабы! Отобрать у человека деньги и еще отрубить руку! Могли бы по нашему римскому обычаю удовольствоваться хотя бы кистью! Тит печально вздохнул: — Так приказал им Евн… — Сволочь этот Евн! Дважды сволочь!! — искренне возмутился Пропорций, мысленно проклиная царя рабов за то, что он не приказал следом за рукой отрубить и голову его кредитора. — Но именно Евн и сохранил мне жизнь! — вздохнул Тит. — Больше того, он приказал отправить меня под надежной охраной в Рим. — За что же такая честь от жадного до римской крови сирийца? — быстро спросил Луций и мысленно заторопил Тита: «Ну, говори: за что тебя отпустили? Может, ты выдал рабам кого-то из римлян — того же Дамофила или Пансу? Или отрекся от Рима? Тогда ты у меня в руках и отсрочка платежа надолго обеспечена: ведь за это по закону полагается Тарпейская скала!» Но Тит сказал совсем не то, на что надеялся Луций: — Все очень просто: Евн сдержал свое слово, которое дал мне еще будучи рабом Антигена. — Слово? — разочарованно переспросил Пропорций. — Какое еще слово? — Антиген любил показывать нам этого Евна, когда мы бывали у него в гостях, — всхлипнул Тит. — Этот Евн кривлялся и изрыгал изо рта пламя. Для этого он вкладывал в рот скорлупки от пустого ореха и незаметно подносил к ним огниво. Это давало ему над толпой забитых рабов неограниченную власть! — пояснил он. — И этим же он забавлял вас, римлян?! — Нет! Нас забавляли его прорицания. Вернее, та серьезность, с какой он давал их. Он заявлял, что будет царем, и мы, давясь от смеха, допытывались, как он воспользуется такой властью. Когда он говорил, что поступит хорошо с теми, кто мягко обходится с ним, некоторые из нас бросали ему со стола лучшие куски и просили вспомнить об этой любезности, когда он станет царем. — И он вспомнил? — Тотчас же, когда меня привели к нему. Узнав, где спрятаны сокровища, он так взглянул на мою руку, что я до сих пор ощущаю в ней ожог, хотя и руки-то уже нет, и приказал отрубить ее вот так: до самого плеча… Тит задрал край тоги и снова всхлипнул: — Единственное, о чем я жалею сейчас, что бросал ему куски мяса не левой, а правой рукой, без которой так неудобно стало жить, Луций… Выпив очередной кубок вина, Пропорций окончательно захмелел и, глядя на плачущего Тита вдруг подумал, что сейчас из его кредитора можно хоть веревки вить. «Я сейчас сыграю с ним в кости — и отыграю свой миллион! — икнув, решил он. — У меня есть… тс-сс… прекрасные фальшивые кости… Они — тс-сс! всегда ложатся на нужные числа… Один удачный бросок — и миллион снова мой. Только все нужно сделать ак-ку-рат-но!» Шатаясь, он поднялся из-за стола и крикнул Проту, чтобы тот принес его шкатулку. В ней хранились сделанные искусным мастером за целую тысячу сестерциев фальшивые кости, которые еще ни разу не подводили Луция. — Тит! Сыграем? — выхватив шкатулку из рук раба, предложил он. — Не хочу. Завтра! — покачал головой Тит, глядя как хозяин сбрасывает на пол объедки и кости, и раскладывает на столе игральную доску с возвышенными краями. — Прикажи лучше принести мой миллион! — Твой? — уставился на Тита Пропорций. — Это мы еще сейчас посмотрим, чей он! — Но я не буду играть! — Пст! — качнулся Луций и положил на доску стакан с обычными костями. Фальшивые он предусмотрительно зажал в кулаке. — Твой бросок! Играю на миллион! Кто первым выбросит «Венеру»[41] — того и ставка! Тит озадаченно посмотрел на хозяина дома и улыбнулся неожиданной мысли: — Ну допустим. Если выиграешь ты — то весь долг: твой. А если я? Где ты найдешь еще один миллион, чтобы расплатиться со мной? — Я? Луций Пропорций?! — ударил себя кулаком в грудь Луций. — Да у меня знаешь, какие есть друзья: сам Сципион Младший и городской претор! Они у меня во где! — он протянул вперед сжатый кулак. — Стоит мне только свистнуть — и миллион у меня! Даже два миллиона! Десять! — Так свистни! — посоветовал Тит. — Не время! — покачал головой Луций и приложил палец к губам, делая знак Проту и Титу молчать: — Только тс-сс! До этого я должен съездить в Пергам! Услышав слово «Пергам», раб невольно подался вперед. — А может, в Мавретанию? — усмехнулся Тит. — В Пергам! — не совладая больше с собой, возразил Луций. — Я должен уговорить царя Аттала завещать свое царство Риму… Если он не согласится — убить его и подделать завещание. А если согласится… все равно убить! Как говорит Сципион, убей — и ты станешь благородным! — Ну что ж, раз у тебя такие друзья и такая выгодная поездка — сыграем! — согласился Тит, поднимая кубок. — За новую римскую провинцию, в которой ты, конечно, будешь немалым человеком! Луций, быстро трезвея, следил, как дергается кадык на горле пьющего Тита. «Что я наделал?! — ужаснулся он. — О моем секретном поручении завтра же будет известно всему Риму! Узнает Сципион, городской претор… Они догонят меня и убьют по дороге! О боги, что теперь делать, что делать…» Его остекленевшие от страха глаза снова остановились на Тите, который встряхивал стакан с костями, прикладывая его то к одному, то к другому уху. «Он не должен уйти из моего дома живым! — вдруг понял Луций. — Нанять убийцу? Но это свидетель… Приказать прокуратору? Он поймет без слов и сделает все, как надо. Но ведь тоже свидетель!.. Яд в перстне! — вдруг вспомнил он и улыбнулся взглянувшему на него Титу. — Конечно же, яд! Одна его капля — и я свободен, снова богатый, почти — сенатор! Аттал не обидится, яду много, обоим хватит. Нужно только сделать все аккуратно! Тит после пыток и тюрьмы очень подозрителен, пусть увлечется, как следует, и тогда…» Тит наконец опустил стакан на доску, горлышком вниз, и склонился над костями: — Тройка, четверка, двойка, еще тройка… Д-да… Не самый удачный бросок! Твоя очередь! «Нет, он еще не увлекся, подожду…» — решил Луций и, почти не размешивая, опрокинул стакан. — Единица, двойка, единица, — машинально сообщил он вслух и махнул рукой: — А-а… Бросай ты! — Отлично! — обрадовался Тит неудачному броску соперника. — А ну-ка, Юпитер, помоги! Выпала «собака». Пока огорченный неудачей Тит бросал кости в стакан, Луций поддел ногтем камень на перстне. И тут же снова надавил на него большим пальцем. Тит уже поднимал голову. — Видно, здорово ты прогневил Юпитера! — через силу пошутил Луций, чувствуя, как бешенно колотится в груди зашедшееся сердце. — Признавайся: не иначе как отбил у него одну из бесчисленных любовниц! Дай-ка теперь я! Ну, Юпитер, — взмолился он, думая о своем, — помоги!.. — И ты тоже хорош! — захохотал Тит, взглянув на кости. — Две двойки и две тройки! Он закрыл глаза и, нашептывая молитву, яростно затряс стакан. «Сейчас или подождать?» — лихорадочно прикидывал Луций, не отводя глаз от напряженного лица Тита. Словно во сне подколупнул рубин и стряхнул каплю в кубок гостя. Отдернул руку, словно от раскаленного железа. В то же мгновение Тит открыл глаза. Окинув быстрым взглядом Луция и Прота, опрокинул стакан: — Ну что это делается… Опять «собака»! Дрожащими пальцами Луций взял стакан, размешал кости, сделал бросок. — «Венера»?! — склонившись над доской, изумился он, чувствуя, что фальшивые кости, уже скользкие от пота, по-прежнему зажаты у него в кулаке. — Как «Венера»? — воскликнул Тит. — А вот так! — улыбнулся деревянными губами Луций. — Теперь я тебе ничего не должен! Выпей за мою удачу! — Кости фальшивые! — прохрипел Тит, отодвигая кубок. — А ты проверь! — посоветовал Луций. Тит придирчиво осмотрел каждую кость. Убедившись, что все они каждый раз ложатся на разные грани, предложил: — Играем дальше? Ставлю миллион! — А может, два миллиона? — усмехнулся Луций, глазами приказывая Проту наполнить кубки до краев, чтобы возбудить у Тита желание выпить. — Пусть будет два! — согласился Тит, внимательно следя за каждым движением раба. Луций отрицательно покачал головой: — Нет, Тит. Долг я свой отыграл честно, а теперь извини, мы играем на воздух! — Как на воздух? Я же отдам, если проиграю! — Что? — уточнил Луций. — Свою грязную тогу? — Отдам… — облизнул губы Тит. — У меня есть деньги! Там, в Сицилии! Прот снова подался вперед. — А может, в Мавретании? — подделываясь под недавний тон гостя, поинтересовался Луций. Все, давай лучше пить! — Не буду! — лихорадочно блестя глазами, отрезал Тит и наклонился к Пропорцию: — Слушай, Луций, я говорю правду! Но только тебе… Я отдал Евну лишь часть своих сокровищ — всего каких-то десять миллионов! А основное — утаил! — Сколько же ты утаил, если даже в части — целых десять миллионов?! — уставился на Тита Луций. — Пятьдесят миллионов сестерциев, не считая золотой посуды, самоцветов и прочей рухляди… — И где же… они? — Этого я не могу тебе сказать. — Тогда я не буду играть! — с трудом прикинулся равнодушным Луций. — Прощай! — Ну хорошо, хорошо… Только потом сыграем? — заглянул в глаза Луцию Тит. Тот быстро кивнул, и Тит зашептал: — Я запрятал их там, где никто даже не подумает искать! Прямо под своим домом в Тавромении! — Он перехватил недоверчивый взгляд Луция и нехотя поправился: — Ну… почти под домом. Под нужником для рабов, что в конце двора! Ну? Играем?.. Пожалей инвалида… Руки Тита мелко тряслись. Глаза горели. — Играем… — кивнул ошеломленный Луций и пододвинул к гостю кубок: — Только… выпьем сначала? — Я же сказал, что больше сегодня не пью! — снова отказался Тит. — Разве… если только выиграю! «Ну что ж! Будет тебе выигрыш…» — прищурившись, принял решение Луций. — Тогда я бросаю первым! — предупредил он и добавил для убедительности: — Все-таки два миллиона… Бросок его оказался неудачным. Старательно изображая на лице огорчение, Луций при подсчете чисел нарочно уронил на пол одну из костей. Наступил на нее ногой. — Тит! — наклонившись, сказал он. — Она, кажется, куда-то к тебе закатилась! Пока Тит, ругаясь, искал пропажу, Луций выложил на доску фальшивые кости, убрал настоящие и нарочито равнодушно сказал: — Нашлась, Тит! Бросай! Тит торопливо сложил кости в стакан, помешал их и выдохнул: — Ну, Юпитер… Помоги! — Так-так, — склонился над доской Пропорций и, деланно изумляясь, выдохнул: — Гляди, «Венера»! Твой выигрыш! О боги! — обхватил он голову руками: — Я разорен, я — нищий… — Точно «Венера»! — проревел Тит. — С тебя два миллиона! Один гони сейчас, а второй я подожду, пока ты вернешься из Пергама! Но — с процентами! А теперь можно и выпить! Единственной рукой он схватил кубок и, обливаясь, залпом осушил его до дна. — Ну вот и прекрасно! — закусив губу, проследил за ним Луций. — Сейчас же пошлю за деньгами… Тит покачнулся: — Что это со мной? — Это от радости! — успокоил его Луций, с облегчением видя, как смертельная белизна разливается по лицу Тита. — Сейчас пройдет. Тит наклонился к игральной доске, взглянул на кости уже невидящими глазами и, переломившись в спине, рухнул замертво. — Все! — выдохнул Луций. — Все… Дай теперь только армии Флакка взять Тавромений, и я доберусь до твоей отхожей ямы под рабским нужником, беременной миллионами! Ах ты! — вдруг вспомнил он. — И нужно ж было мне поставить армии Фульвия плохой ячмень! Луций тронул безвольное тело Тита, спрятал в шкатулку фальшивые кости и приказал Проту: — Кубок убрать! Раб брезгливо взял одними пальцами отравленный кубок. «Безмолвная скотина! — наблюдая за ним, ругнулся про себя Луций. — Он еще и соображает!» — Прокуратора сюда, немедленно! — крикнул он Проту. Испанец вошел в комнату. Поклонившись, застыл у двери. — Вызови лекаря, — сказал Луций. — Скажи ему, что мой гость и давний друг Тит Максим скончался от сердечного удара после постигших его в Сицилии тяжелейших потрясений. Постой… Прота под надежной охраной немедленно доставь на остров Эскулапа. У него, кажется, больна печень, почки и этот, как его — желудок! Ты все понял? — Да, господин! — поклонился прокуратор. — У него очень больна печень, почки и желудок. А твой лучший друг скончался от сердечного удара! 2. «Браво, Тиберий» «Корнелия — Семпронии привет. Ты уже должна знать из моего письма, как начался самый веселый праздник года. Слушай же, что было дальше. «Я выставлю свою кандидатуру на выборах в народные трибуны следующего года», — сказал Тиберий городскому претору, Гаю Лелию, Фурию и всем остальным, кто окружал твоего мужа. Он сказал это так уверенно и твердо, что его спокойствие невольно передалось и мне. «Представляю себе: Тиберий Гракх — народный трибун!» — засмеялся Эмилиан, оборачиваясь к своему льстивому окружению. Надо ли тебе говорить, как дружно все они начали поддакивать и смеяться? «Чтобы трибуном стал квестор сдавшейся армии?!» — кричал Фурий, показывая пальцем на Тиберия. «Не бывать этому! — вторил ему Лелий. — Хватит с нас и того позора, который он принес Риму своим мирным договором с варварами!» К чести Тиберия, он даже не удостоил взглядом ни Лелия, ни Фурия. Эмилиану же он напомнил, показывая глазами на усеявших весь праздничный холм римских бедняков и крестьян: «К счастью, выбирать меня будут они, а не вы!» «Да ну? — деланно изумился твой муж. — Они?!» «Да, — твердо ответил Тиберий. — Они. И как решит народ, так оно и будет!» «Послушай, Тиберий! — включился в разговор городской претор. — Оставь эти сказки для нищих и бродяг! Мы ведь здесь все свои, давай называть вещи своими именами. Давно прошли те времена, когда плебеи на своих народных собраниях сами выбирали себе трибунов, которые вечно совали потом нос в дела сената, мешая ему принимать законы и объявлять войну. Теперь сам сенат решает кому быть, так сказать, народным защитником. Правда, закон есть закон, и трибунов по-прежнему избирает народ на своих собраниях. Но перед каждым таким собранием мы даем плебсу обильные угощения, показываем кровавые зрелища, обещаем в недалеком будущем изобилие всех благ, — и выборы превращаются в утверждение наших кандидатур! Народ сыт хлебом и зрелищами, успокоен, сенату никто не ставит палки в колеса — все довольны! Ни драк во время голосования, ни шума — разве это не идеальные выборы?» «Для отцов-сенаторов и нобилей да! — согласился Тиберий и показал рукой на холм. — А для народа? Кто же тогда заступится за него, если сенат проталкивает в народные трибуны угодных себе людей? Если — страшно поверить — главный судья Рима: человек, остающийся сегодня за главу государства, полностью одобряет и даже сам организует выборы на основе подкупа, уговоров, обмана, угроз?!» «Ты оскорбляешь высшее должностное лицо Рима!» — воскликнул претор, но Тиберий, улыбнувшись, невозмутимо ответил: «Разве? А я думал, что просто называю вещи своими именами. И потом ты ведь сам сказал, что здесь все свои!» «С ним невозможно разговаривать!» — закричал претор, обращаясь за поддержкой к Эмилиану. Но твой муж жестом приказал ему успокоиться и прямо спросил Тиберия: «Как же ты, не имея достаточных средств на подкуп, угощения избирателей и организацию им предвыборных развлечений собираешься стать народным трибуном?» «А я не собираюсь никого подкупать или угощать! — с достоинством ответил ему Тиберий. — Оставляю это право сенату. Я и без этого стану народным трибуном, потому что смогу дать римскому народу то, что ему сейчас важнее ваших подачек и бесплатных обедов!» «Что же именно?» — уже без усмешки спросил Эмилиан. И тут Тиберий сказал то, что заставило побледнеть даже его, не знавшего, как говорят, страха в боях. «Я сделаю то, — сказал Тиберий, — что твой кружок обсасывает тщетно вот уже десять лет! Я дам римскому народу землю! Ту самую, захваченную у наших врагов общественную землю, которую патриции незаконно прибрали к своим рукам и вот уже сотни лет считают своею. Я заставлю всех свято соблюдать забытый закон Лициния и Секстин!»[42] Слух о словах Тиберия пронесся по Палатину, как ветер по налитому спелыми колосьями полю. Отмахиваясь от хмельных луперков, крестьяне, нищие, грязные оборванные люди обступили нас и горящими глазами глядели на Тиберия, вслушивались в каждое его слово. «Да, я дам крестьянам землю, — дождавшись, когда смолкнут негодующие возгласы сенаторов, невозмутимо продолжал Тиберий. — Армии — новых воинов. Врагам — страх перед Римом. Отечеству — спокойствие и былое могущество!» «Браво, Тиберий!» — закричал один из прежних друзей моего сына, Гай Биллий. «Браво!» — поддержали его еще несколько человек, и вскоре весь холм ревел, повторяя одно только слово: «Земля! Земля! Земля!!» Это было жуткое и незабываемое зрелище, от которого я до сих пор не могу прийти в себя. «Безумец! Ты понимаешь, что говоришь? — стараясь перекричать страшный шум, напустился на Тиберия городской претор. — Лучшие умы Рима, сам Сципион бьются над разрешением этого вопроса, не в силах даже приблизиться к выходу из него!» «Пока Рим совещался — Сагунт пал!» — усмехнулся подошедший Блоссий, и те, что стояли поближе, передали его слова остальным. «Мы не только совещаемся, как помочь народу, — поправил претора Эмилиан, — но и уже наметили кое-какие меры, правда, пока небольшие…» «Ага! — кивнул Блоссий, подмигивая Тиберию. — Рожают горы, а родится смешная мышь!» Хохотом ответил народ на его слова, причем таким дружным, что побагровевший Эмилиан дал знак своим ликторам быть наготове… Как только смех поутих, на Блоссия накинулся его извечный соперник Панеций. «Сапожник, суди не выше сапога! — прикрикнул он, щеголяя знанием римских пословиц. — Это тебе, как путнику, у которого ничего при себе нет, можно петь песни в присутствии разбойников! А Тиберий Гракх рискует потерять все: уважение равных, понимание друзей, славу, наследованную ему отцом и дедом! Или ты думаешь, что те, у кого он собирается отобрать землю, веками принадлежавшую им, так просто расстанутся с ней? Или те, кому он хочет отдать ее поставят ему памятники или обожествят его имя? Презрение, смерть и позор — вот какая награда ожидает его!» Не успел Панеций договорить, как Гай Биллий воскликнул: «Не верь ему, Тиберий! Твои друзья с тобой! Они не отвернутся от тебя и пойдут за тобой даже на верную смерть!» «И мы, равные тебе по положению в обществе, с тобой, Тиберий»! — под одобрительные возгласы народа, сказал Аппий Клавдий, подталкивая в бок своего друга, лучшего законоведа нашего времени, Муция Сцеволу. Очнувшись, тот приветливо кивнул Тиберию. Так же выразил ему свою поддержку и Красс Муциан, кандидат в будущие консулы. «Ну, а ты?» — посмотрел сияющими глазами на Марка Октавия Тиберий. «Что я?» — растерялся тот, глядя то на Эмилиана с претором, то на Тиберия. «Тоже выставишь свою кандидатуру на вторую вакансию? — торопил его мой сын. — Вдвоем нам будет легче!» «Наверное…» — нерешительно пожал плечами ему в ответ Марк. Вокруг них тем временем стало уже по-настоящему жарко. Блоссий спорил с Панецием, утверждая, что наградой за доброе дело служит уже само свершение его. Аппий Клавдий схватился с сенаторами Сатуреем и Руфом, тесть нашего Гая Красс — с «Мудрым» Лелием, Муций Сцевола — с Квинтом Помпеем, соседом Тиберия. Но громче всех кричали крестьяне и простой люд, теперь уже повторяя: «Ти-бе-рий! Зем-ля!! Ти-бе-рий! Зем-ля!!» Запахло скандалом, и консульские и преторские ликторы сдвинулись вокруг сенаторов, угрожающе наклонив свои фасции… Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не Тиберий. «Стойте! — вдруг закричал он и, поднявшись на камень, горячо заговорил, обращаясь то к простому люду, то к патрициям. — О чем вы спорите? Или не видите очевидного? Даже дикие звери, живущие в Италии, и те имеют норы и логовища, между тем, как люди, умирающие, сражаясь за Италию, не имеют теперь ничего, кроме воздуха и света. Посмотрите на них! Они без крова, лишенные постоянного местожительства, бродят с женами и детьми, живут в Риме на жалкие подачки! Полководцы обманывают солдат, увещевая их сражаться с врагом за могилы предков и храмы, в то время, как у массы римлян нет ни алтаря, ни кладбища предков. Их называют властелинами, между тем, как у них нет даже клочка собственной земли!»[43] Не могу передать тебе, какой восторг и одновременно негодование вызвали на Палатине эти слова Тиберия. Надежда одних, ярость других, — все это живо стоит перед моими глазами. Кончилось все тем, что сципионовский кружок и все его окружение в полном молчании удалились с холма. Над ними насмехались, радовались, а я видела что-то зловещее в этом молчании. И даже сияющий Блоссий, шепнувший мне на ухо, показывая глазами на Тиберия; «Тот сделал полдела, кто уже начал!», не мог рассеять самых тягостных предчувствий. Обессилев, я приказала подать мне носилки, и в окружении ликующих толп народа мы проследовали по улицам взбудораженного Рима. Слава шла впереди, опережая нас. На стенах множества домов уже успели появиться наспех сделанные надписи: «Прошу вас, голосуйте за Тиберия Гракха, он даст нам землю!» «Земледельцы требуют сделать народным трибуном Тиберия. Он достоин этого!» «Если кто отвергнет Тиберия Гракха, тот да усядется рядом с ослом!» И даже такая: «Гай Биллий — Панецию: повесься!» Но были и угрозы Тиберию, я не стану повторять их, дабы не привлечь к ним внимания богов. Были даже стихи о безвременно ушедшем от нас Теренцие, которого любил называть своими другом Эмилиан. Раньше их вряд ли кто осмелился произнести даже шепотом. А тут перечитывали вслух — и восторгались. Я приказала сопровождавшему меня скрибе записать их. Вот они: Он, похвал развратной знати лживых домогавшийся, Он, впивавший жадным слухом мненья Сципионовы, С высоты блаженства снова впал в пучину бедности, С глаз долой скорее скрылся в Грецию далекую. И в Стамфиле аркадийском умер, не дождавшися Помощи от Сципиона, Лелия иль Фурия, Между тем, как эти трое жизнь вели привольную. Даже домика не нажил он, куда бы раб Принести бы мог известье о конце хозяина! Так что, если твой муж опять будет кичиться своей дружбой с Полибием или Теренцием, прочти ему эти строки. И добавь, что их читали во всеуслышание в Риме! Так, всего лишь за несколько часов, мой сын и твой родной брат вознесся на самую вершину славы, стал самым известным человеком во всей Италии. Когда мои носилки поравнялись с ним, он приветливо помахал мне рукой и наконец-то — о, боги!! — кто-то громко крикнул: «Смотрите, вон мать Тиберия Гракха!» Множество народа бросилось помогать идущим перед моими носилками рабам расчищать дорогу от нерасторопных и любопытных, крича: «Дорогу, дорогу матери Гракха!» Клянусь, они не пожалели бы и своего недавнего кумира Эмилиана, так разочаровавшего их, окажись он на моем пути! Вот так, дочь моя, закончились нынешние Луперкалии. Казалось бы, теперь мне надо радоваться и радоваться. Но увы! Ты знаешь мое правило бросать каждый вечер в кувшин черный или белый камешек, чтобы потом, в последний день года, подсчитать, каких же больше было дней — плохих или хороших. И вот я сижу перед кувшином и смотрю на два камня: белый и черный. Какой опускать? Не знаю… Ведь, видят боги, сегодня я не только вновь обрела своего сына, но, возможно, и навсегда потеряла его. Но я не могла поступить иначе. Будь здорова.» 3. Остров Эскулапа Уже смеркалось, когда трое рабов, следуя за угрюмым прокуратором, донесли безвольное тело Прота до острова Эскулапа. — Ну и скряга же наш хозяин! — сгибаясь под тяжестью, пожаловался идущему впереди гету купленный недавно Луцием Пропорцием фракиец. — Не дал даже телегу! — Молчи, прокуратор услышит! Не миновать тогда тебе его плетей… — не оборачиваясь, прошептал гет. — Ты еще не знаешь римских порядков. В этом городе можно ездить на повозках лишь по ночам! — Ну и подождал бы до ночи! — пробурчал фракиец, выбиваясь из сил. — Ты же сам слышал: прокуратор сказал — срочно… Сойдя с деревянного моста, соединявшего небольшой длинный остров с Римом, прокуратор привычно осмотрелся и направился к месту, где уже лежало несколько рабов. — Здесь! — крикнул он. — Бросай! Гет со своим товарищем покорно выпустили из рук Прота. Фракиец замешкался, и его спину обжег удар плети. — Я кому сказал бросай! — закричал на раба прокуратор, и голова Прота тяжело ударилась о твердую землю. Прот слабо застонал, дернувшись от боли. — Смотри-ка, — удивился прокуратор. — Еще живой! Он подошел к избитому до полусмерти рабу и пнул его носком в бок. Прот захрипел. — До утра сдохнет! — уверенно заявил прокуратор. — Как? — удивился фракиец. — Разве мы принесли его сюда не для того, чтобы его вылечили? — Уж эти мне новички! — усмехнулся прокуратор и обвел угрюмыми глазами поросший жалкой растительностью остров, на обоих краях которого высились скромные храмы. — Заруби себе на носу: здесь никто, никогда и никого не лечит! — Но это же остров самого Эскулапа — бога врачевания! — пробормотал раб. — Я вижу и его храм со змеей… — Храм есть, а Эскулапа нет! Ушел! Сбежал! — разъярился внезапно прокуратор. — Господа ссылают сюда самых немощных и больных рабов, и они умирают здесь от голода! Если и ты в чем-нибудь провинишься, доставим сюда и тебя! — пообещал он. — А если не провинюсь? — спросил перепуганный фракиец. — Так рано или поздно состаришься — и все равно окончишь свой путь здесь! Здесь, в этом мерзком месте! — закричал прокуратор. — Перестань задавать дурацкие вопросы! — шепнул фракийцу гет. — Ими ты напоминаешь прокуратору, что он такой же раб, как и мы с тобой, и жизнь его тоже оборвется на этом самом острове! Изумленный такой новостью фракиец замолчал, и прокуратор, немного успокоившись, приказал: — Всем домой! Бегом! Фрак, заруби себе на носу: рабам ходить по улицам Рима запрещено, рабы обязаны только бегать! Голос прокуратора и быстрые шаги удалились. Прот приоткрыл мутные глаза. Он увидел строгий силуэт Тарпейской скалы, пустынной и безмолвной в честь праздника. За ней виднелись торжественные макушки римских храмов. От быстрой, грязной воды Тибра веяло холодом. Сколько раз в мечтах и во сне покидал он этот проклятый Рим: и в отплывающей в родной Пергам римской триреме, и в повозке внезапно разбогатевшего и приехавшего выкупить его отца, и просто с кошельком монет, утаенных от Луция… А оказалось все так просто и страшно. Прот пошевелился, пытаясь встать, но боль в боках и груди прижала его к земле. Вспомнился сегодняшний вечер в доме Луция, когда его вдруг схватили двое рабов и поволокли в эргастерий[44], горящие глаза прокуратора, кричавшего потным рабам: «Бей! Бей еще!! Поддай! А ну, бросай плети! Ногами его! Ногами!!» Прот застонал, заново переживая случившееся. Боль слегка поутихла. Он повернулся на бок, затем присел и обхватил голову руками. Вот что особенно обидно было ему: знать о том, где спрятаны пятьдесят миллионов сестерциев и не иметь никакой надежды добраться до них, услышать зачем Луций едет в Пергам и не предупредить своего отца, мать об опасности тоже стать рабами этих проклятых римлян… Вместо богатства и спасения близких он должен был умереть на острове вместе с другими несчастными. Прот обвел глазами брошенных на острове рабов: трое лежали ничком, один — на спине с широко раскрытыми глазами. Еще один лежал поодаль — лицо его уже тронуло тление. Вздохнув, он представил, как через день-другой так же будет лежать и он, уже ничем не отличаясь от них, как вдруг услышал невнятный шум, идущий со стороны Палатина. Прошло несколько минут. На мосту показалась толпа нарядно одетых римлян. Впереди шел молодой патриций в козьей шкуре, наброшенной на белоснежную тогу, и жрецы-луперки. С шутками и смехом они торопились закончить по традиции праздник Луперкалий у храма Фавна — родственника бога Пана, виновника сегодняшнего торжества. Не в силах глядеть на веселящихся рядом с мертвецами людей, Прот невольно закрыл глаза и мечтательно подумал: а что, если бы в роще, посвященной теперь Пану, не оказалось в давние времена потайной пещеры и тенистой смоковницы? Тогда волчице негде было бы вскармливать Ромула и Рема, латиняне построили б свой город в менее богатом и удачливом месте и, глядишь, не стали бы такими могучими и всесильными! Отец не продал бы его тогда за долги римскому ростовщику, тот не перепродал бы его отцу Луция, и был бы сейчас Прот вольным человеком, имел жену и шептал ей самые нежные слова… Хохот римлян и луперков, приблизившихся к храму Фавна, оборвал мысли Прота. — Веселятся… — послышался неожиданно рядом свистящий голос. Прот вздрогнул, повернул голову к лежащим радом рабам. Всмотрелся и понял, что лежащий ничком в двух шагах от него человек — живой. — Помоги мне… — прошептал раб, царапая землю и делая попытку повернуться на бок. Прот подполз к нему и увидел, что ноги раба покрыты пятнами свежей крови. — Потерпи! — сказал он, зубами разрывая на полоски свою тунику. Приподняв окровавленную полу, отшатнулся. Вместо ног перед его глазами возникло месиво из белых костей, мяса и жил. — Кто тебя так? — с трудом выговорил Прот, борясь с подступившей к самому горлу тошнотой. — Кто? — через силу усмехнулся раб и показал подбородком на толпу римлян. — Они же… Мы умираем, а они веселятся… У них это в порядке вещей… — За что они тебя так? — не зная, как наложить повязки и опуская полу, спросил Прот. — А тебя? — вопросом на вопрос ответил раб. — Я случайно узнал государственную тайну! — вздохнул Прот. — Они собираются превратить в свою провинцию Пергам, убить царя. Это моя родина… — пояснил он, умалчивая о пятидесяти миллионах. — Кровососы… Мало им Македонии и моей Греции, мало Карфагена, Испании… Сардинии… Теперь решили прибрать к рукам Малую Азию… — Туда едет мой хозяин! — объяснил Прот, слегка удивленный такой образованностью раба. — Он должен убить Аттала. — Тогда тебе надо предупредить своего царя, опередить хозяина… — Как? — Надо бежать… — Отсюда?! — Бежать можно отовсюду… Даже из Мамертинской тюрьмы или вон — с Тарпейской скалы! Была бы только цель… — Но они не оставили на мне живого места! Я не могу даже встать! — пожаловался Прот. — Нет… Я не смогу! — Цель! — упрямо повторил раб. — Ясная, нужная, которая не позволит тебе умереть спокойно… Она подарит тебе крылья, возвратит силы… — Да ты философ, как я погляжу! — пробормотал Прот, думая, что сокровища Тита могли бы стать для него такой крылатой целью. Да только разве теперь доберешься до них? — Да, — услышал он слабый вздох. — Когда-то я был философом… Потом стал воином. Та же цель поставила меня на высокую стену родного города, вложила в мои руки лук и меч… Но увы, это не помогло ни мне, ни городу… Я стал рабом. «Даже домика не нажил он, куда бы раб принести бы мог известье о конце хозяина»… — шепотом докончил философ, и Прот встревоженно склонился над ним: — Ты бредишь? — Да нет… Это стихи… Я их переписывал сегодня утром со стены по приказу госпожи… Философ изучающе посмотрел на Прота: — Ты спросил, за что они меня так. Хорошо, скажу… Я и еще семь моих товарищей решили воспользоваться сегодняшним праздником и — бежать! — Из Рима?! — Опять ты за свое… Я ведь уже объяснял тебе, что бежать можно отовсюду. — Но куда? Как?! — Хорошо, отвечу… В полночь мы уговорились встретиться у стены Сервилия Туллия между Виминальскими и Эсквилинскими воротами. Я договорился с одним владельцем парусника… — С римлянином?! — С вольноотпущенником… Он отвезет нас в Сицилию. Там — свобода. Там — Евн образовал целое царство из бывших рабов! Но владелец парусника затребовал с нас большую сумму. И тогда мы договорились обворовать своих господ. Хотя… я считаю, что мы взяли лишь то, что заработали… — И сколько же ты взял? Неужели столько, сколько заработал?! — не поверил Прот. — Да… Пятьдесят денариев… — Немного! Что, больше не оказалось? — Почему? В шкатулке госпожи было еще много монет, но я подсчитал… Я больше не заработал. Ведь я был простым скрибой в доме Корнелии, вдовы Гракха. Вместе с ее обезьянкой и карликом я сопровождал ее в выходах… — И они поймали тебя? — Да… — Прямо на месте?! — поежился Прот. — Да! Корнелия появилась в самый неподходящий момент, когда я отсчитывал денарии… Ей срочно понадобился пергамент для письма… — Она вызвала прокуратора! — подхватил Прот. — Да… — Удивительно, как он еще не убил тебя прямо на месте! — Мне повезло, если это можно назвать везением! — с горечью усмехнулся раб. — У вдовы сегодня прекрасное настроение. Она приказала лишь высечь меня розгами в назидание остальным рабам. Денарии, конечно, отобрали. Все, кроме одного… Его я все же ухитрился положить под язык. Ведь я до последнего надеялся, что успею в полночь повидаться с товарищами… Как я мог прийти к ним с пустыми руками? Этот денарий не позволял мне кричать и… погубил меня… Озверевший от моего молчания прокуратор сам принялся бить меня и… раздробил мне колени… Он и до этого меня не особо жаловал, а теперь, сам того не зная, отнял у меня последнюю надежду… А ты беги! Ты — молодой, сильный, а что избит — так нам ли, рабам, привыкать к этому? — Да я бы убежал! — неуверенно сказал Прот. — Но как? Раб вдруг замолчал и стал напряженно всматриваться за спину Прота. Прот обернулся и увидел бредущего по берегу пьяного луперка в шкурах поверх белой тоги. Шатаясь и голося какую-то песню, новоявленный жрец-луперк колотил длинным кнутом по волнам Тибра. — Видишь его? — прошептал раб. — Сама судьба улыбается тебе… Жрец остановился. Длинно сплюнул в реку. Погрозил кому-то невидимому кулаком. — Уйдет… прошептал Прот. — Молчи! — остановил его раб и неожиданно крикнул умоляющим голосом: — Эй, господин!.. — А? Что? — завертелся кругом римлянин. — Господин, — повторил раб, — ударь нас своей плетью… Жрец повернул голову к Проту, мертвецам и икнул: — К-кто з-здесь?.. — Мы, несчастные! — жалостливо отозвался раб. — Подойди к нам! Ударь своей целительной плетью… Дай нам хоть последние мгновенья прожить без страшных мучений! — А подите вы! — ругнулся жрец, разглядев в полутьме рабов. — Буду я пачкать о вас свою плеть, чтобы прикасаться потом ею к одеждам благородных граждан! Подыхайте, как можете! Жрец развернулся и зашагал прочь. — Уходит! — в отчаянии воскликнул Прот. — Все пропало! — Постой! Раб вынул изо рта серебряную монету, бросил ее на камень: — Нет такого римлянина, которого не приманил бы звон серебра… И точно… — Эй, вы! — окликнул издалека луперк. — Что это там у вас? — Да вот… — нарочито раздосадованным голосом ответил ему раб. — Денарий! Хотели дать его тебе за удар кнутом, да обронили… А поднять уже не можем — нет сил… — Денарий? — переспросил жрец, и шаги его стали быстро приближаться. — Где он? — Да вот… — Где?! — Вот… вот… Едва только луперк наклонился к монете, раб схватил камень и ударил им римлянина по голове. Удар получился таким слабым, что жрец только вскрикнул от удивления. Тогда раб из последних сил приподнял свое тело и вцепился обеими руками в горло жреца. — А ну прочь! Падаль! Дохлятина! — изрыгая проклятья, захрипел римлянин, пытаясь стряхнуть с себя раба. Прот подхватил камень, выпавший из руки его товарища по несчастью, и ударил им по голове жреца. Раз, другой, третий… — На тебе! Н-на! Н-на!!! — бормотал он. Лишь увидев перед собой выпученные, застекленевшие глаза, опустил руку. — Кончено! — выдохнул он и заторопился к рабу. — Потерпи, я сейчас! Он столкнул в сторону тяжелое тело жреца и вздрогнул: следом за луперком, не выпуская из рук его шеи, потянулся и раб. Он тоже был мертв. — Отмучился, бедняга… — покачал головой Прот и вдруг вспомнил: «В полночь на кладбище, между Виминальскими и Эсквилинскими воротами…» Он сел. Поднял отлетевшую в сторону монету. На него смотрело по-мужски жесткое, волевое лицо Ромы, богини города Рима. Прот машинально перевернул денарий: ничего особенного в нем не было — кормящая под смоковницей близнецов волчица… Птица на ветке, нашедший их пастух Фавстул, опирающийся на длинный посох… Сколько раз, совершая покупки для Луция, он держал в руках точно такие денарии. Но сейчас вид этого вызвал в нем ярость. «Волки! — задыхаясь, подумал Прот. — Самые настоящие волки, а не люди! И первый ваш царь, этот Ромул, убивший Рэма, был волком! И весь ваш сенат, и Луций, и Квинт, и Тит, и даже Корнелия — все волки! И ты, проклятый луперк, тоже волк!» Выкрикивая проклятья, Прот стал срывать с жреца полоски шкур зарезанных животных, обмотался ими, поднял плеть и, в последний раз оглянувшись на философа, с трудом двинулся к деревянному мосту. Тело разрывалось от боли. Ноги подгибались. Со стороны казалось: пьяный луперк возвращается домой с веселого праздника. Потихоньку боль притупилась, тело вновь стало послушным. Прот шел по узким, вонючим улочкам Рима, с трудом сдерживая в себе рабскую привычку бежать. Редкие прохожие удивленно смотрели на припозднившегося луперка, а потом, всплеснув руками, бежали к нему и просили ударить их плетью. Сначала робко, а затем все сильнее, яростней Прот хлестал ненавистные лица, источавшие улыбки и слова благодарности, гнев его смешивался со слезами, смех — с проклятьями… Очнулся он на старом кладбище, где обычно хоронили слуг, рабов и бездомных римлян — бывших крестьян, ставших бродягами. Семь рабов печально выслушали рассказ о гибели своего товарища. В полночь от пустынного берега у городской клоаки, куда стекались все нечистоты города, и где нельзя было встретить посторонних глаз, отчалил небольшой парусник. В тот же час из Рима по гладкой, словно бронзовое зеркало, Аппиевой дороге в удобной повозке выехал посланник Рима в Пергам Гней Лициний.  Конец первой части ЧАСТЬ ВТОРАЯ 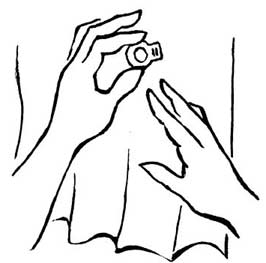 1. Свежие новости Отправив домой купленных рабов, Эвбулид вернулся к «камню продажи». Глашатаи на этот раз расхваливали партию чернокожих египтян, поджарых мужчин с острыми плечами. Еще вчера молившие своих богов о высоком разливе Нила, рабы стояли, скрестив на груди жилистые руки и с тоской смотрели, как поднимаются по ступенькам их будущие хозяева, зажиточные афиняне. Египтян сменили фригийцы, фригийцев — пленники из Каппадокии, Понта, их — малоазийцев, — косматые геты, бородатые тавры… Эвбулид ревниво оглядывал каждую партию, слушал цены и с радостью убеждался, что самые лучшие рабы этого привоза достались именно ему, да еще по такой смехотворно малой цене! Подтверждали это и завистливые взгляды соседей. Сомата — что гнездо горных пчел: не успеет самая быстрая найти сладкий цветок, как об этом уже знает весь улей! Приосанившись, он даже стал давать советы нерешительным покупателям, называя понтийцев — пергамцами, пергамцев, в свою очередь, — сирийцами: все эти рабы из неведомой ему Малой Азии были для него на одно лицо. Вскоре Эвбулида уличили в невежестве, и он, опасаясь насмешек, а пуще того — сглаза, скороговоркой пожелал покупателям благосклонности богов и заторопился с соматы. Радость переполняла его, искала выхода, но, как нарочно, на всей агоре не было больше видно ни одного знакомого лица. Даже Армена, которому он мог рассказать о крепости рук сколотов, о сговорчивости их торговца, и того он отправил со своими новыми рабами на мельницу. Эвбулид обошел весь рынок, потоптался перед храмами, у Пестрой Стои и направился в гимнасий, где состязались атлеты. Среди множества зрителей, подбадривающих возгласами потных, обсыпанных мелким песком борцов, он наконец увидел несколько своих знакомых. Все они, уже наслышанные о покупке, выразили буйный восторг. Но, узнав, что званого ужина по этому случаю не будет сразу поскучнели и один за другим перевели глаза на арену. «Жаль, что нет Фемистокла!.. — подумал Эвбулид, глядя как обнаженный атлет под восторженные крики подминает под себя соперника. — Уж он-то иначе порадовался бы за меня!» Обычно захватывающее его зрелище на этот раз показалось скучным, и Эвбулид выбрался из толпы, забившей здание гимнасия. Улицы Афин по-прежнему были полны народа. Каждый торопился по своим делам. Напрасно Эвбулид пытался завести разговор с остановившимся поправить ремешок сандалии гражданином, с жестикулирующим на ходу философом. Сославшись на неотложные дела, они продолжили путь. Никому не было дела до счастливого Эвбулида. Толкаемый всеми, он медленно брел по бурлящим улицам, пока взгляд его не упал на знакомую надпись, сделанную прямо на стене одной из торговых лавок: «Здесь, за самую скромную плату, седые снова станут молодыми, молодые — юными, юные — зрелыми мужами! Модная стрижка, бритье, уход за ногтями, ращение волос и самая приятная беседа — только у нас!» Обрадованный Эвбулид машинально пригладил свои мягкие волосы, отмечая, что давно не мешало бы постричься, придирчиво осмотрел отросшие ногти и, едва сдерживая нетерпение, шагнул через порог лавки. В тесном помещении было оживленно. Два цирюльника — оба метеки[45]: худой финикиянин и тучный грек из Элиды ловко обслуживали клиентов. Финикиянин тщательно выбривал щеки молодого грека. Элидец красил волосы пожилому афинянину, придавая им красивый однородный цвет. Слушая вполуха, о чем рассказывают клиенты, они успевали делиться свежими новостями, услышанными от предыдущих посетителей, перебивая друг друга и перевирая их, как только могли. Два десятка человек, разместившись на лавках вдоль стен, увлеченно беседовали между собой в ожидании своей очереди. Эвбулид поискал глазами свободное место и направился к дородному капитану триеры[46] — триерарху, который молча прислушивался к тому, о чем говорят остальные. — Сегодня на агоре поймали вора! — вытаращив глаза, воскликнул финикянин. — Мерзавец утянул у торговца рыбой двадцать пять драхм! — Не двадцать пять — а целую мину! — поправил элидец. — И не в рыбном ряду, а на сомате! — Говорят, на сомате продавали сегодня полузверей-получеловеков! — подхватил финикиянин, и его глаза стали похожими на круглые блюдца. — Их было тридцать штук! — кивнул элидец. — Головы — скифов, туловища — циклопов, а на ногах — копыта. — Один из них ка-ак кинется на покупателей! Пятеро — замертво, семь пока еще живы! — Какой-то ненормальный заплатил за них десять талантов! — Не такой уж он и ненормальный! — возразил финикиянин. — Будет теперь их показывать нам по праздникам за большие деньги! Эвбулид слушал метеков и давился от смеха. Слезы выступили у него на глазах. — Ну и народ, эти цирюльники! — обращаясь к триерарху, заметил он. — Голова — скифов… туловища — циклопов… десять талантов! — Не вижу ничего смешного! — пожал плечами триерарх. — В море я встречал чудовищ и поужаснее! Сирен, людоедов-мурен. Одни только морские звери чего стоят!.. — Да дело в том, что это я купил этих «полузверей-получеловеков»! — пояснил Эвбулид. — Ты?! — Да, я! — И будешь показывать их по праздникам? — Какие еще праздники! — засмеялся Эвбулид. — Эти рабы — обычные люди, правда, очень высокие и крепкие. — И ты заплатил за них десять талантов? — Десять мин! И было их не тридцать, а только пятеро! Эти цирюльники вечно все перепутают. Свет не видел больших лгунов и болтунов! — Пожалуй, ты прав, — согласился триерарх. — Всего десять минут назад этих чудовищ у них было двадцать, а сумма — в несколько раз меньше! — покачал он головой, глядя на заспоривших между собой метеков. — А я говорю, что Рим двинется сначала на Понтийское царство! — доказывал финикиянин. — Нет — на Пергам! — возражал элидец. — Он ближе к Риму! — На Понт! Зря что ли перепуганный Митридат превратил свой дворец в боевой лагерь и спешно вооружает свое войско? — Царь Митридат день и ночь возится со своим наследником! — качая на руках ножницы, словно воображаемого ребенка, пояснил посетителям элидец. — Что ему Рим? Это Аттал должен волноваться! — Глупец! Ты забыл, что Аттал — «други союзник Рима!» его предки самыми первыми в Азии стали носить этот титул! — И все равно первым падет Пергам! — Нет, Понт! — Аттал! — Митридат! — Ты лжец! — Я лжец?! В руках цирюльников появились склянки с маслом и благовониями. — Э-э, да так наши волосы чего доброго останутся без масла! — не без тревоги заметил триерарх и громовым голосом проревел: — А ну, кончай даром сотрясать воздух, трезубец Посейдона вам в глотки! Оба вы лжете! — Как это оба? — опешил финикиянин, невольно опуская пузырек. — Если лжет он, то значит, прав я! — Да! — подтвердил элидец. — А если он лжет — то моя правда! — Кто-то же из нас двоих должен быть прав? — Никто! — отрубил триерарх. — Ты, хитрец из Финикии, лжешь потому, что Рим плевать хотел на всех своих друзей! Македония и Каппадокия тоже были его союзниками, а что с ними теперь? А твои слова, блудный сын Элиды, лживы хотя бы уже потому, что у Митридата с Лаодикой нет наследника! Царю все время некогда, он почти не бывает в Синопе, проводя дни и ночи в учениях своих войск! — Ага! — обрадовался финикиянин. — Значит прав все-таки я: Митридат готовится к войне с Римом! Триерарх обвел глазами примолкших посетителей и отрезал: — Войско царю Понта нужно для того, чтобы захватить Вифинию и Армению! А Рим больше не опасен ни Митридату, ни Атталу. Недавно я был в Сицилии и Испании и могу сказать, что у Рима руки теперь коротки! — Я слышал, Евн уже взял город Катану и осадил Мессану! — сообщил нарядный щеголь, поправляя на плече дорогую фибулу. — Но ведь это же на самой границе с Италией! — обрадованно воскликнул элидец. — А я что говорил! — улыбнулся триерарх. — Вот было бы славно, если б рабы вошли в Италию и захватили Рим! — причмокнул языком финикиянин. — Этого не будет, — раздался уверенный голос с порога. — Никогда. Посетители цирюльни с изумлением взглянули на вошедшего. Это был высокий стройный грек лет семидесяти, с аккуратно завитыми седыми волосами. — Полибий… Полибий… — послышался восторженный шепот. Изумление на лицах сменилось почтением. Греки задвигались, стараясь высвободить рядом с собой место для редкого гостя. Эвбулид тоже отодвинулся от триерарха. Он сразу узнал Полибия, которого видел еще под Карфагеном в свите главнокомандующего римской армии Сципиона Эмилиана. Когда консул благодарил Эвбулида за спасение своего центуриона, Полибий тоже сказал несколько добрых слов соотечественнику и с тех пор всегда узнавал Эвбулида. Вот и сейчас он приветливо улыбнулся ему, как старому знакомому. Ловя на себе завистливые взгляды, Эвбулиад вежливо спросил у Полибия: — Скоро ли ты порадуешь нас окончанием своей «Всеобщей истории»? — Надеюсь, что скоро, — дрожащим голосом, выдававшим его возраст, охотно ответил Полибий. — Работается мне, правда, увы, не так легко, как прежде. Быстро устаю. Вот и сейчас даже не смог дойти до дома, — пожаловался он, — решил зайти сюда, отдохнуть… Да и годы, кажется, сделали меня сентиментальным. Приходится затрачивать немало усилий, чтобы продолжать свою «Историю» без прикрас и слезливости. — Я читал твою последнюю книгу, в ней ты полностью верен себе! — уважительно заметил Эвбулид и добавил то, что слышал от философа у Пестрой стои: — Это прекрасное знание материала, глубокая философская оценка каждого приводимого тобою факта! — Правда? — по-детски обрадовался похвале Полибий и вздохнул: — Это умение быть точным во всем с каждым днем дается мне все труднее… — И тем не менее ты написал тридцать два великолепных тома! — Уже тридцать пять! — поправил Эвбулида Полибий и пояснил: — За два с половиной года, что я снова провел в Риме, я закончил еще три тома. Еще пять — и я расскажу потомкам, как Рим в течение каких-то пятидесяти лет стал властелином всего мира! — Как жаль, что я смогу узнать об этом лишь через несколько лет, когда ты закончишь весь свой труд! — вздохнул Эвбулид. — Ну отчего же? — улыбнулся Полибий, и в его голосе появились молодые нотки. Эвбулиду даже поверилось в слухи, что историк до сих пор катается на лошади! — Я этого не скрываю и сейчас! Ножницы и расчески замерли в руках метеков. Посетители в дальних углах даже привстали со своих мест, чтобы услышать каждое слово знаменитого историка. — Если ты читал мои прежние тома, — продолжал Полибий, — то знаешь, что я отношусь ко всем государствам, как к живым организмам. Каждое государство рождается, мужает и… умирает. Так было с Персией, с Македонией… Так, увы, происходит сейчас и с нашей Грецией. С Римской республикой же дело обстоит иначе. Преимущества ее государственного строя так велики, он столь совершенен, что я сулю Риму расцвет и незыблемость на все времена! — Как? — воскликнул пораженный триерарх. — Бесчинства римских легионов в чужих землях будет продолжаться вечно?! — Я всегда был противником излишней жестокости римлян, и не скрывал этого ни здесь, ни в Риме! — возразил Полибий. — Но тысячу раз я согласен с выводом Панеция, который оправдывает политику Рима тем, что только единое мировое государство может осуществить божественное единство разума на земле! — Кажется старик выжил из ума! — прошептал на ухо соседу триерарх и громко, чтобы все слышали, спросил у Полибия: — Так, значит, каждое государство, совсем, как человек рождается? — Да, — кивнул Полибий. — Мужает и гибнет? — Конечно! — Но тогда, по твоим же словам, если Рим родился и сейчас возмужал, то он должен и погибнуть! — торжествующе воскликнул триерарх. — И чем раньше, тем лучше для всех нас! — ударил он кулаком по лавке. — Рим? — вскричал Полибий. — Никогда! Рим — это счастливое исключение! Это — верх справедливости… — То-то этот Рим забрал тебя с тысячью заложников себе, а вернул живыми лишь триста! — усмехнулся в дальнем углу пожилой афинянин. — Рим — это идеальный государственный строй! — Не слушая больше никого, увлеченно твердил Полибий. — Это смешанные надлежащим образом все три известных формы правления: монархия, аристократия и демократия, это… — И такому человеку благодарные греки поставили памятники в Мегалополе, Тегее, Мантенее, десятках других городов! — печально вздохнул триерарх. — Ты забыл, что он десять лет назад вступился за Грецию! — с укором напомнил Эвбулид. — И сенат пошел на уступки только из уважения к его авторитету! Метеки, освободив кресла, почти одновременно подскочили к Полибию, который уже рассуждал сам с собой, перейдя на чуть слышный шепот. — Садись в мое кресло! — умоляюще заглянул ему в глаза финикиянин. — Нет, в мое! — оттеснил его плечом элидец. Полибий очнулся и невидящим взглядом обвел цирюльню. Остановил удивленные глаза на почтительно склонившихся перед ним метеках. — Не беспокойтесь! Я отдохнул! — воскликнул он, легко поднимаясь с лавки. — Мне надо спешить — меня ждет тридцать шестая книга моей «Истории»! — А разве ты не желаешь обновить завивку на своих кудрях? — Или привести в порядок ногти? — Как-нибудь в другой раз! — возразил историк и с несвойственной его возрасту быстротой направился к двери: — Мой труд торопит меня… — Тогда ваша очередь! — разочарованно обратились метеки к триерарху и Эвбулиду. Снова защелкали ножницы, запахло благовониями. Ощущая приятный озноб в голове от беглых прикосновений металла, чувствуя, как отмокают пальцы в теплой воде, настоянной на травах, Эвбулид никак не мог взять в толк, что происходит в мире. Странные странности! Римлянин дает ему, греку, в долг, в чем отказали Эвбулиду его соотечественники. А греки, причем, такие, как Полибий и Панеций, защищают кровожадный Рим, оправдывая все его убийства и войны, в том числе и порабощение Греции… От этих тревожных мыслей его отвлек финикинянин. Он поднес к лицу Эвбулида зеркало и спросил: — Может, завить волосы? Это сейчас очень модно, особенно если идешь на званый ужин! — Да, пожалуй, — согласился Эвбулид. А его сосед триерарх неожиданно захохотал: — Тогда завивайте меня в три раза крепче, потому что я зван сегодня сразу на три ужина. И, клянусь трезубцем Посейдона, — мрачнея, пообещал он, — напьюсь на них так, что позабуду и Рим, и всех его прихвостней! 2. Двадцатилетняя Гедита Когда Эвбулид вернулся домой, в мужской половине все уже было готово к приходу знатного гостя. Клине, всегда покрытые грубым шерстяным сукном, на этот раз были застланы яркими, дорогими покрывалами, приданым Гедиты, вынутым из сундуков; Армен сдвинул их так, чтобы Эвбулиду было удобно вести беседу с Квинтом. Еще три клине, одолженные у соседей, стояли у стены на тот случай, если Квинт приведет с собой товарищей, или заявятся незваные гости — параситы[47]. Тазы для умывания, венки из роз, расшитые цветами подушки и пестрые коврики, — все лежало на своих местах. За несколько часов, которые провел Эвбулид в цирюльне, повар, судя по ароматам, идущим из кухни, честно зарабатывал две драхмы. — Гедита! — громко позвал Эвбулид, довольно потирая ладони. — Иду-у! — послышалось из гинекея. Что-то в голосе жены приятно удивило Эвбулида. Таким он слышал его разве что тринадцать лет назад из приоткрытых окон ее девичьей комнаты. — Гедита! — нетерпеливо повторил он. — Я здесь… Эвбулид оглянулся и замер. На пороге гинекея — словно и не было этих тринадцати лет — стояла Гедита! Куда делись хмурые морщинки, старящие ее лицо? Где поселившиеся в ее глазах усталость и недовольство? Всегда покрытые пеплом домашнего очага волосы на этот раз были тщательно уложены волнистыми локонами. Щеки и губы аккуратно раскрашены в нежный румянец. Брови подчеркнуты сажей, веки оттенены углем. Но главное — глаза. Они были прежними — молодыми и счастливыми. А еще духи — Эвбулид сразу узнал их запах и вспомнил: свадебный месяц гамелион, полнолуние, прячущая под покрывалом лицо Гедита и священный гимн, которым встречали их родители и соседи: «О, Гимен, о, Гименей!..» Гедита смутилась от долгого взгляда мужа, опустила глаза и ласково, совсем как в дни их минувшей молодости, сказала: — Эвбулид, наконец-то и наш дом заметили боги… Неужели это были наши рабы? — Наши, Гедита! Конечно же, наши! — С такими рабами мы действительно расплатимся с Квинтом! А я так боялась… — Видишь — и совсем напрасно! Эвбулид подошел к жене и тоже, как в молодости, взял ее за руки. Шепнул на ухо: — А знаешь, как мы отблагодарим нашего главного покровителя — Гермеса? Сына, который родится у нас после сегодняшней ночи, мы назовем его именем! — Эвбулид! Здесь же дети… Гедита показала глазами на приоткрытую дверь гинекея, откуда выглядывали Фила и Клейса. — Ну и что? — воскликнул Эвбудил и подхватил на руки младшую дочь: — Фила, Клейса, скажите маме, вы хотите, чтобы у вас был братик по имени Гермес? Фила стыдливо закрыла лицо платком и скрылась за дверью. Клейса, забавно выговаривая слова, спросила: — А он тоже будет из глины, как тот Гермес, что живет у нас за дверью? — О боги!.. Эвбулид быстро опустил Клейсу на пол и ударил себя кулаком по лбу. — Забыл! Совсем забыл… — Что случилось? — встревожилась Гедита. — Эвбулид, на тебе же лица нет! — Я… — Ну говори же, говори! — Я обманул бога! — Ты?! Ты, не обманувший в жизни ни одного человека — обманул бога?! Эвбулид, ты наговариваешь на себя! — Если бы это было так! Эвбулид тяжело опустился на клине. — Сегодня утром я пообещал Гермесу, что поставлю ему в случае удачи каменную статую и новый алтарь, принесу в жертву лучшего поросенка, какого только можно будет найти на агоре! И вот он подарил нам удачу, да что удачу — счастье! А я с этими проклятыми атлетами и цирюльниками забыл о своем обещании! — Что же теперь делать, Эвбулид? — встревожилась не на шутку Гедита. Эвбулид вскочил с клине, отталкивая бросившегося к нему на помощь Армена, сам начал завязывать ремешки на сандалиях. — Скорее на агору! — бормотал он, путаясь с непривычки в ремешках и в конце концов позволяя Армену обуть себя. — В лавки каменотесов, в мастерские скульпторов… Громкие удары железного молотка в дверь оборвали его на полуслове. — О боги! — прижала к лицу ладони Гедита. — Что же теперь будет? Может, Квинт, подождет, пока ты сбегаешь? — с надеждой спросила она. — Квинт? — грустно покачал головой Эвбулид. — Никогда! Стук в дверь повторился. — Армен, — слабо надеясь, что это пожаловал Демофонт за старым долгом или кто-нибудь из дружков Диокла, окликнул Эвбулид. — Что стоишь? Иди посмотри, кто там? Кряхтя и отряхивая с хитона мучную пыль, принесенную с мельницы, старый раб медленно прошел через комнату. Неторопливо открыл дверь, за которой тут же послышалась ругань, сопровождаемая звонкой затрещиной, и возвратился с несвойственной ему быстротой. — К тебе гость, господин, — потирая затылок, сказал он. — Велено доложить: Квинт Пропорций, благородный квирит[48] всаднического сословия… 3. Благородный квирит — Эгей, Эвбулид, Марс тебя порази! — прогремело за порогом. — Ты что — нарочно забрался в это проклятое богами место Афин?! Гедита проворно подхватила на руки заплакавшую Клейсу и скрылась в гинекее. Обычай запрещал ей находиться в мужской половине в присутствии чужих людей, и она не могла даже поблагодарить римлянина за все, что он сделал для них. Дверь грохнула, закрываясь, словно в нее попал свинцовый снаряд, пущенный из пращи умелой рукой. Квинт Пропорций стоял на пороге, с недовольством разглядывая заляпанные зловонной грязью сапоги из мягкой темной кожи, скрепленные на подъеме красивой пряжкой в форме полумесяца. — Или я дал тебе недостаточно денег, чтобы ты мог пригласить меня в более достойное место? — отрывисто бросил он, хмуро осматривая закопченные стены и низкий потолок. — Не беспокойся, Квинт! — радушным тоном поспешил смягчить раздражение гостя Эвбулид. Он подтолкнул к римлянину Армена и пообещал: — Сейчас мой раб разует тебя и почистит твои дорогие сапоги! Они станут еще лучше, чем когда ты впервые увидел их в лавке сапожника! — Я вообще не видел их в лавке у сапожника, потому что это подарок брата! — желчно возразил Квинт, скользнул по Армену презрительным взглядом и процедил сквозь зубы: — Разве этот раб годен еще на что-нибудь? Такого я давно бы уже отправил на остров Эскулапа! Римлянин перехватил благодарный взгляд Армена, принявшего его слова за чистую монету и нахмурился: — К тому же он дурак и неуч. Пусть лучше приведет с улицы моего раба и отвяжет твою собаку. Я не желаю, чтобы расплодившиеся в ваших Афинах параситы и бродяги помешали мне приятно провести вечер! — Но у меня нет собаки! — развел руками Эвбулид. — Мне пока нечего охранять от воров. — Тогда возьми веревку и привяжи к двери этого старого раба! — проворчал Квинт. — Да вели ему лаять погромче на прохожих. Хоть какая-то польза будет от дармоеда! Эвбулид незаметно для гостя сделал Армену знак убираться из комнаты. Армен выскользнул в дверь и почти тут же в дом вбежал смуглый египтянин. Упав на колени перед Квинтом, он ловко снял с него сапоги, пододвинул таз с водой и столик с благовониями, тщательно вымыл ноги своего господина, обильно надушил их. Затем схватил подмышку грязные сапоги и стремглав бросился с ними в угол — приводить в порядок. И все это — без единого слова. — Твой раб на зависть! — воскликнул Эвбулид, привыкший видеть в чужих домах и на улицах Афин ленивых, вечно огрызающихся рабов. — Но почему он все делает молча? Ты, наверное, недавно купил его, и он еще не понимает ни эллинской, ни вашей речи? — Он все понимает, мерзавец! — усмехнулся Квинт. — Просто не разговаривает. — Так он — немой? — Он более, чем немой! — подчеркнул Квинт и, видя, как вытягивается лицо Эвбулида, объяснил: — Я запрещаю своим рабам разговаривать. Зачем? Лишняя роскошь. Рабы — это орудие труда, такие же, как телега или мотыга. Скажи, разве ты видел, чтобы телега разговаривала, или мотыга смеялась? — А если ему захочется поговорить? — с жалостью покосился на чистящего сапоги египтянина Эвбулид. — Мало ли — земляка встретит или случайно что-нибудь скажет? Квинт равнодушно пожал плечами. — Тогда, клянусь Марсом, это будут последние слова в его мерзкой жизни. Я прикажу вырвать ему язык. А если после этого он, как ты выразился, «случайно» еще и замычит, — шумно зевнул он, — я велю раздробить ему колени, как последнему беглецу или вору, и выброшу за забор — подыхать! — И после этого ты не боишься иметь у себя в доме на смерть озлобленных рабов? — зябко поежился Эвбулид. — Сколько рабов — столько врагов, как говорят у нас в Риме! — усмехнулся Квинт. — Зря что ли я держу у себя нескольких преданных мне надсмотрщиков? Эти негодяи из страха, чтобы я не отослал их на рудники или не продал ланисте в гладиаторы, доложат мне то, о чем еще только начинают замышлять рабы! Они передадут мне мысли даже мертвого! Но я и сам вижу своих рабов насквозь. Как считаешь — о чем сейчас думает этот мерзавец? Квинт кивнул на египтянина, который, вздрогнув, еще быстрее стал водить тряпкой по сапогам. Эвбулид взглянул на раба и предположил: — О чем еще может думать всегда голодный раб?.. Наверное, слышит вкусные запахи и хочет есть. Ты позволишь Армену накормить его на кухне? — А это ты сам спроси у него! — предложил Квинт. — Но ведь ты… вырвешь у него за это язык! — Конечно! Римлянин с усмешкой взглянув на растерявшегося Эвбулида, сам обратился к рабу: — Как ты посмел не ответить моему другу? Египтянин вздохнул и стал водить тоскливыми глазами по комнате. — Квинт, не надо! — не выдержал Эвбулид, жалея, что поддержал этот разговор. Но римлянин не успокаивался. — Значит, ты и мне не хочешь отвечать! — надвинулся он на раба. — Знаешь, как я поступаю в таких случаях? А ну выбирай, что тебе дороже — язык или голова, с которой ты мигом распростишься за неподчинение господину! Ну, хочешь жрать или нет?! — Квинт! — закричал Эвбулид, с ужасом глядя то на Пропорция, то на сжавшегося раба. Понимая, что еще мгновение, и египтянин не выдержит этой пытки, он хлопнул в ладоши: — Эй, повар! — Да, господин? — тут же послышалось из кухни. — У тебя все готово? — Конечно! — Вноси! Эвбулид словно ненарочно встал между Квинтом и рабом, и стал показывать гостю, на какое клине ему забираться. Собственноручно пододвинул для удобства под ноги римлянина маленькую скамеечку. Остывая, Квинт погрозил рабу кулаком, забрался на покрывало и лег, опираясь на левую руку. Повар, приветливо улыбаясь, внес небольшой столик, уставленный блюдами из рыбы и мяса. Между ними стояли мисочки с острыми приправами и соусами. С этих возбуждающих аппетит блюд греки всегда начинали свои пиры. — А где же яйца? — нахмурился Квинт, придирчиво осмотрев столик. — Я думал, что здесь, в Афинах… — начал было Эвбулид, но Квинт оборвал его: — Я не собираюсь менять своих привычек ни в Риме, ни в его провинциях! Раз заведено моими предками начинать трапезу яйцами и заканчивать ее яблоками, пусть твой повар так и сделает! Эвбулид жестом поторопил повара выполнять приказание гостя, и пока тот возился на кухне, выскочивший из угла раб надел на головы пирующим венки из роз. Помогая ему ровно уложить венок, Эвбулид почувствовал, как дрожат руки египтянина. — Вот это другое дело! — обрадовался Квинт, замечая в руках вбежавшего повара миску с яйцами. — Молодец! Повар зарделся от похвалы. Квинт заметил это и сдвинул брови: — Но я уверен, Эвбулид, что твой повар — большой плут и мошенник! — Это не мой повар — я нанял его сегодня на агоре! — Какая разница! — продолжал злословить в адрес переминавшегося с ноги на ногу повара Квинт. — Все они рады отщипнуть кусок от чужого добра! Вот мы в Риме держим их в кулаке, и чуть что — наказываем розгами. А у вас один повар, говорят, так обогатился остатками со стола своего господина, что купил себе десять больших домов! — Ты, наверное, слышал это в цирюльне? — улыбнулся Эвбулид. — Это еще почему? — А потому, что тот повар, кстати, звали его Мосхион и служил он Деметрию Фалерскому, построил себе не десять, а три дома. Хотя, он, действительно, был большим мошенником, и в Афинах даже высокопоставленным семьям приходилось страдать от его наглости. — И этот из того же теста! — подвигаясь к столику, проворчал Квинт. — Все рабы и вольноотпущенники — воры и мошенники! Он поводил над блюдами рукой, не зная, с какого ему начинать. Наконец, остановил свой выбор на дымящейся колбаске. Обмакнув ее в щедро сдобренную чесноком подливку, поднес к дрогнувшим от нетерпения губам. — О-у-гмм! — промычал он, вонзая в нее крепкие зубы. — М-мм! Эвбулид с недоумением покосился на зажмурившегося от наслаждения гостя. Квинт расправлялся с колбаской так, словно сидел у походного костра, а не в требующем уважения афинском доме. Видя, как тают в мисках колбаски и мясо, Эвбулид заторопил повара, чтобы тот вносил новый столик. При виде перемены блюд глаза римлянина заблестели. В огромной чаше, обложенный яблоками и зеленью, истекал розовым соком поджаренный до румяной корочки заяц. В маленьких кастрюльках млечно белели сочные кальмары, алели вареные крабы, чернели особым способом приготовленные куски черноморского ската. Вид толстобокого угря, круто засыпанного крупинками соли, вызвал у Квинта восторг. — Да таким угрем не побрезговал бы сам владыка морского царства — Нептун! — воскликнул он, вырывая обеими руками целый бок у свернутой в кольцо рыбины. — Но, Эвбулид! — в его голосе зазвучал упрек. — Ты хочешь, чтобы я умер от жажды? Где вино? Почему я до сих пор не вижу вина? Эвбулид заколебался[49], но все же дал повару знак принести ойнохойю и кратер[50]. Огорченный тем, что выпитое раньше времени вино приглушит вкусовые ощущения пирующих, повар принялся разбавлять вино водою. Квинт, наблюдавший за его действиями, не выдержал: — Ты что, — вскричал он, — «питье для лягушек» решил подать старому воину?! Повар поклонился, скрепя сердцем плеснул в кратер еще немного вина, но, увидев, что лицо римлянина наливается кровью, отставил кратер в сторону, и налил в кружку неразбавленное вино прямо из ойнохойи. — Вот так оно лучше! — заметил Квинт и, осушив кружку, глазами приказал повару снова наполнить ее. Насмешливо покосился на Эвбулида: — А ты, старый воин, будешь цедить эту болотную жижу? Эвбулид, не переносивший насмешек, тоже приказал вконец расстроенному повару налить себе неразбавленного вина. Перед тем, как выпить его, вполголоса произнес: — Кто бы ты ни был, Зевс, но, если это имя тебе нравится, я и призываю тебя им. Даруй мне истинное благо, прошу ли я о нем или нет, и отврати от меня зло даже в том случае, если я его домогаюсь. — Неплохая молитва! — одобрил Квинт. — Только я всегда прошу Юпитера посылать мне то, что он сам считает для меня благом. Боги лучше нас знают, что именно нам нужно! — Так считал и наш великий Сократ! — Возможно. Мы, римляне, немало взяли от вас, эллинов. Но, — Квинт поднял палец, украшенный золотым кольцом, — это большая честь для вас! — А помнишь Карфаген? — поспешил перевести тему разговора Эвбулид. Только теперь он стал замечать, как изменился Пропорций за те десять лет, что они не виделись. — Как мы грелись с тобой у одного костра, как страдали от жадности торговцев? Как пили кислое вино из виноградных выжимок и восторгались им, хотя оно было пригодно только для рабов! — Костер? — удивленно переспросил Квинт. — Вино из выжимок?! Насколько я помню, в нашем римском лагере всегда было прекрасное кампанское! — А костер, Квинт? Ну, вспомни: ты еще укрылся моим плащом! — Нет! — покачал головой Пропорций. — Торговцев помню, проституток помню… Но костер… — А приезд Сципиона Эмилиана? — Спрашиваешь!.. Его появления мне не забыть никогда, ведь он едва не приказал своим ликторам отрубить мою голову за вакханалию, как он выразился, в центурии! — Да, он крутой человек! — Еще бы! Но если бы не он, мы до сих пор торчали под Карфагеном. — И погонял же он нас на учениях! Я едва волочил после них ноги! — пожаловался Эвбулид. — Без тех учений пунов нам было не одолеть! — строго заметил Квинт. — И без порядка, что навел Сципион, тоже. — А помнишь, как ночью, без единого шороха, мы полезли на высокую стену крепости? — Как не помнить! Нас вел тогда за собой Тиберий Гракх. Но знаешь, меня давно интересует один вопрос: я вызвался на эту рискованную вылазку потому, что нужно было как-то заглаживать вину перед консулом. И потом, в случае успеха, меня ждал дубовый венок за храбрость и слава. А вот что ты, эллин, забыл на той стене? — Не знаю!.. — пожал плечами Эвбулид. — Ваш Тиберий, вызывая добровольцев, так горячо говорил по-эллински перед нашим отрядом, что ноги сами вынесли меня к нему! — Это могло плохо кончиться для тебя! — заметил Квинт. — Особенно после того, как часовые заметили нас и подняли шум… — …и мы пошли небольшой горсткой на открытый штурм! — подхватил Эвбулид. — Честно скажу тебе, такого я больше не видел ни в одном бою! Туловища без голов, головы без туловищ… ошпаренные горящей смолой рожи со сваренными глазами! А сверху — копья, пики, стрелы, раскаленный мелкий песок, который продирает до самых костей!.. Не хотел бы я, — передернул плечами римлянин, — чтобы такое приснилось мне, не то, что увиделось бы еще! Он сам, не дожидаясь повара, наполнил до краев свою кружку и выпил ее единым залпом. Заново переживая ту страшную ночь, Эвбулид последовал его примеру. — Мало кому из счастливчиков удалось увидеть вершину стены! — вздохнул он. Квинт стукнул дном кружки по столику: — Но мы-то с тобой увидели! И отвоевали у проклятых пунов башню! А все — Тиберий! — Да, он первый, подавая пример, перешел по перекинутой доске над пропастью… Как было отставать от этого совсем еще юноши? — Выпьем за него, дружище! — За Тиберия! — охотно поднял кружку захмелевший Эвбулид. — За Сципиона Эмилиана! — За Сципиона! — За… — …тебя, Квинт! — воскликнул, перебивая гостя, Эвбулид. — Спасибо, дружище. — Судя по твоим дорогим одеждам — ты скоро выбьешься в сенаторы? Знал ли я, спасая на карфагенской стене простого центуриона, что дарю Риму его будущего сенатора? — Увы! — вздохнул Квинт. — Я только всадник, хотя, поверь, это немалая и уважаемая должность по нынешним временам. После войны с Коринфом я накопил четыреста тысяч сестерциев, необходимых для того, чтобы попасть в это второе сословие Рима, и теперь вот, — приподнял он край тоги, показывая узкую пурпурную полоску на тунике. — Эта полоса, да еще право носить на пальце золотое кольцо. А в сенат мне не пробиться. Эта должность предназначена с пеленок только самым знатным — таким, как Сципион или Гракх. Отец старается провести на высшую должность сына, дядя — племянника, дед — внука, брат — брата. Что им какой-то Квинт Пропорций? — Не какой-то, а самый благородный и храбрый квирит! — ревниво поправил Эвбулид. — И если ты мне возразишь, то я… убью тебя! — Эх, дружище! Даже трижды благородному и храброму всаднику доступ в сенат закрыт уже потому, что мы, всадники, занимаемся ростовщичеством и ведем крупную торговлю. А это ка-те-го-ри-чес-ки запрещено отцам-сенаторам! Так что лишь какое-то чудо, величайшая заслуга перед отечеством может помочь мне пробиться в сенат и заслужить право оставить потомкам свое почетное восковое изображение… — И это чудо произойдет! — воскликнул Эвбулид. — Я прошу об этом гору и землю! — Да будут твои слова услышаны небесными и подземными богами! — Я пью за твою новую тунику с широкой пурпурной полосой! — А я за процветание твоей мельницы! Кстати, надеюсь, она уже работает? — Еще как, Квинт! Армен говорит, что мука выходит из-под жерновов легче пуха! А все ты, Квинт. Все благодаря тебе! — Какие могут быть счеты между старыми друзьями! — упрекнул Эвбулида гость. — Я же говорил, что эта мельница принесет тебе немалый доход. И девять оболов на мину[51] со всего, что ты получил от меня, покажутся тебе сущей безделицей! — Как девять?! — не понял Эвбулид. — Ты шутишь Квинт?.. — Дружище! Римлянин поднес ко рту остатки угря, шумно захрустел солью. — Мы теперь с тобой деловые люди, — не переставая жевать, пояснил он. — К тому же старые друзья. У тебя сегодня радость — заработала мельница. А у меня — несчастье. Брат сообщил, что пираты захватили две триеры, которые везли из Александрии наш товар. Если бы не это, конечно, я назначил бы тебе шесть оболов на мину, как делают у вас в Афинах и, поверь, даже еще меньше. Но теперь не могу. «Вот она, месть Гермеса!» — быстро трезвея, подумал Эвбулид. Он проглотил комок в горле и с трудом сказал: — Хорошо, Квинт. Твое несчастье — это мое несчастье. Как говорим мы, эллины, только большая душа может быть глухой к чужой беде. Кому, как не нам, старым друзьям, выручать друг друга? Девять оболов, так девять… Хотя теперь мне, конечно, куда труднее будет выбраться из нищеты! — Ну, это уже твои заботы, — нахмурился Квинт. — Мне по горло хватает и своих. Да, надеюсь, тот облезлый раб не из тех, кого ты купил сегодня? — Что ты, Квинт! — оживился Эвбулид, вспоминая, что не сказал самого главного. — Мне удивительно повезло! На сомату привезли пятерых сильных, как Геракл, рабов! О них уже даже ходят легенды по городу! — Надеюсь, это были сирийцы? — Нет! Клянусь, ни за что не угадаешь! — Фракийцы? — Нет! — М-мм… Геты?! — Нет, Квинт, нет! Это были сколоты! — Сколоты?.. — Ну да — такие светловолосые скифы с голубыми глазами! Я оказался первым на «камне продажи» и купил их всего за десять мин. — Как? Всех?! — Да! — торжествуя, ответил Эвбулид. — Ну, что скажешь? Он взглянул на гостя, ожидая удивления, одобрения своей покупки. Но Квинт неожиданно для него покачал головой и скривил губы: — Скажу, что ты дурак, Эвбулид! И я уже начинаю жалеть, что дал тебе в долг немалые деньги. — Ну почему? — воскликнул ошеломленный Эвбулид. — Он еще спрашивает! Ты что — никогда не имел больше одного раба? — Нет… — Тогда все понятно! — Что все?! — Ты нарушил сегодня главное правило хозяина нескольких рабов, — объяснил Квинт: — Нельзя иметь в своем доме даже двух рабов одного племени! — Почему?! — Потому что нельзя! Ты удивился тому, что я сплю спокойно, хотя у меня дом полон на смерть озлобленных рабов? — Да… — А я спросил» о чем думает этот подлый раб! — Да… — Думаешь я это сделал случайно? И этот раб, и все те, что остались у меня дома и на вилле, день и ночь думают об одном: как бы убить меня, причем самым страшным и мучительным образом. И, если они сговорятся, будь уверен — так оно и будет! — Но ты сам сказал, что запрещаешь своим рабам разговаривать! — напомнил Эвбулид. — Правильно, — согласился Квинт. — Но если эти сволочи из одного племени, они договорятся между собой жестами! И отруби им руки — глазами! Выжги глаза — все равно сговорятся на бунт или побег одним им известным способом! — Но твои надсмотрщики… — Надсмотрщики — те же рабы, только самые подлые и хитрые! Они первыми предадут тебя при удобном случае! — Так почему же ты спишь спокойно?! — вскричал Эвбулид. — А потому, — приблизил к нему лицо Квинт, — что у меня в доме и на вилле — рабы из самых разных племен, воюющих у себя на родине друг с другом, уводящих друг у друга в плен жен и детей. Рабы, которые не понимают язык и никогда не поймут друг друга! Они следят один за другим, живут как кошка с собакой, а я только поощряю это. И верь, они никогда не объединятся против меня, как это случилось в Сицилии, где мои друзья нарушили главное правило, которое сегодня нарушил и ты! Евн, а теперь, говорят — царь Антиох! — сириец, его грязная сожительница — сирийка, своих подданных, бывших рабов, он тоже называет сирийцами. В каждом сицилийском доме было по нескольку рабов из Сирии, и хозяева жестоко поплатились за это. Но скоро все это кончится — вот-вот на остров двинется консульская армия. До чего дожил Рим — консульская армия против какого-то стада беглых рабов! Я лично имею на этот счет свое мнение! — Какое же? — уныло спросил Эвбулид. Квинт усмехнулся. — Еще как-то отец рассказывал нам с братом, что в одной стране, пока господа воевали, оставшиеся у них дома рабы подняли бунт. Негодяи захватили все их имущество и жен. Вернувшимся господам, как ты сам понимаешь, ничего не оставалось другого, как отстаивать право на свою собственность мечом и копьем. Но у рабов тоже было оружие, и они недурно им владели. Неизвестно, чем бы все это кончилось, говаривал отец, если бы один из господ не догадался отложить в сторону меч и взяться за плеть. Услышав знакомое щелканье, рабы побросали оружие и бросились наутек. Вот как с ними надо разговаривать! — А мне что теперь делать? — простонал Эвбулид. — Одного сколота оставить, а остальных продать, пока не поздно! — отрезал Квинт. — Сдать их, в крайнем случае внаем на лаврийские рудники![52] — Не могу… — Тогда сделать все, чтобы они ни словом, ни жестом, ни даже взглядом не могли обменяться друг с другом! — подумав, сказал Квинт. — Хорошо! — Спать укладывать в разных местах! — Я сделаю это! — Залить уши воском! — Залью, Квинт! — Вырвать им языки и забить рты паклей! — Это ужасно… но я сделаю и то, и другое! — А главное, — Квинт вплотную приблизился к Эвбулиду. — Страх! Надо выявить того, кто способен организовать бунт или подбить остальных на побег и на глазах у всех избить так, чтобы всю память вышибло из его непокорной головы! — Кажется, я знаю о ком ты говоришь… — медленно проговорил Эвбулид и закричал: — Армен! Старый раб вошел в комнату, с опаской покосился в сторону Квинта. — Слушаю, господин… — Бегом на мельницу, скажи надсмотрщику, чтобы оставался там до утра! — приказал Эвбулид. — Пусть уложит сколотов спать во всех четырех углах и завяжет им рты, глаза и уши самой крепкой материей! — Но рабов пятеро, господин… — осторожно напомнил Армен. Квинт громко хмыкнул, всем своим видом выражая презрение к Эвбулиду за то, что тот позволяет своим рабам возражать ему. — Не перебивай! — упрекнул Армена Эвбулид. — Пятого сколота надсмотрщик пусть привяжет за руки к петлям под потолком и бьет его… — Истрихидой![53] — Хорошо, истрихидой, — согласился Эвбулид. — Но только предупреди, чтоб не перестарался! Этот раб самый крепкий и выносливый — он еще будет нужен на мельнице! А завтра утром я найму кузнеца, и он прикует всех пятерых к жерновам навечно! 4. Месть Гермеса Отпустив Армена, Эвбулид осушил еще одну кружку вина и благодарно взглянул на Квинта: — Дружище, ты снова спасаешь меня! Теперь благодаря тебе мои сколоты до самой смерти не отойдут от жерновов. Эти жернова отныне станут для каждого из них и алтарем, и обеденным столом, и женой, и надгробием. Выпьем, Квинт, и давай продолжим наше веселье! Эй, повар! — хлопнул в ладоши хозяин. — Ты не забыл о своем обещании поразить моего лучшего друга кикеоном и знаменитыми пирожками? — Как можно, господин! — отозвался повар, внося новый столик, уставленный печеными яствами. — Прошу отведать вторую часть трапезы, которая называется у нас, в Греции, симпосионом! Раб-египтянин проворно выбежал из угла, полил на руки пирующим воду, сменил венки и быстро очистил пол от костей и объедков. — Сим-по-си-он, говоришь? — с трудом выговорил длинное слово Квинт и надкусил пирожок. — М-мм! — А вот этот — соленый, господин! — зарделся, увидев довольное лицо римлянина, повар. — А это, — пододвинул он новую миску, — на меду, с козьим сыром и маслом! А вот это — кикеон! — М-мм-ммм! М-м! А этот пирожок с чем? — Господин никогда не догадается! В нем — заячья требуха с горным медом! — Значит, ты можешь приготовить и такое блюдо, что гости, даже побившись об заклад, ни за что не угадают, из чего оно сделано? — Конечно, господин! — Это сейчас очень модно в Риме, — объяснил Эвбулиду Квинт и сказал повару: — Поедешь со мной! — Конечно, господин! — обрадовался повар новому нанимателю. — С завтрашнего утра до самой полуночи — я в твоем распоряжении! — Это само собой, — кивнул Квинт. — А после того, как я закончу все дела в Афинах, поедешь со мной! — Куда, господин?.. — В Рим. — Как в Рим?! Радость на лице повара сменилась недоумением, недоумение — ужасом. — Господин! — взмолился он. — Позволь мне остаться в Афинах! — Поедешь в Рим, — повторил Квинт. — Будешь услаждать меня там такими же лакомствами! С таким поваром, Эвбулид, мне позавидует любой из сенаторов! Но горе ему, если он утащит хотя бы кусок с моего стола! — Но, господин, у меня здесь дом, семья… Я хоть и метек, но свободный человек, я, наконец, у себя дома! — видя, что римлянин отрицательно качает головой, вскричал повар. Квинт впервые с любопытством взглянул на него, как смотрят на диковинную обезьяну или породистую собаку. Изучив усталое лицо, блестящие от печного жара глаза, красные руки, он усмехнулся и посоветовал Эвбулиду: — Дружище, объясни своему земляку, что в любом греческом доме — о жалких метеках я уже и не говорю — настоящие хозяева мы, римляне, а он — только гость! Не хочет ехать свободным — поедет рабом! Повар с мольбой посмотрел на Эвбулида, но тот отвел в сторону глаза. Мысли Эвбулида путались, язык плохо повиновался ему, — Эвбулид был пьян. Но даже пей он до этого не вино, а родниковую воду, что бы он мог возразить Квинту? Он проводил глазами повара и взял в руки новую ойнохойю: — Отведай, Квинт, этого вина! Мы называем его «молоком Афродиты». Не правда ли оно сладкое и благ… гоухает цветами? Под такое вино хорошо вести философские беседы. Ты готов вести со мной философскую беседу? Эй, Клейса! — закричал Эвбулид. — Где павлин? — Да! — встрепенулся начавший было клевать носом Квинт. — Где павлин? Дверь гинекея скрипнула. В мужскую половину, важно ступая, вошел яркий павлин. — А вот и наш павли-ин! — пьяно протянул Эвбулид. — Цыпа-цыпа-цыпа… Между прочим, стоики говорят, что павлины существуют на свете ради своего красивого хвоста. И комары, утверждают они, живут только для того, чтобы будить нас, а мыши — чтобы мы учились лучше прятать продукты. Насчет продуктов и комаров я еще могу согласиться. Действительно, для чего иначе комарам и мышам рождаться на свет? Но хвост… То есть я хотел сказать, павлин… Квинт! — Эвбулид перехватил взгляд римлянина в сторону двери, откуда во все глаза смотрели на него Гедита и Диокл с девочками. — Ты не слушаешь меня! Это же не павлин, а моя жена и дети! — Жена? — лицо Квинта растянулось в похотливой улыбке. — Ты никогда не говорил мне, что у тебя такая красивая жена. Да и старшая дочь совсем уже невеста! Кстати, почему ты не пригласил на ужин парочку гетер или — еще лучше танцовщиц? Мы бы с ними прекрасно по-об-ща-лись! — Эй, вы! — махнул рукой на Гедиту и детей Эвбулид. — Кш-ши! Марш в свое гинекей! И ты тоже марш-ш! — бросил он остатком пирожка в павлина. — А ты, Диокл, стой! Давай сюда! Не забыл, что я тебе наказывал перед уходом? Диокл подошел к столику, не сводя с римлянина восторженных глаз. Золотое кольцо, богатая одежда так и притягивали его взгляд. — Мой сын, — важно представил Диокла Эвбулид и сделал строгое лицо: — Начинай! Диокл быстро кивнул и, как это было принято в школе, глядя на канделябр с изображением Гелиоса, торжественно стал рассказывать: — Был у Солнца-Гелиоса от дочери морской богини, Климены, сын. Звали его Фаэтон. Надсмеялся однажды над ним его родственник, сын громовержца Зевса Эпаф. «Не верю я, что ты сын лучезарного Гелиоса, — сказал он. — Ты — сын простого смертного!» Фаэтон тотчас отправился к своему отцу Гелиосу. Быстро достиг он его дворца, сиявшего золотом, серебром и драгоценными камнями. «Что привело тебя ко мне, сын мой?» — спросил бог. «О свет всего мира! — воскликнул Фаэтон. — Дай мне доказательство того, что ты — мой отец!» Гелиос обнял сына и сказал: «Да, ты мой сын. А чтобы ты не сомневался более, проси у меня, что хочешь. Клянусь водами священной реки Стикса, я исполню твою просьбу.» Едва сказал это Гелиос, как Фаэтон стал просить позволить ему проехать по небу вместо самого Гелиоса в его золотой колеснице. «Безумный, ты просишь невозможного! — в ужасе воскликнул Гелиос. — Сами бессмертные боги не в силах устоять в моей колеснице. Подумай только: вначале дорога так крута, что мои крылатые кони едва взбираются по ней. Посредине она идет так высоко над землей, что даже мной овладевает страх, когда я смотрю на расстилающиеся подо мной моря и земли. В конце дорога так стремительно опускается к берегам Океана, что без моего опытного управления колесница стремглав полетит вниз и разобьется. Наверное, ты ожидаешь встретить в пути много прекрасного. Нет, среди опасностей, ужасов и диких зверей идет путь. Узок он, если же ты уклонишься в сторону, то ждут тебя там рога грозного тельца, там грозит тебе лук кентавра, яростный лев, чудовищные скорпионы и рак. Поверь мне, я не хочу быть причиной твоей гибели. Проси все, что хочешь, я ни в чем не откажу тебе, только не проси этого. Ведь ты просишь не награду, а страшное наказание!» — Но ничего не хотел слушать Фаэтон, — вздохнул, увлекшись рассказом, Диокл. — Обвив руками шею Гелиоса, он просил исполнить его просьбу. «Хорошо, я выполню ее. Не беспокойся, ведь я поклялся водами Стикса», — печально ответил Гелиос. Он повел Фаэтона туда, где стояла его колесница. Залюбовался ею Фаэтон: она была вся золотая и сверкала разноцветными каменьями. Гелиос натер лицо Фаэтону священной мазью, чтобы не опалило его пламя солнечных лучей, и возложил ему на голову сверкающий венец. «Сын мой, — сказал он. — Помни мои последние наставления, исполни их, если сможешь. Не гони лошадей, держи как можно крепче вожжи. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и не опускайся низко, не то ты спалишь всю землю. Все остальное я поручаю судьбе, на нее одну и надеюсь. Бери крепче вожжи… Но, может быть, ты изменишь еще свое решение? Не губи себя!..» Резкие удары в дверь оборвали Диокла на полуслове. — Что? — вскинулся осоловелый Квинт. — Кто?! Он обвел сонными глазами комнату, подозвал раба-египтянина и показал пальцем на дверь: — Гони! Скажи, что в этом доме отдыхает благородный квирит, который не желает дышать одним воздухом с афинскими бродягами! Раб подскочил к двери, отворил ее и в испуге отпрянул. На пороге стоял окровавленный человек. Хитон и гиматий его были изорваны. Эвбулид с трудом узнал в вошедшем нанятого утром на сомате надсмотрщика. — О, моя жалкая судьба! — завопил тот, валясь на пол. — Кто заплатит мне за страшные раны и побои? Кто заплатит мне за одежду? Хмель мгновенно вылетел из головы Эвбулида. — Что стряслось? — подбежал он к надсмотрщику. Затряс его за плечи. — Почему ты здесь? Где мои рабы? — Будь они прокляты, твои рабы! — всхлипнул надсмотрщик. — Я видел сотни, тысячи всяких рабов, но таких… таких… Тот, кого я должен был бить истрихидой, оказался сильней самого Геракла! Он вырвал петли из крыши, проломил мне своим кулаком, как молотом, голову — о-оо, моя несчастная голова! Кто заплатит мне за… — Молчи! — замахнулся Эвбулид. — Иначе я вообще оторву ее вместе с твоим лживым языком! Говори толком: что с мельницей? Где мои рабы? — Мельница цела! — завыл надсмотрщик. — А рабы… рабы бежа-а-ли!.. — Как бежали? — опешил Эвбулид. — Куда?! — К гавани, господин! Я видел, как этот… о-о, моя голова, как он показал сколотам рукой в сторону гавани и что-то крикнул на своем варварском языке! Я тоже поглядел туда — и увидел готовую к отплытию триеру!.. — Я же говорил, Эвбулид, что ты дурак! — стукнул кулаком по столу Квинт. — О боги! Это все Гермес, его месть! — бормоча, заметался по комнате Эвбулид. — Что же теперь делать… Что? Гедита, Фила! — вдруг закричал он. — Отец! — подскочил к нему Диокл. — Разреши мне сбегать в вертеп! Всего за несколько драхм грузчики живо изловят этих негодяев! — Где? В море?! — дал затрещину сыну Эвбулид. — Теперь только одна надежда, что в гавани задержался еще какой-нибудь корабль, и мне удастся уговорить его триерарха за оставшиеся полторы мины догнать сколотов… Гедита, Фила, где вы там? — вновь закричал он. — Развлекайте пока нашего гостя! Я — скоро! — Не забудь, когда вернешься, рассказать про триумф в Риме! Ты обещал… — только и успел крикнуть вдогонку отцу Диокл. 5. Погоня — Гребите живее! Еще! Еще!! По оболу каждому! По два обола! По три!! Эвбулид бегал между скамеек потных гребцов-рабов, разбрасывая направо и налево медные монеты. То и дело он подбегал к келевсту[54] и флейтисту, прося задать самый быстрый темп гребле, какой только возможен. Триера «Афродита» со спущенными из-за наступившего безветрия парусами медленно уходила в открытое море. Истончились и растаяли за кормой бессонные огоньки Афин с их ремесленными мастерскими, пекарнями, кузнями. Напрасно Эвбулид с надеждой поглядывал на марсовую площадку наверху мачты. Наблюдавший за морем матрос был нем, как разукрашенная резьбой деревянная голова Афродиты на акростолии.[55] Несколько раз из каюты выходил триерарх — тот самый, с которым Эвбулид познакомился утром в лавке цирюльников-метеков. Задержавший отплытие триеры из-за последнего, третьего званого ужина, он сразу узнал Эвбулида, внимательно выслушал и, пьяно покачиваясь, всего за одну амфору вина согласился ему помочь. Эвбулид тут же купил в портовой таверне большую амфору, и триерарх, не мешкая, дал команду к отплытию. Келевст с флейтистом честно отрабатывали обещанную Эвбулидом награду — по десять драхм каждому в случае поимки беглецов. Флейта свистела пронзительно и быстро. Бич келевста, почти не задерживаясь в воздухе, гулял по спинам прикованных к лавкам гребцов. — Эх, ветра нет! — шумно зевнул триерарх. — На парусах мы давно бы уже догнали «Деметру»! — Если только сколоты укрылись на «Деметре»! — заметил Эвбулид. — Другого судна, насколько мне известно, не выходило из гавани с самого обеда! — Но даже если это так, мы давно могли разминуться с «Деметрой»! — Мы идем прямо за ней! — успокаивающе положил руку на плечо Эвбулида триерарх. — Ты говоришь так, словно в море существует колея! — Эх, Эвбулид! — засмеялся триерарх. — Если бы ты хоть раз водил корабли в Сирию, то знал, что по морю туда только один путь — такой же ровный и ясный, как тропинка на агору для какого-нибудь крестьянина! — А если «Деметра» держит путь не в Сирию, а в Египет?! — продолжал сомневаться Эвбулид. — В Египет с египетским стеклом и папирусом? — усмехнулся триерарх. — Идем лучше ко мне отпробуем вина из твоей амфоры! — Пить вино? — вскричал Эвбулид. — Сейчас? Когда решается моя судьба?! — Ну смотри… Лично я в такую погоду предпочитаю общаться с Дионисом или Морфеем. А еще лучше — с обоими вместе! Шумно зевая, триерарх направился к себе в каюту. С темного, задернутого неподвижными тучами, неба, посыпал дождь, сначала робко, а потом — все сильнее, сильнее. Удары бича стали звонкими. Гребцы, выбившись из сил, не обращали больше внимания ни на келевста, ни на звуки флейты, ни на дождь. Они затянули бесконечную и унылую, как вся эта ночь, тягостную, как их жизнь песню: Раз, два, три… Греби-греби… Три, четыре… По морю… по морю… Пять, шесть, семь… Греби-греби… Восемь, девять… По морю… по морю… И снова, так как многие не знали счета после десяти: Раз, два, три… Греби-греби… Три, четыре… По морю… по морю… Прошел час. Миновал второй. Протянулся третий. Дождь устал и затих. Сквозь тучи заблестела тонкая полоска новорожденного месяца. Слабее стал плеск за бортом при каждом погружении весел в воду. Наконец, выдохлась и ночь. Тучи на востоке зарозовели, словно там бушевал пожар. Только теперь Эвбулид почувствовал, как он устал и продрог. Он вспомнил о приглашении триерарха и решил, что теперь самое время согреться кружкой вина. Обвел потерянными глазами палубу с храпящими гребцами — некоторые из них уснули прямо в той позе, в которой их застало разрешение келевста сушить весла. Другие спали, прислонившись плечами друг к другу. Келевст с флейтистом, вяло переругиваясь, играли под капитанским помостом в орлянку. — Голова! — сообщал келевст, показывая на монету, упавшую головой Меркурия кверху и равнодушно зажимая в кулак медный римский асс. — Корабль! — зевая, склонялся над новой монетой флейтист. — Какой же это корабль? Голова! — Корабль! Вот его нос, вот гребцы, весла… — Стерто все — ничего не понять… В скольких уже городах побывал этот асс? Ну ладно, бросай дальше! — Опять корабль! — А это уже мое — голова… Понаблюдав безо всякого интереса за игрой, Эвбулид вздохнул и шагнул к каюте триерарха. И в то же мгновение застыл, услышав крик марсового: — Корабль! Роняя монеты, келевст с флейтистом вскочили и уставились на море. Разрезая звонким голосом тонкую утреннюю тишь, марсовый подтвердил то, во что уже отчаялся верить Эвбулид: — Вижу корабль! — Корабль?! — Сердце Эвбулида зашлось от радости. Он подбежал к мачте, поднял сияющее лицо и заторопил матроса: — Ну, говори же, где он, где? Даю тебе пять драхм! Только скажи: это «Деметра», да, «Деметра»?! Марсового, однако, почему-то не обрадовала щедрая награда. Не отвечая, он принялся выгибать шею, вглядываясь в морскую даль. Мачту быстро обступили сбежавшиеся на крик матросы. — Эй ты! — не выдержал келевст. — Слышишь, о чем спрашивает тебя господин? Матрос, перегнувшись через перила площадки, снова не ответил. Он продолжал изучать горизонт. Лицо его беспрестанно меняло выражение. — Ну, трезубец Посейдона тебе в глотку! — загремел голос подошедшего триерарха. — Говори: быстро уходит от нас «Деметра»? — Это не «Деметра», господин! — вдруг завопил матрос, окончательно разглядев корабль. — Это военная пентера![56] И она не уходит, а идет прямо на нас! Пираты, господин! Это — пираты!! — Пираты? — переспросил триерарх, туго соображая с похмелья. Лицо его неожиданно побледнело, в глазах мелькнул ужас, он нерешительно переступил с ноги на ногу. Но только миг длилась эта растерянность триерарха. Тот, кто смотрел в это время на море, даже не заметил ее. Брови капитана сдвинулись к переносице, плечи напряглись, руки налились силой. Властным голосом он закричал на смерть перепуганному рулевому: — Разворачивай триеру! Назад! Живо! Живо!! Всем по местам!! Очнувшийся келевст подтолкнул флейтиста к капитанскому помосту, выхватил из-за пояса длинный бич и побежал между лавками гребцов, отпуская направо и налево свистящие удары. Запищала флейта. Ее тут же заглушили ритмичные всплески воды и вскрики рабов. Флейтист отложил бесполезную флейту и принялся задавать темп гребли ударами колотушкой в тамбурин. Низкие тревожные звуки поплыли над морем. Триера медленно развернулась и, набирая ход, пошла в направлении спасительных Афин. — Лентяи! Боитесь набить мозоли на руках? — ревел келевст на испуганно втягивающих головы в плечи рабов. — Так заработаете у меня кровяные мозоли на спинах! Вот тебе за то, что держишь весло, как писец свой стиль! — воскликнул он, пробегая вперед. Сыромятный бич с оттяжкой полоснул худощавого раба, надрывая кожу от плеча до самой поясницы. Эвбулид увидел, как кровь мелкими брызгами усеяла спину несчастного. — Давно пора забыть, что ты поэт! — пригрозил келевст застонавшему гребцу и подскочил к следующей скамье, ударяя другого раба: — А это тебе за то, что гребешь словно метешь улицу веником! — Еще быстрее! Еще!! — прокричал триерарх келевсту и показал рукой на побелевшее небо на востоке и белые барашки на мелких волнах: — Через полчаса-час будет шторм! Келевст понимающе кивнул и стал подгонять гребцов пинками и ударами кулака с зажатой в нем плетью. — Еще несколько минут — и можно будет поднимать паруса! — рассуждал сам с собой триерарх. — Тогда уже мы будем иметь преимущество перед этой набитой гребцами пентерой! Он кинул полный отчаяния взгляд на море и снова заторопил келевста: — А ну еще наддай им! Они же у тебя спят! Келевст с готовностью бросился выполнять распоряжение, через полминуты его бич уже ходил по спинам гребцов во втором, среднем ряду. Эвбулид тоже посмотрел на море и увидел заметный уже с палубы пиратский корабль. Он рос буквально на глазах. На скамьях гребцов послышался шум. Эвбулид с трудом оторвал глаза от моря. То, что увидел он на ближней к нему скамье второго яруса, заставило его позабыть о пентере. Один из гребцов лежал на боку, выпустив из рук весло. Подскочивший к нему келевст, бил его, изрыгая проклятья, но раб не шевелился. Тогда келевст запрокинул его на спину и наклонился над ним. — Один готов! — разогнувшись, сообщил он триерарху и замахал бичом на остальных: — А вы чего уставились? Работать! Работать!! — Сам и работай! — проворчал кто-то из гребцов. — Что? — завертел головой келевст. — То что слышал! Работай, если не хочешь сам стать рабом! — послышалось с нижнего ряда, и Эвбулид заметил, что это выкрикнул худощавый раб с окровавленной спиной. — Что-о?! — взревел келевст, бросаясь вниз. — Работай-работай! — крикнули уже сверху. — Нам-то все равно, а вот ты помахай веслом! — Только не держи его, как писец стиль! — И не как веник! Келевст, как затравленный зверь, кидался то в одну, то в другую сторону, но отовсюду слышались торжествующие крики и улюлюканье: — Побегай, побегай! Недолго осталось! — Посадят самого на цепь, как миленького! — Отольются тебе тогда все наши муки! — Нам все равно — что ты, что пираты! — Может, пираты продадут еще нас в города или на пашни, где нет этих проклятых весел! — выкрикнул изуродованный келевстом раб. — Бросай их, ребята! Один за другим гребцы стали бросать весла и, звеня цепями, вскакивать со своих мест. Келевст, отбросив ненужную больше плеть, схватился за меч и замахал им перед лицами обезумевших рабов. Капитан с помощниками обнажив оружие, тоже побежали к скамьям. Судно заметно теряло ход. Небольшой отряд греческих воинов, нанятых триерархом для охраны груза, теснил гребцов на свои места длинными копьями. Эвбулид оглянулся на море, и с ужасом увидел, что расстояние между пентерой и «Афродитой» сократилось вполовину. — Триерарх! — крикнул он. — Они догоняют нас! — А-аа, трезубец Посейдона всем в глотки! — проревел триерарх. — Руби их, коли, только чтоб скорей садились за весла! И первым вонзил короткий испанский меч в грудь худощавого раба. Гребец сдавленно вскрикнув, повалился на свою цепь, царапая ее слабеющими пальцами. Воины с невозмутимыми лицами пронзили копьями еще несколько рабов. Смерть товарищей и вид крови отрезвили остальных. Рабы в испуге попятились, расселись по своим местам. Весла вразнобой погрузились в воду. — А ну, кто еще ищет смерть? — зарычал на гребцов триерарх и, давая знак флейтисту снова бить в тамбурин, яростно замахал рукой: «— И — раз! И — р-раз! И — р-р-раз!!» Помощники триерарха и несколько воинов сбросили на палубу тела убитых, сами взялись за их весла. «Афродита» снова стала набирать ход, но Эвбулид чувствовал, как что-то изменилось в ее прежнем ритмичном движении, когда, казалось, что она идет на одном дыхании. Пентера без труда нагоняла обреченное судно. До нее оставалось чуть больше двух стадиев.[57] Триерарх, качая головой, взглянул на белесое небо, на мелкие, словно игрушечные волны и скомандовал оставшимся на палубе воинам: — Выноси оружие из трюма! — Неужели они нападут на нас? — задыхаясь спросил триерарха старый купец, нанявший «Афродиту» для перевозки дорогих товаров в Сирию. — Нет, Писикрат, они извинятся за беспокойство и проплывут мимо! — со злостью бросил триерарх и закричал на купца, Эвбулида и всех, кто стоял на палубе без дела: — А ну быстро помогать выносить оружие! — О боги! — всплеснул руками купец. Его острая бородка мелко затряслась. — Значит, будет бой?.. — Я сказал быстро!! — рявкнул триерарх, и купец сломя голову бросился в трюм. Вынося охапку луков со стрелами, он, сбиваясь, пробормотал начальнику наемного отряда: — Ты самый опытный в военных делах… только ты сможешь понять меня! Скажи… мы отобьемся? Воин бегло взглянул на него и невозмутимо посоветовал: — Молись, отец! — Но мои товары… мои прекрасные товары! — застонал купец со страхом косясь на остро отточенные стрелы в своих руках. — Моя жизнь!.. Два воина с трудом протащили мимо Эвбулида тяжелую корзину со свинцовыми снарядами для пращей. Эвбулид бросился к ним на помощь, но ручка корзины оборвалась, и снаряды, грохоча, покатились по палубе. Он поднял один и машинально прочитал нацарапанную на бронзовом боку надпись: «Я несу смерть врагу!» И только тут до него дошел весь ужас происходящего. Как щука, преследующая малька, не замечает уже нависшего на ней гарпуна рыбака, так и он, погнавшись за сколотами, мог теперь сам оказаться во власти пиратов. К близким ударам тамбурина «Афродиты» стали примешиваться чужие, отдаленные удары — глухие и частые, словно стук загнанного сердца. Подтащив корзину к самому борту, Эвбулид разогнулся и бросил взгляд на море. Руки его невольно опустились. Ноги стали ватными. Заслоняя проснувшееся солнце, на них почти вплотную надвинулась темная туша пиратской пентеры. Уже была видна змеиная голова на ее носу. Два надводных бронзовых тарана целились прямо в корму «Афродиты», третий — подводный и самый опасный вздымал вокруг себя целые буруны воды. Эвбулид не обратил внимания на порыв ветра, ударивший его в лицо. — Боги покинули нас! — упавшим голосом пробормотал он. — Нет! — торжествуя, оборвал его триерарх. — Теперь боги с нами! Прыгая через ступеньки, он быстро поднялся на капитанский помост, и Эвбулид услышал, как зазвучал оттуда его радостный голос: — Поднимай паруса! Развернулся, захлопав на ветру, долон[58]. Матросы ринулись вверх по мачтам. — Бом-бом-бом! — ухал ближний тамбурин. — Там-там-там-там-там! — опережал его дальний, с пиратского судна. На приблизившейся пентере стали слышны гортанные голоса. Взглянув на нее, Эвбулид увидел пиратов, облепивших борта и нос корабля, который неумолимо надвигался на «Афродиту». Одетый в пурпурные одежды человек на капитанском помосте что-то кричал, показывая рукой на ползущих наверх матросов. Звонко пропела и, сыто чмокнув, впилась в мачту первая стрела. За ней — вторая. Третья… Дико закричал матрос, падая с высоты в море. Еще одна стрела, пущенная умелой рукой вонзилась в спину уже подползающего к парусу другого матроса и задрожала оперением. — Ай, молодец, Ороферн! — донеслось с пентеры. Матрос успел протянуть руку к парусу, но силы уже покинули его. Эвбулид услышал новый всплеск за бортом. Глядя, как гибнут один за другим, так и не добравшись до цели, матросы, триерарх в отчаянии ударил кулаком по перилам помоста. Он первым понял неизбежность гибели корабля и, обнажив меч, приготовился к рукопашной схватке. Стрелы, дротики и камни летели теперь на «Афродиту» нескончаемым потоком. На скамье гребцов послышался вскрик. Раб-нумидиец со стрелой в голове, гремя цепью ткнулся в плечо соседу. Тот попытался оттолкнуть его, но тут же сам потерял равновесие, пронзенный новой стрелой. Один из дротиков пригвоздил начальника воинов к мачте, и он, с беспомощно опущенными руками, стоял, как приколотая к щепке огромная бабочка, озираясь по сторонам бессмысленными глазами. Пущенный из пращи камень угодил в голову флейтисту. Тамбурин умолк, но колотушку поднял пробегавший мимо келевст. — Бом! Бом! Бом! Бом! — ожил тамбурин. Прямо над головой Эвбулида пропела стрела. Он невольно проследил за ней взглядом и увидел, как она впилась в грудь тянущего на себя весло раба. Гребец содрогнулся всем телом и без единого звука ткнулся головой вперед, выпуская из рук весло. Эвбулид рванулся к скамье, отволок тяжелеющее тело в сторону, насколько позволила короткая цепь, и сам взялся за весло. Сидевший рядом гребец покосился на него, Эвбулид с ужасом прочитал в его глазах мстительную усмешку. Снова замолчал тамбурин, обагренный кровью келевста. Снова ожил в чьих-то руках. Поражаясь, как рабы день и ночь могут ворочать такое тяжелое весло, Эвбулид с трудом опускал его в воду, а потом, запрокинув голову, тянул наверх. Уже через несколько гребков он почувствовал, что силы оставляют его. К тому же весло даже в долгожданном воздухе, где можно было миг-другой передохнуть, неожиданно стало неподъемным. Эвбулид дернул его раз, другой… Весло не поддалось. Он вопросительно взглянул на соседа, и увидел, что раб перестал грести и сидит, скрестив на груди руки. — Греби! — закричал на него Эвбулид. — Чем? — усмехнулся раб, кивая куда-то за борт. — Они набросили на наши весла сеть. Я уж не первый раз попадаю в такую историю. А теперь… Страшный удар, от которого содрогнулась вся «Афродита», выбил Эвбулида из сидения. Едва он приподнялся, как новый толчок, еще сильнее первого, вновь повалил его на палубу. Пентера, пронзив «Афродиту» всеми тремя таранами, стала медленно отходить назад. В борта впились крючья сходней. По ним пираты стали перебираться на погибающую триеру. Никому не было дела до Эвбулида. Люди метались от одного борта к другому, нигде не находя спасения. Одни падали, пораженные стрелами и дротиками, других настигали копья и длинные мечи пиратов. Лишь тех, кто падал на колени и поднимал руки, моля о пощаде, пираты отшвыривали к бортам, и оттуда они с ужасом глядели на закипавшую битву. — Расковывай рабов! — закричал триерарх. — Раздавай им оружие! Корабельный кузнец, калеча руки и ноги гребцов, наскоро сбивал с них оковы, воины протягивали им оружие, но рабы, минуя протянутые им мечи и луки, бежали к бортам, бросались в воду… Сильный удар камнем в плечо отбросил Эвбулида назад. Чтобы не упасть, он ухватился рукой за мачту и вздрогнул, увидев рядом с собой пригвожденного дротиком начальника воинов. Голова грека уже безвольно свешивалась на грудь. Впереди послышался торжествующий вопль. Эвбулид поднял глаза и увидел пирата в дорогой персидской одежде. Он махал над головой пустой пращой, что-то кричал, показывая на него своим товарищам. Знавший немного по-малоазийски от банщика-сирийца, к которому он частенько похаживал после гимнасия, Эвбулид различил два слова: «Эллин» и «мой». — Ну нет, — прохрипел он. Наклонился и поднял выроненный мертвым воином лук. Положил на тетиву стрелу. — Прочь… Прочь! Увидев оружие в руках эллина, двое пиратов стали убеждать товарища добить его, но тот, оттолкнув их, быстрыми шажками направился к мачте. Эвбулид, натянув тетиву и, почти не целясь, выпустил стрелу в приблизившегося пирата. Брови сирийца изумленно поползли вверх, рот открылся в неслышном крике. Пират обеими руками схватился за впившуюся в живот стрелу и рухнул на палубу. Дикий рев товарищей убитого пронесся над тонущей «Афродитой». Один с поднятой булавой, другой с обнаженным мечом бросились на Эвбулида. — Ко мне! — раздался с капитанского помоста крик триерарха. — Все, кто жив — ко мне! Эвбулид наклонился за новой стрелой, но сильный удар булавой по голове заставил его выпустить лук. Последнее, что он еще видел — это отчаянные попытки триерарха вытащить стрелу, пронзившую могучее горло. Стрела переломилась. Триерарх упал. И ночь, как тяжелая туша пентеры надвинулась на Эвбулида и заволокла его сознание… 6. Рыбак и щука …Ледяная вода обожгла лицо. Эвбулид дернулся и застонал от нестерпимой боли в голове. Рот был полон соленой, густой слюны. — Еще один живой! — Да, под счастливой звездой родилась наша «Горгона» — за два дня четыре триеры! — Окати его еще одним ведром. Море большое — на всех хватит! Снова послышался топот шагов — и новый ожог… «Что это со мной? — удивился Эвбулид, пытаясь вспомнить, что же произошло с ним. — Я, кажется, хотел спуститься в каюту триерарха… Да, теперь самое время согреться кружкой вина!» Он с трудом разлепил глаза и обвел мутным взглядом храпящих на скамьях рабов. Некоторые из них спали в тех позах, в которых их застигла команда отдыхать. Другие уснули, прислонившись плечами друг к другу. Эвбулид закрыл глаза и услышал мелодичный звон упавшей на палубу монеты. — Митра![59] — Орел! — Опять Митра — моя драхма! Незнакомый голос заставил Эвбулида вздрогнуть. Говорили по-каппадокийски. Он разом все вспомнил, попытался подняться и вскрикнул от боли. — Кажется, он уже может говорить! — Тогда понесли его к Аспиону! Эвбулид открыл глаза и увидел над собой тех самых пиратов, которые бежали на него с палицей и мечом. Рассовав по карманам серебряные монеты, они подхватили пленника за руки, проволокли по палубе и бросили под ноги сидящему в высоком кресле-троносе чернобородому мужчине в пурпурной одежде. — Вот еще один, Аспион! Главарь окинул Эвбулида оценивающим взглядом. — Эллин? — с грубым акцентом спросил он. Эвбулид разлепил спекшиеся губы, выплюнул мешавшую говорить кровь. — Д-да… — Хорошо, — кивнул Аспион. — Свободнорожденный? — Да. — Очень хорошо. Значит, за тебя можно получить неплохой выкуп. — Он убил нашего земляка Орода! — вскричал один из пиратов, поднимая ведро и замахиваясь им на Эвбулида. — А вот это нехорошо! — нахмурился главарь. — Он заслуживает самой страшной смерти! — в один голос закричали земляки. — Возможно… — Его надо повесить на мачте! — Нет — скормить акулам! — Возможно, — повторил Аспион. — И, чтобы не обидеть кого-то из вас, пожалуй, я прикажу одну половину этого эллина повесить на мачте, а другую — выбросить в море! — Позволь я разделю его на эти половинки! — отбрасывая ведро, схватился за меч пират. — Погоди, Пакор! — остановил его Аспион и испытующе посмотрел на Эвбулида. — Сначала узнаем, что хочет сказать нам этот эллин. — Выкуп… — выдавил Эвбулид. — Я согласен на выкуп! — Хорошо. — На любой выкуп! — Очень хорошо. Аспион подумав, соединил кончики пальцев, унизанных перстнями, стоимость каждого из которых могла бы посоперничать с месячным доходом целого города. — Обычно мы берем за свободнорожденного эллина выкуп в полталанта, — выделяя каждое слово, произнес он. — Но ты убил моего человека, следовательно, за это с тебя уже целый талант. Кроме того, ты должен усладить чувства мести земляков убитого звоном знаменитых афинских монет. Эй, Фраат, тебе хватит четверти таланта? — Конечно, Аспион! — А тебе, Пакор? — Я с большим удовольствием отправил бы этого эллина прислуживать тени несчастного Орода! — покачал головой пират и с укором взглянул на своего земляка: — Зря ты, Фраат, не дал мне этого сделать там, на триере! — Странный ты человек, Пакор! — усмехнулся Аспион. — Недавно украл из нашей казны горсть меди, за что я поставил тебя надсмотрщиком за корабельными рабами. Только что радовался выигрышу всего трех драхм, а теперь отказываешься от полутора тысяч. — Полутора тысяч? — недоверчиво переспросил пират. — Конечно! — улыбнулся Аспион. — Именно столько предлагает тебе этот эллин. — Тогда ладно, — пробурчал Пакор, засовывая меч за широкий пояс. — Только в следующий раз сразу говори, что это не какая-то жалкая четверть — а полторы тысячи! — Мои люди не так сильны в арифметике, как в бою, но клянусь Сераписом, он разрубил бы тебя пополам с одного удара! — заметил Аспион, обращаясь к Эвбулиду. — Значит, с тебя уже полтора таланта. Ну и для ровного счета ты дашь еще полталанта мне, чтобы и я не остался в убытке. И того — два таланта! — жестко подытожил он. — Согласен! — обрадованно кивнул Эвбулид. — В Афинах у меня есть друг… Он даст мне эти деньги! Отпусти меня, и я мигом привезу их сюда! Пираты встретили эти слова дружным хохотом. — Видать Фраат вышиб тебе весь ум из головы своей палицей! — усмехнулся Аспион. — Я отпущу тебя в Афины, а ты приведешь за собой военный флот? — Нет, что ты… — забормотал Эвбулид, отводя глаза в сторону — главарь в точности угадал его мысли. — Мы — честные пираты, и слово свое держим! — важно сказал Аспион. — А вот что представляешь из себя ты, эллин, нам неведомо. Может, ты нас обманешь? Поэтому два таланта привезешь нам не ты! Их доставит сюда самый дешевый раб из тех, кого мы взяли на борт «Горгоны». Если, конечно, не перехитрит моих людей и не останется в Афинах или не сбежит по дороге вместе с твоими деньгами. Ну, а если он проговорится, и сюда нагрянут военные корабли, поверь, прежде чем Пакор вступит в бой с твоими земляками, он испытает прочность своего меча на твоей шее! Верно, Пакор? — Еще как! — осклабился пират. — А где же я найду подходящего раба? — растерялся Эвбулид. — В трюме! — подсказал Фраат. — Четверо таких, как ты, уже два часа ищут там такого раба. — А время идет! — показал рукой на солнце Аспион. Спеши в трюм — там тебе тоже дадут навощенную дощечку со стилем, ты напишешь на ней адрес и отдашь ее рабу, чтоб тот быстро нашел нужный дом в Афинах. Аспион дал знак Фраату и Пакору. Они подняли Эвбулида на ноги, встряхнули его. — Да, и называя рабу имя своего друга, богатого звонкими монетами, посоветуй ему поторопиться! — напоследок добавил главарь. — Если до нового рассвета он не привезет два таланта, я отдам тебя этим двум молодцам. А что они сделают с тобой: повесят, бросят за борт или продадут скупщику рабов — мне уже будет неинтересно. Прощай! 7. Самый подходящий раб Толкая в спину пираты повели Эвбулида по палубе. Около деревянной крышки, на которой толстый часовой, давясь, поедал вареную рыбу, запивая ее вином, они остановились. Часовой не спеша слез с крышки, подбирая полы персидского халата и радостно воскликнул: — Еще один! — Аспион пообещал нам за него по четверти таланта! — похвастался Фраат. — По полторы тысячи драхм! — поправил его Пакор. — О-о! — уважительно посмотрел на Эвбулида часовой и поднял скрипучую крышку, ведущую в темный трюм. — Иди! В лицо Эвбулиду дохнуло спертым воздухом и запахом нечистот. Он замешкался, не решаясь шагнуть в трюм. Тогда часовой, не переставая жевать, неслышными шагами зашел ему за спину и с силой толкнул ногой в поясницу: — Иди-иди, ходячая монета! Под Эвбулидом загрохотали ступеньки. Он больно ударялся о них, пока не оказался в самом низу. Кто-то невидимый в полутьме поднял его и усадил в угол. Принялся ощупывать все тело беглыми прикосновениями рук. — Ты ранен? — услышал Эвбулид участливый голос. Незнакомец говорил на эллинском языке. — Голова… — прошептал Эвбулид. — Они разбили мне голову… палицей… — Сейчас посмотрим твою голову, — успокоил незнакомец и его пальцы забегали по лбу, вискам. — Так ли уж она разбита, как тебе кажется?.. Ладонь грека легла на затылок; острая боль до самых пяток пронзила Эвбулида. Он дернулся, застонал. — Вот! — обрадовался незнакомец. — Самый обычный ушиб, с кровью, правда, немножечко… — Ничего себе «немножечко»! — слабым голосом возразил Эвбулид. — От таких ударов голова сама слетает с плеч! Кто ты? — Меня зовут Аристарх, — назвался незнакомец. — Я лекарь. Ехал, чтобы изучать медицину, а теперь перевязываю раны и лечу ушибы. Я плыл на «Деметре», — объяснил он и предупредил: — Потерпи, сейчас будет больно, а потом все пройдет. Говоря это, Аристарх положил голову Эвбулида себе на колени и стал смывать неприятно пахнущей жидкостью ссохшуюся кровь. Затем вылил на затылок что-то холодное, щекочущее и плавными движениями начал втирать в голову. Эвбулид снова дернулся. — Терпи, — мягко заметил Аристарх. — Иначе ты целую неделю будешь мучаться, как от морской болезни, а к старости тебя станут донимать головные боли. — Ты говоришь так, словно изучил всего Гиппократа! — простонал Эвбулид. — И Гиппократа, и его ученика Падалирия, и Геродика из Саламбрии и даже египетского жреца Гермеса Трисмегиста. Хотел еще познакомиться со священными книгами, которые, слышал, привезли из Индии в Пергамскую библиотеку Асклепия. Там говорится, как лечить многие болезни гимнастикой, да вот — не доехал… — Болезни гимнастикой? — удивился Эвбулид, имевший самые смутные представления о медицине. — И болезни, и лень, и даже старость! — невозмутимо подтвердил Аристарх. — И я это решил доказать людям на собственном примере! — Как это? — прислушиваясь к ощущениям в голове, спросил Эвбулид. Удивительное дело — несколько минут назад даже легкое прикосновение к затылку причиняло боль. А теперь этот лекарь уже с силой втирает в него свою мазь, и он без труда выдерживал это. Аристарх неожиданно ослабил движения, мягко погладил затылок. — Все, пока больше нельзя, — сказал он. — Чуть позже повторим. — Как же ты решил спасти людей от старости? — напомнил о своем вопросе Эвбулид. — Не спасти, а отодвинуть ее! — улыбнулся Аристарх. — Но об этом как-нибудь потом. Меня ждут другие… Он отошел в сторону, и Эвбулид услышал его мягкий голос: — Ну как, полегчало? Глаза понемногу привыкли к полутьме. Эвбулид огляделся. По правую сторону от него лежали голые по пояс гребцы. По левую — одетые в изорванные хитоны и гиматии афиняне. Они о чем-то шептались. — А ты не обманешь нас? Не сбежишь с нашими деньгами? — прислушавшись, различил Эвбулид. Торопливый шепот горячо, без единой запинки ответил: — Да поразит меня своим копьем Афина! Да не устоять мне перед молнией Зевса, не вынести гнева Посейдона, если я только обману вас! Давайте мне скорее ваши таблички, и я тут же отправлюсь за выкупом! — Ох, не верю я ему! — А я верю! Что мы мешкаем? Чем раньше он уйдет, тем скорее мы окажемся на свободе! — А если он не вернется? — Да я… да клянусь Афиной, Зевсом, Посейдоном!.. — Ох, что же нам делать?.. Эвбулид пододвинулся к грекам и попросил: — Дайте и мне одну дощечку! — А кто ты? Откуда? — Я Эвбулид. С «Афродиты»! — ответил он, принимая из рук услужливого раба дощечку. — А вы? — С «Кентавра»! — С «Деметры»… — А я тоже с проклятой «Афродиты»! — вздохнул старик, и Эвбулид признал в нем торговца Писикрата, который вез груз на триере. — Проклятые пираты! — воскликнули в дальнем углу. И вдруг хриплый старческий голос, который Эвбулид узнал бы из тысячи других голосов, донесся до него, как дуновение жаркого ветра: — Господи-ин?! — Армен? — воскликнул Эвбулид, и его глаза заметались по трюму, темным, лежащим вповалку и прислонившимся к стенам фигурам. — Ты?! — Я, господин, я! — радостно отозвался раб, и где-то слева послышались стоны и проклятья. Армен спешил к Эвбулиду прямо через тела. Наконец, Эвбулид увидел перед собой знакомое лицо. — Армен! — все еще не веря своим глазам, схватил раба за плечи Эвбулид и, убедившись, что это действительно он, обнял его, притянул к груди: — Армен… Сами боги послали тебя мне! — Господин, я ни в чем не виноват! — всхлипнул раб. — Сколоты силой захватили меня с собой. Они боялись, что я предупрежу тебя! Я ни в чем не виноват, господин! Но почему ты здесь?! — вдруг отстранился он и испуганно посмотрел на Эвбулида. — В этом трюме, весь изорван, в крови… Ты ранен?! — Не это сейчас главное! — Это я, я во всем виноват! — забился головой о пол Армен. — И если даже господин простит меня, я сам не прощу себе этого до самой смерти! — Будет тебе! — придержал раба за плечо Эвбулид. — Скоро мы оба окажемся на свободе! — Правда?! — Только для этого тебе нужно съездить в Афины за выкупом. — Конечно! Конечно, господин! — закивал Армен. — Зайдешь к Гедите, скажешь, что я жив — и сразу к Квинту! — принялся втолковывать Эвбулид. — Передашь, чтобы он срочно дал тебе два таланта… Эвбулид вспомнил лица пиратов-земляков и быстро добавил: — Под любой процент! — Я все сделаю, господин! — Да, и пусть даст еще одну мину, я думаю ее хватит, чтобы пираты отпустили и тебя. — О, господин… — Скажи, — обратился к Эвбулиду Писикрат. — Это действительно твой раб? — Да. — И ты… полностью доверяешь ему? — Так же, как самому себе! — Тогда ты единственный, кто поймет меня здесь… — забормотал купец. — Скажи — он вернется? — Конечно! — улыбнулся Эвбулид. Писикрат выхватил свою дощечку из рук услужливого раба и принялся засовывать ее за пазуху Армена: — Тогда я тоже доверюсь ему и щедро вознагражу, когда он привезет за меня выкуп! — Дело святое. Армен привезет твой выкуп и без награды! — пообещал Эвбулид. — Пусть зайдет и к моей жене! — воскликнул полный мужчина с лицом пьяницы. — Она сделает все, как он ей скажет. Я так и написал… — Хорошо, — кивнул Эвбулид. Еще один афинянин отобрал у готового заплакать от досады раба свою дощечку и протянул ее Эвбулиду: — Я — триерарх несчастной «Деметры», — густым басом сказал он. — И тоже вручаю свою судьбу твоему рабу, хотя вид его, честно говоря, вызывает у меня сомнения. — Да он же сдохнет, прежде чем доберется до Афин, клянусь молнией Зевса, копьем Паллады! — принялся метаться между купцом, триерархом и пожилым мужчиной услужливый раб. — А ведь нужно обойти целых три дома! Даже — четыре! — неприязненно покосился он на Эвбулида. — Нет, вам нужен здоровый и быстрый раб! — Действительно… — засомневался Писикрит. — Если он даже доберется до Афин, то любой мальчишка может отобрать у него наши деньги. И тогда мы погибли!.. — А я что говорю? — ухмыльнулся раб. — Да разве кто подумает на Армена, что у него за пазухой — три с половиной таланта? — усмехнулся Эвбулид. — Как три с половиной? Два! — поправил его купец. — Три с половиной… — вздохнул Эвбулид и пояснил: — За то, что я убил одного из этих негодяев, за меня одного они назначили два таланта! — Тогда я верю тебе, раз ты доверяешь своему рабу такую большую сумму! — сразу успокоился купец. Подошедший Аристарх, узнав в чем дело, ощупал плечи Армена, послушал, как бьется его сердце. Затем внимательно поглядел на подавшегося вперед услужливого раба и заметил: — Я больше доверяю Армену, и как лекарь заверяю, что он доберется до Афин и вернется обратно. — Тебе легко говорить! — возмутился пожилой мужчина. — Почему? — удивился Аристарх. — Вы ведь тоже дали мне одну дощечку. Сейчас я заполню ее и попрошу передать родителям именно Армена! Аристарх взял стиль у метнувшего на него ненавидящий взгляд раба, сел и стал быстро покрывать дощечку мелкими буквами. — Ну, быстрей, быстрей! — торопил его купец, но лекарь, не обращая на него внимания, продолжал водить стилем. Наконец не выдержал и невозмутимый триерарх. — Что-то больно длинный у тебя адрес! — недовольно бросил он. — Поторопись. — Готово! — разогнулся Аристарх, вложил дощечку за пазуху Армену и шепнул ему на ухо: — Иди в Афинах медленно и чаще отдыхай. Мои родители дадут снадобье, оно поможет тебе. — Ну, — еще раз обнял своего раба Эвбулид. — А теперь стучи в крышку люка, кричи часовому, что готов ехать за нашими выкупами! — Но как я оставлю господина? — спохватился Армен. — Ты весь в крови! Ты ранен… — Я позабочусь о нем, — пообещал Аристарх. Беспрестанно оглядываясь, Армен заторопился наверх, и вскоре все в трюме услышали его слабый голос: — Откройте! Откройте же!.. Эвбулид покинул свое место, чтобы помочь Армену, но крышка, заскрипев, уже откинулась. Часовой, узнав в чем дело, выпустил раба. Эвбулид нашел свободное место и сел. «Спасен! — с облегчением подумал он. — Хвала богам, что здесь оказался Армен, и что именно он отправился за выкупом, а не этот хитрый раб, готовый бежать без оглядки, лишь только лодка пиратов пристанет где-нибудь к пустынному берегу!» Кто-то неосторожным движением задел его. — Проклятье! — вскричал Эвбулид. — Нельзя ли полегче? Он повернулся и замер. Из полутьмы на него смотрело лицо сколота. И хотя голова раба была замотана грязным тряпьем, а запекшаяся на щеках кровь делала его похожим на нумидийца, сомнений не было: это был тот самый сколот который прошлым утром испугал его на сомате, а вечером, вырвав из крыши мельницы петли вместе с крюками, избил надсмотрщика и убежал с остальными рабами… 1. Беглецы Пока в Эгейском море набирал силу шторм, Тирренское море, омывающее берега Италии и Сицилии, равномерно катило свои блестящие, как спины дельфинов, волны. Ветер бил в туго натянутые паруса, долон подрагивал под его порывами. Владелец небольшого рыбацкого парусника, хмурый и неразговорчивый вольноотпущенник то и дело покрикивал на бородатого кормчего, приказывая ему крепче налегать на рулевое весло, чтобы корабль не рыскал. Прошла ночь, отрозовело утро, наступил полдень, разливший по морю серебряный блеск, от которого болели и слезились глаза. А долгожданной Сицилии все еще не было видно. Рабы, у которых давно закончилось прихваченное у бывших хозяев вино, а носы и уши распухли от игры на щелчки в угадывание выброшенных партнером пальцев, шептались: — Проклятый римлянин, куда он везет нас? — Где земля? Почему мы до сих пор не видим берега?! Один из беглецов, знакомый до рабства с корабельным делом, прямо спросил у проходившего мимо владельца парусника: — Почему ты все время уменьшаешь ход? Хочешь, чтобы нас догнали хозяева? — Как раз этого я и хочу меньше всего! — огрызнулся владелец парусника. — И для этого ты подобрал парус посередине? — подозрительно прищурился раб. — Глупец! — оборвал его моряк, окидывая море неспокойным взглядом. — Если нас заметит римское судно, то меня ждет самое страшное, что только может быть на свете — возвращение в рабство! — Так оставайся с нами в Сицилии! — предложил седобородый грек, которого товарищи звали Афинеем. — Не могу! — развел руками владелец парусника. — У меня в Риме семья. Я бы и вас ни за что не согласился везти, если б не мой бывший хозяин Авл Метелл. Отпустив меня за пятнадцать тысяч сестерциев на волю, что я копил десять лет, он и сейчас не дает мне прохода. Неделю назад забрал всю выручку от проданной рыбы. А позавчера — даже дырявые снасти! — Выходит, своим спасением мы обязаны этому римлянину? — усмехнулся Афиней. — Вот уж никогда б не подумал, что могу сказать благодарное слово в адрес этого самого страшного на земле народа! — Увы! — подтвердил моряк. — Мне больше ничего не оставалось делать, как согласиться на предложение вашего философа, чтобы купить хоть дешевые снасти… А кстати, где он? Опоздал? Могли бы и подождать его! — Оттуда, куда он ушел, не дожидаются… — печально ответил Афиней. — Жаль! — искренне огорчился владелец парусника. — Умный был человек. Не дождался какого-то дня до свободы! Хотя разве раб может знать, что ждет его через минуту? Продолжая рассуждать на ходу о бренности рабской жизни, он направился к кормчему и сам налег на рулевое весло, давая паруснику новый курс. Примолкшие было рабы оживились при упоминании о свободе и снова засели за игру в пальцы. Прот, отойдя от них, прислонился спиной к борту, закрыл глаза и стал мечтать о том, как вернется в Пергам свободным и богатым человеком. Мысль, как добраться до пятидесяти миллионов Тита не беспокоила его. Это казалось ему очевидным в Сицилии, где, по словам римских рабов, все свободны, сыты и счастливы. Первым делом, думал Прот, он зайдет во дворец к Атталу и предупредит его об опасности. Скажет, что Луций Пропорций прибыл в Пергам убить его. И — конец Луцию… Потом он сразу пойдет домой. Увидит лицо отца, открывающего перед ним дверь, мать, сидящую с глиняной миской на коленях, в которой размалывают зерно. «Ну что, — спросит он их. — Не признали?» Где им будет признать его, одетого в самый дорогой персидский халат, обутого в сапоги из мягкой кожи, скрепленные золотой застежкой! А еще лучше — он наденет римскую тогу с бахромой на рукавах, как у Луция Пропорция, и тогда родители примут его за сборщика налогов. То-то будет потеха! Он насладится их растерянностью и громко крикнет: «Да это же я, я — ваш сын…» «О боги!» — ужаснулся Прот, поймав себя на мысли, что не может вспомнить свое настоящее имя. Протом, то есть «Первым», его назвал еще отец Луция, этот толстый, вечно задыхавшийся римлянин. Купив на рынке его, десятилетним мальчиком, проданным отцом за долги в рабство, он заставил Прота испытать такое унижение, от которого до сих пор горят щеки. Правда, нет худа без добра. Он выделял его из всех остальных рабов и прощал небольшие шалости, такие, как пролитые благовония или плохо заправленную постель, а то и воровство одного-двух ассов, за что других ждали бы плети или даже остров Эскулапа. После смерти старика хозяином Прота стал Луций, оставивший ему по привычке прежнюю кличку и многие привилегии. Но как же его звала мать?.. Пятнадцать лет прошло с того дня, как за кормой римского торгового корабля остался Пергам с плачущими на берегу родителями, и все эти пятнадцать лет он ежеминутно слышал: «Прот, негодяй, опять ты медленно меня одеваешь! Прот, мерзавец, снова ты утаил два асса от покупки? Прот, Прот…» Мудрено ли так забыть свое настоящее имя? Так как же звала меня мать? Что-то нежное, как утренний ветер и легкое, как прыжок воробья… — мучительно вспоминал Прот. — Дейок! — вдруг вспомнил он и засмеялся от радости. — Конечно же, Дейок! Как я мог забыть это… «Ну что, — спросит он перепуганных родителей. — Не признали? Это же я — ваш Дейок! Я привез пятьдесят миллионов сестерциев!» Проту вдруг вспомнился Луций, и хорошее настроение улетучилось без труда. Луций, а не он был сейчас в дороге к Пергаму, и именно Луций мог скоро войти в дом его родителей, и не как мнимый, а как настоящий римский ростовщик! И он же, Луций, наскоро закончив все дела в Пергаме, мог опередить его и первым добраться до сокровищ Тита. Тогда пропало все: мать и отец будут сами проданы в рабство, и Проту никогда уже не увидеть ни их, ни миллионов Тита! «Убить, отравить нашего доверчивого базилевса — дело нескольких часов! — думал Прот, судивший о пергамских царях по Эвмену, простому и доверчивому правителю, который даже в указах не именовал себя царем. Он видел его лишь однажды, когда они с отцом гуляли по городу. Эвмен — болезненный, худощавый человек с трудом вышел из носилок и охотно беседовал с греками, купцами и пергамскими простолюдинами. «Это сам царь!» — сказал тогда отец Прота. «А это?» — спросил он, показывая на роскошно одетого юношу примерно его лет.» А это его сын Аттал, наш будущий царь!» — ответил отец. Через год Эвмена не стало, на престол взошел его брат, опекун несовершеннолетнего Аттала, тоже общительный и человечный, как Эвмен. А еще через год Прот стал рабом… «О, совоокая богиня! — взмолился он, не зная, как теперь ему называть покровительницу своего родного Пергама Афину — ее настоящим греческим именем, от которого он отвык за годы рабства, или, как это было принято в Риме, — Минервой. — Отверни свой светлый лик от Луция Пропорция! Помоги мне первому добраться до миллионов убитого им Тита и вернуться в Пергам, чтобы предупредить царя об опасности! Спаси мой народ от проклятых римлян, а мою исстрадавшуюся в нищете семью от бедности на вечные времена! Разве я не заслужил твоей благосклонности столькими годами рабства?..» Легкая качка и слабость сморили Прота, и он даже не заметил, как уснул. Очнулся он от крика и топота. — Земля! — кричали рабы, обнимая друг друга и выплясывая на палубе. — Земля! — Свобода!! — О, совоокая… О — Афина! — поправился Прот, с удовольствием выговаривая истинное имя богини. — Ты всегда славилась своей мудростью и справедливостью!.. — Плыли долго — зато добрались целыми и невредимыми! — объяснял повеселевший владелец парусника, опуская в мешочек денарии, врученные ему радостным Афинеем. — Пираты и римские военные суда предпочитают широкие, короткие пути в Сицилию, а мы — все закоулочками, закоулочками… Вот и перехитрили их! Эх, жаль обратно порожняком плыть! — пошутил он и окинул рабов смеющимися глазами: — Желающих вернуться в Рим нет? 2. Два Афинея Владелец парусника даже не подозревал, сколь пророческими окажутся сказанные им в шутку слова. Едва его судно пристало к берегу заброшенной со дня восстания рабов гавани, как вдалеке появились всадники и крытая повозка. — А вот и твои попутчики! — усмехнулся бывший гладиатор Фрак, на всякий случай поднимая с земли огромный сук с острыми обрубками ветвей. — Мне одинаково опасны как римские легионеры, так и рабы Евна! — пробормотал испуганный владелец парусника, делая шаг к морю. Но Фрак остановил его. — Это не легионеры! — покачал он своей изуродованной головой. — Да и на рабов не похожи… — пробормотал кто-то. — Скорее всего это здешние господа — беглецы от рабов Евна! — вглядываясь в даль, предположил Афиней. — Видите — у них богатые одежды и хорошие кони! — Тогда я запрошу с них втрое, даже впятеро больше, чем с вас! — обрадовался владелец парусника. — И это будет справедливо: ведь вы бежали от рабства, а они спасаются от смерти! Прот во все глаза смотрел на приближавшихся всадников и трясущуюся на ухабах за ними повозку. Его разум отказывался верить в то, что господа могут убегать от своих рабов. Да еще так прытко! Похоже, эти же мысли одолевали и остальных беглецов. Бывший гладиатор, глядя на всадников, чтобы удержаться от смеха, покусывал губы. Пожилой Афиней тер покрасневшие глаза и безостановочно твердил одно и то же: — Неужели я дожил до этого счастливого дня?.. — Э-э-эй! — донеслось до рабов отдаленное. — Торопятся! — проворчал Фрак, перекидывая грозную палицу из одной руки в другую. — Может, покажем господам ближайшую дорогу на римское кладбище? Поможем Евну? — Их пятеро, и они хорошо вооружены! — не без тревоги заметил бывший моряк. — Как бы еще они не прихватили нас с собой! — А нас девять! — свирепо взглянул на него Фрак. — И, клянусь Аресом-людобойцем, нет в мире славнее оружия, чем дубина в руке познавшего свободу раба! Разбирайте сучья! Встретим этих господ, как полагается! Рабы быстро расхватали разбросанные по берегу палки и с самым воинственным видом стали поджидать всадников. Встав ближе к Фраку, Прот тоже сжимал в руке корявую дубину, надеясь в душе, что ее не придется скрещивать с остро заточенным римским мечом. Не доехав до берега полстадия, всадники остановились и стали поджидать повозку. Один из них — черноволосый, с короткой курчавой бородой подскакал к рабам и, сдерживая горячего коня, крикнул: — Что за люди? — Рабы! — с вызовом ответил Фрак, косясь на длинный меч в позолоченных ножнах, свисавший с пояса незнакомца. — Вижу, что не господа! — гарцуя и оглядываясь на повозку, усмехнулся всадник. — Заходи с боку! — услышал Прот шепот бывшего гладиатора, последовал его приказу и вдруг увидел на щеке всадника рабское клеймо в виде сложившей крылья совы. — Это же наш! — закричал Прот, бросаясь к Фраку. — Наш?! — Взгляни на его щеку! Всадник ударил плетью взвившегося коня, крутнулся на месте, и теперь не только ошеломленный Фрак, но и все остальные рабы увидели страшное клеймо. Владелец парусника испуганно юркнул за могучую спину Фрака. — Откуда вы? — невозмутимо продолжил допрос всадник. — Из Катаны? — Из Рима! — выкрикнул Прот. — Из Рима?! Всадник с любопытством взглянул на рабов. — Да! — подтвердил Афиней, с особым интересом прислушивавшийся к его неправильной латинской речи. — Вот он привез нас! — сделал шаг в сторону Фрак, показывая на владельца парусника. — Римлянин? — удивился всадник. — Пощади, добрый господин! — повалился на колени владелец парусника. — Пощади его, — вступился Афиней. — Он тоже был рабом, пока не выкупился на свободу! — Встань! — приказал моряку всадник. — Надеюсь, что, помня свою рабскую долю, ты помог этим людям не за деньги, а от чистого сердца? Из жалости к их мукам и несчастной судьбе? — Да, господин! Только из жалости! От чистого сердца!.. Всадник снова оглянулся, обратив опечаленный взгляд на приближавшуюся повозку. Владелец парусника торопливо сунул мешочек с денариями Проту. Тот хотел уже было развязать его и разделить деньги между рабами, но Афиней сердито выхватил мешочек и, не слушая возражений, сам заткнул его за пояс владельцу парусника. Это не осталось незамеченным всадником. — Когда ты собираешься возвращаться в Рим? — уже приветливо спросил он моряка. — Сейчас же! Если, конечно, ты отпустишь меня… — Отпущу, — кивнул всадник просиявшему моряку. — А ты не попадешь в руки пиратам? — Нет! Я — я закоулочками! — объяснил владелец парусника. — Потихоньку, поближе к скалам и мелям, там, где не ходит ни одно пиратское судно! — Допустим. А не разобьешься ли ты о скалы? Не сядешь на эти мели? — Мне никак нельзя делать этого! — вздохнул моряк. — Дома меня ждут дети, жена, старики родители. Они без меня пропадут… Он замолчал, увидев, как внезапно изменилось лицо всадника при виде подъехавшей к берегу повозки. Словно борясь с самим собой и мучаясь чем-то, незнакомец крикнул своим товарищам: — Эй! Выводите господ… — Сейчас мы увидим, во что превратили рабы Евна наших мучителей! — радостно шепнул Афинею Прот. — Я бы лично, собрал на эту их казнь всех рабов Рима и… Он, осекся на полуслове, увидев пленников. По группе рабов пронесся вздох разочарования. Вместо связанных, избитых сицилийских богачей взору опешивших рабов предстали трое даже не тронутых плетью господ. Одежда их была чистой и целой. Первым сошел с повозки пожилой мужчина в тоге, за ним женщина примерно его лет и девушка. Последней помог спрыгнуть на землю юркий, невысокий сириец, спешившийся с лошади. — Серапион! — крикнул ему всадник. — Сажай господ в этот парусник! — Как? — воскликнул изумленный Прот. — Вы отпускаете их?! — Это же господа! — напомнил Афиней. — А ну дайте их мне! — проревел Фрак, срываясь с места. — Я оторву их безжалостные пальцы, которыми они приговорили к смерти сотни моих друзей! — Еще шаг — и ты умрешь! — воскликнул незнакомец, загораживая дорогу гладиатору и вырывая из ножен меч. Его товарищи тоже обнажили оружие. — Эх-к! — с досадой ударил палицей по валуну Фрак, и она разлетелась вдребезги. — Поднять меч на своих собратьев из-за каких-то римлян! Ничего не понимаю… — Скоро все поймешь! — пообещал ему всадник, засовывая меч в ножны и крикнул Серапиону: — Сажай же их! Сириец понимающе кивнул, заторопил господ. Девушка, идущая последней, оглянулась на незнакомца, их взгляды встретились, и Прот заметил, как невольно подался вперед всадник. Девушка отвернулась. Всадник с отчаянием в голосе крикнул: — Да благославят тебя боги! Прощай!.. Серапион подозрительно посмотрел на него и что-то сказал своим товарищам. Те удивленно переглянулись. Девушка, взойдя на палубу парусника, подняла руку, помахала ею на прощание. — Прощай… — прошептал всадник. — Навсегда! Он дал знак моряку приблизиться, протянул ему кожаный кошель. — Вот, возьми за услугу. Это все, что у меня есть. — Но я же от чистого сердца! — забормотал владелец парусника, с опаской косясь на деньги. — Возьми! — с печальной улыбкой подбодрил его всадник. — Здесь двадцать пять золотых статеров. Это спасет твою семью от нищеты. — Но этого много! — заикаясь, вымолвил владелец парусника. — Это очень мн-ного… — Не думай, что я, как бывший раб, не могу отличить медного обола от сиракузского статера! Я прекрасно знаю, что на эти деньги можно построить три, даже пять твоих парусников. Но люди, которых ты должен доставить в Рим, стоят больше… В сто, в тысячу раз! — Голос всадника сорвался, и он тихо добавил: — Есть вещи, которые нельзя измерить ни блеском серебра, ни тяжестью золота. Ты понимаешь меня? — Да! Конечно! — не веря своему счастью, вскричал моряк, хотя весь вид его выражал недоумение тому, что на свете что-то может быть лучше приятной тяжести золотых монет. — Но если ты погубишь их, то, клянусь Афиной Палладой, — ты узнаешь истинную цену этим статерам! — пригрозил всадник. — Иди и помни, что я тебе сказал! Владелец парусника, кивнув, попятился. Потом сорвался с места и побежал. Поднявшись на палубу своего судна, он закричал матросам, чтобы скорее поднимали паруса. Наконец, оттолкнул кормчего и сам стал за рулевое весло. Всадник долго смотрел на уходящий вдаль парусник. Лишь когда его очертания слились с рябью морских волн, вспомнил о рабах. — Так, значит, вы ничего не понимаете? — Да, господин! — ответил за всех Афиней. — Не называй меня так! — Но твои дорогие одежды, золотое оружие… — пробормотал беглец. — Судя по всему, ты очень важный человек в Сицилии! — Да, я член Совета базилевса Антиоха, — кивнул всадник. — И все равно повторяю — не называй меня господином! — Хорошо, гос… — осекся Афиней и, виновато посмотрев на всадника, спросил: — А кто этот Антиох? Разве мы в Сирии? — Мы в Новосирийском царстве! — нехотя усмехнулся всадник. — Так отныне Антиох повелел называть Сицилию. А сам Антиох — это Евн! Ну а тебя как зовут? — Афиней! — охотно ответил грек. — Афиней? — вздрогнул всадник. — Знакомое имя… Точно так же называли меня и мои господа. Афиней — значит, раб из Афин! Так ты действительно из Афин?! — в его глазах появилась радость. — Как там они? После рассвета по-прежнему никого не застать дома? А Пестрый портик? Он все еще собирает вокруг себя философов и ротозеев? Что же они обсуждают сегодня? — Я не был в Афинах двадцать семь лет… — вздохнул Афиней. — Тогда мои новости будут для тебя свежее! — с горечью усмехнулся всадник. — Ведь я всего два года, как оставил Афины. Вернее… — неожиданно помрачнел он, — Афины сами оставили меня и сделали Афинеем. Но здесь, в Сицилии, я снова стал Фемистоклом! — А я, значит, Клеобулом? — нетвердо выговорил свое имя грек. — Да! — улыбнулся Фемистокл. С того дня, как он оставил Афины, его облик изменился почти до неузнаваемости. Тугие щеки запали, лицо посерело, набрякло морщинами на лбу и в уголках губ. Минуя молодость, за годы рабства из юноши он превратился в зрелого, испытанного судьбой мужчину. — А я, выходит, снова стану Дейоком? — уточнил у него Прот, во все глаза глядя на горы и леса этой сказочной страны, где рабы сами стали господами. — Конечно! — кивнул ему Фемистокл, и вдруг лицо его помрачнело. Он хотел было что-то добавить, но Клеобул уже обнимался с Протом, бывший гладиатор — с тремя беглецами. Все они, радуясь, плача от счастья, выкрикивали свои полузабытые имена. — Дейок! Я снова Дейок! — кричал Прот. — А я Клеобул! — А я — Петесух! — Кореид! — Нидинтум! — Адраст!! — Фрак! — Вот те раз! — воскликнул Прот, обращая свое счастливое лицо к бывшему гладиатору. — Опомнись! Мы уже не в Риме! — Откуда я могу знать свое имя, если меня сделали рабом, когда я был еще ребенком? — огрызнулся Фрак. — Вот таким! — объяснил он Фемистоклу, чуть-чуть разведя в стороны свои огромные ладони. — Фрак, и все тут! Фемистокл понимающе кивнул беглецу, хотя трудно было представить, что этот рослый человек с изуродованным лицом и руками был когда-то грудным ребенком. Он зримо увидел, как его, ничего не подозревавшего о своей будущей доле, может, обезголосившего от тщетных попыток дозваться матери, вез в обозе римский купец, подсчитывая доходы. Прикинул, сколько мук вынес за жизнь в рабстве этот не знающий даже вкуса свободы человек, и мягко сказал ему: — Фрак, так Фрак. Главное, что ты скоро станешь свободным человеком! — Скоро? — воскликнул Прот, думая, что ослышался. — А разве мы уже не свободны?! — Нет… — покачал головой Фемистокл, отводя глаза в сторону. — Вы получите свободу только… — Только? — шагнул вперед Фрак, торопя замолчавшего грека. — …когда согласно повелению Антиоха докажете свою преданность нашему делу! — неохотно ответил Фемистокл. — Сейчас мы направимся под Мессану, которую осаждает наша армия. Вы пойдете с нами. Тот, кто примет участие в штурме и убьет сицилийского господина, получит от Антиоха свободу. — А как он узнает, что я убью этого господина? — поинтересовался Прот. — Очень просто! — объяснил подошедший Серапион. — Для этого ты отрежешь его голову или руку и положишь ее перед нашим обожаемым базилевсом! — Голову? — вскричал Клеобул, и лицо его исказилось. — Руку?! — А что если я принесу две головы, или пять? — улыбаясь спросил Фрак. Фемистокл не ответил ему, и, обращаясь к остальным беглецам, сказал: — На месте вас разобьют по декуриям[60] и выдадут оружие. Еще что-нибудь вас интересует? — Да! — воскликнул Прот. — А Тавромений тоже в руках нашего обожаемого базилевса? — И Тавромений, и Акрагант, и Катана, и Энна! — кивнул Фемистокл. Серапион подозрительно покосился на Прота: — А почему это тебя интересует наша столица? — У меня там… родственники в домашних рабах! — быстро нашелся Прот. — Сестра и брат! — Тогда тебе надо найти их! — посоветовал Фемистокл и предупредил засиявшего Прота: — Но не надейся, что ваша встреча произойдет так скоро. Сначала ты будешь под наблюдением начальника своей декурии, и только когда он сочтет это возможным, сможешь отлучиться по своим делам из отряда! — Сколько же на это уйдет времени? День? Два? Неделя?! — Я думаю, несколько месяцев. — Несколько месяцев?! — воскликнул пораженный Прот. — Кто это? — тихо спросил Фемистокл, наклоняясь к Клеобулу. — Пергамец. Из домашних рабов римского купца. Хозяин приказал отделать его до полусмерти и выбросил на остров Эскулапа. — За что? — Говорит — за каплю пролитого вина. — А ты хотел называть меня господином! — укоризненно заметил Фемистокл и, снова взглянув на пустынное море, сказал беглецам: — При штурме Мессаны, обрушивая свой меч на богатых сицилийцев, помните, что пощады заслуживают те, о ком их рабы скажут, что это были добрые господа! Их человечность по отношению к вашим собратьям должна остановить вас! Примером тому пусть служат вам те трое… Фемистокл повернулся к морю и долго смотрел на его бескрайнее синее пространство, такое же загадочное и таинственное, как и опускавшиеся над островом сумерки. 3. Планы Фемистокла Через полчаса они тронулись в путь к Мессане. — Эти трое были совсем не похожи на обезумевших от жадности и жестокости сицилийских господ! — ведя коня в поводу, рассказывал идущему рядом Клеобулу Фемистокл, и Прот, помещенный по приказу сострадательного грека в роскошную повозку, внимательно вслушивался в долетавшие до него слова: — Они обращались со своими рабами, как… с людьми. Жалели их, перевязывали раны! — Разве такое возможно? — усомнился Клеобул. — В Риме меня дважды пытали, трижды сажали в глубокую яму, такую узкую, что я не мог в ней даже присесть. Держали там сутками! А уж сколько раз били — этому, наверное, и числа нет. И никто, никогда даже словом не пожалел меня! Фемистокл громко вздохнул: — В Сицилии господа применяли к нам и не такие пытки. Собственно, вся наша жизнь здесь была сплошной пыткой. Мы ходили совершенно голые даже зимой, голодные — даже в дни сбора урожая. Они экономили на нас во всем: не давали ни еды, ни одежды. Заставляли отбирать это на дорогах у путешественников или своих же соседей! А те, как правило, не пускались в дорогу по острову без надежной охраны. Сколько моих друзей полегло из-за корки хлеба или лоскута хитона под копьями и мечами… Но еще хуже было тем, кто просил еду или одежду! Их избивали и заживо сгнаивали в подвалах… Единственные рабы, что сытно и привольно жили тут — это бывшие пастухи, нынешняя личная охрана Евна. Они все время проводили в горах, вдоволь ели мяса, отгоняли от стад зверей и в конце концов сами превратились в хищников. Одетые в шкуры, вооруженные дубинками, они без разбору грабили богатых и рабов, отбирая у нас последние крохи… — Как же ты выжил в таком кошмаре? — Не знаю… То, что они делали здесь со мной, в Риме тебе не снилось даже в самых страшных снах. Первым делом выжгли на щеке вот эту сову, как бы в насмешку, что я из Афин. Потом за малейшие проступки втыкали в меня раскаленные прутья, вешали на крючья за ребра, словом, совсем, как у Аристофана: Души, дави, на дыбу вздерни, жги, дери, Крути суставы, можешь в ноздри уксус лить, Класть кирпичи на брюхо. Можешь все! Прошу Лишь об одном: не бей его былинкою! — со злобой процитировал Фемистокл и грустно улыбнулся: — Вряд ли бы я выжил после всего этого, если бы не поданная доброй рукой кружка воды и ломоть хлеба… если бы та же рука украдкой от свирепого отца не перевязывала мне раны, обливая их своими слезами… — К тебе, наверное, спускались сами боги? Только они могут помочь рабу облегчить страдания! — воскликнул Клеобул. — Нет, — возразил Фемистокл. — Это был человек, хотя, кое в чем ты прав, потому что этот человек стал для меня богом, и даже больше, чем богом! — Я, кажется, догадываюсь… Это была та самая девушка, которая уплыла на паруснике? — Ты видел ее?! Прот осторожно выглянул из повозки, и увидел, как Фемистокл порывисто ухватил Клеобула за руку чуть повыше локтя. — Да… — помолчав, отозвался Клеобул, осторожно высвобождая руку. — Но как человек, побывавший рабом в Риме, прости, не могу одобрить твой выбор! — Понимаю — полюбить римлянку! — с отчаяньем воскликнул Фемистокл, бросая взгляд на ехавших в отдалении всадников. Прот нырнул в повозку и уже оттуда услышал голос грека: — Если Евн узнает об этом и сообщит своим сирийцам — это стадо забитых, темных людей разорвет меня в клочья! Из-за этого я даже не смог попрощаться с ней по-человечески, чего не прощу себе до последнего своего часа. — С римлянкой — по-человечески?! — Клеобул, я понимаю тебя! Но пойми и ты: Домиция не была римлянкой в настоящем, страшном смысле этого слова! Да — ее отец и мать были истинными патрициями. Собственная честь и честь римского государства были для них превыше всего, даже жизни. Но остальные народы и племена для них как бессловесный скот, одним словом — варвары! И скажу тебе больше, я заслужил свою свободу тем, что положил перед Евном руку именно этого Домиция Ребила! Но его дочь… Она была совсем не такой, она сама боялась и ненавидела своего отца! Два года я был рабом у них в доме. И лишь после того, как стало известно, что Домиция и я… Что мы… — Можешь не продолжать! — остановил Фемистокла Клеобул. — Поверь, я очень хочу понять тебя и принять близко к сердцу твое чувство. Но прости — в моей голове не укладывается, что римляне могут быть человечными! — Тебе нужен еще пример? Изволь! Ты запомнил лица остальных, что садились в парусник? — Кажется, там был пожилой мужчина в тоге… — Да. Плоций Тукка. Когда наши войска ворвались в Катану, и местные рабы, плача от счастья, резали своих господ, как режут свиней, пятеро рабов вдруг начали защищать этого Плоция и его жену Плоциллу. С кухонными ножами они встали против мечей и копий, предпочтя собственную свободу жизни этих господ… Два раба так и пали у их ног, но не дали воинам надругаться над, заметь, весьма богатыми сицилийцами! Фемистокл жестом приказал подтянуться и продолжал: — Потом мы узнали, что эта бездетная пара относилась к своим рабам, как к собственным сыновьям. Уж на что Евн не любит, когда собрание отпускает некоторых господ, и то он был так изумлен, что повелел выделить Плоцию Тукке и его жене конвой во главе с членом Совета! Я с радостью согласился — ведь третьей собрание решило отпустить в Рим Домицию и, кажется, сделал это опрометчиво. Евн что-то заподозрил и послал со мной своего соглядатая Серапиона. Как бы мне теперь не пришлось поплатиться за это головой! — Так скажи Евну, что Серапион все выдумал, и ты не прощался с Домицией, а я подтвержу! — воскликнул Клеобул. Фемистокл благодарно взглянул на него и покачал головой: — Серапион в большом почете у царя! Раньше Евн еще советовался с нами, греками, но потом, видя, что мы не одобряем некоторые его поступки, стал потихоньку изводить нас. Причем, делал это так хитро, что мы не догадывались ни о чем. Сначала, распустив ложные слухи, объединил всех греков и стравил их с ахейцами — самым многочисленным отрядом из всех областей Греции. Уверенный в том, что наши земляки задумали изменить общему делу, мы на заседании Совета приговорили их к смерти… Потом настала очередь родосцев. За ними — беотийцев, а там — и бывших рабов из Элиды. Словом, когда мы поняли, что к чему, то увидели, что в Совете из греков остались одни лишь афиняне и главнокомандующий армией Ахей. Ну, этому нашему земляку Евн доверяет несмотря на то, что он единственный, кто говорит ему во всеуслышанье правду. Весь же остальной Совет теперь — это такие люди, как Серапион. — Зачем же вы терпите такого царя? — воскликнул Клеобул. — А что прикажешь делать? — вздохнул Фемистокл. — В Совете теперь почти не осталось греков, да и тех становится меньше день ото дня: одних Евн обвиняет в организации заговора, а смерть других сваливает потом на вылазки защитников крепостей… — Так организуйте заговор, пока он не перебил вас всех! — не выдержал Клеобул. — Зачем нам, рабам, такой царь, который еще не всех отпускает на свободу! Лишите его власти! И вообще, почему не жить здесь совсем без царей, как у нас в Афинах? Фемистокл заглянул в повозку, взглянул на Прота, который успел закрыть глаза и притвориться спящим и понизил голос: — Евн не зря обвинил многих наших земляков в заговоре… Такой заговор действительно есть. Недавно Клиний повторил перед изумленными сирийцами коронный фокус Евна, которым он держит в священном трепете всю эту толпу. Он вложил в рот половинки ореха с тлеющим угольком и изрыгнул такой столб пламени, что многие всерьез усомнились в своем кумире! Потом мы потихоньку объясняем тем, кто остался рабами, а их — втрое больше всей армии Евна, — что хотим освободить всех и построить в Сицилии государство на примере Афин. И они верят нам, потому что мы говорим это от чистого сердца. Ведь я, например, везде выступал против рабства — и в афинском суде, когда меня обвинили в человеческом отношении к рабу, и здесь. — Двадцать семь лет назад и я за это изгнал бы тебя из Афин, — честно признался Клеобул. — А теперь буду с тобой до последнего… Видно, чтобы понять это, надо самому пройти через рабство… — Ты не один понял это. Деметрий, который сейчас комендант Тавромения, в свое время был афинским архонтом. А теперь он обещает свободу всем рабам столицы, подговаривая их выступить против Евна! Еще немного — и он добьется этого! — И сколько же вас всего? — Много… — уклончиво ответил Фемистокл. — Можешь не отвечать! — понимающе улыбнулся Клеобул. — И без того ясно, что это все без исключения греки! — Если бы все! — вздохнул Фемистокл. — Самый талантливый и опытный в военных делах из всех нас даже не хочет слушать о наших планах. — Кто же он? — Все тот же наш главнокомандующий — Ахей! Это великий человек. За три дня, когда восстание уже готово было погаснуть, он вооружил и обучил десять тысяч рабов и разбил несколько отрядов римских преторов! — И он даже не хочет отомстить Евну за своих земляков?! — Увы! — Так объясни ему, чего вы хотите! — Я же сказал, он не желает слушать нас. — Но почему? Он же грек! — Он очень обозлен. И я… понимаю его, — помолчав, сказал Фемистокл. — Римляне сожгли Коринф, прямо у него на глазах обесчестили жену и дочерей, бросили в огонь малолетнего сына, а самого его продали в рабство. Весь смысл своей жизни он видит теперь в мести Риму. И кто больше проливает крови, тот для него и лучше! А кто больше Евна сможет пролить ее? То-то… Правда, в последнее время мне удалось приблизиться к Ахею. Я узнал, что он мечтает двинуть армию после взятия Мессаны на Рим, с чем никогда не согласится Евн… Фемистокла насторожил шорох в повозке — это Прот, желая слышать все до последнего слова, приподнял голову. Вскочив на коня, грек крикнул Клеобулу: — Продолжай путь! А я проеду вперед, посмотрю — нет ли там засады римлян! Говорят, они собираются послать против нас новый отряд! «Не отряд — а целую консульскую армию!» — чуть было не сорвалось с языка Прота. Но, поразмыслив, он решил, что ему лучше остаться в тени. «Пусть эллины считают, что я ничего не слышал!» — подумал он, и вновь притворился спящим. Колеса повозки приятно ласкали слух, шурша по густой траве. Сладкий воздух близкого леса кружил голову. Прот даже не заметил, когда и уснул, успев только шепотом помолиться: — О, Афина, останови Луция!.. 4. Гней Лициний С того вечера, когда Луций Пропорций, отравив своего кредитора Тита Максима, в легкой дорожной двуколке, запряженной парой резвых скакунов, в сопровождении трех вооруженных рабов выехал через Капенские ворота из Рима и помчался по «царице дорог»[61], прошло два дня. Первый запомнился жуткими приступами дурноты и нестерпимой болью и звоном в голове. Самое обидное для Луция было то, что в этом его состоянии ему некого было винить. Остановившись на первый постой в одной из гостиниц, в великом множестве разбросанных вдоль Виа Аппиа, он напился, причем самым безобразным образом. Все началось с того, что хозяин гостиницы, увидев подписанную самим главой Рима легацию, не знал, чем и угодить важному гостю. Напрасно Луций заверял его, что остановился лишь для того, чтобы перевести дух и заменить лошадей. Словно ветром сдуло из угла мирно беседовавших за столом путешественников, и перед глазами приятно пораженного Луция появился кувшин отличного цекубского вина. Подбежавший раб поставил на стол блюдо с большим куском жареной говядины и несколько мисок с салатами и пахучими соусами. Глаза Луция разгорелись при виде таких яств. Забыв о том, что надо спешить, он набросился на еду и вино, и через час уже сам приказывал хозяину подавать кувшин за кувшином, с удовольствием видя, как склоняется перед ним в угодливом поклоне италиец. Когда выпитым кубкам был потерян счет, и хозяин уже не знал, как ему отделаться от не на шутку разошедшегося гостя, перед глазами Луция стал маячить Тит Максим. Бывший кредитор появлялся то из-за двери, то из угла, грозя Луцию пальцем. — А-а! Вот я тебя!! — кричал Пропорций, швыряя во все стороны пустые кувшины и обглоданные кости. — Не нравится? Я тебе покажу, как приходить к честным людям из подземного царства! Деньги свои захотел? А это не хочешь?! Луций вскочил опрокидывая стол, размахнувшись, швырнул в угол скамью, попав в большие амфоры с дорогим вином… Кончилось все тем, что слуги хозяина гостиницы бережно усадили его в повозку, запряженную самыми быстрыми лошадьми, и дали знак вознице поскорей продолжать путь. Всю ночь Луций провел в беспамятстве и пришел в себя лишь засветло на новом постоялом дворе. — Что будет угодно Гнею Лицинию? — изучив легацию, почтительно осведомился его хозяин. Отпущенные почти до самых плеч волосы говорили о том, что он носит траур по близкому человеку. — Отдельную комнату с удобным ложем? Сытный ужин? Вина? Девочку? Мутные глаза Луция, с трудом соображавшего, где он и что ему здесь нужно, задержались на длинных волосах италийца. Точно такие же носил и он после того, как они с Квинтом, законным наследником, похоронили отца. «Квинт! — обрадованно вспомнил Луций. — Конечно же, Квинт! Вот кто мне может помочь во всем этом… Только — тс-с! Я — Гней Лициний! Немедленно дальше, в дорогу! Надо ехать в Пергам через Афины! Расскажу обо всем Квинту, вдвоем мы быстро разделаемся с Атталом и доберемся до тайника Тита!» — Свежих лошадей! — властным голосом приказал он. — И вина в дорогу… Немного. Четыре кувшина двадцатилетнего кампанского вина, поданные в повозку хозяином постоялого двора, заботящимся, чтобы никто не обвинил его в невыполнении легации, помогли Луцию скоротать день. Теперь же протрезвев, он срывал зло на погонщике лошадей и охранявших его рабах, то посылая их вперед, то приказывая следовать за повозкой. Он продолжал думать о брате, но теперь решение навестить Квинта в Афинах и взять с собой в Пергам тяготило его. «Конечно, Квинт — любящий и заботливый брат, — мысленно рассуждал Луций, вспоминая подарки, которые привозил ему Квинт то из Карфагена, то из Испании. — Но он никогда не воспринимал меня всерьез! Не было такой встречи, чтобы он не подшучивал надо мной, не обзывал купчишкой, и не держался свысока. А ведь я давно уже не мальчик, которого надо защищать от соседских драчунов! Подумаешь — центурион! Может, я еще стану целым легатом, а то и самым известным в Риме человеком. А что — даже Сципион Эмилиан в свое время был просто Эмилием. А я ведь еду не на прогулку и не для командования какой-то сотней легионеров, которая может завоевать лишь небольшой городок, а подчинить Риму целое царство!» Луций неотрывно смотрел на прямую, как стрела дорогу. Она была вымощена среди топких болот из крепких, пригодных для мельничных жерновов, плит так тщательно, что не чувствовалось даже малейшего толчка. Сколько проехало за полтора столетия ее существования здесь безвестных людей, ставших Сципионами, Фламиниями, Катонами, Аппиями Клавдиями, Гортензиями… Пройдут годы, века, тысячелетия, — сколько их еще пройдет по ней к своей славе? Почему бы не случиться тому, что одним из них будет он, Луций Пропорций?.. Впереди показался «карпентум» — элегантный двухколесный экипаж, запряженный четверкой мулов. Луций впился глазами в задернутый от моросящего дождя полог, завистливо вздохнул, натягивая плотнее матерчатую шапку. В Риме такой повозкой имели право пользоваться только высшие должностные лица. За пределами города это ограничение снималось, но все равно в экипажах такого типа выезжали лишь знатные женщины. Мимо Луция промелькнуло надменное женское лицо… «Я был бы, наверное, самым счастливым человеком на свете, если бы на ее месте оказалась сейчас моя Луцилла…» — вдруг подумал Луций о своей жене с непривычной для него нежностью, понимая, впрочем, что ему дорога не эта постылая женщина, на которой он женился ради приданого, а его положение в обществе, зависть окружающих, богатство, слава… «Ну зачем мне Квинт? — снова подумалось Луцию. — Что я сам не в состоянии убрать Аттала и состряпать завещание? С той же легацией или под видом купца, кто я, собственно, пока и есть, я доберусь до Сицилии вслед за консульской армией, разыщу дом Тита в Тавромении и вернусь в Рим сенатором, с пятьюдесятью миллионами! Я отлично справлюсь со всем этим сам, без всякой помощи и советов. И тогда я, я — а не родившийся десятью минутами раньше, и потому ставший старшим братом и наследником Квинт, стану сенатором и богатейшим человеком Рима! Я получу право оставить всем своим потомкам на вечные времена свое почетное восковое изображение!» В своих мыслях Луций возносился все выше и выше. Видя прочную телегу с колесами, выточенными из одного бревна, без спиц, доверху нагруженную таким грузом, что ее едва тащили за собой четыре огромных вола, он представлял, как будут доставлять ему в Рим товары со всех концов света: статуи из Греции, слоновую кость из Нумидии, золотые поделки из далекой Скифии. И без того громадный его капитал будет множиться не по дням, а по часам. «Первым делом куплю роскошный дом на Палатине, с фонтанами, мраморным атрием и мозаичными полами, как у городского претора. Потом, став сенатором, придумаю такой законопроект, который сделает меня знаменитым! Какой? Это надо подумать… Затем выставлю свою кандидатуру на должность консула, подкуплю избирателей, стану им и отправлюсь во главе армии на войну. Скажем, с Понтом или Парфией! Вернусь прославленным полководцем. Моей статуей украсят Форум! И я проеду по улицам Рима не в этой жалкой повозке, и даже не в „карпентуме“, — думал Луций, — а в запряженной четверкой белоснежных коней триумфальной квадриге! Народ будет встречать меня криками восторга. И Квинт, которому я хлопал во время триумфа Сципиона Эмилиана, сам будет восторженно рукоплескать мне и бросать цветы!» Увлекшись, Луций поймал себя на том, что отвешивает легкий поклон придорожному миллиарию.[62] Он бросил быстрый взгляд на тихо напевающего возницу и снова откинулся на спинку сиденья. «А хорошо было бы… — мечтательно вздохнул он. — Туника с широкой пурпурной полосой, двенадцать ликторов, расчищающих перед тобой дорогу и готовых по первому твоему слову бросить кого угодно в Мамертинскую тюрьму или даже убить!.. Но Квинт может обидеться! — снова вспомнил он о брате и помрачнел. — Если он узнает, что я мог заехать за ним и не заехал, то не простит меня, даже если я стану консулом. Это же Квинт! Что же делать?.. О боги, вразумите меня, подскажите выход!» — взмолился Луций. Но на ум ничего не шло, и он стал срывать свое зло на других. — Опять ты ползешь, как беременная муха! — набросился он на возницу. Обернулся и погрозил кулаком рабам: — А вы почему плететесь сзади? Сколько можно приказывать быть всегда впереди, чтобы предостеречь господина от опасности! Или не видите, что впереди толпа? Нахлестывая плетками коней, рабы рванулись вперед и вскоре остановились. Повозка едва не налетела на них. — Кто такие? — нахмурился Луций, видя перед собой грязных, одетых в лохмотья людей, загородивших дорогу, и приказал рабам? — Разогнать! Рабы обнажили оружие, но не успели воспользоваться им. Незнакомцы окружили их и ухватили коней за поводья. — Разбойники? — побледнел Луций. — Беглые рабы?! — Нет, господин! — покачал головой возница. Хорошо знакомый со здешними порядками, он пояснил перепуганному римлянину: — Это лишенные земли крестьяне. Они не желают жить в Риме и ютятся вон на том холме. Там они пьянствуют и целые дни предаются праздности! — Как же их теперь отогнать? — Подай им несколько ассов, и они сами отстанут от нас! — Подай нам на жизнь! — нестройно подтвердили едва прикрытые рубищем нищие. — Слышишь, толстосумый римлянин, подай, а не то… — Нате, подавитесь! Луций швырнул на дорогу целую пригоршню медных монет. Нищие, получив милостыню, лениво побрели к холму, посылая римлянину воздушные поцелуи. — Несчастная Италия! — качая головой, проводил их взглядом Луций и подумал, что как только он станет консулом, то первым делом прекратит это безобразие на дорогах. Виданное ли дело — нищие крестьяне распустились до того, что останавливают знатных квиритов да еще и угрожают им! — А вот и Капуя! — громко сообщил возница, кивая на показавшиеся вдали стены города и его храмы. — От нее до италийского порта Тарент — всего пять дней пути. Если, конечно, путешественники едут в Малую Азию через Грецию! А те чудаки, что решают добираться туда через Македонию, тратят целых восемь дней до другого нашего порта — Брундизия! Задумавшись над словами возницы, Луций даже не заметил, как они въехали в Капую. Как и во всех крупных городах Италии, гостиницы здесь располагались вблизи городских ворот. — Вон в той гостинице «Под мечом» можно найти отличных лошадей, — показал возница на вывеску с двумя перекрещенными мечами. — А в этой «У орла», — Луций увидел нарисованного над дверью двухэтажного здания орла с грозно поднятыми крыльями, — самый лучший ночлег в Капуе! Привыкший к тому, что нанявший его римлянин постоянно спешит, заставляя гнать лошадей день и ночь, возница уже направил коней к вывеске с мечами, но Луций толчком в спину остановил его. — Давай туда, где лучший ночлег! — к радости возницы приказал он. — Мне нужно как следует выспаться сегодняшней ночью. «И — подумать…» — продолжая бороться с самим собой, добавил он про себя. От обильной выпивки, предложенной хозяином гостиницы «У орла», Луций решительно отказался. Он ограничился двумя кружками напитка из виноградного сока, подслащенного медом. Горбоносый хозяин, сутулый и настороженный — сам похожий на горную птицу, услужливо провел его на второй этаж и распахнул дверь своей лучшей комнаты для постояльцев. Луций увидел перед собой небольшую клетушку с грубым ложем, столиком и свечой. — Ах, да! — вдруг воскликнул хозяин гостиницы. Сбегал куда-то и принес ночной горшок. Поставил его на полку ложа. — Приятных сновидений! А может, еще вина? Или каких-нибудь развлечений? — Оставь меня! — отмахнулся Луций, и хозяин, притворяя дверь, пробормотал: — Как будет тебе угодно, Гней Лициний! Только бы никто не обвинил меня потом в том, что я плохо встретил римского посланника, имеющего легацию, которую подписал городской претор! «Так что же теперь делать? — оставшись один, принялся ходить из угла в угол Луций. — Одна сенаторская туника, а больше нам, конечно, не дадут, будет узка для нас с Квинтом. Да и пятьдесят миллионов сестерциев — тоже не шутка!» Он опустился на ложе и, чтобы хоть чем-то отвлечься, стал изучать надписи на стенах, сделанные прежними постояльцами. «Гай Сентий, центурион I когорты III легиона ночевал в январские календы.»[63] — Привет, тебе, Гай! — мрачно усмехнулся Луций. — Где ты теперь: в Испании или Сицилии? Цела ли твоя голова? «Панса своей рыбоньке — до новой встречи!» — гласила следующая запись. — Не эту ли рыбоньку предлагал мне для развлечений хозяин? «Виниций был здесь с Фортунатом в год консульства Сервилия и Квинта Помпея.»[64] — Долго же хозяин не мыл стены в своей лучшей комнате! — покачал головой Луций. — Представляю себе, что тогда творится в худших! Однако новые надписи вызвали у него улыбку. Одна из них, сделанная, очевидно, рукой самого хозяина гостиницы, содержала правила поведения для постояльцев: «Ноги пускай раб омоет и насухо вытрет, Ложе салфеткой покрой, наши платки береги!» Прямо под ней кто-то, тоже в стихах, выразил свое возмущение отсутствием всяких удобств: «Мы помочились в постель. Виноваты мы, ладно, хозяин. Но почему же ты нам не дал ночного горшка?» Последние слова окончательно развеселили Луция. Посмеиваясь, он отстегнул на плече фибулу и острым краем нацарапал на стене: «Луций Пропорций ночевал здесь с Гнеем Лицинием в год консульства Сципиона Эмилиана и Фульвия Флакка.» Немного подумал и, вздохнув, уже с серьезным лицом дописал пониже: «Квинту Пропорцию, брату своему — прости…» Длинно зевнув, Луций завалился на ложе и закрыл глаза. Ни шум с первого этажа, из таверны, где пьяные посетители ругались и спорили с хозяином, ни мысли о брате уже не тяготили его. Луций принял решение. Рано утром, выспавшийся, посвежевший, он сбежал в низ. Деловито осмотрел повозку, лошадей и приказал подскочившему вознице: — Вели смазать колеса и поменять в них спицы! — Слушаюсь, господин! — кивнул тот. — Хотя, до Тарента мы бы доехали и с такими колесами! — Поменяй спицы! — повысил голос Луций. — Поедем до Брундизия! Возница поднял на римлянина недоуменные глаза: стоило ли так гнать несчастных лошадей, если путь вдруг удлиняется на целых три дня? — Да, — решительно повторил Луций. — До Брундизия. Я поеду в Пергам через Македонию, без заезда в Афины! Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. 1. Око за око Сколот долго смотрел на ошеломленного Эвбулида невидящим взглядом. До других ли пленников было ему, сыну дремучих лесов и нив золотистого жита, когда полумрак и затхлость забитого людьми трюма стреножили его, словно веревки буйного жеребца? Все его существо жило только одним: новым побегом, и он лихорадочно прикидывал, как его осуществить. Но вот глаза его дрогнули, и широкое скуластое лицо начало быстро, как озеро при внезапном порыве ветра, менять свое выражение. Брови сколота неудержимо поползли вверх, рот приоткрылся, обнажая белые, крепкие зубы, глаза изумленно распахнулись: бывший раб узнал своего бывшего хозяина. «Ох, и хорош же он был бы на мельнице! — невольно подумалось Эвбулиду. — С такими ручищами и плечами он один бы у меня вертел жернова! А остальных я б отправил на другие работы… Скажем — копать глину и строить гончарную мастерскую. А что, нанял бы хорошего мастера, стал торговать глиняными кувшинами… Теперь же все: нет у меня ни мельницы, ни рабов, ни денег!» Эвбулид разглядел в полумраке рядом со сколотом еще двух своих рабов, тоже избитых, окровавленных, и понял, что после побега сколотов осталось только трое. «А все этот! — закипая от злости, подумал Эвбулид. — Он виновник всех моих бед!» Ему хотелось кинуться на сколота, бросить в бородатое лицо самые грязные слова, которые он кричал разве что на стене Карфагена, рубясь с пунами. Но, понимая, что варвар все равно не поймет ни его эллинской речи, ни состояния, лишь вздохнул: — Ну, и чего ты добился? Сколот неожиданно ответил по-эллински, нещадно уродуя певучие слова, делая их похожими на грубую варварскую речь: — Я пока ничего. А ты? — Я? — опешил Эвбулид. — Да. Ты. Ты ведь тоже здесь. И как я вижу, тебя позвали сюда не в гости. — Я… — запнулся Эвбулид, пораженный не столько тем, что раб говорит на его языке и смеет задавать ему вопросы, а тем, что он отвечает на них. Я, — с достоинством повторил он, — здесь случайный человек. Завтра утром Армен привезет за меня выкуп, и я тут же уеду в Афины, забуду все это, как кошмарный сон! — А я опять сбегу! — нахмурился сколот и мрачно пообещал: — Только не забуду. Ничего. Никому. — Сбежишь? — удивился Эвбулид и показал глазами на закрытую крышку люка, сквозь редкие щели в которой длинными иглами сочились лучи света. — Отсюда? — Но сбежал же я от тебя! — с мстительной усмешкой напомнил сколот. Эта усмешка окончательно вывела из себя Эвбулида: ему вспомнился вбежавший в дом надсмотрщик, погоня на «Афродите», схватка с пиратами на палубе, угрозы их главаря Аспиона… — Нет, ты не сбежишь отсюда! — возразил он, с невероятным удовольствием выговаривая каждое слово. — А если твои варварские боги каким-то чудом помогут тебе, то все равно ты снова попадешь в рабство! Ни здесь — так в Риме, не в Риме — так в Сирии, наконец — в Египте! Твоя родина слишком далека, чтобы до нее можно было добраться! Ты хоть представляешь себе, где она находится? — Да, нужно идти в ту сторону, где деревья обросли мохом. — Мо-охом! — передразнил сколота Эвбулид. — Мы, кажется, сейчас не на земле, а в море! — Значит, надо плыть за звездой, которая все время показывает на мою родину! — невозмутимо поправился сколот. — Твоя родина отныне — дом господина! — закричал Эвбулид, пораженный его спокойствием. — А может, даже каменоломня или рудник! Ты хоть знаешь, что такое серебряный рудник? Там гниют заживо! Там даже такие крепкие люди, как ты, живут не больше двух лет! Да и это еще много… О, боги, покарайте его таким рудником, чтобы он вспоминал мою мельницу, как самое прекрасное, что было в его варварской жизни! Он, отнявший у меня все! Все!! Все… Эвбулид уронил голову на руки и зарыдал, давясь бессвязными словами. Напряжение последних часов выплеснулось наружу. Оно медленно отпускало его вместе со слезами. Сколот, наклонив голову, с удивлением смотрел на плачущего грека, еще вчера вечером властного над его жизнью и телом. Несколько часов назад он приказал бить его истрихидой, от заноз которой до сих пор саднило в спине, а теперь убивался, словно женщина, над разбитым кувшином. Грязный. Избитый. Ненавистный. Глаза сколота торжествующе блеснули. — А разве ты, эллин, тоже не отнял у меня все? — хрипло спросил он. — Что все? — не понял Эвбулид. — Семью, волю, твердь — по-вашему: город. Я возил жито вашим эллинским купцам в Ольвию[65] и поэтому знаю немного по-вашему, — объяснил он и провел руками широкий круг. — Леса, реку, пашни, — все! — Я не брал тебя в плен! — заметил Эвбулид. — Конечно! — насмешливо усмехнулся сколот, и глаза его стали злобными: — Но ты — купил. — Не я — так другие! Какая тебе разница? — Ты заковал мои руки! — Но иначе бы ты ударил меня! — Ты стреножил меня, как коня! — Иначе бы ты сбежал! — Ты надел мне на шею большое ярмо… Ты отнял у меня имя, что дала мне мать — Лад, и стал называть просто сколотом! А знаешь ли ты, что это самый большой позор для нас — потерять свое имя?! Сколот, назвавший себя Ладом, уже не говорил — шипел, давился словами, обдавая лицо Эвбулида горячим дыханием. Эвбулид хотел объяснить, что такова участь всех рабов — ведь и сам сколот поступил бы с ним так же, окажись Эвбулид пленником в его «тверди». Но в этот момент крышка люка заскрипела — очевидно, часовой спрыгнул с нее, и через щели пробилось еще несколько лучей света. Один из них упал на лицо Лада, и Эвбулид невольно содрогнулся, увидев, как изменился облик его раба. Зубы сколота ощерились, глаза сузились в злобные щели, голова ушла в плечи, словно у изготовившегося к прыжку зверя, — скиф, настоящий скиф сидел перед ним! От такого варвара с забурлившей в его жилах кровью своих степных собратьев-соседей, славящихся своей мстительностью, можно было ожидать чего угодно. К тому же Эвбулид неожиданно растерялся, не зная, как ему вести себя со сколотом. Как хозяину с провинившимся рабом? Но какой он теперь хозяин без надсмотрщика, без истрихиды, к тому же сам оказавшийся во власти пиратов. Да и сколот уже не его раб, а их — пьющих вино и веселящихся на палубе. Прикинуться равнодушным и относиться к нему, как к чужому рабу? Эвбулид, едва подумав об этом, сцепил зубы, чтобы не застонать: какой же ему сколот чужой, если столько радости, столько надежд было связано с ним?! Тогда… как пленник с пленником? Но, даже если так рассудила судьба, разве сможет он держаться с ним на равных? Разве повернется его язык назвать этого варвара, своего вчерашнего раба Ладом?.. Эвбулид не успел еще ничего решить, как сколот неожиданным криком смял все его мысли. — А-а, пес! Перун тебя порази! — закричал он, бросаясь на грека. Эвбулид успел только охнуть: — Ты что?.. — Умирай, поганый пес! — Пусти… Опомнясь, Эвбулид что было сил уперся ладонями в грудь сколота, пытаясь оттолкнуть его от себя. Но его руки встретили неодолимую преграду. С таким же успехом он мог попытаться сдвинуть с места скалу. Лад усилил нажим, и очень скоро спина грека оказалась плотно прижатой к жестким доскам пола. — Ну что, нравится такое железо на руки? — хрипел сколот. — А такие кандалы на ноги? — Пусти! — Нравится отнимать у человека имя? — Пус… ти… — А теперь спробуй и мое ярмо на шею! — потянулся Лад пальцами к горлу своего бывшего хозяина. Эвбулид завертел головой, ища глазами помощь. Рядом с ним были только готовые броситься на помощь товарищу сколоты и угрюмые гребцы, для которых муки господина были только в радость. Свободнорожденные же пленники находились в другом конце трюма. Одни из них спали. Другие, привыкшие к ругани за лучшее место и крикам раненых, как ни в чем не бывало, продолжали вести беседу. Аристарх с отрешенным лицом сидел в центре трюма, скрестив под собой ноги. Эвбулид уже не пытался сбросить с себя сколота. Все его усилия были направлены на то, чтобы не дать его настойчивым пальцам добраться до горла. Но Лад был сильнее Эвбулида. Много сильнее. Стоны и жалкие попытки грека высвободиться лишь раззадоривали его. Сколота не останавливала ни боль в рассеченной мечом пирата голове, ни острая резь в плечах и локтях. По трое пиратов висело у него на каждой руке, выкручивая их, во время боя на «Деметре», где они так удачно укрылись с товарищами от погони… Месть пьянила его, влекла на своих легких крыльях, торопила, она — он хорошо знал это по рассказам отца и старших братьев — несла душе и телу гораздо большее освобождение, чем от сброшенных наручников, разбитых о камень кандалов, разорванных веревок… — Помогите! — в отчаянии закричал Эвбулид. Сколот залепил ему рот своим подбородком, вталкивая в него бороду и, слыша, как бьется под ним, хрипит полузадушенная жертва, радостно шептал: — Око за око! Смерть тебе, эллин!.. Обычно Лад не добивал ослабевших врагов. Оставляя скифа или сармата лежащим на поле брани, он доверял его судьбу добрым или кровожадным богам, нимало не тревожась, какие из них первыми спустятся с небес к истекающему кровью человеку. Но сейчас его память жила лишь событиями последних двух месяцев его недолгой — всего в двадцать пять весен — жизни. Шумное застолье в родной землянке… привычный путь в Ольвию, где их ждали с зерном купцы-эллины… внезапное нападение на спящий обоз и неравная сеча их, десяти сколотов со скачущими вокруг них с арканами сарматами. Теперь все они: и сарматы, и купивший его у них торговец с лицом воина, и глашатаи на греческом рынке, и надсмотрщик с истрихидой слились для него воедино в этого эллина, беспомощно лежащего под ним. И потому ему не будет от него пощады… Эвбулид чутьем, обостренным приближением смерти, прочитал это в глазах сколота. Силы быстро оставили его. Лишь на какое-то мгновение волна отчаяния и жажда жизни помогли ему чуть приподняться. Но сколот тут же снова придавил его к полу, нащупал жадными пальцами горло и стиснул его, словно железным обручем. Лучи света заплясали перед глазами забившегося Эвбулида, сделались розовыми. — Помогите же!.. — собрав последние силы, прохрипел он, уже не в силах ослабить мертвую хватку, которая отнимала у его обезумевших легких и без того несытный воздух трюма. Удивленный живучестью грека, Лад приподнял его и ударил головой о доски. Руки Эвбулида опустились. Равнодушие и усталость обволокли его. «Ну и пусть… — устало решил он. — Пусть…» Словно во сне до него донесся далекий голос Гедиты, и он никак не мог понять, что она говорит ему, почему плачет. Потом ее заглушил хохот Квинта. Крик Диокла. Стон Армена… Глаза Эвбулида были широко открыты, когда вдруг погасли иглы света. Померкло ли сознание, или часовой, приложившись к амфоре вина, захваченной на «Деметре» или «Афродите», разлегся на крышке трюма, — он уже не знал. Как не мог видеть и того, что греки, подбежав к нему на помощь, скрутили двух сколотов и били Лада, срывая с его головы повязки, били его до тех пор, пока он, застонав, не отвалился от своей жертвы и не упал рядом с товарищами. 2. За выкупом С той минуты, как главарь пиратов отправил Армена на торговом паруснике, безбоязненно подплывшем к грозной «Горгоне», в ушах старого раба неотрывно звучали прощальные слова Аспиона: «Привезешь выкуп — и ты свободен!» — Как?! — изумясь, пролепетал Армен. — Ты отпустишь меня, и я снова смогу служить своему господину? «Я сказал, что дам тебе свободу! — отрезал Аспион и, с усмешкой взглянув на него, обернулся к своим пиратам: — Объясните ему, что как только он привезет деньги, может убираться на все четыре стороны!» Кто-то из пиратов, подталкивая Армена к паруснику, на ходу принялся поучать его: «Где твоя родина?» — В Армении… «Вот и уберешься в свою Армению! Мы, так уж и быть, подбросим тебя до берега Малой Азии, а там доберешься сам. Понял?» — А мой господин? «Вот уж действительно потерял рассудок от радости! — взорвался пират и закричал, вталкивая Армена на палубу торгового судна: — А твой господин уберется в свои Афины!» Странным было теперь состояние Армена… Ему бы радоваться, а он, глядя, как накатываются на парусник волны, обдавая палубу мириадами брызг, с тревогой думал об Эвбулиде. Ему не давала покоя мысль, что изнеженный, любящий делать маникюр и модные прически хозяин сейчас один в трюме пиратского корабля. И — о, боги! — он, разучившийся даже одеваться без его помощи, ранен, избит, наверняка голоден. Зачем он покинул его, прежде, чем напоить, обмыть ссадины, наконец, уложить поудобнее. Ветер сильный, попутный, снасти так и гудят под его порывами, — все равно успел бы вернуться к сроку, только на сердце было бы куда спокойнее… Армен перехватил взгляды отдыхавших во время шторма гребцов, и в одном из них прочитал зависть. Молодой, плечистый раб смотрел на него так, что Армен не выдержал и отвернулся. Конечно же, он слышал, как пират при посадке на этот парусник пообещал Армену свободу. Но разве он сейчас поймет его? Ведь когда-то и Армен засыпал и просыпался с одной только мыслью о свободе, горько плакал во сне, видя крошечные домики родного селения на склоне знакомой до каждого деревца горы. Но годы шли. Из камней, в которые парфянские воины превратили селение, незнакомые ему люди, наверное, давно уже построили новые дома. Угнанные в рабство земляки давно умерли. Деревца превратились в раскидистые деревья. Неизменными должны остаться лишь горы. Но… узнает ли он их теперь? Зато в доме Эвбулида все было родным: очаг, стены, дешевые глиняные боги, Диокл, Фила, Клейса, его скрипучая лежанка в углу закопченной кухни. Армен явственно услышал знакомый запах тряпья на ней, и на его глаза навернулись слезы. Он понял, что уже не сможет жить без этого дома. И вместе с тем чувствовал, что не будет ему покоя до смертного часа, если не увидит хоть краем глаза родные края, не вдохнет знакомый с детства воздух, не сделает глотка студеной воды из быстрого ручейка. Если не поклонится месту, где оставил пронзенными парфянскими стрелами отца и мать, когда его, превращенного в струка[66], привязал к седлу и волок за собой по земле закованный в сверкающие латы всадник… Сами боги, пусть даже в образе бородатого разбойника Аспиона, велят ему сделать это! «Мой пекулий не так велик, — размышлял Армен, мысленно подсчитывая предстоящие расходы. — Всего двенадцать драхм. Но мне много и не нужно! Кусочек лепешки в день да несколько глотков воды. А остальное пойдет в уплату погонщикам мулов и перевозчикам через реки. Разбойники и охотники за рабами на пути? А что мне их бояться? Клейма на мне нет. Для продажи я уже не годен. Кому нужны лишние хлопоты с доживающим свое рабом? Корми меня только даром! — усмехнулся он первый раз за последние пять лет, и лицо его просветлело: — А я только взгляну на свою Армению — и сразу обратно, в Афины. Господин добрый, он поймет меня…» Сильный порыв ветра качнул парусник. По палубе пробежали два раба, держа за ручки тяжелую амфору. По команде купца — хозяина судна, они раскачали ее и швырнули в пасть высокой волны, нависшей над кормой. Пытавшийся таким образом умилостивить разъяренного Посейдона купец, благообразный седой старик — и не подумаешь никогда, что такой может быть связан с пиратами, не отводя глаз от моря, шептал молитвы. Неподалеку сверкнула молния, загрохотал, раскалывая небо, гром. Купец рухнул на палубу ниц. «Не наживался бы на горе и несчастьях людей, то и не трясся бы сейчас ни перед молнией Зевса, ни перед трезубцем его брата!» — глядя как раскрывается в неслышном крике рот купца, подумал Армен. Через пару часов, когда молнии отнесло далеко в сторону, а шторм стал заметно стихать, купец вновь обрел уверенность и спокойную осанку. — Подходим! — проходя мимо навеса на носу парусника, крикнул он, и оттуда, потягиваясь, вышли два пирата. Хмуро оглядевшись, они подошли к Армену. Старый раб с удивлением увидел, что один из них, с лицом, сморщенным, как корка высохшей дыни, был одет в хитон и гиматий афинского гражданина. — Ждем тебя здесь до захода солнца! — предупредил он. — И помни: если вздумаешь бежать или приведешь за собой стражу — этой ночи твоему господину не пережить! А тебя мы найдем и повесим на твоих же кишках! Помнишь, Артабаз, как голосил тот раб, которого мы повесили таким способом? — Да, это было очень смешно! — подтвердил грузный, неповоротливый пират и пристально посмотрел на раба: — Учти, я буду знать о каждом твоем шаге! — Я вернусь! — клятвенно заверил его Армен. — Я обязательно вернусь! — Это будет хорошо! — подражая Аспиону, кивнул Артабаз, — а то твои дырявые кишки вряд ли выдержат тебя и доставят нам удовольствие! — Лодка спущена! — крикнул купец. — Торопитесь! Подталкиваемый пиратами, Армен спустился в лодку. Увидел прикованных к веслам гребцов, молчаливых и хмурых, привыкших к подобным рейсам. Покосился на одетого, как афинянин пирата, усевшегося на носу. — И помни! — послышался с палубы парусника голос Артабаза. — До захода солнца… 3. «Черный вестник» Как ни спешил Армен, проклиная тех, кто надумал строить город в таком холмистом месте, но минул час, пошел второй с той минуты, как лодка оставила его одного на пустынном берегу, а дорога все не кончалась. До Большого водопровода он добрался уже совсем задыхаясь, прижимая ладонь к боку, который, казалось, резали остро отточенным ножом. Здесь он разрешил себе минуту постоять и двинулся дальше. Афины как ни в чем не бывало жили своей привычной пестрой жизнью. Свободные горожане в предвкушении званых ужинов возвращались из гимнасиев и палестр, обсуждая на ходу достоинства победивших сегодня борцов и атлетов. Рабы несли с остывающей агоры запоздалые покупки. Так же, как всегда, останавливали друг друга и заводили степенные беседы философы. Стайки параситов, отчаянно споря между собой, решали, в чей дом податься сегодня. Афины оставались Афинами. Армен ковылял по их улочкам, то и дело поднимая голову. С мольбой смотрел он на сползающее с зенита солнце. Разумеется, не было у него ни гномона,[67] ни клепсидры,[68] но он точно знал: осталось три, в лучшем случае — три с четвертью часа, и светило, ведомое твердой рукой Гелиоса, скатится с небосклона туда, где всегда холодно, где царствует ночь. Всего три часа! А ему нужно успеть зайти к Гедите, успокоить ее, взять адрес Квинта, который забыл ему дать Эвбулид. Потом обежать четыре дома, все объяснить и дождаться, пока ему вынесут деньги. Армен прибавил ходу. Ища спасения от боли, он широко раскрыл рот и хватал воздух, как выброшенная из воды рыба. Но даже в эти мгновения он думал не о себе, а об Эвбулиде. «О, Деметра, о, Аполлон! — взывал он к помощи самых добрых богов, известных ему. — Сделайте так, чтобы корабль пиратов выдержал шторм, чтобы главарь этих разбойников сдержал свое слово и отпустил господина! А еще пусть Квинт окажется дома! О, Гелиос, о, Дионис, помогите мне, спасите хозяина!..» Так думал Армен, идя знакомыми переулками, чтобы сократить путь. Насколько горячо молил он вчера богов, чтобы они больше не ставили его на пути этого страшного римлянина, отвесившего ему тяжелую оплеуху, настолько слезно просил он их теперь, чтобы Квинт Пропорций не ушел куда-нибудь в термы или на званый ужин. Что тогда делать, к кому идти? Да и даст ли он два таланта, даже если окажется дома? Чем ближе становилось жилище Эвбулида, тем больше сомневался в этом повидавший на своем веку немало разных господ Армен. Чутье подсказывало ему, что Квинт совсем не тот человек, который выложит деньги даже своему старому другу, спасшему ему жизнь… «Эвбулид доверчив, как ребенок! — думал Армен, охваченный новой тревогой. — Он не видит того, что увидел бы даже слепой: как этот римлянин свысока разговаривал с ним, как презрительно осматривал его дом, не удостоив его, по греческому обычаю, даже вежливой похвалы. А на что он толкнул господина вчера? Проклятый Квинт вынудил всегда доброго, справедливого хозяина быть со сколотами таким же жестоким и беспощадным, как и он сам!» Впереди показался дом позолотчика шлемов Демофонта. Во дворе была видна его согнутая спина. Как всегда, оттуда доносился мелодичный постук молотка, слышимый в доме Эвбулида днем и ночью. Сын Демофонта, ровесник Диокла, увидев Армена, радостно вскрикнул и помчался по улице, крича: — Диокл, Диокл, там твоего Армена поймали! Старый раб улыбнулся. Отгоняя мрачные мысли, поклонился приподнявшему голову Демофонту и заспешил к дому Эвбулида. Миновал короткую — в несколько шагов — дорожку, которую он всегда так старательно поливал и посыпал дробленым камнем. Взялся за ручку двери и услышал родные запахи кухонного очага, главной комнаты дома… В гинекее тут же раздался шорох, скрип отодвигаемой прялки. — Кто там? — послышался голос Гедиты. — Кто?! Дверь скрипнула, выглянуло любопытное личико Клейсы. Девочка увидела Армена и закричала, бросаясь к рабу: — Мама, мама! Наш Армен вернулся! — О боги! Наконец-то… Гедита вбежала в мужскую половину, увидела Армена и радостно всплеснула руками: — Армен! Ты… — Я, госпожа, — подтвердил раб, отводя глаза от засиявшего лица. — Клейса, пусти Армена, Фила, иди сюда! Радость-то какая! Боги услышали нас… А я уже ждала самого страшного, думала, что Эвбулида застиг в море шторм, что сколоты сами напали на него! И вот, наконец, — ты!.. Гедита вопросительно взглянула на Армена: — Эвбулид уже возвращается, да? Армен переступил с ноги на ногу, не решаясь сказать госпоже всю правду. — Он послал тебя вперед предупредить, чтобы я не волновалась? Раб вздохнул и посмотрел себе под ноги. Гедита испуганно взглянула на него: — Армен! Почему ты молчишь?! Раб набрал в грудь побольше воздуха, и уже собрался рассказать обо всем, как в дом ворвался разъяренный Диокл. — А-а, вот он где! — закричал он, подлетая к Армену, и влепил ему звонкую пощечину. Армен не успел даже поднять руки, чтоб защититься. — Мерзавец! Неблагодарный! — снова замахнулся он. — Ну, будешь еще убегать от нас? Будешь?! — Диокл! — остановила сына Гедита, прижимая к подолу заплакавшую Клейсу. — Остановись! Может, он не так уж и виноват! Армен, почему ты не отвечаешь мне? — Ну? — заторопил раба Диокл. — Беда, госпожа… — выдавил из себя Армен. — Что, Эвбулид не догнал сколотов? — прижала к губам край хитона побледневшая Гедита. — Если бы так… — О боги! С ним что-то стряслось?! Ну, говори же! Диокл вцепился руками в охнувшего Армена и затряс его: — Говори, или я убью тебя! Мой отец жив? — Жив… — Хвала богам… — простонала Гедита, бессильно опускаясь на краешек клине. — Но корабль, на котором он гнался за сколотами, попал к пиратам… — докончил Армен. — Несчастный Эвбулид! — вырвалось у Гедиты. — Что же теперь с ним будет?! — Ничего страшного! — принялся успокаивать ее раб. — Господин жив и… здоров! — солгал он. — Он послал меня за выкупом! — За выкупом? — боясь дышать, переспросила Гедита. — И его отпустят? — Да! — быстро подтвердил Армен. — Я отвезу деньги главарю этих разбойников — да покарают их боги! — и через несколько часов господин будет здесь. — Если это так, то скорей бери все деньги, что остались в доме! — обрадовалась Гедита. — Если этого мало, я сбегаю к жене Демофонта и возьму еще! Обойду всех соседей! С каждого по несколько драхм — и мы выкупим Эвбулида! — Остановись, мама! — закричал Диокл, взявшейся за ручку двери Гедите. — Он же нам врет! Я знаю, чьих рук это дело… А ну, жалкий раб, признавайся, — пристально посмотрел он на Армена, ищя на его лице запинки, следов лжи, — ты собрался бежать на свою варварскую родину? — Да… — помолчав, тихо признался Армен. — Ага! — торжествуя, вскричал Диокл. — Это сколоты подговорили его прийти к нам якобы за выкупом для отца! А потом пообещали доставить его домой! Ну, отвечай, это так? — снова затряс он раба. — Диокл, Диокл! — заметалась между сыном и рабом Гедита. — Армен, скажи, что это неправда… — Что он может сказать? — оглянулся на мать Диокл. — Сама подумай: откуда он может знать об отце, если был не с ним, а со сколотами! — Я действительно был с твоим отцом… сколотом… и… пиратами… — прохрипел, силясь высвободиться, Армен. — Разве такое возможно?! — закричал Диокл. — Да, только пусти меня… Выпущенный из цепких рук юноши, Армен упал на клине и объяснил: — Сначала пираты захватили корабль, на котором я плыл со сколотами, а потом — корабль, на котором пытался догнать их твой отец… Я встретился с ним в трюме их проклятого судна! — Я же говорила, что Армен говорит правду! — упрекнула сына Гедита и с надеждой взглянула на раба: — Значит, нужен выкуп? — Да… — А если пираты обманут? — встревожилась Гедита. — Что им стоит взять выкуп, а потом продать Эвбулида в рабство? Не лучше ли рассказать обо всем архонтам? Они выведут в море весь наш флот и спасут моего мужа! — Нельзя… — покачал головой Армен, вспоминая слова худощавого пирата и вздрагивая от подозрения, что не случайно тот оделся в хитон и гиматий. — Пираты сказали, что если я приведу охрану — этой ночи Эвбулиду не пережить… — О боги! — А вот обманут они или нет, я не знаю, — честно признался Армен. — Зато я знаю — не обманут! — воскликнул Диокл. — Зачем ты так успокаиваешь меня? — нахмурилась Гедита. — Никогда не говори того, чего не можешь знать. — Но я знаю — они не обманут! — горячо повторил Диокл. — Как только они получат выкуп, отец сразу будет на свободе! В вертепе, где я… — он запнулся, затем махнул рукой и докончил, — …частенько бываю, живет бывший пират, совсем уже старик. Он говорил мне, что не было еще такого случая, чтобы пираты не сдержали своего слова. Они уверены, что за обман Посейдон тут же пошлет их корабль на дно или прибьет к мели! — Ах ты, мой маленький пират! — обрадованно потрепала Диокла Гедита. — Смотри только не ходи туда больше! Неизвестно чему еще научит тебя этот бывший пират! Она перевела глаза на Армена и спросила: — А сколько же нужно денег? — Господин сказал — два таланта! — с готовностью ответил раб. — Два… — запнулась Гедита, — таланта?! Может, две мины? Ты не ошибся? — Нет… — холодея от предчувствия новой беды, выдавил Армен. — Господин сказал именно два таланта. — Обычно пираты берут за свободнорожденных греков намного меньше! — снова подозрительно взглянул на Армена Диокл. — Это так! — уныло развел руками раб. — И с тех четверых греков, за которых я тоже должен привезти выкуп, они берут по полталанта. Но твой отец перед тем, как попасть в плен, убил одного из этих негодяев. — Эвбулид? Убил?! — воскликнула Гедита. — Зачем он это сделал? — болезненно скривился Диокл. — Разве есть на свете сила, которая может одолеть свободных пиратов?! — Два таланта… — покачала головой Гедита. — Ты хоть представляешь, что это такое? — Нет… — признался Армен. — Это… — Гедита попыталась перевести таланты в драхмы, но ей, привыкшей больше иметь дело с медными оболами, такие подсчеты оказались не под силу. — Это… — Сто двадцать мин или двенадцать тысяч драхм! — поспешил ей на помощь сын, умевший считать гораздо лучше, чем писать. — Или семьдесят две тысячи оболов! — Нам и за десять жизней не заработать таких денег… — чуть слышно прошептала Гедита. Пораженный Армен молчал, переводя глаза с госпожи на Диокла. — Господин велел мне взять эти деньги у Квинта Пропорция! — наконец вспомнил он. — Конечно же! — радостно воскликнула Гедита. — И как я это забыла? Мы так хорошо говорили с Квинтом, когда Эвбулид побежал догонять сколотов. Он спасет Эвбулида так же, как когда-то Эвбулид спас его самого! — Господин велел взять деньги под любой процент, на любых условиях! — подсказал Армен. — Конечно! Соглашайся на любые условия! И скорее назад, к Эвбулиду! — Но я же не знаю адреса Квинта! — заметил раб. — И я тоже… — растерялась Гедита. — Я знаю! — закричал Диокл. — Ты? — Во дворе этого Квинта вместо собаки на цепи привязан раб! — объяснил юноша. — Мы с ребятами бегаем посмотреть на него и послушать, как он лает. Это очень смешно! Иногда мы бросаем ему гнилые яблоки, он ест их, рычит, точно настоящая собака, и тогда мы смеемся еще больше! — Какие жестокие забавы! — ужаснулась Гедита, глядя на сына так, словно видела его впервые. — Неужели это может забавлять тебя? О боги, как же ты не похож на своего отца! — Мне надо идти! — подал голос Армен. — Я должен обойти еще четыре дома и до захода солнца успеть к морю… — Пойдем все вместе! — решила Гедита. — Вдруг Квинт не решится дать тебе целых два таланта? Виданное ли дело — доверять такие большие деньги рабу, который никогда не держал в руках больше обола! — Чуть не забыл! — вдруг вспомнил Армен. Проковылял в свой уголок на кухне, покопался под лавкой и достал заветную кубышку с пекулием, куда он складывал — обол к оболу, лепту к лепте — те награды, которыми Эвбулид отмечал усердие и преданность своего единственного раба. — Здесь немного… — прошептал он, — но должно хватить, чтобы добраться до Армении и обратно. В крайнем случае, буду есть через день… Армен встряхнул кубышку, но звука монет не последовало. Он поднес ее к самому уху, встряхнул еще раз и выронил из рук. Кубышка была пуста. Раб поднял полные слез глаза на юношу. — Нет, Армен, это я взяла! — тихо сказал Гедита. — Прости, но когда нам нечего было есть, и у меня не было даже обола, чтобы отправить тебя на агору за продуктами, я тайком вынимала из твоей кубышки деньги… — Я понимаю… — чуть слышно пробормотал Армен, опуская голову. — Ты напрасно коришь себя за это — ведь я тоже питался на эти деньги… Гедита сквозь слезы взглянула на раба: — Каждый раз, доставая медную монетку, я мысленно обещала тебе заменить ее другой, серебряной, как только нашему дому улыбнется счастье!.. — Оно еще улыбнется! — нетвердо сказал Армен. — Только для этого мне надо очень спешить. Через полчаса они уже упрашивали привязанного к цепи белозубого раба-нумидийца пропустить их в дом Квинта Пропорция. Раб громко, но безо всякой злобы лаял на них и предупреждал каждый шаг хриплым рычанием. — Да что с ним разговаривать! — возмутился Диокл, поднял с земли камень и запустил им в открытую дверь. — Эй, есть там кто-нибудь? Откройте! Раб проследил глазами за камнем, втянул голову в плечи, увидев свежую царапину на двери, и неожиданно хриплым голосом сказал: — Хазаин нэд. — Как нет? — испуганно воскликнула Гедита. — Где же он? — закричал Диокл. — Когда вернется? Вместо ответа раб снова залаял и принялся рваться с цепи. Юноша недвусмысленно поднял еще один камень. Замахнулся: — Ну?! — Хазаин нэд! — повторил раб с тоской глядя то на камень, то на дверь. Упал на колени и остервенело стал бить кулаками землю: — Нэд! Нэд! Нэд! — Не надо бросать камень, — тихо попросил Армен. — Разве раб может знать, куда и насколько уходит его хозяин? — Но что же тогда делать? — воскликнул Диокл. Армен поглядел на солнце и глубоко вздохнул. — Я останусь здесь и буду ждать Квинта! — подумав, решила Гедита. — А ты, Армен, скорее иди в дома тех несчастных, за кого тоже должен везти выкуп. И, не мешкая, возвращайся! — А я побегу в вертеп! — крикнул Диокл. — Думаю, там нам тоже чем-нибудь помогут! 4. Аристарх Сознание медленно возвращалось к Эвбулиду. «Жив…» — понял он, слыша сквозь пелену в ушах отдаленные крики пиратов на палубе и близкий говор пленников. Тугие толчки крови в висках радостно подтвердили: «Жив! Жив!! Жив!!!» Он открыл глаза и увидел склонившегося над ним Аристарха. Худощавое лицо лекаря было усталым и озабоченным. Он тяжело дышал, с силой надавливая на грудь Эвбулида. Лоб его был покрыт каплями пота. — Ну наконец-то! — с облегчением выдохнул, увидев, что Эвбулид открыл глаза. — Ты уже становишься моим постоянным пациентом! Аристарх полил горло и шею Эвбулида холодящей жидкостью со знакомым уже запахом и осторожно начал втирать ее в кожу. — Что со мной? — прошептал Эвбулид. — Теперь ничего страшного. Но, клянусь Асклепием, пять минут назад ты уже сидел в лодке Харона, и мне стоило немалых трудов вытащить тебя оттуда! — Голова!.. Мне словно забило уши водой… — Еще бы! Мало твоей бедной голове досталось от пиратской булавы, так еще и этот раб едва не пробил ею дно в трюме! К тому же он, считай, уже задушил тебя! Наверху послышался звон разбитой амфоры и хруст черепков под тяжелыми каблуками. Смех. Ругань… Все это доносилось до Эвбулида, словно из густого тумана. Он попытался мотнуть головой, чтобы избавиться от неприятного ощущения, и вскрикнул от боли. Беспомощно взглянул на Аристарха: — Ты уже дважды спасаешь меня. Помоги еще раз. Сделай так, чтобы я снова мог двигаться и… как следует слышать. Аристарх кивнул. — Здесь больно? — спросил он. — А здесь? Здесь? Эвбулид вскрикнул и дернулся. Пальцы Аристарха заработали быстрее. — Ну вот мы и нашли место, куда спряталась твоя боль! — с радостью воскликнул он. — Немного потерпи, и будешь слышать еще лучше, чем прежде! — Спасибо… Я заплачу тебе за все, как только мы вернемся в Афины! Пальцы Аристарха дрогнули, остановились. — Мне ничего не надо, я просто выполняю долг врача — ведь я давал клятву Гиппократа! — заметил он, продолжая работу. — Впрочем… если ты зайдешь к моим родителям, дай им за мои труды, сколько сочтешь нужным… — Так вместе и зайдем! — предложил Эвбулид, ловя себя на мысли, что этот лекарь нравится ему все больше и больше. Но Аристарх неожиданно отказался. — Нет, — покачал он головой. — Сходишь один. Твой раб покажет тебе дом, где живут мои отец и мать. — А ты? — Я? Я… буду занят. — Продолжишь свою поездку? — В некотором роде… — Там, куда ты едешь, так много пациентов? — удивился Эвбулид. — Да… Они есть повсюду. — Кто же они: простолюдины, купцы или, может, архонты? — Еще не знаю… — пожал плечами Аристарх, всем своим видом давая понять, что ему неприятен этот разговор. — Посиди еще со мной! — попросил Эвбулид, не понимая, отчего так вдруг изменилось настроение лекаря. Он поднял глаза и удивился еще больше: в лице Аристарха уже не было ни тени раздражения, он приветливо улыбался. — Странный ты человек! — воскликнул Эвбулид. — Гляжу на тебя и никак не могу понять! — Что же во мне такого странного? — Ну… Все тут мучаются неизвестностью, страдают от духоты и жажды, а тебе хоть бы что. Улыбаешься, как ни в чем не бывало! — Разве это плохо? — засмеялся Аристарх. — Да нет… Но ты то сидишь как-то странно, словно бы не в себе, то вдруг вскакиваешь и делаешь вид, будто колешь дрова… — Так нужно! И это все мои странности? — Нет! Я встречал немало лекарей, которые тоже давали клятву Гиппократа. Но все они, прежде чем помочь, спросили бы, какую я дам им за это плату! А ты бросился ко мне и спас жизнь, даже не поинтересовавшись, оставили ли пираты в моем кошеле хотя бы один обол! — Ну, положим, тогда тебя бесполезно было спрашивать об этом! — усмехнулся Аристарх. — Все равно! — возразил Эвбулид, не принимая шутки. — Они сначала обыскали бы меня! — И потеряли секунды, которые в тот момент были дороже для тебя всего на свете! — Да они вообще бросили бы меня, узнав, что мне нечем заплатить им! Ведь они не стыдятся брать деньги за свое лечение, даже если больной после него умирает! Так было с моими родителями, с отцом и матерью жены… А моя старшая дочь?! Узнав о нашей бедности, лекарь даже не стал осматривать ее, а сразу посоветовал состричь часть волос с головы Филы и принести их в жертву Аполлону и его сестре Артемиде![69] — Какая алчность! Какое бездушие! — воскликнул Аристарх. — Такой лекарь достоин самой суровой кары как богов, так и людей! Так, значит, твоя дочь умерла? — сочувственно взглянул он на Эвбулида. — К счастью, тогда еще в Афинах жил мой друг. Он дал мне взаймы денег, и тот же самый лекарь в три дня поставил мою дочь на ноги! Что скажешь на это? — Скажу, что это был не лекарь, а самый настоящий купец с медицинским инструментом в руках! Искать выгоду на боли и страданиях людей — что может быть более низким и подлым? Помогать лишь тем, кто в состоянии оплатить свое здоровье! Лекарь, который приходил к тебе, — клятвопреступник, и он не имеет право называться ни лекарем, ни даже человеком! Самые злостные воры и мошенники — невинные дети по сравнению с ним, потому что он играет на самом дорогом и святом для человека… Блеск золота затмил глаза его совести, убил в нем сострадание — святая святых каждого лекаря, заставил забыть не то, что о долге, но даже и о собственном страхе! — Страхе? — А ты как думал? Что ему простится нарушение клятвы богам, которую составил сам Гиппократ? — Я много слышал об этой клятве, но саму ее так и не слышал, — признался Эвбулид. — Тогда слушай: «Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей[70] и всеми богами, беря их в свидетели, что направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости… Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Что бы при лечении — а также и без лечения, я не увидел и не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и искусстве и слава людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому!» — Как же — будет им обратное! — с горечью вздохнул Эвбулид. — Тот лекарь, что лечил мою Филу, продолжает все также «чисто и непорочно» лечить остальных! А другой — Диомед, получив щедрую взятку от детей одного почтенного гражданина, сказал тому прямо в глаза, что у него опухоль, и бедняга от тоски и страха умер за неделю, хотя, как говорят, мог прожить и год, и два. И что же — оба эти лекаря живут себе припеваючи! Куда только смотрят боги?! — Я сам иногда поражаюсь терпению богов! — пожал плечами Аристарх. — Вместо того, чтобы подавать пример больным, наши лекари пьянствуют, обжираются, предаются похоти и разврату! Это у них называется «чисто и непорочно» проводить свою жизнь. Я не знаю лекаря по имени Диомед, но узнаю в нем многих своих коллег! Еще Гиппократ убеждал таких думать не о деньгах, а о здоровье людей! А они и спустя двести пятьдесят лет после его смерти превращают медицину в доходное дело. Причем многие до того невежественны, что приписывают возникновение недуга действию тайных сил! Падучая болезнь у них — это козни злых богов, каково, а? Эвбулид развел руками, умолчав о том, что и сам верит в это. Знакомые ему лекари часто ругали Гиппократа, обвиняя его в непочтении к богам, и особенно смеялись над тем, что он и его ученики считали, что здоровье человека во многом зависит от климата и местности, в которой он живет. Аристарх понимающе посмотрел на Эвбулида и продолжил: — Эти шарлатаны, выдающие себя за врачей, вместо того, чтобы исцелять, дают больным сомнительные лекарства. Они продают беременным женщинам средства для изгнания плода, также нарушая этим клятву! — Говорят, что они, пользуясь своим положением, соблазняют дочерей и жен афинян! — добавил Эвбулид. — И это за ними водится! — сокрушенно вздохнул Аристарх. — Но чаще многие утоляют свою похоть только тем, что бессовестно мнут и гладят молодые тела, делая вид, что простукивают и прослушивают пациенток… — Какая мерзость! — вздрогнул Эвбулид, ужасаясь тому, что так же, возможно, поступал и тот толстый, старый лекарь, лечивший его Филу. — А чем лучше их «лечебные» комнаты? Они открыли их по всей Греции и за огромные деньги обещают вылечить своих богатых пациентов самыми модными и новейшими способами! Но беда в том, что доверчивые люди, готовы отдать все, чтобы только избавиться от мучений, получают у них новые болезни и страшные осложнения. Назначая эти ванны и кровопускания лекарям некогда даже толком изучить новый метод, иной раз они знают о нем лишь понаслышке! Им некогда сидеть над египетскими папирусами — главное опередить остальных и первым применить модный метод в своей комнате! — Если бы в Афинах было больше государственных лекарей! — Увы! Плата в лечебницах, которые оплачивают архонты, так мала, что редко кто долго задерживается в них. В основном эти врачи следят только за своими помощниками-рабами, которые обслуживают таких же рабов… — Но я слышал, что в больнице возле бедняцкого квартала Кайле есть врач, творящий чудеса! Он принимает свободных и рабов, днем и ночью лечит их болезни. Мой сосед, позолотчик шлемов, отдал целый месячный заработок Диомеду, но тот так и не излечил его от рези в глазах. Когда же Демофонт пошел в квартал Кайле, то его мигом излечил врач по имени Арис… тарх… Постой! — вскричал Эвбулид, видя, как улыбается, глядя на него лекарь. — Так это ты и есть?! — Я! — засмеялся Аристарх. — А как твой сосед? Резь в глазах больше не мучает его? — Нет… — растерянно пробормотал Эвбулид. — Прекрасно! — обрадовался Аристарх. — Я ведь тогда впервые применил на практике трактат Герофила из Калхедона «О глазах». Надеюсь, он строго выполняет все мои предписания и больше не занимается позолотой шлемов? — Увы! — вздохнул Эвбулид. — Стучит молоточком день и ночь — иначе его семье не на что будет жить. Теперь и мне, когда вернусь, придется искать какое-нибудь ремесло… — Вернешься — скажи Демофонту, чтобы немедленно искал другую работу, более легкую для глаз! — строго сказал Аристарх. — Иначе не пройдет и года, как он ослепнет! — Так ты это можешь сделать сам! — предложил Эвбулид. — Зайдешь ко мне в гости, и мы вдвоем сходим к Демофонту. — Я не смогу! — напомнил Аристарх. — Продолжишь изучение новых методов? — Вроде того… — А где ты до этого успел побывать? — Почти везде, где есть медицинские труды: в библиотеках Александрии, Родоса, Коса, Книда, Апамеи Сирийской… — Ого! — Иерусалима, Дельф, Аполлонии… — Пощади! — Эпидавра, Фессалии, Делоса… — И что же ты нашел в этих библиотеках интересного? — перебил Аристарха Эвбулид. — Все! Но самое интересное — это знать, как движется по нашим сосудам кровь, как работают сердце, печень, желудок, легкие… — Движется кровь?! — не поверил Эвбулид. — Как ты мог видеть это? Ведь, как я слышал, в мертвом теле всякое движение останавливается. — В мертвом — да, — согласился Аристарх. — Но в Сирии я своими глазами видел работу всех важнейших органов на живых людях. — Как? — вскричал Эвбулид. — На живых?! — В Сирии власти часто отдают приговоренных к смерти преступников ученым медикам, — пояснил лекарь. — Так у них было при Герофиле и Эрасистрате еще со времен Селевка. — Представляю, как мучились эти несчастные! Ведь вы заживо резали их на куски![71] — содрогнулся Эвбулид. — Что делать! — пожал плечами Аристарх. — Зато это поможет остальным людям. — Чем?! — с неприязнью спросил Эвбулид. Ему было странно слышать эти равнодушные слова от мягкого и человечного Аристарха. — Ну, хотя бы тем, что мы теперь знаем причины многих болезней! — невозмутимо ответил лекарь. — Я, например, научился лечить то, что раньше казалось невозможным. Но главное, я знаю, как научить людей жить больше ста лет! — Ста лет? — переспросил Эвбулид, решив, что ослышался. — И даже больше! — кивнул Аристарх, и словно о чем-то само собой разумеющимся, спокойно добавил: — Я лично проживу до ста двадцати пяти лет. — Ста двадцати пяти?! — И ни годом меньше! — Живи уж тогда сразу до двуста! — улыбнулся Эвбулид, с сожалением подумав, что лекарь, наверное, надорвал свои мозги в библиотеках Александрии, Эпидавра и Фессалии. — До двуста не получится… — с серьезным видом покачал головой Аристарх. — Почему? — Потому что мой организм начал стареть с самого детства! «Ну это уж слишком! — с трудом погасил усмешку Эвбулид. — Не надо ему было, пожалуй, ездить еще на Родос и в Сирию… А может, он велик? Все великие ученые немножечко того… Мучил же Сократа день и ночь внутренний голос, говорят, он даже советовал каждому встречному внимательно прислушиваться к себе!» Аристарх взглянул на Эвбулида и пояснил: — Да-да, это правда! Я неправильно питался, хотя наш стол никогда не ломился от яств, мало двигался, совершенно не владел своим настроением. Даже не умел дышать! — Дышать?! — Эвбулид с жалостью посмотрел на Аристарха. — Правильно дышать! — уточнил тот. — Но я вижу, ты тоже не веришь мне. — Я, может бы, и поверил — только все это так непривычно! — признался Эвбулид и не удержал себя от насмешки: — И потом, как проверить, что ты доживешь до ста двадцати лет? — Ста двадцати пяти! — строго посмотрел на него Аристарх. — Меньше мне никак нельзя. Иначе я не успею сделать всего того, что задумал! — А что же ты задумал? — Когда я был в Александрии, — охотно принялся рассказывать Аристарх, — один молодой жрец храма Гермеса Трисмегиста поведал мне об удивительном жреце, прожившем сто пятьдесят лет! Этот старик ни с кем не хотел делиться секретом своего долгожительства. Он бы так и унес его с собой в могилу, если бы не молодой жрец. По приказанию базилевса Птолемея, он, рискуя жизнью, тайно следил за стариком. Изучал его зарядку, которую тот делал три раза в день, запоминал, какой водой обливается жрец, записывал все, что он ест, пьет, даже прислушивался, как он дышит! И в итоге научил всему этому Птолемея и… меня! Правда, базилевсу не пришлась по душе диета, он большой любитель поесть и выпить. А я с того часа день и ночь свято выполняю драгоценнейший рецепт долголетия! — А я когда увидел тебя за этим, то подумал, что ты сошел с ума от пережитого здесь ужаса! — улыбнулся Эвбулид. — Ты так чудно стоял посередине трюма: голова запрокинута, руки подняты, словно в них топор, все тело так и дрожит от напряжения! — Что делать… Надо терпеть, раз решил помочь людям! — вздохнул Аристарх. — Я ведь дал себе слово собрать воедино все познания ученых медиков, накопленные к сегодняшнему дню. Это бесценный опыт тысячелетий, который в нашем ужасном мире может быть потерян — сожжен или растоптан варварами — за считанные минуты! Особенно — опыт тех далеких времен, когда человек был неразрывен с природой. Это — и забытые, преданные забвению знания шумеров, египтян, индийцев, китайцев! Чтобы разыскать их в пыли библиотек и записать мне потребуется не меньше ста лет! Но зато я избавлю людей от опухолей, сердечных ударов, слепоты, глухоты. Я исцелю их от падучей и чахотки, воспаления легких и камней в печени, они навсегда забудут про ужасы чумы и тифа! А самое главное, — горячо заговорил Аристарх, ухватив за плечо Эвбулида, — на своем примере я докажу людям, что каждый из них может и должен жить в три, в пять, даже в десять раз дольше, чем он живет сейчас! Представляешь, как все разом изменится в мире… Как изменится сама земля! Ведь для того, чтобы долго жить, человек должен много трудиться, все время двигаться. Значит все — и цари, и торговцы, и судьи, и воины возьмутся за мотыгу, плуг, серп! Исчезнет надобность в рабах, потому что каждый будет стараться обрабатывать свое поле, ковать железо, изготавливать кувшины, ваять прекрасные статуи! У всех с утра до вечера на лицах будут сиять улыбки — мое обязательное условие долголетия! В каждом доме окажется вдоволь еды, потому что люди приучатся обходиться ее минимумом. Исчезнут войны, потому что не нужно будет воевать! Повсюду расцветут сады, зазеленеют огороды, пашни… Но главное — мир! Ни воинов, ни воров, ни судей, ни пиратов, — на всей земле радость и мир! Представляешь? — Нет… — покачал головой Эвбулид. — А я, бывает, закрою глаза — и вижу это! — признался Аристарх. — И это придает мне силы даже здесь, где царит жестокость и несправедливость, а люди мучаются и умирают, не прожив и десятой части того, что могли бы прожить! Он показал глазами на мертвого юношу, лежащего в центре трюма в позе, в которой его застала последняя боль. Еще раз окропил кожу Эвбулида из склянки и провел по ней кончиками пальцев: — Больно? — Печет… — Это твоя болезнь просится наружу! — объяснил Аристарх, поднимаясь. — Немного посиди без движения, а потом слегка встряхни головою. И будешь слышать даже шепот на палубе! — А ты куда? — Работать. Надо ведь кому-то приводить в чувство твоего «убийцу»! — Как? — опешил Эвбулид. — Ты станешь лечить сколота?! — Я лекарь! — невозмутимо заметил Аристарх. — И я должен помогать каждому, кто нуждается в моей помощи. Или тебе повторить клятву Гиппократа? 5. Ожидание Следуя наставлениям Аристарха, Эвбулид осторожно качнул головой. Звуки по-прежнему оставались приглушенными. «Обманул меня этот лекарь! — расстроился он. — Не вылечил, да и вообще… Слыханное ли дело — мир без воинов и судей! Без господ и рабов! А я и уши развесил, слушая про его сто двадцать пять лет, и что я буду различать даже шепот на палу…» Эвбулид недовольно качнул головой, и пелена с ушей спала так неожиданно, что он чуть было не вскрикнул. Звуки, один другого громче, сверху, сбоку, со всех сторон — ринулись на него. — Эй, Пакор, сколько еще можно ждать новую амфору? — отчетливо услышал он голос Аспиона на палубе. Другой голос, от которого сразу стало не по себе, лениво огрызнулся: — А я тут при чем? — При том, что ты теперь у нас надсмотрщик над рабами! Сходи поторопи этого неповоротливого фракийца! — Сам бы и сходил… — пробурчал Пакор. — А могу! — пообещал Аспион. — Но прежде пощекочу твой пьяный язык своим кинжалом! — Эй-эй, Аспион! — торопливо закричал пират. — Я же пошутил! По палубе прогрохотали тяжелые шаги. — И зачем я повез свои товары в Сирию? — вздохнул рядом купец Писикрат. — Первый раз попадаю в такое ужасное положение!.. — А я — шестой! — усмехнулся триерарх «Деметры». — Только ты тогда сможешь понять меня здесь… Убытки! Такие убытки… Отправился бы я лучше в Италию! — И попал бы в лапы не к этим, так к другим пиратам! — отрезал триерарх, и Эвбулид мысленно сравнил его с погибшим капитаном «Афродиты». «Отсиделся, небось, в трюме, пока погибал твой корабль!» — неприязненно решил он. В противоположном углу тихо переговаривались рабы и пленные гребцы. Эвбулид прислушался к ним. — А мне все равно, где сидеть за веслами: на «Деметре» или какой-нибудь понтийской «Беллоне», — равнодушно объяснял бородатый гет. — Везде одинаково! — Ты прав, — поддержал его худощавый пленник. — Лишь бы скорее подохнуть, чем так жить! — Не скажите! — на ломаном греческом возразил раб-африканец. — Одно дело плавать в теплом Внутреннем море, и совсем другое, если нас продадут на Эвксинский Понт! Говорят, — понизил он голос, — иногда там бывает так холодно, что волны превращаются в белый камень!.. — Этот камень у нас называют льдом, — подтвердил Лад, терпеливо снося перевязку, которую ему делал Аристарх. — На море он бывает очень редко. А на моей родине каждой зимой им покрыты все реки, и на землю ложится белая пыль, по-нашему: снег. Если бы только меня продали на Эвксинский Понт!.. — мечтательно вздохнул он. — Да спасут меня боги от этого! — в ужасе воскликнул африканец. — Перестань зря отвлекать богов! — проворчал триерарх. — Северные рынки переполнены своими рабами. Охота была нашим купцам тащиться туда задаром… Эти слова обрадовали африканца и разочаровали Лада. Сколот нахмурился и надолго замолчал, снова думая о побеге. Тем временем по палубе вновь прогрохотали тяжелые шаги и послышался удивленный голос Аспиона: — Пакор! Я что велел тебе принести? — Амфору с вином. — А ты что принес? — Не видишь — голову! — Чью? — Раба! Представляешь, он пил вино из нашей амфоры! Я спустился в трюм и застал его прямо за этим занятием! — Ай, как нехорошо! — Вот и я так подумал! Он и пикнуть не успел, как его голова распрощалась с телом! — под одобрительные возгласы пиратов похвастал Пакор. — Брось ее за борт, пусть похмелится морской водичкой! — посоветовал Аспион и, перекрывая дружный хохот, воскликнул: — Но, Пакор, так ты скоро разоришь нас! — Я?! — С тех пор, как ты стал надсмотрщиком за корабельными рабами, ни один из них не прожил больше трех дней! Еще месяц — и нам нечего будет предложить скупщику рабов! — А что я мог поделать? — огрызнулся Пакор. — Один оказался ленивым, другой — непонятливым, а этот, сам видишь, — вором. Не пойму, и как таких негодных рабов покупают господа? — Это уже не твоя забота! Учти — если новый раб снова покажется тебе ленивым или вором и проживет меньше недели, то ты либо заплатишь за него полную стоимость, либо сам будешь таскать амфоры! Эй, часовой! — закричал Аспион. — Давай сюда еще одного! Да смотри не трогай тех, за кого обещан выкуп! Иначе Посейдон мигом отправит нас на дно! И без того он что-то слишком размахался сегодня трезубцем… В трюме воцарилось напряженное молчание. Все с тревогой вслушивались в ворчание часового, который бесконечно долго возился с засовом, прежде чем открыть крышку. Наконец, она пронзительно заскрипела, откинулась, и в трюм ворвалось свежее дыхание штормящего моря. Стало совсем светло. Часовой не спеша спустился вниз. Низкий, коренастый, почти квадратный, он поморщился от спертого воздуха и подслеповато огляделся вокруг. Немного подумал и указал коротким пальцем на Писикрата: — Ты! — Я?! — в ужасе отшатнулся купец, закрываясь руками, как от удара. — Ты, ты! — ухмыльнулся пират. — За стариков скупщики платят нам столько, что тебя не жалко отдать Пакору. Ступай за мной! — Но я жду в-выкуп! — запинаясь, пролепетал Писикрат. — Пощади!.. Т-только ты один можешь понять меня здесь… — Ладно, жди! — бросил часовой, брезгливым жестом разрешая обмякшему купцу оставаться на своем месте. Обвел оценивающим взглядом остальных пленников и удивленно прищурился, увидев Аристарха. Оказав помощь Ладу, лекарь снова сидел на полу, скрестив под собой ноги. На его губах играла отсутствующая улыбка. — Что это с ним — сошел с ума? — нахмурился часовой. — Так за таких нам вообще ничего не платят! Эй, ты, — крикнул он Аристарху, — пошли со мной! Ни одна жилка не дрогнула на лице лекаря. Он был бесконечно далек от часового и устремивших на него взгляды пленников. Одни, кому он успел помочь, смотрели на него с сочувствием, другие — обрадованно, что не их отдают в жертву Пакору. Отрешившись от всего земного, Аристарх усилием воли погрузил себя в дремотное оцепенение, которому так долго учился у молодого египетского жреца Гермеса Трисмегиста. Он вызвал прекрасное настроение, чтобы сосуды и вены, эти главные дороги его жизни, не сузились от отчаяния и огорчений в едва различимые тропинки. Чтобы не оборвались они задолго до намеченного им самим срока. Ставка в его споре с самими Мойрами[72] была так высока, что он не мог позволить себе пребывать в плохом настроении даже в трюме пиратского корабля. У него никогда не было девушки, о которой он мог вспоминать в эти минуты. Он забыл, когда последний раз был в палестре, чтобы заново переживать захватывающие мгновения борьбы атлетов. Но мысли его, тем не менее, были легки и приятны. Аристарх видел себя сидящим в огромной зале Александрийской библиотеки. Служитель этого храма мудрости, ученый раб только что принес ему свиток древнейшего папируса. Желая продлить наслаждение от встречи с новым, неведомым ему знанием, Аристарх никак не решался развернуть папирус, разрешая себе лишь вдыхать его запах, впитавший пыль и едва уловимую горечь столетий. — Эй, ты! — теряя терпение, толкнул его часовой. — Я кому сказал пошли? Широкая улыбка еще больше раздвинула губы Аристарха: он начал разворачивать заветный свиток, радостно отмечая, что до его «пупа»[73] никак не меньше восьми метров. — Ах, так?! — вскричал пират, хватаясь за кривой македонский меч. — Оставь его! — вступился за Аристарха Эвбулид. — Это же лекарь! — Этот сумасшедший? — не поверил часовой. — Какой же он лекарь, если не может исцелить даже самого себя от безумия! — Он не сумасшедший! — возразил Эвбулид. — Он… — Тут он понял, что бесполезно рассказывать об Аристархе пирату, и быстро поправился: — За него вам тоже обещан выкуп! Или ты не боишься гнева Посейдона? Часовой сразу потерял интерес к Аристарху. Он гневно обернулся к Эвбулиду, но узнав в нем пленника, за которого привезут целых два таланта, шагнул дальше и показал пальцем на пожилого мужчину с измученным лицом: — Тогда ты! — Но я… — замялся мужчина. — Мы… — Я сказал — ты! Мужчина громко вздохнул, поднялся. И тут же вскочила сидевшая рядом с ним девушка, которую Эвбулид не заметил раньше. — Отец! — закричала она, хватая мужчину за руки. Глаза часового загорелись. Он оглядел девушку с ног до головы. — Ай, хороша! — причмокнул он языком. — Тоже выходи! — Отец! — умоляюще вскрикнула девушка. — Лучше убей меня! — Сначала я убью его! — мрачно пообещал мужчина, сжал кулаки и двинулся на пирата. Лицо его было искажено яростью. Часовой ошеломленно взглянул на пленника и отпрыгнул назад. Путаясь в складках персидского халата, выхватил меч. — Молись своим эллинским богам! — заорал он, замахиваясь на мужчину. — Скажи, что тоже ждешь выкуп! — быстро подсказал Эвбулид. — Иначе он убьет тебя! Мужчина бросил на него благодарный взгляд и закричал часовому: — Опусти меч! Или вы уже берете выкуп с мертвецов? — Как? — осклабился часовой. — За тебя тоже обещан выкуп? — Да. И немалый… — пробормотал мужчина. — А за нее? — И за нее! — заслонил своим плечом дочь пленник и уверенно добавил: — Еще больший, чем за меня! — Ай, какой богатый улов! — охотно вдел меч в ножны пират. — Что ни пленник — то выкуп! Оставайтесь! Кто тут у меня без выкупа? Ты! — ткнул он ногой гребца-африканца. — Вставай! Наверх! Живо!! Крышка трюма с грохотом захлопнулась. Наверху послышался звонкий щелчок бича, торопливое шлепанье босых ног по палубе и вслед за этим — скрип тяжелой однодонной амфоры, которую новый корабельный раб протащил к капитанскому помосту. Гогоча и перебивая друг друга, пираты возобновили попойку. — А он еще боялся попасть на Звксинский Понт!.. — вздохнул кто-то, из пленников, боясь по обычаю своего народа произносить вслух даже кличку африканца, словно речь уже шла о покойнике. — Эх, судьба наша такая! Знать, прогневили мы богов… — Правда… правда… — Что теперь с нами будет?.. — Эй, лекарь! — заглушая тихий говор рабов, окликнул Писикрат Аристарха, и когда тот подошел к нему, зачастил, хватая его за руку. — Только ты один можешь понять меня здесь… Мое сердце сейчас вырвется из груди! Помоги мне! Спаси меня! — Ничего страшного! — приложил ухо к груди купца Аристарх. — Это всего лишь от страха. Сейчас пройдет! — Ты… отказываешься помочь мне?! Я озолочу тебя! — Сейчас пройдет! — повторил Аристарх, вставая. — Прости, но меня ждут больные! Эвбулид проводил глазами направившегося в угол, к гребцам, лекаря, как вдруг чья-то рука тронула его локоть. — Спасибо… — услышал он, повернул голову и увидел пожилого пленника с выглядывающей из-за его плеча девушкой. На Эвбулида смотрели ее огромные, широко распахнутые глаза. — Если бы не ты, они бы сейчас уже издевались над ней… — Что я? — с горечью усмехнулся Эвбулид. — Если бы я действительно мог вам помочь… — Ты вовремя остановил меня! — возразил мужчина. — Чего б я добился? Часовой изрубил бы меня, а ее утащил наверх. И потом ты дал мне время, чтобы я мог теперь что-нибудь придумать, — добавил он и вздохнул: — Правда, для этого мне пришлось солгать впервые в жизни, да еще при дочери… — Ты афинянин? — Нет, я Дорофей из Мегары. — Так вот, Дорофей, что ты здесь можешь придумать… — Отец найдет выход! — сквозь слезы улыбнулась девушка. — Конечно! — обнял ее отец и объяснил Эвбулиду: — Наверное, нам не надо было уезжать… Но на Фасосе[74] заболел мой единственный брат. Как я мог не помочь ему? Сначала мы хотели добраться туда по суше, но нас испугал путь через Македонию с римскими гарнизонами. Да и набеги диких одрисов и фракийцев на прибрежные земли тоже смущали нас. Решили, что морем будет безопаснее. А оно вон как вышло! И зачем я только взял ее с собой? — сокрушенно покачал он головой. — Не надо так убиваться, отец! — прижалась к щеке Дорофея девушка, и они замерли так, словно прощаясь друг с другом. — Скажи! — вдруг с надеждой спросил Дорофей. — А твой раб не может опоздать? — Армен? — удивился Эвбулид. — Или вообще не вернуться сюда? Подумай, что ждет его здесь! Новый хозяин, а может, даже рудники, где он не проживет и дня! — Армен опоздает или не вернется?! Никогда! — Тогда нам осталось всего несколько часов!.. — вздохнул Дорофей. — Несколько часов… — эхом отозвалась его дочь, и они снова замолчали. Эвбулид прислонился спиной к прохладным доскам трюма и, слушая, как бьются в них волны, в который раз поблагодарил богов за то, что они в свое время послали ему такого раба, как Армен. Ну за кого бы еще он смог поручиться сейчас с такой уверенностью? Даже сама мысль, что Армен может предать, бросить его казалась ему кощунственной и невероятной. Нет, безусловно, Армен самый лучший из всех рабов на земле, думал Эвбулид, и как жаль, что судьба так жестоко обошлась именно с ним. Всего пять лет назад Армен был выносливым и крепким, несмотря на уже пожилой возраст, рабом. А его умение понять состояние хозяина всегда поражало Эвбулида. Приглашая к себе гостей, он стыдился, что в его доме всего лишь один раб и, опасаясь насмешек, пускал пыль в глаза, называя Армена разными именами. Гости только и слышали: — Перс, подай вина! Гет, замени нам венки! Сард, холодной воды сюда! Армен каждый раз охотно принимал эту игру, всегда откликался на чужое имя. Если подвыпивший гость принимал хитрость хозяина за чистую монету и выражал восхищение большим количеством таких прекрасных рабов, радости Эвбулида не было границ. Тогда он дарил Армену в знак признательности мелкую монетку. Раб долго благодарил его и уносил подарок в свой заветный тайник под лежанкой. А когда наступал новый званый ужин, с еще большей готовностью откликался на Сирийца и Фрака, Тавра и Сарда… Тот, кто не знал Армена, решил бы, что раб старается ради новой подачки. Но Эвбулид чувствовал, что Армен выполняет все его прихоти совсем не из-за денег… И надо же было Фемистоклу пять лет назад натолкнуться на больного раба, выброшенного на улицу умирать! Добрый, отзывчивый к любой беде Фемистокл, конечно же, подобрал его, выходил, дал новую одежду и кров. Но разве можно что-нибудь утаить в Афинах! Хозяин раба вскоре узнал обо всем и обвинил Фемистокла в укрывательстве чужого раба и в том, что он обращался с ним, как с равным. Дело дошло до суда, на котором Фемистокл вместо того, чтобы оправдываться, как это сделали бы другие, обвинил хозяина в бессердечном отношении к человеку. Судья заметил, что противозаконно называть раба человеком, предупредил Фемистокла, чтобы тот в дальнейшем называл его просто «телом». И тогда Фемистокл высказал все, что поверял лишь ему, когда они вдвоем спорили о рабстве. Этим он вызвал гнев судьи и топот многочисленных зрителей, переполнивших здание суда. — Вы слышите — он предлагает нам, свободным, жить без рабов! — кричал истец. — А кто же тогда станет чистить улицы, давить из винограда вино, пасти скот, ковать мечи?! — Чтобы с их помощью захватывать в плен и превращать в рабов новых несчастных людей? — возразил Фемистокл, и рев голосов заглушил его остальные слова. — Он опять называет рабов людьми! — Боги разделили людей на рабов и свободных, и не тебе, безумец, нарушать установленный ими порядок! — кричали одни. — Если ему не нравится у нас, в Афинах, пусть убирается и ищет страну или хотя бы город, где нет рабства! — предлагали другие. — Только сначала пускай заплатит мне за укрывательство раба! — громче всех требовал истец. Суд потребовал показаний от Эвбулида. Но он отказался давать их против своего друга. Тогда истец потребовал на допрос Армена, который всегда сопровождал его в гости к Фемистоклу. И вот тут он дрогнул, чего не мог простить себе до сих пор. Зная, что по закону рабы дают показания только под пыткой, он не посмел отказать суду и жадным до кровавых зрелищ афинским зевакам. Ну что он мог поделать, если граждан, отказавшихся дать на пытку своего раба, суд, бывало, признавал соучастниками, а то и виновными в преступлениях, которых они не совершали… Вопреки обычаю он, разумеется, не пошел на пытку своего раба. И только со слов зашедшего попрощаться Фемистокла узнал все подробности. Оказалось, что Армен, обливаясь кровью, говорил совсем не то, чего добивался истец. Ему выкручивали руки, ломали ребра, бросали на битое стекло, забрасывали кирпичами, а он твердил: — Не видел… ни разу не слышал… клянусь, этот господин обращался с рабом, как положено… И только когда взбешенный обвинитель забил ему рот и нос кусками мела и стал поливать этот мел уксусом, Армен, задыхаясь от ядовитого газа, сжигавшего ему легкие, выдавил нужные суду слова. И вот итог: Фемистокл с позором был изгнан из Афин, Эвбулид получил от истца за увечья раба несколько десятков драхм, а Армен вскоре превратился в немощного раба, доживающего в муках свои дни… — Лекаря! — оборвал ход его мыслей крик из угла. — Растолкайте лекаря! Еще один умирает… Очнувшийся Аристарх поспешил на зов, поднял руку гребца, раненного стрелой в грудь и бережно опустил ее. — Мойра Атропа обрезала нить его жизни! — сообщил он притихшим пленникам. Вздохнув, Эвбулид посмотрел в сторону сколотов и похолодел. Его бывшие рабы о чем-то шептались между собой, глядя то на двух мертвецов, то на него. «Это они обо мне! — со страхом подумал Эвбулид. — Они хотят убить меня! Эх, Аристарх, Аристарх! И зачем ты вернул силы этому чудовищу!..» Но он ошибался. Сколотам было не до Эвбулида. Они договаривались о побеге. — Трусливые эллины не помощники нам! — убежденно доказывал Лад. — Они ждут выкупа. И гребцы так напуганы, что сразу не пойдут за нами. Им все равно, где грести! Рабские души… Будем надеяться только на себя! — Лепо, лепо! — кивали сколоты. — Нам нечего терять! Нас все равно не повезут на Понт Эвксинский! — распалялся Лад. — Отберем у морских татей их кривые мечи и проверим, так ли крепки их шеи! — Они изрубят нас прежде, чем мы доберемся до этих мечей! — шепнул один из сколотов. — Я думал об этом, Драга! — кивнул Лад. — И вот что надумал: эти мертвые станут нашими щитами! Как только часовой прикажет вынести их наверх, мы будем самыми послушными и терпеливыми! Мы понесем эти тела! Но как только окажемся на палубе, прикроемся ими и бросимся на часового! Отберем у него меч! Отберем оружие у всех, кто придет к нему на помощь! А когда у нас будет много мечей, нам помогут гребцы! И мы захватим этот корабль! — Лепо, Лад, лепо! — Мы заставим главного татя отвести нас до Понта Эвксинского! — Лепо… — И даже дальше — вверх по Борисфену![75] — Лепо, лепо!! — Ты готов, Драга? — Конечно. — А ты, Дивий? Вместо ответа косматый, заросший почти до глаз бородой сколот согласно положил свою ладонь на руку Лада. — Мы еще увидим лед на наших реках и снега на селах![76] — мечтательно улыбнулся тот и предупредил: — А пока лежим и набираемся сил! Чую, они скоро нам понадобятся!.. Сколоты затихли. Тревожно поглядывал на них Эвбулид. Дорофей с дочерью по-прежнему сидели прижавшись друг к другу. В трюме надолго воцарилось тягостное, нарушаемое лишь стонами и горестными вздохами, молчание. Каждый думал о своей судьбе, о том, что ждет его через день и даже через час в этом страшном, безжалостном мире. Только наверху по-прежнему веселились пираты, да время от времени билась о борт волна — вечная, как это затянувшееся ожидание, скиталица бескрайних морей.  Конец второй части ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  1. Мессана Незадолго до рассвета ведомые Фемистоклом рабы подошли к окрестностям Мессаны. Когда они миновали заброшенные поля со следами пепелищ на месте богатых вилл, первые лучи солнца уже высветили полуразрушенные стены крепости большого портового города на самой границе между Сицилией и Италией. — У вас есть даже тараны? — уважительно спросил Клеобул, показывая Фемистоклу на целые проемы в крепостных стенах. — Нет! В этом нам помогли сами римляне. — Римляне?! — Они были так самонадеянны после победы над Карфагеном, что не укрепили стены здешних городов! — объяснил Фемистокл. — Разве они могли подумать, что соседняя провинция, которой они привыкли пользоваться с таким удобством, станет когда-нибудь театром войны? — Поэтому вы так быстро овладели почти всей Сицилией? — Да, и еще благодаря тому, что римское войско совершенно разложилось в этих теплых и сытых краях! — Ты забыл, что мы победили только благодаря великой мудрости нашего славного Антиоха! — воскликнул подъехавший Серапион. — Конечно! — одними губами усмехнулся Фемистокл. — Без его молитв и небесных знамений мы не взяли бы ни одного города с развалинами вместо стен, где против нас стояли разучившиеся держать мечи легионеры! Серапион злорадно сверкнул глазами и прикрикнул на плетущихся позади рабов: — А ну поторопись, иначе пропустите самое интересное! — Штурм? — воскликнул Фрак, прибавляя шагу. — Как бы я хотел подождать здесь, пока закончится эта бойня! — признался Клеобул, с ужасом глядя на стены крепости, усеянные фигурками обреченных мессанийцев. — И ваш сириец может еще называть это интересным?! — Серапион имел в виду не сам штурм, а то, что у нас предшествует его началу, — усмехнулся Фемистокл. — Евн называет это — нагнать побольше страха на осажденных и придать мужества и ярости своим воинам! Он дает перед каждым штурмом настоящий спектакль! — пояснил он недоуменному Клеобулу. — Он еще и держит актеров?! — В этом спектакле действующие лица — сами рабы! Кстати, Евн тоже принимает в нем участие! — Как? Сам Евн?! — О-о! — протянул Фемистокл. — Это самый талантливый актер из всех, кого я видел когда-либо на сцене и в жизни. Никто лучше его не знает, когда надо надевать комическую маску, а когда — трагическую, ни разу не видел я его самим собой. Впрочем, скоро ты сам сможешь оценить это его непревзойденное качество. Но для этого нам нужно поспешить — Евн не любит затягивать со штурмом! Словно в подтверждение его словам, все пространство перед осажденной крепостью начало приходить в движение. Лагерь рабов просыпался, в небо прямыми столбами поднялся дым от множества костров. Подслушавшему разговор греков Проту было интересно увидеть в роли актера самого царя. Он спрыгнул с повозки, догнал размашисто шагающего Фрака и, стараясь не отставать от этого сильного и мужественного человека, во все глаза смотрел на огромное скопище рабов. Сколько же их тут было: тысяча? Сто тысяч? Миллион?! Казалось, рабы всего мира стеклись сюда, чтобы расплатиться со своими господами за свои муки и унижения. Поравнявшись с лагерем рабов, Прот не переставал изумляться богатым нарядам и дорогому оружию подданных Евна-Антиоха. Проходя мимо одного из костров, он заглянул в глиняную миску воина и восторженно покачал головой, увидев в ней мясо. Фемистокл вел их в самый центр разноязыкой, шумной массы людей. У высокого костра из ярких тканей, в котором могла бы легко уместиться целая сотня воинов, он приказал подождать его и исчез за пологом. Пропустившие члена Совета часовые вновь скрестили длинные копья и встали у входа с самым воинственным видом. Прот подивился огромному росту этих людей, звериным шкурам, в которые они были одеты, и свирепым лицам. Вскоре полог шатра распахнулся, и появился Фемистокл, а следом за ним еще несколько незнакомых людей. — Ахей! — почтительно восклицали у костров. — Клеон!.. — Армананд! Наконец, вышел невысокий худощавый человек с аспидно-черными глазами и остро торчащей бородой. Одет он был в пурпурную мантию. Голову его украшала царская диадема, подвязки которой спадали на плечи. Его появление вызвало бурю восторга во всем лагере. Давя друг друга, воины бросились к шатру, но вокруг худощавого человека встали выросшие словно из-под земли охранники в звериных шкурах. «Сам Антиох!» — понял Прот и услышал торопливый окрик Серапиона: — Падайте ниц! Перед вами — наш обожаемый базилевс, да живет он вечно! Два беглеца-сирийца привыкшие к подобным почестям царям у себя на родине, рухнули, как подкошенные. Прот неловко опустился на колени, замешкался с непривычки. Евн метнул на него стремительный взгляд, и Прота словно огнем обожгло с головы до самых пяток. Глаза царя были такими пронзительными, что он крепко зажмурился и повалился на землю, вжимаясь лбом в колючие, пахнущие дымом костров, травы. — Клеобул, пересиль себя! — услышал он шепот Фемистокла. — Так надо… Прот осторожно скосил глаза и увидел, как медленно опускается на землю Клеобул. — Да живет вечно наш великий и могущественный базилевс Антиох! — закричал Серапион, и все вокруг подхватили: — Антиох! Антиох! — Живи вечно! Вскоре над лагерем поднялся такой мощный рев, что Проту казалось — еще немного, и не выдержат уши. Он чувствовал себя песчинкой в этом грохочущем, как тысяча громов, мире. Больше всего на свете ему захотелось забиться в какую-нибудь щель, чтобы его не оглушила, не смяла эта масса людей, восторженно ревущая: — Ан-ти-ох! Ан-ти-ох!! — Жи-ви!! Жи-ви!!! Едва шум поутих, и только в отдаленных концах лагеря продолжали бесноваться сирийцы, Евн неожиданно высоким, срывающимся голосом обратился к Фемистоклу: — Почему ты так долго выполнял мое поручение? — Все гавани Сицилии заброшены, — сдержанно поклонился царю Фемистокл. — Мне пришлось бы ждать еще дольше, если бы к берегу не причалил парусник с беглыми рабами. — Значит, ты отправил согласно моему милостивому повелению добрых господ на родину? — громко, чтобы слышали все, спросил Евн. — Да, божественный! — ответил за Фемистокла Серапион. Подбежал к Евну, опустился перед ним на колени и поцеловал край пурпурной мантии. — Бесконечно благодарные твоей царской милости сицилийцы уже находятся на полпути к Риму! Евн с одобрением посмотрел на услужливо выгнутую спину подданного и с деланным удивлением спросил: — Неужели даже сицилийцы признают, что я милостивый базилевс? — Да! — торопливо воскликнул Серапион. — Конечно! — Они сами сказали тебе об этом? Серапион замялся. Фемистокл с усмешкой ответил за него: — Это было написано на их лицах, базилевс! Евн метнул быстрый взгляд в сторону грека и добродушно прищурился: — Вот и расскажи об этом Совету. Подумайте, — голос его неожиданно стал мягким, вкрадчивым, — не пора ли вашему базилевсу носить титул милостивого, то есть — Эвергета, раз это признают даже злейшие его враги? Ведь носят же такой титул его царственные братья — понтийский царь Митридат и сирийский Антиох! Или они более достойны этого? — Слушаюсь, базилевс, — вновь поклонился Фемистокл. — Я сообщу это твое пожелание Сове… Он не договорил. Вскочивший с колен Серапион, воздел над головой руки и завопил: — Нет границ милостям нашего обожаемого Антиоха Эвергета! Да живет вечно базилевс Антиох Эвергет!! — Эвергет! Эвергет! — тут же откликнулись восторженные голоса, и вся масса людей, потрясая оружием, снова заревела: — Эвергет! Эвергет! — Жи-ви!.. Жи-ви!.. — Можешь передать Совету и это пожелание народа! — улыбнулся Евн, не сводя глаз с Фемистокла и пальцем подозвал к себе Серапиона. — А тебя, мой верный Серапион, отныне я назначаю своим другом[77] и… комендантом Тавромения, моей столицы! — О, мудрый, о великий! — повалился на землю, целуя ее перед ногами царя, Серапион. — А как же Деметрий? — воскликнул опешивший Фемистокл. — Где он?! — Увы! — вздохнул Евн, обводя печальным взглядом воинов. — Наша жизнь так недолговечна… Опасности подстерегают нас на каждом шагу! — Что ты хочешь этим сказать? — подался вперед Фемистокл, чувствуя, как из-под его ног ускользает твердая почва. — То, что Деметрия больше нет! — со скорбным лицом произнес царь. — Прошлой ночью, пока ты был в отлучке, проклятые мессанийцы совершили дерзкую вылазку. Они хотели убить меня… Но по ошибке приняли шатер Деметрия за мой — и изрубили его на мелкие куски. Вот так! — показал он ребром ладони, как рубят ножом мясо и погрозил кулаком в сторону крепости. — Но они жестоко поплатятся за это! — Сама Астарта[78] спасла нашего дорогого базилевса от неминуемой смерти и отвела от него мечи проклятых господ! — завопил Серапион, снова поднимая руки к небу. «Знаю я, негодяй, что ты сделал с Деметрием!» — чуть было не закричал Фемистокл. Он с трудом подавил в себе желание кинуться на Евна, вцепиться в ненавистную бороденку. — Шут! Мясник проклятый!» Шатер царя действительно был рядом с шатром Деметрия, но разве можно было их перепутать? «И как мессанийцы могли пройти через семь рядов охранения?! — лихорадочно думал Фемистокл. — Нет, не мессанийцы, а ты, ты убил его! Еще ведь и пытал наверняка! Деметрий, конечно же, не сказал тебе ничего. Но где гарантия, что промолчат остальные? Надо спешить! Надо провести в Совет взамен Деметрия Клеобула!..» Фемистокл сделал шаг к царю и показал на лежащих рабов: — Базилевс! Взгляни на этих несчастных! — Кто они? — приподнял бровь Евн. — Не оказавшие мне поддержки рабы из Катаны? Если это так, то можешь их сделать собственными рабами! Ведь, насколько мне известно, у тебя нет ни одного личного раба! — Они из самого Рима, базилевс! — показал рукой в сторону Италии Фемистокл. — Даруй им свободу! Услышав, что речь зашла о них, рабы поползли вперед. Протягивая руки к царю, показывая следы побоев и ран, они принялись умолять: — О, великий, даруй нам свободу! — Прими нас в свое войско! — Вели накормить и одеть нас, базилевс! — О, великий! — тоже воскликнул Прот, приподнял голову и, увидев на щеке царя аккуратное клеймо, снова зажмурился и упал на землю. — Так значит, обо мне знают и в Риме! — самодовольная улыбка тронула губы Евна. — Слух о тебе уже пронесся по всему миру! — вскричал Серапион. — Все униженные и обездоленные Ойкумены почитают тебя за бога! И я поражен твоей скромностью! Как можешь ты довольствоваться каким-то титулом Эвергета?! Божественный — вот как следует называть тебя! Евн приветливо улыбнулся Серапиону, и Фемистокл шепнул Клеобулу: — Можно подумать, что этот лизоблюд лишь вчера вернулся из Сирии или Пергама! — Ну что ж, — благодушно заметил Евн. — Пожалуй, я дам этим несчастным свобо… А о чем это ты шепчешься с рабом? — вдруг подозрительно спросил он, обрывая себя на полуслове. — Я… посоветовал своему земляку подползти к тебе ближе и поблагодарить за дарованную ему свободу! — быстро нашелся Фемистокл. — Они шептались всю дорогу сюда! — наклонившись к уху царя, сообщил Серапион. — И Фемистокл утверждал, что мы разбили сицилийцев только благодаря беспечности римлян! Евн нахмурился, но тут же с улыбкой обратился к Фемистоклу: — Как, в Сицилии появился еще один твой земляк? — Да, господин! — сделал попытку встать Клеобул, но подскочивший Серапион ногой удержал его. — И тоже из Афин? — продолжил расспрос Евн. — Да! — Значит — еще один Афиней! — заметил Евн. — Ай-ай, какая у тебя радость! — Базилевс! — воскликнул Фемистокл. — Он уже не Афиней! Его зовут Клеобул! — Клеобул — имя свободного человека. А я пока вижу перед собой раба! — выделяя каждое слово проговорил Евн. — Или ты забыл, что Клеобулом он станет только тогда, когда делом докажет свою преданность нам? Чем он лучше моих славных воинов, которые заслужили это право кровью и ранами в боях с господами? — Ничем! — закричали окружавшие Евна сирийцы. — Пусть тоже завоюет это право! — Пускай его свяжет с нами кровавая клятва! — Вот видишь, Фемистокл, — кивая на них, улыбнулся Евн. — Твой земляк пока для всех нас всего лишь раб из Афин — Афиней! Верно я говорю? Сирийцы одобрительно загудели. — Базилевс! — перекрывая шум, сделал еще один шаг к царю Фемистокл. — Разве пять моих ран, полученных в сражениях под Энной, Тавромением, Сиракузами, разве то, что я с первого дня восстания являюсь членом Совета не дает мне право просить тебя и надеяться на снисхождение?! Дай свободу этим людям! Ведь это не катанские и мессанийские рабы, а беглецы из самого Рима. Уже одним этим они доказали тебе свою преданность! Ты же ведь сам только что сказал, что даешь этим несчастным… — …возможность стать свободными! — торопливо докончил за Фемистокла Евн и поднял вверх палец: — Возможность! И, клянусь Астартой, она представится им сегодня! Сейчас!! А из Рима они или из твоей Греции — мне безразлично! Мои законы едины для всех! И я не доволен, — голос его сорвался, — что член моего Совета забывается настолько, что позволяет себе называть рабов людьми. 2. Штурм Через полчаса, как и обещал Евн, все было готово к штурму. Разбитая на тысячи, сотни и десятки армия рабов, ощетинясь обнаженными мечами, пиками и копьями, сверкая римскими щитами, вытянулась на всем протяжении стен Мессаны. Прот попал в декурию к угрюмому бородачу испанцу. Чувствуя рядом напряженное плечо Фрака, он благодарил Афину за то, что она не разлучила его с этим умелым воином, и до боли в пальцах сжимал выданный ему короткий римский меч. «Ну что же они медлят! — клял он разъезжавших на горячих лошадях тысячников, позабыв про обещанный Фемистоклом спектакль, в котором играет сам царь. — Так мы не возьмем этой Мессаны и до вечера!» Неожиданно по рядам воинов пронесся гул, взгляды всех устремились вправо. Прот повернул голову и увидел, как от царского шатра отделилась высокая — в два человеческих роста — фигура, одетая в грубый хитон раба. Прыгающей походкой великан не спеша прошел перед строем и остановился перед центральной башней крепости, не доходя до нее на полет стрелы. — Эй, вы, господа Мессаны! — громко крикнул он, и Прот сразу узнал этот, срывающийся на самых высоких нотах, голос. — Хорошо ли вам слышно меня? А?! Что ж вы тогда не требуете, чтобы я, раб, кланялся вам? Почему не прикажете схватить меня и отдать на пытку?! По строю пронесся смех, усиливающийся с каждой минутой. Великан повернулся к армии, и Прот увидел, что это, действительно, сам Евн, только стоящий на высоких ходулях. Царь снова обратил свое лицо к Мессане и закричал еще громче: — Ну, что же вы? Вот он я, берите меня! Бейте, пытайте! О-о, вы большие мастера этого! Идите же ко мне! — издевался он над приготовившимися к своему последнему часу защитниками крепости. — Ведь вы, кажется, называете нас беглецами? О, нет, господа! Ошибаетесь! Это вы теперь, а не мы беглецы! Вы, а не мы убежали в свою жалкую крепость, которая через полчаса будет наша! Вы скрылись от нашей мести, как трусливый заяц, которого изображаете на своих монетах! Несколько стрел прочертили воздух и бессильно ткнулись в землю в нескольких шагах от Евна. Царь презрительно плюнул в их сторону, сделал рукой неприличный жест, но в этот момент новая стрела, пущенная умелой рукой, очевидно, из тугого скифского или парфянского лука, упала прямо к его ногам. Чудом не падая с ходулей, Евн проворно отшагнул назад и погрозил крепости кулаком: — Не нравится? Погодите, сейчас мы еще вам наглядно покажем, что привело вас к бесславной гибели! — пообещал он и сделал знак людям, стоящим у царского шатра. Стена воинов расступилась. Вперед вывели богато одетого римлянина. Подталкиваемый в спину остриями пик, он вышел на середину склона и стал затравленно озираться вокруг. На стенах Мессаны послышались возгласы негодования — осажденные узнали в пленнике рабов одного из самых знатных и богатых жителей Мессаны — Марка Минуция, отъехавшего неделю назад за помощью в Катану. — Эписодий первый! — прокричал Евн, делая новый знак, и на «сцену» выбежали два совершенно голых раба. — К Дамофилу из Энны подходят рабы Зевксис и Гермий. Они умоляют своего господина, чтобы он дал им поесть и выдал хоть какую-нибудь одежду! Рабы бросились к бледному Минуцию. Кривляясь и извиваясь телами, они принялись упрашивать его, красноречиво показывая, что голодны и замерзли без хитонов. — Роль Дамофила по причине его смерти исполняет небезызвестный вам Марк Минуций! — под дикий хохот своего войска сообщил мессанийцам Евн. — Просим господ зрителей извинить нас за такую вольность. Но для нас, что Дамофил, что Минуций — все равно! Зато Зевксис и Гермий самые что ни на есть настоящие! — заверил он. Услышав свои имена, рабы бросились на землю и стали биться лбами перед калигами насмерть перепуганного мессанийца. Прот хохотал вместе со всеми, наблюдая за невиданным представлением. Стоящий рядом Фрак смеялся гулко и отрывисто, точно бил в большой бубен. — Ничего в жизни не видел более смешного! — то и дело повторял он, утирая слезы. На склоне тем временем произошла небольшая заминка. Минуций опустил голову и никак не соглашался делать то, что вполголоса требовал от него Евн. Тогда царь не выдержал, дал знак воинам, которые вывели Минуция. Один из них подбежал к пленнику и так кольнул пикой, что из-под лопатки брызнула кровь. Мессаниец вскрикнул и покорно взмахнул рукой так, словно бил кого-то плетью. — Это он говорит Зевксису и Гермию: «Что же, разве путешественники ездят голыми по Сицилии и не дают готового снабжения тем, кто нуждается в пище и одежде?» — громко пояснил Евн. — И приказывает привязать их к столбу и подвергнуть бичеванию! Единый стон пронесся по двухсоттысячному войску. Пока переодетые в надсмотрщиков рабы привязывали Зевксиса и Гермия к столбу, справа и слева от Прота послышались негодующие крики: — Проклятые господа! Так оно все и было!.. — Не кормили, не одевали нас!.. — Попробуй только заикнись, что ты голоден или замерз — сразу поведут к такому столбу! — Если не бросят в яму гнить заживо!.. — Смерть им всем, как Дамофилу! — Смерь! — Смерть… — прошептал Прот, думая о Луцие и тоже невольно сжимая кулаки. Привязав рабов к столбу, «надсмотрщики» взялись за длинные сыромятные бичи. Прот ожидал, что удары будут легкие, только для виду. Но бичи засвистели по-настоящему. И крик Гермия, а затем и вопль Зевксиса были самыми неподдельными. — Так, так! — услышал вдруг Прот в наступившей мертвой тишине тихий голос Евна. — Сильнее! Еще сильнее! А вы терпите, терпите! Озолочу каждого!.. — И-и… Эх-х! — тяжелый бич опустился на спину дернувшегося от боли Зевксиса. — А-аа-ах! — тут же отозвался другой «надсмотрщик», с силой ударяя Гермия. Войско Евна напряженно молчало. Прот покосился по сторонам и увидел, как изменились совсем еще недавно веселые, смеющиеся лица бывших рабов. Все они были искривлены гримасами боли, ужаса, каждый словно заново переживал страшные годы своего рабства, когда такие свистящие удары сыпались на них ежечасно… — И-и… Эх-х! — А-аа-ах!! Голова Зевксиса вскинулась и безвольно упала на грудь. Гермий, продолжая вздрагивать от ударов, истошно завопил, чтобы ему поскорее дали разделаться с «Дамофилом». Ломая строй, самые горячие воины рванулись вперед, еще мгновение — и вся масса людей хлынула бы на крепость, но Евн властным голосом остановил их: — Эписодий второй! Ваш царь Антиох Эвергет, бывший домашний раб Антигена, дает благословение своим сирийцам на начало восстания! Из задних рядов тут же выбежали и обступили царя одетые в лохмотья люди. Их было не меньше трех сотен. Прот сразу же узнал Фемистокла, который старался держаться в стороне, и льнувшего к Евну Серапиона. Упав на колени, эти люди, переодетые в рабов, стали умолять высившегося над ними царя узнать волю богов. «Надсмотрщики» отвязали от столба рабов, привели в чувство Зевксиса. Шатаясь, избитые подошли к заговорщикам и, плача, стали рассказывать, как жестоко поступил с ними Дамофил. Евн-Антиох, внимательно выслушал их, горестно покачал головой и запрокинул лицо к небу. — О, великая Астарта! — пронзительно закричал он. — Ты всегда приходишь ко мне и советуешь, как поступить в трудную минуту! Ты и только ты явилась ко мне и предсказала, что я стану царем! О, Астарта, я вновь, как в тот день вижу, слышу тебя! О, великая! Евн закрыл лицо руками, и вдруг целый столб пламени вырвался у него изо рта. Вопль изумления и восторга пронесся над строем сирийцев. Войско, как по команде, сделало несколько шагов вперед. Замерло в горящем нетерпении. Прикажи им Евн в эту минуту броситься со скалы в море или шагнуть в огонь — и вся армия последовала бы его приказу. — Мы хотели поступить с Дамофилом по закону! — насладившись видом своих подданых, вновь закричал Евн. — Мы хотели привести его в театр Энны и предать суду! Но Зевксис и Гермий не смогли уже ждать этого! Они назвали Дамофила обманщиком и… убили его! — сделал знак Евн, и двум рабам незаметно передали оружие. — Один вонзил ему меч в бок, другой разрубил топором шею! Зевксис с Гермием бросились к Марку Минуцию, едва успевшему, по римскому обычаю, закрыть перед смертью лицо полой тоги. Сверкнули в воздухе топор и меч. Голова обливающегося кровью мессанийца покатилась по траве… Радостный рев пронесся над склоном, заглушая крики отчаяния начавших уже прощаться друг с другом защитников крепости. — И так будет со всеми, кто мучил и убивал нас, когда мы были рабами! — прокричал Евн. — Так было со всеми господами Энны и Тавромения, Акраганта и Катаны! Теперь настала ваша очередь, проклятые господа Мессаны! Молитесь скорее вашим латинским богам, все равно наша Астарта сильнее их, и ничто, ничто не спасет вас от ее справедливого гнева! Астарта! Слышишь ли ты меня?! — проревел Евн и, выждав минуту, воздел к небу руки. — Слышит!! И она призывает вас, мои доблестные сирийцы: жгите, насилуйте, рвите зубами теплое мясо своих бывших господ, насытьте свои истерзанные тела и сердца сладостной местью!! Новый столб пламени вырвался изо рта царя. Он шагнул к крепости, как бы призывая следовать за собой всю свою армию: — Залейте потоками крови улицы этого города! Вперед, вперед, мои непобедимые сирийцы!! Голос Евна сорвался, утонул в гуле воинственных криков рванувшейся вперед армии. Прот бежал вместе со всеми, потрясая мечом. Он боялся только одного — чтобы его не раздавили в этой толпе, страшился споткнуться и упасть. Несколько стрел пролетело над его головой. Где-то сбоку, сзади послышались крики и проклятья, и тут же, захлебнувшись, умолкли. Прот ни на секунду не упускал из виду бежавшего рядом Фрака. Бывший гладиатор, экономя силы, бежал молча, прижимая к груди длинный сарматский меч. «С таким не пропадешь!» — восторженно подумал Прот и пригнулся, услышав свист стрелы, от которого зашевелились волосы на макушке. — О, Астарта!.. — послышалось сзади. Прот повернул голову и краем глаза увидел, как, взмахнув руками, упал и исчез под ногами бегущих следовавший за ним воин. Самые быстрые воины уже достигли стен Мессаны. Прикрываясь щитами от летящих сверху камней и копий, они стали карабкаться наверх по приставленным длинным лестницам и просто по выступающим камням полуразрушенных стен. Прячась за могучей спиной Фрака, Прот тоже ступил на шаткую лестницу и, призывая на помощь всех известных ему богов, называя их то греческими, то латинскими именами, ступенька за ступенькой стал подниматься наверх. Дико прокричал, падая с высоты один воин, за ним, едва не увлекая за собой Прота, другой… — О, Минерва! Афина! О, великий Юпитер! Зевс!.. Не дайте мне умереть!.. Не дайте мне упасть с такой высоты!.. — воскликнул Прот, замешкался, но его тут же подтолкнули снизу взбиравшиеся за ним рабы. Когда уже казалось, что не будет конца этой проклятой лестнице, спина Фрака вдруг дернулась, переломилась в пояснице; бывший гладиатор торжествующе заревел и провалился куда-то вперед. Прот поднялся еще на несколько ступенек и с радостью увидел перед собой верхний край стены! Он проворно спрыгнул вниз, на площадку. Озираясь, выставил перед собой меч. Но сопротивление мессанийцев на этом участке было уже сломлено. Кругом лежали только трупы рабов и защитников крепости. Многие из господ были обезглавлены, у каждого не было кисти или всей руки. Прот увидел, как мелькнула в проулке широкая спина Фрака, рванулся следом. Здесь, к его разочарованию, бой тоже угас, и ему встретились лишь мессанийские рабы с белыми тряпками в зубах. Они умоляли Прота дать им меч, чтобы рассчитаться со своими господами. Прот отмахнулся от них и побежал дальше, чуть не плача от того, что нигде не видно господ. Наконец в конце следующей улицы он увидел прислонившегося к стене дома раненного богача. Подскочив к нему, замахнулся мечом, но мессаниец ловко отвел удар в сторону и в свою очередь попытался достать острием своего меча до груди Прота. Прот вскрикнул, сделал шаг назад, прикидывая, как бы половчее броситься на истекавшего кровью мессанийца, но в это мгновение из-за его спины вылетел разъяренный Фрак. Страшным ударом он напополам разрубил тяжело осевшее на пыльную землю тело. — Забирай себе его руку! — крикнул бывший гладиатор, показывая мечом на лежащего господина. — А ты? — обрадовался Прот и, не заставляя себя долго упрашивать, словно кусок говядины отсек руку до самого плеча. — У меня уже есть! Целых две! — похвастался Фрак. — Но это еще не все! И побежал дальше, высмотрев новую жертву. Прот привязал к поясу руку убитого. «Свободен! Теперь — свободен!» — с облегчением подумал он и заметил бредущего мимо Клеобула. — Эй! — окликнул он грека. — Иди сюда! Услышав знакомый голос, Клеобул обрадованно шагнул к Проту, но тут же остановился, увидев обезображенное тело. «Ох, уж эти мне эллины!» — подумал Прот и кивнул на то, что еще минуту назад было грозным врагом: — Отрезай побыстрей вторую руку или голову — и ты свободен! — Н-не могу! — отвернулся Клеобул. — Как! Ты не хочешь получить свободу?! — поразился Прот. — Хочу, но… — Так давай помогу! — Нет! — воскликнул грек. — Не надо!! — Как хочешь! — пожал плечами Прот, опуская меч. С трудом он дождался вечера, когда освещенный пламенем высокого костра Евн встречал, сидя на троне, победителей. Насытившись местью, женами господ, смертью их маленьких детей «сирийцы» торжественно проходили мимо своего царя и бросали в кучу золото, серебро, украшенные самоцветами перстни и серьги. Евн жадно взирал на богатство и впивался глазами в очередного подданного, словно проверяя, все ли тот выложил перед ним. Интересовала его, правда, значительно меньше и соседняя куча, в которую рабы складывали отрубленные руки и головы мессанийцев. Стараясь не подать виду, что ему давно надоела эта утомительная процедура, он приветливо кивал пролившему господскую кровь рабу и важно говорил: — Дарую тебе свободу на вечные времена! Закованный в цепи кузнец по знаку царя тут же сбивал оковы и рабские ошейники и Евн снова переводил свои глаза на сверкающие в ярком свете костра драгоценности. Оживился он лишь при виде Фрака, который деловито положил на верх окровавленной горы несколько кистей и две головы. — Вот это молодец! — воскликнул Евн и милостливо сказал склонившемуся перед ним Фраку: — Дарую тебе свободу и… должность начальника декурии! Бывший гладиатор склонился ниже и вынул из-за пазухи еще две кисти рук, пальцы которых были украшены дорогими перстнями. — А это, великий царь, идущие на смерть правитель Мессаны и его жена приветствуют тебя! — усмехнулся он, небрежно швыряя в кучу страшную добычу. — Как ты сказал — идущие на смерть? Приветствуют? — улыбнулся Евн. — Да, великий царь! Так велено было нам, гладиаторам, обращаться к господам на арене перед началом каждого боя! Ну, а теперь они обращаются к тебе. — А откуда тебе известно, что это сам правитель Мессаны? — подозрительно спросил Серапион. — У него была большая охрана! — охотно объяснил Фрак. — Когда я ее перебил, мне стало интересно, кого это они так охраняли? Спросил рабов, они сказали — правителя Мессаны. А тут и жена его прибежала… Начала голосить, кричать на меня, зачем я разлучил ее с мужем. Ну, я и решил не разлучать!.. — простодушно докончил он. — Сколько же воинов было в охране этого правителя? — удивился Евн. — Десять, наверное, а может, двенадцать — не считал! — пожал плечами Фрак. — Я и руки им не стал отрезать, сказано же было — только господ! — Дарую тебе милость служить в моей личной тысяче! — воскликнул царь. Услышав завистливые возгласы, гладиатор довольно усмехнулся и отошел в сторону. На его плечи тут же набросили дорогой халат и повели куда-то угрюмые воины, одетые в звериные шкуры. Евн вопросительно посмотрел на Прота. Тот, очнувшись, бросил в кучу руку мессанийца, пал ниц перед царем. Евн дал ему знак подняться. — Ты свободен на вечные времена! — прикрывая ладонью зевок, сообщил он. Кузнец несколькими осторожными ударами сбил с шеи Прота ненавистный ошейник с надписью: «Верни беглого раба его хозяину Луцию Пропорцию». Прот ошеломленно потер шею и замер. — Так я… свободен?! — вырвалось у него. — Да, на вечные времена! — кивнул Евн. — Проходи дальше, там о тебе позаботятся! — шепнул Серапион. Но Прот не мог так сразу двинуться с места. — И я могу отправляться к себе на родину? — нетерпеливо воскликнул он. Евн усмехнулся. Стоящие вокруг него телохранители и члены Совета угодливо засмеялись. — А где твоя родина? — поинтересовался царь. — В Пергаме! — Ах, в Пергаме! — протянул Евн, обращаясь к своему окружению. — А я думал где-нибудь в Скифии! Хохот раздался еще громче. — Я понимаю, это далеко… — смутившись, пробормотал Прот. — Чтобы добраться туда, нужен корабль. Но я… готов купить его! — А какой тебе нужен корабль? — подал голос сидевший у ног царя безобразный шут. — Военный римский? Египетский? Финикийский? А может быть, торговый греческий? — Пожалуй… военный римский! — подумав, выпалил Прот, и вздрогнул от нового взрыва хохота. Теперь уже смеялся сам Евн. — Но тебе также понадобятся и гребцы! Много гребцов! — поднял скрюченный палец шут. — Ты что — готов купить и их? — Конечно! — уверенно кивнул Прот, не понимая причины веселья. — Довольно! — раздался неожиданно голос Евна. — Дайте ему золотой статер из тех, что вы принесли сегодня. Он достаточно повеселил меня! Оттолкнув ногой шута, царь дал знак Серапиону приблизиться. Когда тот покорно наклонил перед ним голову, шепнул: — Не сводить с этого пергамца глаз ни днем, ни ночью, следовать за ним всюду! Узнать, на какие деньги он собирается купить корабль и гребцов! Евн отпустил новоиспеченного коменданта Тавромения, и его взгляд остановился на стоящем неподалеку от трона Клеобуле. — А-а, старый знакомый, земляк моего верного Фемистокла! — приветливо протянул он. — Ты, наверное, убил так много мессанийских господ, что даже не смог донести все руки? А? Или мешок с ними у тебя за спиной? Так развязывай его быстрее, и ты — свободен! Клеобул вздохнул и развел руками: — Я не смог… — Что не смог? — удивился царь. — Убить господина… — Не слышу! Громче! — приложил ладонь к уху Евн. — Чтобы все слышали! — Я не смог убить господина! — выкрикнул Клеобул, доведенный до отчаяния издевательством царя. — Тогда и я ничем не могу помочь тебе! — деланно вздохнул Евн и, поджав губы, сухо приказал охранникам: — Этого Афинея заковать и отправить в рабский эргастерий вместе с теми рабами, которые не оказали мне поддержки при взятии Мессаны! 3. Четыре таблички Старый Армен, едва волоча ноги от усталости, наконец, выбрался на шумную торговую улицу. «Где-то здесь должно быть жилище этого Писикрата! — подумал он, озираясь среди многочисленных лавок, торговавших мясом, рыбой, овощами и вином. — Но где?..» Он склонился в почтительном поклоне перед идущим мимо афинянином и протянул ему дощечку с адресом купца. Прохожий, не останавливаясь, брезгливо взял нагретую за пазухой раба навощенную дощечку, на ходу прочитал вслух: — «В середине Дромоса[79], между харчевней Аркесила и горшечной Андроника, по правой стороне». Там! — махнул он рукой в сторону самых больших лавок. К счастью, указанный афинянином дом Писикрата оказался совсем рядом. Проходя мимо харчевни, где бедняки торопливо уплетали куски лепешек с сыром и мясом, запивая вином, Армен сглотнул слюну, и уже через минуту постучал в дверь одной из самых крупных лавок Дромоса. — Кого еще там несет? — послышалось ворчание. Дверь приоткрылась, и Армен увидел молодого мужчину. Разглядев раба, он недовольно пробурчал: — Мы уже закрылись! — Но я от Писикрата! — воскликнул Армен. — Послан к вам вашим отцом! — Пропусти его, Эртей! — послышалось из глубины лавки, и Армен проскользнул в открывшуюся дверь. — Тут все написано! — пробормотал он, протягивая дощечку сидящему за столом чернобородому мужчине, похожему на Писикрата. Тот сделал знак брату. Эртей принял из рук Армена дощечку: — Почерк отца! «Делайте все так, как скажет этот раб!» И что же ты должен нам сказать? — удивленно взглянул он на Армена. Армен виновато пожал плечами и начал издалека: — Ваш отец вез товары на «Афродите»… — Ну! — заторопил его Эртей. — По дороге на корабль напали пираты! Они схватили вашего отца… затолкали в душный трюм… — Мирон, наконец-то мы с тобой богаты! — шепнул Эртей. — Тс-сс! — остановил его брат. — Мы же не знаем самого главного — где спрятаны деньги!.. — Проклятье! — Так говоришь, отец в плену? — спросил Мирон. — Да, — кивнул Армен. — И что же он велел передать нам? — Ваш отец послал меня за выкупом. Я привезу ему полталанта, он отдаст их пиратам, и они сразу отпустят его! — А не обманут? — Нет! — вспоминая слова Диокла, заверил Армен. Братья переглянулись. — А что еще велел передать нам отец? — упавшим голосом спросил Мирон. — Больше ничего! — Как?! — вскричал Эртей. — Разве он не сказал тебе, где спрятаны его… — Скажи! — отталкивая брата, спросил Мирон. — Может, ты забыл об этом по дороге? Вспомни, не велел ли тебе еще что передать отец? — Клянусь! — прижал ладонь к груди Армен и ощутил твердость трех дощечек, напомнивших, что ему нужно спешить. — Я передал только то, что слышал. Больше я ничего не знаю. Умоляю, дайте мне поскорей полталанта! — Проклятье! — пробормотал Мирон. — Так отец будет держать нас в узде всю жизнь! Спрятать все свои сокровища и оставить нам одни долги! — Да он просто издевается над нами! — воскликнул Эртей. — Издевается? — усмехнулся Мирон. — Нет — он знает, что делает! Теперь мы обязаны выкупить его у пиратов! Да что пираты — умри он, и мы, не зная, где его сокровища, выкупим его даже из царства мертвых! Эй! — вспомнил он об Армене. — Значит, полталанта? — Да, господин! — А хватит? — испуганно спросил Эртей. — Может, дать больше? — Дадим на всякий случай талант! — решил старший брат, наполняя большой кожаный кошель золотыми статерами и протягивая его Армену. — Чтобы пираты наверняка отпустили отца! Смотри не заговаривай в дороге ни с кем из встречных! А как только увидишь отца, скажи ему, что Мирон немедленно отдал эти деньги и даже дал больше, чем он просил! Скажи также, что я буду молиться до его приезда богам! — А от меня передай, что я дал обет посетить дельфийское святилище, если только пираты отпустят его! — торопливо воскликнул Эртей, затворяя дверь за рабом. Оказавшись на улице, Армен услышал приглушенные голоса братьев: — Старая лиса! Даже на волоске от смерти не сказал нам, где все его деньги! — Беда! Беда! Если этот раб обманет нас или сдохнет по дороге — мы нищие!.. Спустя четверть часа Армен уже входил в скромный дом родителей лекаря. — Я послан к вам Аристархом, сыном Артимаха! — сообщил он, оглядывая дешевую мебель и глиняную посуду по углам. — Да, это наш сын! — с гордостью подтвердила пожилая женщина, вводя раба на кухню. — Вот письмо, написанное его рукой! — достал из-за пазухи дощечку Армен. Мать Аристарха поднесла дощечку к глазам, погладила ее и со вздохом сожаления протянула рабу: — Мой сын — ученый, а я даже не умею читать. Прочти мне! — Я тоже не умею! — признался Армен, но, вспомнив, что было написано в письме Писикрата, добавил: — Правда, я знаю, что там написано! — Так говори же! — Дорогие мама и отец! — прибавил от себя Армен, желая хоть как-то смягчить черную весть. — Сделайте все так, как скажет этот раб. — Артимах! — крикнула женщина. — Ты слышал, наш сын просит о чем-то! — Да слышу, слышу! — послышалось кряхтение, и вслед за ним раздался странный звук, словно в комнате переставляли клине. Армен повернулся к двери и замер. На кухню, отталкиваясь от пола неестественно длинными руками, втискивался безногий старик. — Покажи! — хрипло потребовал он, и Армен протянул ему дощечку. — «Дорогие мама и отец…» — прищурился старик. — Все верно! «Шлю вам свою прощальную весточку не из желанного Пергама, а из трюма пиратского корабля…» — Пиратского? — охнула женщина. — «Не сегодня-завтра меня продадут в рабство. Но не спешите отчаиваться! Со своей профессией я не пропаду. Буду лечить своих господ… А там как знать — может, и выкуплюсь, и мы снова будем вместе! Раб, который принесет вам дощечку такой же пленник, как и я. Он будет говорить вам о выкупе — не слушайте его. Во-первых, у вас нет таких денег. А, во-вторых, даже если бы вы их собрали, я бы все равно не принял их, потому что не могу украсть у вас пусть не очень сытную, но все же безбедную и спокойную старость, которую вы заслужили всей своей жизнью. Дайте лучше этому рабу красный амфориск, что на верхней полке в подвале. Он очень болен, и отвар, что в нем, поможет ему в пути. Ты же, отец, мажь моим лекарством культи утром и вечером. Простите — меня уже торопят. Да хранят вас боги! Ваш Аристарх.» Старик уронил дощечку и опустил голову. — Даже в плену у пиратов он думает больше о нас, чем о себе! — выдавил он. — В детстве, бывало, часами следил за ящерицами. Выменивал на них у ребятишек все свои школьные завтраки! Потом отрывал у них хвосты, выкармливал разными травами и следил, как у них отрастают новые… Говорил, что придет день, когда и у меня отрастут ноги, которые я потерял в Риме, пока был там заложником. Ноги, правда, не выросли от его мази, но болят по ночам куда меньше, чем прежде… — Сколько же нужно денег, чтобы вызволить нашего Аристарха? — спросила женщина, возвращаясь из подвала и протягивая Армену красный амфориск. — Целых полталанта!.. — опустил глаза раб. — О боги! — У нас никогда не было таких денег! — утирая слезы, объяснил старик. — Даже если мы продадим дом и поселимся на улице, если продадим все, что имеем — мебель, кувшины, все равно нам не набрать и сотой части нужной суммы! — А вы не можете одолжить у кого-нибудь? — спросил Армен. — Кто рискнет дать такие деньги беспомощным старикам, которых ни к суду нельзя привлечь, ни даже продать в рабство! — вздохнул Артимах и замахал руками на раба: — Уходи! Армен попятился, вышел за порог. Отхлебнул глоток терпкой жидкости из амфориска. И заторопился прочь со двора, услышав в доме причитания матери Аристарха и глухой плач Артимаха. Отвар придал ему сил. Он быстро шел по улицам Афин, пока не остановился перед домом, который, как было сказано в дощечке триерарха, стоял «В квартале Милете, недалеко от булочной Суниада, по левой стороне». Он долго колотил железным молотком в дверь и уже собрался уходить, как ее открыла испуганная молодая женщина. — Слава богам! — с облегчением выдохнула она. — Это не Конон! — А кто? — послышался мужской голос. — Я — раб Эвбулида, от триерарха Конона! — объяснил Армен и протянул дощечку. — Он попал в плен к пиратам… Не выслушав до конца вестника, женщина ушла в комнату и вернулась с тяжелым кошелем. — Вот. Здесь ровно полталанта. — Но откуда ты знаешь?.. — поразился Армен, пряча кошель за пазуху. — Не первый раз! — усмехнулась жена триерарха. — И ты ни о чем не хочешь спросить меня?! — Не первый раз! — повторила женщина и умоляюще посмотрела на раба: — Я сразу тебе открыла дверь, понял? Так и скажешь триерарху: его жена была дома одна! — протянула она драхму. — А еще лучше, меня вообще не было дома! Я была… — В храме! — подсказал из комнаты мужской голос. — Верно! А деньги тебе дал… — Твой управляющий! — Иди! — подтолкнула Армена женщина. — Пираты — народ нетерпеливый, ждать не любят! «Сколько домов в Афинах, и до чего же они разные!» — подумал Армен, вновь оказавшись на улице. Он с грустью вспомнил родителей Аристарха, их жилище, такое же скромное, как и дом Эвбулида, отпил глоток из амфориска и заторопился к храму Аполлона, возле которого находился указанный в последней, четвертой дощечке, дом. Вышедший на стук привратник проводил его в комнату, посреди которой стояла красивая женщина. — Кто это? — брезгливо спросила она, показывая пальцем на Армена. — Я — раб Эвбулида… — привычно начал Армен. — А-а, понятно! — усмехнулась хозяйка. — Еще одного дружка моего мужа? Передай же своему Эвбулиду, пусть один теперь идет к бесстыдным гетерам и флейтисткам. Клеанф отплыл в Египет, и хвала богам, — это надолго! — У меня письмо от твоего Клеанфа! — возразил Армен, доставая дощечку. Женщина двумя пальцами взяла ее, лениво пробежала глазами. — «Спасай меня, моя ненаглядная!» — покачала она головой. — Он тратит все деньги на вино и гетер, а я потом должна спасать его от безденежья? — Твой муж в плену у пиратов! — сообщил Армен. — Чтобы выкупиться, ему нужны полталанта! — Прошлый раз, когда он уезжал в Этолию и проигрался там дочиста в кости, это называлось нападением беглых рабов! — язвительно усмехнулась хозяйка. — А теперь уже пираты! Она вышла из комнаты и, вернувшись, бросила под ноги Армену звякнувший о пол кошель. Раб торопливо нагнулся за ним, положил за пазуху, как можно туже перетянув поясом хитон. — Я могу идти? — робко спросил он. — Конечно! — кивнула хозяйка. — И передай Клеанфу — пусть в следующий раз придумает что-нибудь более интересное! — Но я говорю чистую правду! — остановился Армен. — Твой муж действительно сейчас в пиратском трюме! — Значит, Клеанф у пиратов?.. — удивленно переспросила хозяйка. — Да! И они отпустят его, если до захода солнца я передам им выкуп! — пробормотал Армен, чувствуя себя неловко под ее пристальным взглядом. — И не приведу за собой охрану… — шепотом докончил он. — А если ты опоздаешь? — заинтересованно спросила хозяйка. — Или пираты увидят погоню? — Тогда они сразу уйдут в море, и твой муж и мой господин — погибли! — воскликнул Армен. — В лучшем случае пираты продадут их в рабство. — Клеанф — раб! — пробуя слова на вкус, произнесла женщина. — А я — вдова! — последнее слово особенно ей понравилось, и она повторила его несколько раз. — Клянусь несчастной Герой, у которой Зевс будет похлеще моего Клеанфа, на этот раз я услышала действительно интересную новость! И, кажется, знаю, что делать… Она шагнула к двери, и привратник услужливо распахнул ее перед ней. — Раба держи здесь до моего прихода! — приказала хозяйка. — А я пошла к архонтам! — Зачем? — охнул побледневший Армен, напуганный приказом хозяйки. — Затем, что ты покажешь им место, где тебя будут ждать пираты! — Но это погубит твоего мужа! — А может, я как раз и хочу этого! — усмехнулась хозяйка. — И вообще, что ты, раб, можешь понимать в делах свободных людей? Оставайся здесь и жди меня. Привратник накормит и напоит тебя! Оставшись вдвоем с рослым рабом, Армен даже не притронулся к жареному мясу и вину, внесенному поваром из кухни. — Ешь! — посоветовал привратник и завистливо покосился на кувшин. — Пей! Такое вино!.. — Пей его сам! — отмахнулся огорченный Армен. — Я бы выпил… — привратник оглянулся на дверь. — Да хозяйка… — Скажешь ей, что это все я! — Слушай, а ты хороший раб! — оживился привратник, наливая себе полную кружку и залпом выпивая вино. Оглянувшись на дверь, налил еще и тоже выпил. Спасительная мысль пришла в голову Армена. Он сам наполнил кружку и пододвинул ее своему охраннику: — Пей! — Ты х-хороший человек! — обрадовался захмелевший привратник, хватая кружку, и снова оглянулся на дверь. — Пей! — успокоил его Армен. — Мало — так принеси еще один кувшин! Два! Три! Скажешь хозяйке, что все это я! Через полчаса перед ним сидел совершенно пьяный человек. — Ну так я пошел? — осторожно приподнялся Армен и сделал шаг к двери. — К-куда? — дернулся раб, вскидывая и роняя голову на грудь. — Туда! — с трудом сдерживая волнение, кивнул на улицу Армен. — Ну и иди! Ик-к! — неожиданно согласился привратник. — Ты хорош-ший — ик-к! — человек! — Да и ты тоже хорош! — усмехнулся на радостях Армен, и глаза его — чего давно уже не случалось с ним — лукаво блеснули. — Да, и когда вернется твоя хозяйка, не забудь ей сказать, что все это выпил я! К дому Квинта Пропорция он подоспел, когда солнце уже зависло над горизонтом, а воздух загустел, налившись предвечерней голубизной. Привязанный цепью раб беззлобно тявкнул на него и красноречиво показал глазами на дверь. Обрадованный тем, что римлянин уже дома, Армен взялся за ручки двери и замер, услышав голос Гедиты, доносившийся из комнаты. — Квинт! — кричала Гедита прерывающимся голосом. — Умоляю тебя: во имя вашей дружбы с Эвбулидом, ради моих детей — спаси его! Вспомни, что Эвбулид спас тебе жизнь под Карфагеном! — Последний раз говорю тебе! — оборвал ее сердитый окрик Квинта. — И делаю это только ради дружбы с твоим мужем, — я не могу дать ему больше денег! У меня нет их сейчас в доме! Понимаешь, нет! Они были, но я вложил их в одно выгодное дело! — Ну так одолжи! Ты ведь можешь… Тебе дадут… — Мне — да! Но где гарантии, что деньги вернутся ко мне? — Эвбулид приедет и отдаст… — Да твой Эвбулид не в состоянии теперь даже расплатиться за прежний долг! А тут — такие деньги! Дать тебе их — значит, закопать талант в землю! Даже два таланта! Нет, как говорят у нас в Риме, кто не может расплачиваться кошельком — расплачивается собою! — Квинт! Эвбулид расплатится с тобой, даже, как ты говоришь, собою! Но только здесь, у тебя, а не где-то на чужбине!.. — Кем он будет служить у меня? — усмехнулся Квинт. — Поваром? Садовником? Он же ничего не умеет, твой Эвбулид! — Ну, хотя бы надсмотрщиком… — Хотя бы! — язвительно передразнил Квинт. — Да ты знаешь, что эту должность мечтает получить у меня каждый раб! — Но Эвбулид — не каждый! — вскричала Гедита. — И он не раб! — добавила она, вздрагивая от страшного слова. — Ну сама посуди! — жестко произнес римлянин. — Надсмотрщик, даже самый свирепый и толковый, стоит семь, ну — десять мин! А тут — два таланта! Да на такие деньги я смогу купить столько надсмотрщиков, что их у меня станет больше, чем самих рабов! — Но, Квинт… — Уходи! — отрезал Пропорций. — Я ничем не могу помочь тебе. Дверь распахнулась, ударив Армена в плечо. Мимо раба, обливаясь слезами, пробежала плачущая Гедита. — Боги еще накажут тебя! — обернувшись прокричала она в сторону дома римлянина. — Боги никогда не простят тебе этого! Армен проводил Гедиту растерянным взглядом, зажмурился, затаил дыхание. И — как заходят в холодную воду — вошел в комнату. — Я же сказал тебе — уходи, Гедита! — проворчал стоящий спиной к двери римлянин. Обернулся. Поднял бровь, увидев Армена: — А тебе что здесь надо? — Господин! — упал на колени Армен. — Пощади моего господина… — И ты за тем же?! — Да… — Значит, пощадить? — Да! Да, господин!! Армен подполз к римлянину и стал хватать его за край белоснежной туники, целовать сапоги. — Он такой беспомощный, такой человечный… — бормотал он. — А я? — нахмурился Квинт. — И ты человечный! Поэтому поможешь… — Значит, человечный? Квинт хлопнул в ладоши, и в комнату вошли несколько молчаливых рабов во главе с рослым вольноотпущенником. — А ну всыпьте ему хорошенько! — приказал им Пропорций. — Чтобы он оценил мою человечность! Вольноотпущенник приподнял Армена за ворот, проволок по комнате и с силой ударил лицом о стену. Армен вскрикнул от боли и увидел, как темнеет яркое пламя от бронзовых светильников. Один из рабов, подскочив к нему, ударил его носком тяжелой сандалии в бок. После этого удары посыпались на него безостановочно. По плечам, спине, груди… Сжав руки на животе, чтобы не выпали кошели с деньгами, Армен покорно сносил их, чувствуя, как угасает сознание. — Постойте! — услышал он откуда-то издалека голос Квинта. — Ну, что скажешь теперь? Оценил мою человечность? — Да, господин… — боясь выплюнуть на пол заполнившую рот кровь и глотая ее, прошептал Армен. — Ты — человечный, и ты помо… — Продолжайте! — скомандовал римлянин. Еще несколько сильных ударов потрясли тело раба. — Ну? — склонился над ним Квинт. — Господин! — взмолился вольноотпущенник, главный надсмотрщик в доме Пропорция. — Еще один удар, даже самый маленький — и он умрет! Поверь, я хорошо разбираюсь в таких делах! — Тогда несите его прочь отсюда! Да смотрите, чтобы не выпала на пол из-за его пазухи грязная милостыня, которую он насобирал по дороге! — прикрикнул Квинт. — Аккуратнее! Марс вас порази… Больно хочется мне отвечать перед жалкими архонтами за убийство чужого раба! Окончательно пришел в себя Армен на улице. Кто-то робко трогал его за плечо. Он открыл глаза и увидел сидящего над ним юношу. — Диокл… — прошептал он. — Армен! Жив!.. — обрадовался Диокл. — Я все слышал! — Он обернулся и погрозил кулаком светящимся полоскам в двери дома. — Мать довел до того, что она не может сказать ни слова! Ну, пусть подождет, он еще мне ответит! За все! Дай только время… Армен взглянул на заходящее солнце, сделал попытку подняться и вскрикнул от боли. — Тебе больно? — участливо спросил Диокл. — Оп-поздал… — прошептал Армен. — Что? — Солнце зайдет… через полчаса… — Успеем! — Диокл вскочил и пронзительно свистнул. — Эй, сюда! Из-за поворота выбежали одетые в лохмотья люди. Ничего не понимая, Армен чувствовал, как они поднимают его, бережно кладут на носилки и несут куда-то по улицам Афин. Его — простого раба, как самого важного и знатного господина!.. — Это честные и надежные люди! — блестя глазами, кричал бегущий рядом Диокл. — На них всегда можно положиться! Вот, что они дали нам! — Что это? — прошептал Армен, почувствовав, как на его грудь лег небольшой узелок. — Здесь тридцать драхм, правда, мелкими лептами и оболами, все, что было у них! — прокричал Диокл, показывая глазами на молчаливых носильщиков. — Ну… и еще тетрадрахма, помнишь — та самая, что я спер у родителей! Отдай их отцу незаметно, чтоб не увидели пираты. Может, в трудную минуту пригодятся… И себе тоже возьми — двенадцать драхм! Армен протестующе покачал головой. — Нет, Армен! — настойчиво повторил юноша. — Я не хочу, чтобы меня когда-нибудь упрекнули, что я питался на деньги своего раба! Армен шумно вздохнул, хотел ответить, но слова застряли у него в горле, Слезы навернулись на глаза, мешая видеть. Он только чувствовал, что они уже миновали улицы города и приблизились к морю, влажное дыхание которого все отчетливее ощущалось на щеках. — Ну вот мы и пришли! — вдруг сказал Диокл. Носильщики остановились, опуская Армена на землю. — За тем поворотом — море. Там парусник. Он ждет тебя… Но… теперь нас могут заметить! Ты сможешь добраться сам? — Да, — кивнул Армен. Он сделал несколько глотков из амфориска и с трудом встал на колени. — Доползу… И верь, Диокл, я все сделаю, чтобы спасти твоего отца… 4. Армен Долговязый пират в афинской одежде приказал гребцам перенести Армена на палубу парусника. Показывая подошедшему Артабазу на обмякшее тело с беспомощно свисавшими вниз руками, он усмехнулся: — До чего же не любят родственники наших пленников расставаться со своими деньгами! — Привез? — обрадованно спросил грузный пират. — Еще бы! Ведь я следил за ним по всем Афинам! — принялся объяснять долговязый. — Он везде вел себя, как надо. Видно, ты здорово напугал его тем, что повесишь на собственных кишках! Этот старик показал такую прыть, что мне некогда даже было зайти в харчевню! — Так я тебе и поверил! — Ну, почти некогда… Правда, когда он был в доме у какого-то храма, что-то там произошло. Одна женщина выскочила из дома, побежала куда-то. Я уж подумал, пора сматываться, пока не поздно. Но гляжу — он выходит, да такой веселый! — Этот раб? — удивился Артабаз. — Веселый?! — Да! Он улыбался! — подтвердил долговязый. — Он все время прикладывался к амфориску и бежал. — К этому? — вынул из-за пояса Армена красный амфориск пират, сделал из него глоток и поморщился: — Гадость… А посуда сгодится! Он вытряхнул из амфориска остатки жидкости и сунул его себе за пояс: — Ну, а что было дальше? — Дальше я заскочил на секундочку в харчевню… — замялся долговязый. — И когда вышел — то его уже нигде не было… Я побежал по дороге к морю и увидел раба уже в этом состоянии. Но… он был не один! — С охраной?! — Нет — это были грязные, оборванные люди. Они несли его на носилках! — Эй, ты! — пнул застонавшего Армена пират. — Почему тебя несли на носилках? Кто тебя доставил к морю?! Армен открыл глаза, обвел мутным взглядом парусник и прошептал: — Мои друзья… — Непонятно… И подозрительно! — покачал головой Артабаз и закричал капитану парусника: — Прибавь парусов! — Представляешь, друзья у раба! — возмутился долговязый, заискивая перед Артабазом. — Меньше надо было сидеть в харчевнях! — оборвал его пират и пригрозил: — Все расскажу Аспиону! То-то обрадуется Пакор, когда узнает, что появился еще один штрафник, и ему наконец-то нашлась замена! — Но я лишь забежал в эту проклятую харчевню! Переругиваясь между собой, пираты ушли под навес. Оставшись один, Армен взглянул на крутые волны за бортом, на туго натянутые паруса и представил, как Эвбулид ждет не дождется сейчас выкупа, надеется на него, разве что не молится, а денег для него нет. Страшно подумать — везет два таланта, ровно столько, сколько нужно Эвбулиду, чтобы завтра же встретиться с Гедитой, обнять Диокла, — и кому: совершенно чужим людям! Причем, таким, которых неохотно выкупают даже их собственные родственники! Да они только были бы рады, если бы эти Писикрат, Конон и Клеанф в конце концов погибли или попали в рабство! — подумал он, представив расстроенное лицо Эвбулида. Мысли Армена путались; вместо того, чтобы лететь вперед, как этот парусник, они стали тянуть его назад, в прошлое. Когда-то вот также тугие паруса привезли его в неведомые Афины. Купивший его у свирепых парфян торговец говорил, что его живому товару удивительно повезло: нет в мире другого такого места, где бы еще так привольно жилось рабам, как в Афинах. Господа разрешают им иметь здесь жен! — уверял он. — Здесь рабы едят почти досыта, многие пьют, некоторые даже становятся пьяницами! А самое главное — один раз в году, по древнему обычаю, хозяин разрешает делать своим рабам все, что им только пожелается, усаживает их за свой стол, и сам прислуживает за ним! Обрадованный такими словами, сильный, двадцатилетний Армен с легким сердцем сходил с палубы корабля на землю афинской гавани. Она поразила его невероятным шумом и обилием товаров. Что только не выгружалось здесь с многочисленных судов! Зерно и бычьи ребра из Фессалии, подвесные паруса и папирус из Египта, кипарисовые деревья для статуй богов из Крита, ковры и пестрые подушки из тогда еще великого Карфагена, ливийская слоновая кость, родосские изюм и фиги, рабы из Фригии, наемники из Аркадии… Казалось, народы и племена всего мира работают и существуют лишь для того, чтобы жили в избытке и неге великие Афины, чтобы жители этого богатейшего города всегда видели голубое небо, чистое от дротиков и стрел, которые могут закрывать солнце, как это случилось с родным селением Армена… «Никогда мне больше не видеть моей Армении…» — неожиданно с тоской вдруг понял Армен, чувствуя, как наваливается на него неодолимая слабость и холодеют кончики пальцев. Он поискал руками амфориск и не нашел его. Вздохнув, стал вспоминать своего первого хозяина — тощего, суетливого владельца небольшой гончарной мастерской. Как звали его: Эврисфей? Пасион? А может, Архидем?.. Уже не припомнить — у греков такие трудные и разные имена, редко когда одно повторяет другое… Как досадовал он на себя за то, что так свято поверил словам торговца. Может быть, в других домах рабы и ели хорошо, и пили вино. А он видел лишь горсть гнилого чеснока с несколькими сухими маслинами в день. Да знал работу с раннего утра до полуночи. Подгоняемый плетью хозяина, он долбил и долбил кайлом глиняный раскоп, наполняя жирной глиной один мешок за другим. Если же он медлил или поднимал за день мало мешков, хозяин лишал его даже этой жалкой пищи. Потом, разорившись, владелец гончарной мастерской продал его булочнику, булочник — крестьянину, тот — носильщику… Сколько же еще было хозяев у него? Молодцеватый атлет, тренировавший перед Олимпиадой на нем свои удары… Всегда недовольный архонт… Скульптор, который лепил с него умирающего варвара. Он заставлял надсмотрщика бить Армена, колоть его иглами и подолгу всматривался в лицо… Каждый из этих хозяев недолго держался в памяти, оставив лишь боль в сломанных ребрах да корнях выбитых зубов. С Эвбулидом же с первого дня все было иначе. Этот молодой, счастливый женитьбой на красавице Гедите грек, купив его сразу после возвращения с войны, обращался с ним спокойно, почти ласково. Нет, он не сажал его с собой за один стол, разговаривал всегда свысока, без улыбки. Но ни разу не ударил. И всегда кормил тем же, что ел сам. Всегда завидовавший другим рабам, Армен вскоре почувствовал себя счастливым и привязался к Эвбулиду. А когда пошли дети — Диокл, Фила, Клейса, его дом стал для него родным. Он понимал, что Эвбулид страдает от своей нищеты и сбивался с ног, желая хоть чем-то помочь ему. После ухода подвыпивших гостей хозяин нередко протягивал ему мелкую монетку и говорил добрые слова. Армен знал за что. И эта лепта и обол нужны были ему, — но еще приятней было услышать от Эвбулида доброе слово. Собирая пекулий, он не растрачивал его, как соседские рабы, на вино и продажных женщин, желая помочь Эвбулиду, когда подземный бог позовет его в свое царство. После побоев и нечеловеческих мук, что довелось испытать ему на площади перед судом, когда хозяин отдал его на пытки, он несколько дней лишь на короткие мгновения приходил в себя. Видел над собой то лекаря, то Гедиту, то Клейсу. Однажды — он до сих пор не может понять, бред ли то был, или явь, он увидел Эвбулида. Господин сидел на краешке его лежанки и тихо гладил его руку. Было ли это на самом деле? Спросить же Эвбулида так и не решился… Потом все опять пошло по-прежнему, хотя силы с каждым днем оставляли его. Но даже то, что Эвбулид отдал его судебным палачам, не изменило его отношения к господину. Спроси кто у него, простил ли он Эвбулида за это, и он несказанно бы удивился. Разве бездомная собака после удара плетью не облизывает руку хозяина? И вот теперь он везет Эвбулиду гибель… «Афины будут только рады избавиться от Писикрата, Конона и Клеанфа, которых не любят даже собственные дети и жены! — вдруг снова промелькнула навязчивая мысль. — И разве не заслужил Эвбулид эти два таланта?!» Купец Писикрат, триерарх Конон, пьяница и мот Клеанф напоминали ему теперь владельца гончарной мастерской и атлета, скульптора и архонта, — безжалостных, жестоких, ненавистных. Нет, не им везет он эти два таланта! Не им!! «Теперь я и без амфориска дождусь встречи с Эвбулидом! — успокоенно подумал Армен, закрывая глаза, чтобы оберечь остатки сил. — Потому, что не гибель везу я ему, а свободу!..» 1. Глоток свободы В то время, как Армен полз, царапая землю ногтями и лежал на палубе парусника, несущегося навстречу «Горгоне», Эвбулид по-прежнему сидел в душном трюме пиратского судна. Положив подбородок на скрепленные в узел руки, он то и дело проваливался в короткий, омутный сон, тут же испуганно встряхивал головою и снова зорко приглядывался к сколотам. Несмотря на внешнее их спокойствие, в каждом он чувствовал силу согнутой в дугу упругой лозы. Рядом тихо переговаривались гребец-фракиец с вольноотпущенником. — Целых четырнадцать лет я был самым старательным рабом в Афинах! — рассказывал вольноотпущенник. — Из подмастерья я стал мастером кузнецом! Не было на свете такого крепкого раба, который смог бы разбить о камни сделанные мной кандалы и наручники! — Да, — вздохнул гребец. — Не завидую беглецам в твоих наручниках!.. — Что делать — мечта о возвращении домой ослепила меня, заставила забыть о чужих страданиях… Четырнадцать лет я работал день и ночь, не зная ни праздников, ни сна, откладывая обол к оболу, драхму к драхме! И вот девять лет назад накопил пятнадцать мин, которые затребовал за мое освобождение хозяин. — И он отпустил тебя?.. — О, это был самый счастливый и… самый несчастный день в моей жизни! Получив деньги: хозяин тут же повел меня в храм. Там мы взошли на алтарь, и он, показывая меня всем, трижды крикнул: «Кратер освобождает Сосия!» — Так в чем же было твое несчастье? — изумленно воскликнул фракиец. — Слушай дальше… Когда, выйдя из храма, я спросил Кратера, могу ли я отправляться на родину, он расхохотался мне в лицо. А потом объяснил, что и на свободе я буду целиком зависеть от него, помогать его семье, и смогу покинуть Афины только после его смерти! Так я стал метеком, отрастил волосы, изменил имя, став из Сосия Сосистратом. И изо дня в день девять лет ждал смерти Кратера, которого я по-прежнему содержал, даже став свободным. И вот — дождался! Не мешкая ни минуты, я сел на «Кентавра», который отправлялся в мой родной Понт, но — видно проклятие богов висит на мне — на нас напали пираты. И вот я снова раб! И теперь уже раб навечно, потому что мне уже никогда не выкупить себя! У меня не осталось на это сил… Пламя кузницы почти совсем выжгло мне глаза, оно иссушило мое тело. Но главное — теперь во мне умерла вера в свободу. Где, скажи, где в этом проклятом мире можно укрыться, спрятаться от рабства?! — Ты прав, такого места я не встречал нигде, хотя повидал, пожалуй, все города мира, — согласился гребец, и они замолчали. Наверху гудел ветер, свистел, запутавшись в снастях, ревел, ударяясь в мачту. Волны сильно раскачивали поскрипывающее всеми досками судно. — Такую бы погодку вчерашней ночью! — покрутил головой триерарх Конон, чутко прислушиваясь к каждому звуку. — Тогда б я сидел не здесь, а у себя в каюте, за кувшином доброго винца! — А мне, что пираты, что шторм — все страшно… — пробормотал Писикрат, с ужасом глядя на качающиеся стены. Он ухватил триерарха за локоть и залепетал: — Ты много плавал, только ты можешь понять меня здесь… Скажи — это опасно? Мы… не утонем?! Конон с усмешкой взглянул на бедного купца и похлопал ладонью по деревянной обшивке: — Успокойся! Такие стволы можно найти разве что в священной роще Артемиды! — Деревья из священной рощи! — в ужасе вскричал Писикрат и запричитал: — Это же святотатство! Великая богиня-охотница покарает нас за это! Умереть в этом грязном, вонючем трюме — какая беда… какая беда!.. — Не вижу никакой беды! — уверенно возразил триерарх. — Это прекрасное судно выдержит и не такой шторм! А деревья, что пошли на его борта, скорее всего повалила молния или буря. А уж потом жрецы продали их на какую-нибудь верфь. Купец благодарно взглянул на Конона. — Правда?! Ты уверен в этом? — Ничуть не меньше, чем в том, что завтра вечером я буду пировать у тебя дома! — засмеялся триерарх и хлопнул ладонью купца по плечу: — И мы за кружкой доброго винца еще посмеемся над твоими сегодняшними страхами! — Конечно, конечно! — зачастил купец. — Завтра вечером я непременно жду тебя в своем… Крышка трюма скрипнула, приоткрываясь, и он быстро втянул голову в плечи. — Эй, вы! — раздался сверху голос часового. — Не задохнулись еще от вашей дохлятины? — Надо вынести умерших! — подняв голову, крикнул Аристарх. — Ну так выносите! — разрешил пират. — Да поживее! — Поверь! — вдруг услышал Эвбулид шепот Дорофея, отстранившего от себя дочь. — Другого такого случая подняться на палубу нам не представится! Всего одно мгновение — и ты будешь свободна от позора, стыда, страшных мук… — Но отец! — давясь рыданиями, возражала девушка. — Мне страшно! — Значит, ты хочешь, чтобы они все надругались над тобой, а потом сделали рабыней какого-нибудь мерзкого старика, и он… — Отец, не продолжай! — воскликнула девушка едва слышно добавила: — Я согласна… — Послушай! — тут же тронул Эвбулида за плечо Дорофей. — Помоги нам вынести на палубу одного из этих несчастных. Вдвоем нам не справиться… — Тебе? На палубу? — изумился Эвбулид. — С ней?! — Так надо… — в голосе Дорофея послышалась тоска. Сколоты в углу зашевелились, поднялись. Эвбулид, опасаясь нового нападения, кинулся, опережая Лада, к лежащему у самых ступенек мертвецу, схватил его за ноги и заторопил Дорофея… — Ну! Чего же ты? Оказавшись наверху, он вдохнул полную грудь свежего воздуха, повернулся к часовому: — Куда его? Пират равнодушно скользнул глазами по мертвому пленнику, за которого нельзя уже было получить даже обола и, не глядя кивнул в сторону волн. Неожиданно глаза его оживились, острый язык облизнул прикрытые бородой губы: часовой увидел поднявшуюся из трюма девушку. — Стой здесь! — приказал он ей. — Сейчас я познакомлю тебя со своими друзьями! Мы будем пить вино, и нам будет очень весело! Это будет даже приятнее выкупа. Часовой быстрыми шагами направился к капитанскому помосту, у которого пираты, обнявшись, тянули заунывную песню. Подойдя к ним, начал что-то объяснять, показывая на стоящую у трюма девушку. Несколько пиратов тут же вскочили со своих мест. — Но Посейдон будет гневаться на нас! — донесся голос Аспиона. — Ну и что? — закричали в ответ пираты. — Разве Посейдон не мужчина? Он поймет нас! — Скорее! — заторопил Эвбулида Дорофей. Вдвоем они подтащили тело к борту, наскоро раскачали его и бросили вниз. Мелькнула и тут же скрылась в волнах голова, блеснули кисти рук… — Вот и все! — выдохнул Дорофей и окликнул дочь: — Ниса! Девушка мгновение помедлила, но тут же рванулась к отцу. Тот крепко взял ее за руку, — Эвбулиду показалось, что девушка вскрикнула от боли, — и… шагнула вперед, в кипящее море. Волны вздыбились над их головами, обдав палубу холодными брызгами. Широко раскрытыми глазами Эвбулид глядел на опустевший край палубы, словно на ней мгновение назад никого и не было. Вдали мелькнула белая рука, а может, то сверкнул гребень волны или взыграла опьяненная штормом рыба… И все… Вокруг снова катились пустынные волны. Высокие, темные, они ударялись о «Горгону», изгибались, обрушивая на Эвбулида столбы воды и, раскачивая судно, продолжали свой неукротимый бег. Отчаянно ругаясь, пираты бросились к бортам. Пользуясь тем, что на них никто не обращает внимания, сколоты положили тело умершего гребца на палубу и подкрались к возвратившемуся к трюму часовому. Не ожидавший нападения, он даже не успел ничего понять, как его меч и кинжал оказались в руках у пленников… Короткий замах… Сдавленный крик… Свист блеснувшей полоски металла… Эвбулиду показалось, что все это происходит с кем-то другим: мимо него по палубе пробежало квадратное, безголовое тело в ярких персидских одеждах. Сделав несколько шагов, оно рухнуло на доски и забилось в судорогах. С глухим стуком что-то упало на палубу, покатилось, ткнулось в носок Эвбулиду. Он глянул под ноги и отпрянул, увидев залитую кровью бороду… изумленно приоткрытый рот… вытаращенные глаза… Крик ужаса и гнева пронесся над толпой пиратов. Доставая на бегу оружие, они бросились к пленникам, едва успевшим изготовиться для отражения нападения. Встав по краям, Дивий и Драга — один с мечом, другой с кинжалом — умело отразили первые удары нападавших. Лад ловко подставлял мечам и пикам мертвое тело гребца, орудуя им, как щитом. Свободной рукой он пытался сам выхватить оружие у неосторожного врага. — Так, так, Дивий! — подбадривал он товарищей. — Рази их, Драга! — Не сробеем, Лад! — хэкая, с силой били те по мечам, махайрам, пикам… Упал, получив страшную рану в грудь, один пират… Взвизгнул и пополз на коленях назад другой, зажимая лицо руками, сквозь которые лилась кровь… В третьего, раненного Драгой мечом в шею, Лад с силой бросил труп и, подхватив выпавший короткий испанский меч, с радостным воплем вонзил его в грудь пирата по самую рукоять. Увидев оружие в руках Лада, Дивий с Драгой теперь уже сами готовы были броситься на врагов. — Фраата убили! — пронеслось по палубе. — Сейчас начнется настоящая сеча! — предупредил властным голосом Лад товарищей. И не ошибся. Следуя громким командам Аспиона, следившего за схваткой с капитанского помоста, пираты стали действовать осторожно. Теперь они не лезли напролом, где их ждала смерть от острых выпадов сколотов. Разбившись на три группы, они рассыпались по всей палубе и медленно приближались к пленникам. Одна группа, отвлекая внимание сколотов, внезапно с криками бросилась вперед, две другие стали обходить их с боков. — Лад! — отражая удар за ударом, предостерегающе крикнул Драга. — Они хотят огрясти[80] нас! Посмотри ошуюю![81] — Лад! — тут же вскрикнул Дивий, показывая, что с его стороны им тоже грозит опасность. — Они уже одесную![82] Лад мигом оценил положение, быстро взглянул направо, затем — налево, уклонившись от удара, подхватил лежащую под ногами пику и метнул ее в ближайшего пирата. Тот завыл и, шатаясь, побрел прочь с пикой в груди. — Ну-ка, братиа, встанем спинами друг к другу! — прокричал Лад, и Эвбулиду, наблюдавшему за боем, готовому самому ринуться на помощь сколотам, почудилось в его голосе радость. — Покажем этим морским татям, так ли уж мы хотим в работу![83] Аспион, внимательно следивший за каждым движением сколотов, что-то крикнул на своем языке. Дикий рев из разинутых одновременно нескольких десятков глоток, заглушая свист шторма, раздался над «Горгоной». От этого рева, случалось, сами собой опускались руки гребцов на вольных триерах, выпадали луки со стрелами из изнеженных пальцев свободнорожденных греков, бледнели даже бывалые триерархи. На сколотов, однако, эта попытка запугать их, казалось, не произвела никакого впечатления. С поднятым наготове оружием они стояли, тесно прижавшись друг к другу спинами, спокойно ожидая нового нападения. И пираты не заставили себя долго ждать. Одновременно с трех сторон они бросились на пленников. Вскрикнул, едва успев переложить из пронзенной копьем руки в левую меч Драга. Тяжело опустился на колено Дивий. По бедру сколота поползло темное пятно. — Ай, хорошо, Пакор! Добей его! Добей!! — закричал сверху Аспион. — Ороферн, справа, справа зайди! Ай, хорошо, ребятки, ай, хорошо! Дивий покачнулся и рухнул на палубу, получив сразу два удара мечами в грудь. Не переставая отражать нападения, Лад склонился к нему и, прочитав в глазах товарища смерть, вновь бросился на пиратов, сокрушая их на своем пути. Лишь один пират попытался оказать сопротивление разъяренному Ладу. Он вскинул длинный сарматский меч, но сколот, опередив его, со свистом опустил кривую махайру на шею смельчака. — Пакора убили! — завыли пираты, бросаясь в разные стороны. Лад настиг двоих и обрушил на их головы страшные удары. Драга с трудом поспевал за ним, нанося слабые, но точные уколы длинным копьем. Забыв о своем недавнем страхе перед сколотами, о том, что они явились причиной всех его бед, Эвбулид любовался Ладом. Он подхватил выроненный пиратом меч и, подбежав к трюму, закричал вниз: — Эй, выходите! Здесь — свобода! Из трюма, торопя друг друга, стали вылезать пленники: гребцы, рабы, знакомый уже Эвбулиду вольноотпущенник-кузнец, свободные греки. Привлеченные шумом борьбы на палубе, они выбирались наверх, но увидев мертвые тела, в нерешительности останавливались, не зная, как поступить дальше: броситься обратно в трюм или бежать к сколотам, от которых их отделяло всего два десятка шагов. — На палубе много мечей! — подсказывал им Эвбулид. — Берите их! Бейте пиратов! Там, там наша свобода! Потрясая мечом, он кинулся вперед, но ближайшие к трюму пираты, заметив новую опасность, бросились к нему навстречу, выбили оружие из рук, повалили на палубу. Остальные, нанося удары саблями, стали теснить вконец растерявшихся пленников обратно в трюм. Эвбулид почувствовал, что кто-то помогает ему подняться, увидел, что это — Аристарх и, следом за лекарем, отступил назад. Пришел в себя он только в зловонном трюме. Гребец-фракиец несколько мгновений еще пытался удержать над головой крышку, но сабля полоснув над ним, отсекла пальцы. Крышка захлопнулась, отбирая у пленников последнюю надежду… На палубе, между тем, пираты молили своего главаря разрешить им засыпать двух сколотов стрелами. — Аспион! — колотили они в бессильной злобе кулаками по подножию капитанского помоста. — Это не люди, а титаны, принявшие человеческое обличие!! — Трусы! — презрительно кричал на них Аспион. — Перед вами настоящие воины, а не титаны! Ай, какие воины, какие воины!.. Мне бы десяток таких, и я смог бы опустошать целые города, уводить в плен сотни, тысячи рабов! Эй, вы! — обратился он к сколотам, соединяя кончики пальцев. — Я прощаю вас! — И дашь нам свободу? — недоверчиво поднял голову Лад. — И не обманешь? — добавил Драга. — Клянусь Посейдоном! — воскликнул Аспион. — С этого часа вы вместе с нами будете нападать на богатые суда, спящие поселки, резать глотки жирным, непокорным эллинам и египтянам и гнать всех, кто покорится, сюда, ко мне на «Горгону»! — Пес!.. — прошипел Лад, берясь за острие кинжала. — Чем решил купить нас! — У вас будет много денег! — продолжал Аспион. — У вас будут лучшие вина, одежды и женщины, каких вы только пожелаете! — Сколоты никогда не брали чужое! — морщась от боли, покачал головой Драга. Лад, резко выбросив вперед руку, воскликнул: — Подавись такой свободой, пес!! Просвистев, кинжал впился в мачту всего в сантиметре от головы вовремя отшатнувшегося Аспиона. Главарь с сожалением посмотрел на него и вздохнул: — Жаль! Такие были бы воины… Еще немного помедлив, он махнул рукой. С криками радости, пираты достали из-за спин гориты и, вынимая луки, стали накладывать стрелы на тетиву. — Ну вот и смерть наша пришла, — невозмутимо глядя на них, сказал Лад. — Обнимемся на прощание, Драга. — Обнимемся, Лад. Но это был еще не конец. Аспион, мысленно подсчитав убытки при виде мертвых тел, наваленных вокруг трюма, в последний момент приказал опустить луки и принести сети. — Ороферн! — прикрикнул он на черноволосого парфянина, продолжавшего целиться стрелой в Лада. — За этих богатырей нам заплатят столько же, сколько мы теперь недовыручим за всех убитых и покалеченных гребцов, которых вы явно поторопились отправить в царство Аида! Зачем нам терять такие большие деньги? Пират нехотя опустил лук. По знаку Аспиона пираты развернули большие рыбацкие сети. Потряхивая ими, с опаской стали приближаться к сколотам. Драга бросил на них взгляд, полный отчаяния и протянул свой меч товарищу: — Лад!.. Сколот понял его без слов. Взял меч. Помедлил. — Лад!! Драг сам бросился на меч, едва только его острие коснулось груди. Не упал — сполз к ногам Лада. Оставшийся в живых сколот с тоской посмотрел на море и нацелил окровавленное острие меча себе в горло. Звонко пропела стрела, впившись в руку Лада. Меч выпал из его руки, бессильно ткнулся в доску палубы. — Ай, хорошо, Ороферн! — прокричал Аспион опустившему лук пирату и набросился на нерешительных слуг: — А вы что остановились?! Набрасывайте сеть — и в трюм его! Лад наклонился к мечу, чтобы подхватить его левой рукой. Но едва его пальцы коснулись рукояти, как рыбацкая сеть взметнулась над палубой и словно крылья огромной птицы опустилась на него… 2. Два таланта После боя на палубе в трюме стало значительно просторнее. Эвбулид сидел между греками и стонущим гребцом-фракийцем, глядя как хлопочет над раненым сколотом Аристарх. Пираты сковали Ладу руки и ноги, надели на шею особую колодку, которая плотно прижимала к груди его взлохмаченную голову. — Ну что, — участливо спросил Аристарх, разминая плечо сколота повыше того места, куда угодила стрела. — Теперь полегче? Хорошо, что стрела еще не ваша, скифская. Говорят, вы вкладываете в наконечники тухлое мясо и делаете их с такими шипами, чтобы потом нельзя было вынуть из раны! — Ты странный балий![84] — сдавленным из-за неудобной позы голосом прохрипел сколот. — Ты не дал мне ни отвара из трав, ни чудодейственного бальства[85]… Даже не прижег раны огнем, а я уже почти не чувствую боли. — Как, ты знаешь, что раны нужно прижигать огнем? — восхитился Аристарх. — У нас даже дети знают это! — обиделся Лад. — Если этого не сделать сразу, злые боги войдут в рану. Тогда тело самого храброго воина будет трястись, точно тело последнего труса. — Удивительно! — оглянулся на Эвбулида Аристарх. — Можно подумать, что люди его дикого племени читали Гиппократа!! — «Чего не излечивают лекарства, излечивает железо, чего не излечивает железо — излечивает огонь!» — процитировал он и сказал сколоту: — Лекарь, если он действительно лекарь, а не мошенник, должен лечить больного в любых условиях, если даже под рукой не окажется ни лекарств, ни трав, ни, как это получилось у нас, огня. Через час я повторю растирания — и ты сможешь встать на ноги! — Как?! — изумился сколот. — Ты даже можешь сделать так, что и пято[86] рассыпятся, как прах? Ты великий балий, даже наш столетний Вежд не умел этого! — Люди его племени наивны, как маленькие дети! — снова обратился к Эвбулиду Аристарх. — Он даже не понял, что я оговорился! Я действительно умею излечивать жар и хромоту, немоту и множество других болезней, — с улыбкой пояснил он сколоту. — Но эти цепи и колодку сможет снять с тебя только один человек. — Кто? — прохрипел Лад. Аристарх вздохнул: — Пиратский кузнец… но, боюсь, он не будет «лечить» тебя до тех пор, пока ты не попадешь на невольничий рынок. Он двинулся дальше, наклоняясь к раненым и больным, делал им растирания, прикладывая одним тряпки, смоченные водой, а другим, у кого уже не оставалось сил терпеть боли — мочей. Стоны за ним становились тише… Вскоре в трюме воцарилась полная тишина. Не спал лишь Эвбулид. Подойдя к нему, Аристарх спросил: — А ты почему не спишь? — Я бы поспал! — вздохнул Эвбулид. — Но перед глазами — Дорофей с дочерью… Я видел много смертей, но, понимаешь, ведь она — ровесница моей Филы! — И все-таки тебе надо уснуть! — голос Аристарха стал требовательным. — Тебе очень надо уснуть… Очень… Спи! Сон, как огромная волна, с головой накрыл Эвбулида, и понес туда, где ждала его Гедита, где уже сидели вокруг празднично накрытого стола Диокл, Клейса и почему-то удивительно похожая на погибшую девушку Фила… Старый Армен возлежал на самом почетном месте, словно в праздник Диониса, когда рабам наравне с хозяевами разрешалось пробовать новое вино, и Эвбулид, по обычаю, прислуживал за ним. Армен добродушно трепал его волосы и приговаривал: «Господин, ты свободен!» — Господин, ты свободен! — услышал Эвбулид и открыл глаза. Косые иглы света… духота трюма… раскатистый храп спящего сколота… — Господин… Эвбулид мгновенно вскочил и увидел Армена. Раб лежал на спине. Одна рука его была протянута к Эвбулиду, а другая беспокойно бегала по телу, словно искала что-то. — Ты свободен… — Армен!.. — Господин, я привез два таланта… Ты — свободен! — услышав голос Эвбулида, снова прошептал Армен. — Как два?! — вскричал нагнувшийся над рабом Писикрат. — Как два?.. А я? Армен закрыл глаза. — Да простят меня боги… — прошептал он и сказал купцу: — Твоих сыновей меньше всего волновала твоя свобода… — Что?.. — Они больше допытывались, где ты спрятал свои сокровища… — Святая правда! — зажал рот купец и запричитал: — О, боги, прокляните моих неблагодарных сыновей! Что же теперь будет со мной? О, моя несчастная судьба! — А что же моя жена? — спросил подошедший триерарх. Армен повернул к нему голову, с трудом выговаривая каждое слово, сказал: — Твоя жена велела передать тебе, что я не видел ни ее, ни мужчину в твоем доме… — Лжешь! — замахнулся триерарх и вдруг остановил руку. — Впрочем, я догадывался, я всегда догадывался, чем она занимается в мое отсутствие. Понимаю — я оказался помехой ей! Я, который содержит ее, я! Я! Я! Крики триерарха разбудили сладко спящего Клеанфа. Узнав, что прибыл посланный за выкупом раб, он подбежал к Армену и затряс его за плечо: — Ну, говори, как поживает моя супруга? Здорова? — Здоровее не бывает… — Прохрипел Армен, едва не теряя сознание от боли во всем теле. — Деньги уже отдал пиратам? — Да… — Он привез выкуп только ему! — показал пальцем на Эвбулида Писикрат. — Что же теперь будет с нами?.. — Как?! — Клеанф посмотрел на купца, на Эвбулида, на мрачного триерарха. — Почему?! Он схватил Армена за плечи, но Аристарх властной рукой остановил его: — Отпусти. Не видишь разве — он кончается… — Армен?! — Эвбулид подался к лекарю. — Не может быть! Спаси его! — Увы! — вздохнул Аристарх, ощупывая раба. — Кровь уже покинула многие важные центры, жить ему осталось пять, от силы — десять минут… — Тем более, пока он не подох, пусть скажет, почему не привез мой выкуп! — оттолкнул лекаря Клеанф. — Что — моей жены не оказалось дома?! — Она была… дома… — чувствуя, что губы все хуже повинуются ему, вымолвил Армен. — Так почему же ты тогда не привез мои полталанта?! — Она хотела… погубить тебя… — Лжец! — Она побежала к архонтам… чтобы они выслали против пиратов флот… я предупреждал… Но она хотела погубить тебя… — М-м-м… — сцепив зубы, простонал Клеанф, отходя от раба. — Если бы я мог вернуться — я бы убил ее! — Господин… — слабо позвал Эвбулида Армен. — Иди же… Ты — свободен!.. — Я пойду, — глотая слезы, кивнул Эвбулид. — Но только с тобой! Ты сейчас полежишь, наберешься сил — и мы вдвоем выйдем из этого проклятого трюма! — Да… — глядя на него невидящим взглядом, прошептал раб. — Главарь увидел золото… обрадовался… и сказал, что я тоже свободен… — Вот видишь! Мы с тобой сядем в их лодку, доберемся до Афин! — Да, господин, да… — Я приведу тебя в самый большой храм во время самого шумного праздника, когда вокруг будет великое множество народа! — О, господин!.. — Я трижды обведу тебя вокруг алтаря и крикну, чтобы все, слышишь меня, все слышали: «Эвбулид освобождает Армена!» — Освобождает… — эхом отозвался Армен. — И ты станешь свободным! Будешь жить у меня или, если захочешь, возвратишься в Армению! — Армению… Свободен… Нет!.. Глаза Армена внезапно приобрели смысл, и он сделал усилие, чтобы приподняться. Эвбулид помог ему. — Нет… Я не могу уйти с таким грузом в царство мертвых… Я должен сказать, — зашептал Армен, не обращая внимания на то, что их слышит сколот. — Я привез не твой выкуп… — Как?! — отшатнулся Эвбулид. — Разве Квинт… — Квинт выгнал меня… Велел бить… Это деньги — тех троих… — Так значит, ты обманул? — Нет, господин… Я сказал им чистую правду. Но они не достойны свободы… Иди наверх… не щади их. Они бы тебя… не пощадили… — Значит это их деньги? — Да… Талант купца и по полталанта триерарха и… Клеанфа… Все, господин… Теперь я могу спокойно уйти в подземное царство… Исполни мою последнюю просьбу… — Что? — очнулся Эвбулид и наклонился к рабу. — Да-да, конечно, Армен! — Вот… Раб протянул ему узелок. — Это передал тебе Диокл. Достань самую мелкую монету… Положи мне ее за щеку… Я понимаю, рабу не положено… Да и Харон может не взять у меня платы за проезд… Но если бы ты решился… — Да, Армен, да! Эвбулид торопливо развязал узелок, на пол посыпались монеты самых разных государств — большая серебряная тетрадрахма Афин и медные оболы, халки, лепты: Карфагена с изображением лошади, Египта — с головой Зевса-Аммона и орлом, Сирии — с шагающей Никой. — Смотри-ка! — прохрипел Лад, поднимая совершенно вытертую монету с яркой чеканкой солнечного божества — Гелиоса. — Из Ольвии! От нее рукой подать до моей родины… Эвбулид выбрал афинский обол — с совой и Афиной, как и на тетрадрахме, только медный — Харон не выносит блеска серебра. Вложил ее за щеку с готовностью приоткрывшего рот Армена. — Рабу — обол Харона! — возмутился за его спиной Писикрат. Армен благодарно взглянул на Эвбулида, закрыл глаза и прошептал: — Свободен… Тело его вытянулось. — Все! — положил руку на плечо Эвбулида Аристарх. — Он развязал узел своей жизни. — Я так и знал, что надо было посылать другого раба! — подскочил Писикрат к Эвбулиду. — Это все ты виноват! Ты! — Надо было рожать других сыновей или быть другим отцом! — оборвал его Эвбулид и презрительно бросил, кивая наверх. — Иди на свободу! — Что? — не понял купец. — Иди к главарю и скажи, что один из двух талантов — твой! — Мой?! — купец неверяще взглянул на Эвбулида. — Да! — теряя терпение, вскричал тот. — Советую поделиться тебе с Аристархом! — Но мне может не хватить! — забормотал Писикрат. — Что если пираты потребуют больше? И потом Аристарх не помог мне! — вдруг завизжал он. — Он издевался надо мной вместо того, чтоб лечить, да! Издевался! Купец сорвался с места и бросился к лестнице, падая и поднимаясь, дотянулся до крышки, отчаянно заколотил в нее кулаками: — Эй! Эй! Выпустите меня отсюда! Выпустите!! — Что это значит? — подступил к Эвбулиду триерарх. — Это значит, что полталанта из оставшихся денег — твои! — спокойно ответил Эвбулид. — Иди за Писикратом! — Так значит, моя жена… — задохнулся Клеанф. — Да! — кивнул Эвбулид. — Иди. — Проклятый лжец! — Клеанф пнул бездыханное тело Армена. Эвбулид схватил его за складки одежды на груди и с силой ударил кулаком в лицо. — Слепой осел! Пока ты живешь с этой женщиной, у тебя еще будет не одна возможность убедиться в правдивости слов моего раба… — Эвбулид помотал головой и быстро поправился. — В правдивости Армена! Крышка трюма захлопнулась за последним из трех пленников, которым судьба даровала свободу. Эвбулид сел, обхватив колени руками. «Гедита, Диокл, Фила, Клейса — о боги! — что же теперь будет с ними! Как теперь я буду без них? Зачем я сделал так? Почему не ушел сам?! Почему уступил это право другим?!» Тяжелая ладонь неожиданно легла на руку Эвбулида. Он поднял голову и увидел лицо сколота, его искоса поглядывающие из-за неудобной позы глаза. Лад показал Эвбулиду разогнутые наручники: — А балий говорит, что от них излечить может только пиратский кузнец! Мы еще с тобой убежим! И ты мне покажешь свою, а я тебе — мою родину. Ты поступил так, как сделали бы люди моего племени. Отныне — я брат тебе. Наверху послышался топот, возбужденные голоса. — Отчаливают счастливчики! — вздохнул кто-то с завистью. Это было так. Но только отчасти. В то же мгновение, как шлюпка с тремя афинянами отошла от одного борта, к другому пристала еще одна. Из нее по веревочному трапу на борт поднялся и по персидскому обычаю обнялся с главарем пиратов невысокий толстый человек, посмеивающийся и бросающий по сторонам мелкие, как уколы, недоверчивые взгляды. Это был перекупщик рабов, славящийся среди пиратов сговорчивостью и небывалой скупостью на Хиосе, Делосе, Родосе и других — больших и малых невольничьих рынках Эгейского моря. 3. Страшная весть В самый разгар торжества победителей, шумно пировавших на берегу полоски пролива, за которым виднелась земля Италии, когда выпитым амфорам дорогого фалернского вина из подвалов растерзанных господ был потерян счет, к шатру Евна подскакал едва не падающий от усталости всадник. Захмелевшие часовые, уверенные, что ничто больше не угрожает жизни их обожаемого базилевса, так как вся Сицилия находилась теперь во власти рабов, запоздало вскакивали с земли и с интересом смотрели вслед незнакомцу. Всадник приблизился к двум охранникам из личной тысячи Евна, шепнул им что-то, и пока один помогал ему спуститься на землю, второй быстро шагнул за полог. Вскоре из шатра выскочил одетый, как и полагается «другу царя», в пышные одежды Серапион. — Что случилось? — спросил он, и сидящие неподалеку от костра воины услышали усталый голос гонца: — Римляне высадились в Сицилии! — И ради этого ты скакал двое суток? — удивился Серапион. — Или тебе неведомо, как мы поступаем с отрядами римских преторов? А может, твой гарнизон в Сегесте забыл, как мы наголову разбили Гипсея, Манлия, Лентула? — Но это не преторский отряд! — воскликнул всадник. — Это — целая армия, и ведет ее сам римский консул… Фульвий Флакк! — Консульская армия? — переспросил Серапион, бледнея. — Сколько же их?! — Те, кто наблюдал за высадкой римлян, заверяли, что не меньше ста тысяч. — Это, наверное, им померещилось от страха! — вскричал Серапион. — Я тоже так подумал, сам пробрался к морю и своими глазами видел несколько серебряных орлов! Я приказал захватить пленного, и он сказал, что армию, возглавляет консул. Тогда я решил лично донести обо всем базилевсу. И вот я здесь. А теперь, ради богов, дайте глоток воды! — Напоите его! — дрожащим голосом сказал Серапион и нырнул в шатер. Гонец жадно припал к протянутому кувшину. Обхватив его обеими руками, время от времени переводя дух, он рассказывал обступившим его рабам, как хорошо вооружены римские легионеры, как ловко и быстро поставили они на берегу моря палаточный лагерь с валом и частоколом, превратив его в неприступную крепость. Слух о высадке в Сицилии консульской армии Рима пронесся по всему стану. То, во что здесь боялись верить, против чего заклинали всех небесных и подземных богов: эллинских, фракийских, египетских, иудейских, сирийских, — свершилось. Да и можно ли было ждать иного? Рим, как говорится, случается, медлит, но не прощает никогда. Праздник был испорчен. Глубокое уныние воцарилось над лагерем победителей. Одни, проклиная свою жестокую судьбу, заливали смертельный ужас вином. Другие, трезвея, молча точили мечи и пики. Третьи тихо, чтобы не подслушали многочисленные соглядатаи Евна, прощались друг с другом. — Нет в мире силы, которая могла бы остановить римское войско, если его ведет консул! — вздыхая, говорил бородатый раб из Македонии. — Даже наша непобедимая фаланга, наводившая ужас на врагов почти двести лет, разбилась об их железные когорты! Я до сих пор помню тот черный день, когда воины консула Эмилия Павла гнались за нами, резали, убивали, уводили в рабство… — Все равно хуже, чем нам было у сицилийских господ, — уже не будет! — убеждал у другого костра косматый галл. — Зато теперь мы вволю принесем нашим древним богам кровавые жертвы! — Скорее римляне принесут нас в жертву своей властной богине Роме! — А мне, как воину, куда приятнее умирать от меча врага, чем от плети хозяина! — О боги, разве можно где скрыться от этих господ на земле?.. Сам Евн, тем временем, ошеломленный известием, нервно вышагивал в шатре, отпуская затрещины подвернувшимся под горячую руку слугам. Все члены Совета за исключением Ахея, Фемистокла и Клеона испуганно жались к стенам. — Все пропало! Боги отвернулись от нас… — исступленно бормотал Евн, бросая по сторонам затравленные взгляды. Сирийцы впервые видели своего царя таким жалким и беспомощным, и их лица выражали крайнюю степень ужаса. — Боги отворачиваются от трусливых и слабых! — с присущей ему смелостью возразил Ахей и положил пальцы на рукоять своего меча. — Наше же войско сильно, как никогда! Сегодня мы имеем двести тысяч храбрых воинов, которые научились самому главному: побеждать римлян! Евн остановился, словно налетев на невидимую преграду. — И ты смеешь называть римлянами жалкие преторские отряды? Как главнокомандующий ты должен знать, что мы одолели их только потому, что против каждого легионера было десять, двадцать, сто рабов! Нет — настоящие римляне только сейчас появились на острове, и они жаждут моей головы… моей крови… — Евн! — поморщившись, заторопил царя Ахей. — Воины ждут твоего приказа. Нужно принимать решение! — Нет!.. — затряс головой царь. — Я не могу сейчас! Я не знаю!.. Мне нужно посоветоваться с богами! — Оставь хоть сейчас в покое своих богов! — наклонившись к самому уху царя, прошептал Ахей. — Здесь все свои… — Что?! — отшатнулся Евн, наливаясь кровью. — И это ты говоришь мне?! — Тебе, Евн, — не смутившись, кивнул грек. — Да я велю казнить тебя! — Воля твоя! — согласился Ахей. — Я никогда не говорил с тобой так, но сейчас решается твоя жизнь и судьба тех, кто ждет твоего царского решения там, за шатром! Ты можешь казнить меня, ко знай: никто, кроме меня, не скажет тебе здесь всей правды. А без нее дни твоего царствования сочтены. Уж доверься моему опыту и чутью, хотя я и не умею беседовать с небожителями! — губы Ахея тронула усмешка. Евн с минуту ошеломленно смотрел на него, затем сорвался с места, пробежал в угол, где стоял трон, упал на золоченое сиденье и, зажав бороду в кулак, впился глазами в главнокомандующего. — Что же ты хочешь предложить мне? — Не мешкая выступить против римлян! Разбить их прямо на берегу моря, пока они не освоились в Сицилии, пока им не стали известны все горы и тропы! Разбить и перерезать всех до единого, чтобы никогда больше Рим не протягивал своих рук к твоему царству! — Но это опасно, это очень опасно! — простонал Евн. — Что если не мы, а римляне разобьют нас? Ведь это же будет конец! Он перевел глаза на Серапиона: — А что скажет мой друг? — Я, как и ты, величайший! — А ты, Клеон? Широкоплечий мужчина с черной бородой вышел на середину шатра и опустился на колени перед Евном. — Твоими устами, базилевс, всегда говорили боги! Они освободили нас от проклятого рабства и даровали множество побед! Заклинаю тебя, обратись еще раз к богам, испроси у них совета и благословления. Только в этом я вижу наше спасение! — Обратись к богам, базилевс! — повалился на колени Серапион. Следом за ним на ковры, устилавшие пол шатра, попадали ниц сирийцы и верящие в провидение своего царя рабы из Малой Азии. — Испроси совета у богов! — умоляли они. — Спаси нас… — Это конец!.. — шепнул стоящему рядом Фемистоклу Ахей, хмуро наблюдая за распростертыми слугами царя. — Теперь я начинаю жалеть, что не послушал тебя раньше. — Как знать! — чуть слышно возразил Фемистокл. — Может, это только начало, и, я думаю, у нас еще будет возможность продолжить этот разговор. — Хорошо. Как только прибудем в Тавромений. — Ты думаешь все кончится нашим бегством в столицу? — Уверен! — кивнул Ахей. Он замолчал, потому что Евн, поднявшийся с трона, неожиданно воздел руки над головой и пронзительно закричал: — Всем выйти из шатра! Оставьте меня одного! Я уже слышу голоса богов! Они спускаются ко мне!.. Закрывая уши, чтобы ненароком не услышать того, что не подобает слышать простым смертным, сирийцы, давя и толкая друг друга, бросились наружу. — О, великая Астарта! — вопил Евн, катаясь по коврам. — Я вижу тебя! Я слышу тебя… Губы царя покрылись пеной, глаза стали безумными, он вдруг замер, и на лице его появилась сладостная улыбка: — О, великая!.. Ты узнала меня… — Лекаря бы ему хорошего! — пробормотал Ахей, выходя из шатра последним. — Лекаря? — с усмешкой переспросил Фемистокл и сплюнул: — Палкой бы его доброй по спине — сразу бы вылечился от своих припадков! Через полчаса осторожно приподнявший полог Серапион пригласил членов Совета пройти в шатер. Откинувшийся в изнеможении на спинку трона Евн сообщил, что богиня Астарта велела ему немедленно уводить войско в Тавромений и полностью положиться на ее милость и неприступные стены крепости. Еще через час огромное войско снялось с места и, растянувшись на много десятков стадиев, спешно двинулось к столице Новосирийского царства — Тавромению. Впереди, охраняемый своей личной тысячей свирепых воинов, то и дело оглядываясь, ехал в царской повозке Езн… 4. Сделка Оказавшись в Тавромении, Прот первым делом подошел к начальнику декурии и сказал, что хотел бы поискать родственников, которые якобы были проданы в этот город. Начальник декурии запретил ему даже думать об этом. Тогда Прот решил припугнуть его. — Но я получил разрешение от Фемистокла! — с вызовом сказал он. Начальник декурии, смутившись, переспросил: — От самого члена Совета?! — И, не дожидаясь ответа, заметил: — Тогда, конечно, иди! Получив разрешение, Прот отказался от обеда и бросился на поиски дома Тита. Он быстро шел по неровным улочкам, расспрашивая свободных «сирийцев» и бегущих, словно в Риме рабов, как пройти в центр, помня слова Тита, что его прекрасный дом находился в самом центре Тавромения. Все мысли Прота были заняты радостным предчувствием от скорой встречи с сокровищами, и он не замечал следовавшего за ним человека в неброской одежде, которому Серапион слово в слово повторил приказ Евна: «Не своди с него глаз ни днем, ни ночью, следуй за ним везде!» Спрашивая на ходу прохожих, о чем у них только что выведывал худощавый человек болезненного вида, он шаг за шагом вместе с Протом приближался к центру. Вместо жалких лачуг все чаще стали попадаться приличные дома. Увидев впереди высокое красивое здание, облицованное цветным мрамором, Прот не выдержал и побежал. — Эй! — окликнул он стоящего во дворе у фонтана с мраморными статуями задумчивого мужчину. — Кто хозяин этого дома? — Я! — важно ответил мужчина, исподлобья рассматривая незнакомца. — Я спрашиваю, кто жил здесь раньше! Мужчина мрачно усмехнулся: — А это ты лучше спроси у владыки подземного царства! Кто ты и что тебе здесь нужно? — Я ищу своих родственников… — забормотал Прот, теряясь под тяжелым взглядом хозяина. — Я бывший раб… Из Рима! — Ах, ты из Рима! — голосом, которым ловцы диковинных птиц подманивают павлинов, протянул мужчина. — Ну-ка дай я взгляну на тебя поближе! Он неожиданно подскочил к Проту и вцепился в его горло сильными пальцами: — А ну признавайся: ты лазутчик римлян и они подослали тебя убить меня? — Пусти! — прохрипел Прот. — Сам царь дал мне… свободу! И ты… не имеешь права! Пальцы разжались, и он с облегчением отер шею ладонью. — Я говорю правду! Я ищу родственников, которые были рабами в доме здешнего купца Тита Максима! — воскликнул он. — Отправить бы тебя в Аид следом за этим Максимом! — раздраженно бросил хозяин. — Твое счастье, что свободу дало тебе не собрание, а сам величайший базилевс! — Величайший из великих дал мне целый золотой статер на поиски моих бедных родственников! — соврал Прот, видя с каким благоговением здесь относятся к Евну. — Возьми его, только отпусти меня… Мужчина отвел в сторону ладонь Прота с золотой монетой и почтительно сказал: — Любое желание любимца Астарты для меня закон! Комман! — крикнул он, и во двор вбежал темноволосый юноша. — Ты не знаешь, кто из наших сейчас живет в доме Тита… Как ты сказал? — доброжелательно спросил он у Прота. — Максима! — Тита Максима? — живо переспросил Комман и на мгновение задумался: — Кажется, так звался отпущенный великим базилевсом римский богач!.. — Да-да, это он! — обрадовался Прот. — Тогда его дом дарован главнокомандующему Ахею! — Это недалеко! — добавил хозяин. — Но чтобы ты не заплутал и быстрее выполнил желание Антиоха, я дам тебе в провожатые раба. Эй, Сард! — позвал он. — Покажешь этому господину дом Ахея! «Ну вот я уже и господин! — усмехнулся про себя Прот, выходя на улицу следом за тощим рабом. — Посмотрим, что они скажут, когда я стану обладателем пятидесяти миллионов!» — Слушай, Сард! — повеселев, спросил он. — А кто он, твой хозяин? Раб с удивлением посмотрел на Прота. — Как? Ты не знаешь?! В Тавромении он известен всем, и каждый старается не попадаться ему на глаза! — Но я всего лишь день в войске Антиоха! — объяснил Прот. — Тогда знай: этот господин во много раз страшней самого Тита Максима, он — правая рука самого царя Антиоха, и зовут его — Клеон. Ты, видно, счастливый человек, если вышел живым из его рук. Мало кто может похвастаться этим, ведь Клеон — бывший пират! У него у самого была целая армия, но он встал под начало Антиоха, потому что больше всего на свете боится и любит Астарту! А вот и дом Ахея! Отпустив раба, Прот, чувствуя, как заходится в груди сердце, глядел на дворец, возвышавшийся над остальными домами и даже не заметил, как к Сарду подскочил соглядатай Серапиона. Дрожащей рукой Прот поднял молоток, ударил в дверь. На стук быстро вышел мужчина, одетый в греческий гиматий. — Ты Ахей? — почтительно спросил у него Прот, отступая на шаг. — Нет, я управляющий дворцом командующего! — ответил грек, вопросительно глядя на вошедшего. — То-то я смотрю у тебя такое же клеймо, как у Фемистокла! — заметил Прот, указывая пальцем на сову у виска мужчины. — Так ты от Фемистокла! — воскликнул управляющий. — Наконец-то! Проходи скорей! Следуя за греком, Прот оглядывался по сторонам, дивясь многочисленным статуям и покрытым коврами ступеням. В одном из залов он даже невольно убрал ногу, чтобы не наступить на глаз мозаичного чудовища. — Это бывший дом Тита Максима? — спросил он. — Да, — охотно ответил управляющий. — Евн даровал его Ахею за победы над римлянами! Но говори: где Фемистокл? — Фемистокл? — озадаченно переспросил Прот, не в силах оторваться от мыслей, что и у него теперь будет такой же дворец в Пергаме, со статуями и мозаикой. — Да! — заторопил его грек. — Ахей в нетерпении! Когда он придет? — Скоро! — недолго думая, ответил Прот, резонно соображая, что раз у Ахея с Фемистоклом была назначена встреча, то знакомый ему грек обязательно прибудет вовремя. — Да, — уверенно повторил он. — Скоро! Фемистокл будет здесь ровно через четверть часа, он послал меня вперед предупредить, чтобы Ахей не волновался! — Пойду обрадую главнокомандующего! — воскликнул грек, направляясь к лестнице, но Прот удержал его за локоть. — Скажи, — помявшись, спросил он, — где здесь… — А-а! — догадался управляющий. — Вон за той статуей — и направо. — Да нет! — перебил его Прот, вспоминая слова Тита, что сокровища спрятаны под рабским отхожим местом. — Я не могу, где мрамор и статуи! Мне бы где попроще… — Тогда выйдешь во двор — и в глубине, за садом, — махнул рукой грек. Выскочив из дворца, Прот огляделся и направился к саду. Он шел мимо изумрудных бассейнов, уставленных мраморными богами и героями, миновал благоухающие деревья, и сразу за ними словно окунулся в свою прежнюю страшную жизнь. Как цветы и спелые фрукты растут на навозе и человеческом прахе, так этот сад и дворец покоились на рабских страданиях… Резким зловоньем дохнуло в лицо Прота из распахнутой двери эргастула. Он пробежал еще дальше и увидел то, ради чего отправился в Сицилию: крошечный сарайчик в углу двора. «Ай, да Тит! — восторженно подумал он. — Ну разве кто может подумать, что под ним спрятано несметное богатство?!» Он вбежал в нужник, выскочил, снова вошел и снова вышел наружу. Только теперь до него дошло, что золото и серебро римлянина нужно было не только найти, но и достать. Но как? Подкупить рабов? Для этой цели у него был один золотой статер… Прот кинулся в эргастул, но все его комнаты были пусты. Очевидно, рабы Ахея занимались домашними делами. — А, вот он где! — внезапно послышалось за спиной. Прот затравленно оглянулся и увидел невысокого мужчину в неброском плаще и поигрывающего плеткой Серапиона. — Нет!.. — прохрипел Прот. — Мое! Не отдам!! — А ну показывай, что тут твое! — грозно надвинулся на него Серапион и знаком приказал спутнику обыскать все вокруг. Мужчина в плаще на коленях обшарил весь сарайчик, заглядывая в каждую щель, пробежал по дорожкам, обошел эргастул и с торжественным криком поднял выроненный Протом статер. — Господин, вот что он искал! — Дурак! — отрывисто закричал Серапион. — Разве это мне нужно? — Но, господин! — возразил Прот, обрадовавшись нечаянному спасению. — Я искал именно этот подаренный мне самим базилевсом статер. — И для этого ты сломя голову бежал сюда через весь город и искал бывший дом Тита Максима? — насмешливо спросил Серапион. — Оставь эти сказки для него! — пренебрежительно кивнул он на своего спутника. — А мне ты скажешь всю правду! Коротко просвистела плеть. Прот по привычке не защищаться от удара господина, лишь втянул голову в плечи и почувствовал на лице слепящий ожог. «Да, с этим человеком шутки плохи!..» — подумал он, едва не плача от отчаяния. — Я выведаю у тебя все! — кричал Серапион. — Но не здесь! Ты заговоришь у меня в подвале! И скажешь все, что хочется знать базилевсу! Толкая в спину, он повел Прота перед собой. — За что ты его? — встревоженно спросил встретившийся им у входа в дом управляющий. Прот повернул голову к греку и усмехнулся сквозь слезы: — Да за то, что я предупредил твоего господина о приходе Фемистокла! Управляющий испуганно приложил палец к губам, умоляя Прота молчать, но было уже поздно. — Как — Фемистокл здесь? — вскричал Серапион. — Это что, заговор?! Теперь я, кажется, начинаю понимать, — забормотал он. — Этот подозрительный раб из Рима, его обещание базилевсу выкупить целый корабль с гребцами… причем, именно римский военный!.. Высадка консульской армии… наконец, дом Тита Максима, где встречаются Ахей и Фемистокл… Заговор! Эй, стража! На зов коменданта Тавромения с улицы вбежала группа вооруженных людей. — Взять их! — приказал Серапион, показывая на управляющего и Прота. — Что за шум в моем доме? Серапион, ты с кем это там развоевался? — послышался насмешливый голос, и Прот увидел идущего по дорожке высокого человека с совой на щеке. Следом за ним шел Фемистокл. — Ахей! Сам Ахей! — растерялись охранники. Управляющий вырвался из их рук и подбежал к главнокомандующему. — Вот он, — указал он на Серапиона, — утверждает, что в твоем доме заговор! Греки переглянулись, и Прот заметил, как побледнели их лица. — А ну прочь отсюда! — нахмурился Ахей, глядя на Серапиона. Охранники в страхе попятились, но комендант Тавромения жестом остановил их. — Я выполняю приказ царя! — злобно усмехнулся он. — И поэтому уведу сейчас твоего управляющего и этого лазутчика римлян. — Из моего дома?! — Да хоть с самого Олимпа! Если на то будет воля базилевса, я прикажу своим людям взять и тебя с Фемистоклом! — пригрозил Серапион, уверенный в том, что Евн не простит главнокомандующему его прямоты в шатре. — Что? Меня?! — взревел Ахей, хватаясь за меч. — Погоди! — остановил его справившийся с волнением Фемистокл и с усмешкой взглянул на сирийца: — Значит, целый заговор? Интересно, и против кого же? — Это я доложу базилевсу этим же вечером! — тоже с усмешкой пообещал Серапион и показал плеткой на Прота: — А может, и раньше, если он сразу расскажет, зачем ты послал его в дом главнокомандующего предупреждать о твоем приходе. Чего ты боялся? — О боги! — воскликнул Фемистокл и недоуменно взглянул на Прота: — Зачем тебе понадобилось лгать, что я посылал туда к Ахею? Прот не ответил. — Надеюсь, ты разрешишь мне переговорить с ним наедине? — осведомился Фемистокл. — Или предпочтешь получить приказ от члена Совета? Серапион злобно прищурился и жестом приказал охранникам отойти в сторону. — Пожалуйста! — прокричал он издали. — Но учти: о чем бы вы ни сговорились, через час я все равно вышибу из него правду! Оставленный наедине с Протом Фемистокл горько усмехнулся: — Ты понимаешь, что натворил? Теперь погибло все, да и сам ты в первую очередь! — Но я не хотел… я только… — промямлил перепуганный Прот. — Что только? Говори, зачем ты шел сюда, почему назвал мое имя, или ты… — Фемистоклу пришла в голову страшная догадка: а не подослан ли этот человек самим Евном, чтобы погубить их с Ахеем, последних греков в Совете? Прот молчал, лихорадочно думая, что ему делать — открыться этому эллину, и тогда он, может, что-нибудь придумает для его спасения или же так и умереть сразу с двумя тайнами в голове… — Я искал здесь золото… — наконец решился он. — Что?.. — Золото Тита Максима — пятьдесят миллионов сестерциев, не считая сиракузских статеров и посуды… — Значит, твое обещание купить корабль — правда?! — воскликнул Фемистокл. — Да… Мне нужно было пробраться в этот дворец, и я назвал твое имя. Это вышло случайно, и я не знал… — Пятьдесят миллионов сестерциев! — оборвал его грек. — И ты знаешь где они? — Да, — опустил голову Порт. — Где же? Прот сцепил зубы и замотал головой: — Об этом я могу сказать только Антихоху! — Пятьдесят миллионов… ты искал меня, чтобы найти их и поэтому отправился предупредить Ахея… Лицо Фемистокла просияло. — Мы спасены! Не может быть, чтоб Евн не клюнул на такую щедрую приманку! Так где, говоришь, спрятаны эти сестерции? — Это я скажу только Антиоху! — упрямо повторил Прот. — Ну как знаешь! — согласился Фемистокл. — Отдай ему эти деньги, и наша жизнь будет вне опасности! За пятьдесят миллионов Евн помилует даже виновного! — Как?! — глаза Прота расширились, он даже забыл об опасности. — Отдать ему все?! — Конечно! — улыбнулся Фемистокл. — Ты просил у него корабль и гребцов — он с радостью даст их! Или ты уже не хочешь в Пергам? — Хочу! — воскликнул Прот. — Мне срочно надо туда, потому что римляне отправили в Пергам моего господина, который должен убить Аттала и подделать его завещание о передаче всего царства Риму! Но… — О боги! — возмутился Фемистокл. — Твоя родина в опасности, а ты торгуешься? Слушай меня внимательно. Сейчас ты отправишься с Серапионом к Евну и скажешь ему, где спрятаны богатства Тита Максима. Не перебивай! До этого ты должен вынудить Евна поклясться при всех Астартой и дать царское слово, что он не обманет тебя. И чтобы он обязательно назвал срок, когда даст тебе этот корабль и гребцов, скажем: через неделю. Ты понял меня? Эй, Серапион! — окликнул он. Комендант Тавромения подошел к греку с пергамцем и хмуро оглядел обоих. — Ну вот что, — Фемистокл с трудом сдерживал радость. — Я действительно посылал его к Ахею предупредить о своем приходе. Серапион изумленно взглянул на грека. — Да-да! — подтвердил Фемистокл. — Дело в том, что в доме главнокомандующего бывшим хозяином спрятано пятьдесят миллионов сестерциев, не считая золота и драгоценной посуды. Я первым хотел доложить базилевсу об этом, но твоя проницательность и ловкость, Серапион, вынуждают меня уступить тебе это право… — Он говорит правду? — наклонился к Проту Серапион. — Да… — чуть слышно ответил Прот. — И где же эти сокровища?! — Об этом я скажу только базилевсу… — Так пошли же скорее! Во дворце Евна, к счастью Прота, оказалось множество посетителей и почти все члены Совета. «Поклявшись в их присутствии Астартой, царь не сможет нарушить слова! — радостно подумал он, но тут же вновь помрачнел от мысли, что сейчас ему придется расстаться со всем сокровищем Тита. — А почему это со всем? — мелькнула спасительная мысль. — Денег много, столько, что хватит нам обоим! И потом, благодаря Фемистоклу я теперь знаю, как вести себя с царем!» Прот с облегчением вздохнул и стал нетерпеливо ожидать, когда царь закончит разбираться с группой оборванных людей, приведенных начальником военного отряда. — Итак, — обращаясь к воину, говорил Евн, — ты утверждаешь, что городские бездельники под видом рабов сжигали мелкие поместья и разоряли продолжающих трудиться крестьян? — Да, базилевс! — поклонился начальник отряда. — Они расхищали имущество и все их запасы, называя себя восставшими рабами! — И тем самым могли обречь моих подданных в будущем на голод? — О нет! Мы даже не думали об этом! — закричали обвиняемые, падая на колени. — Пощади нас! — Не губи!.. — Повелеваю! — властным голосом оборвал их Евн. — Раз они назвали себя рабами, так пусть и будут ими! Заковать их, выжечь каждому на щеке клеймо и отправить на работы! — О, великий! — О, мудрый! — восторженно принялись восхвалять базилевса сирийцы. Расталкивая их, обступивших льстивой толпой трон, Серапион на ухо доложил царю о случившемся. — Подойди ко мне! — приветливо подозвал Прота Евн и едва тот приблизился, цепко ухватил пергамца за руку: — Лжец! Я ведь уже получил сокровища Тита Максима! — Это была лишь часть! — возразил Прот, цепенея под пристальным взглядом царя. — И ты знаешь, где все остальное? — Да, базилевс! — кивнул Прот. — И кроме меня этого не знает никто. Тит Максим мертв, а твои люди ни за что не найдут его тайника, даже если потратят на это всю свою жизнь! — Хорошо, — согласился Евн. — И что же ты хочешь? — О, базилевс! Я хочу римскую военную трирему, которая бы доставила меня в Пергам!.. — Ты получишь ее! — Гребцов на трирему, лучше всего из бывших рабов-пергамцев! — Я дам тебе две сотни таких гребцов! — пообещал Евн. — И еще… половину сокровищ Тита Максима! — выпалил Прот. — Хм-мм! Половину?! Прот уже не слышал, как вскрикнул Фемистокл. Позабыв все предостережения грека, он быстро добавил: — Да, базилевс! Поклянись Астартой и дай свое царское слово выполнить все, о чем я прошу, и я тут же покажу твоим людям, где спрятано золото! Евн внимательно посмотрел на Прота, и вдруг глаза его хитро прищурились: — Значит, корабль, гребцов и половину денег? — Да, базилевс, да! — И это все? — громко, чтобы слышали все, уточнил Евн. — Конечно! — Ну что ж, клянусь Астартой и даю свое царское слово, что ты получишь все, что просишь. — Срок! — прошептал Фемистокл. — Пусть назовет срок!.. Но Прот не слышал его. — О, великий! — вскричал он, падая на колени перед царем. — Твоими устами говорят сами боги! Слушай же: Тит Максим запрятал свое золото под рабской отхожей ямой! Евн сделал едва заметный жест Серапиону, и тот, кивнув, мгновенно исчез. — Так я могу завтра же отправиться в Пергам? — подползая к царю и целуя край его халата, спросил Прот. — Завтра? — удивленно переспросил Евн. — Разве я сказал завтра? — Но к-когда же? — запинаясь, воскликнул Прот. — Может, через неделю, а может, через год! — пряча усмешку, ответил Евн. — Через год?! — Дорога в Пергам длинна и опасна, море кишит пиратами и римскими кораблями! — обращаясь больше к Совету, чем к пораженному Проту, терпеливо объяснил царь. — Прежде чем отправить в такой путь двести своих подданных я должен испросить на это благословения богов! — Так испроси его сейчас! — простонал Прот. Евн глазами приказал охранников убрать от трона пергамца и сказал так, чтобы слышали все: — Я не могу говорить с богами об этом, когда консульская армия Рима высадилась в моем царстве! Кстати, это относится ко всем, кто еще хочет обратиться ко мне с подобными пустяками! 5. Седьмое чудо света С самого начала своего пребывания в Пергаме Луций Пропорций не переставал изумляться богатству и необычности увенчавшего вершину высокой горы города. Он внутренне ахнул еще когда македонский корабль бросил якорь в прекрасно оборудованном порту Пергама — Элее. Что осиротевшие гавани Афин и Александрии, Брундизия и Олинфа! Даже всегда радовавшие его взор причалы Рима казались теперь убогими при виде множества торговых судов со всех концов света. Казалось, вода вот-вот выйдет из берегов от их количества и тяжести дорогих грузов в переполненных трюмах. Каких только гербов, значков, скульптур на акростолиях не было здесь! Охвативший своими острыми рогами лучистое солнце полумесяц на парусах триер Понтийского царя Митридата, гордое изображение орла Птолемея на судах с царским грузом из Александрии, родосский Гелиос, каппадокийский скорпион, херсонесская Дева — хранительница далекого города на самом севере холодного Эвксинского Понта, гербы, гербы: Финикии, Фасоса, Ликии, Том, Пантикапея, Одессоса, Сирии… Не было среди всего этого великолепия лишь воинственных римских трирем с непобедимыми легионерами на палубах, зато в отдалении грозно стоял на рейде охранявший покой родного города и его богатых друзей могучий военный флот Пергама. «Давай, охраняй для нас все это добро!» — усмехнулся про себя Луций. Повеселев, он нанял на пристани носильщика с тележкой, и когда пергамец затребовал плату вперед, нахмурился. Первый раз за время своего путешествия ему пришлось развязывать тугой кошель с серебряными монетами: здесь, на мощеной каменными плитами земле кончались владения всесильного Рима, и выданная самим городским претором легация, перед которой бледнели и расшаркивались все в Италии и Македонии, превращалась в никчемную жалкую бумажку. — Римлянин? — на приличном греческом языке недружелюбно спросил носильщик, бросая взгляд на тогу Луция и вертя в пальцах денарий. — Да, — тоже по-гречески ответил Пропорций, предупрежденный, что этот язык здесь в особом почете. — Тогда с тебя еще две таких монеты! — хмуро заметил носильщик. — Это еще почему? — возмутился Луций. — Твой сосед запросил только что у грека всего одну драхму! Носильщик усмехнулся: — То с грека! Ему лишь бы добраться до алтаря Зевса и публичной библиотеки! — А я по-твоему зачем приехал? — усмехнулся Луций, протягивая носильщику еще два денария. — Ты? — пергамец скользнул по лицу римлянина. — Ограбить нас! — Что? — опешил Пропорций. — Ну да, — подтвердил носильщик. — Ограбить и прибрать каш Пергам к рукам своего Рима! Луций оторопело уставился на носильщика, а затем стал затравленно озираться по сторонам: казалось, все взоры были устремлены на него. Косо глядящий на его римскую тогу пергамский военачальник… осмотревший его с ног до головы знатный вельможа… надсмотрщик за рабами на разгрузке критского судна… Даже сидевшие к нему спиной купцы, казалось, только делают вид, что сговариваются о ценах, на самом деле они, возможно, лишь выжидали момент, чтобы схватить его и доставить в пыточные подвалы дворца Аттала… — С чего это ты взял?.. — еле ворочая от страха языком, спросил он. Носильщик снова взглянул на чужестранца и усмехнулся: — Да у вас, римлян, это на лицах написано! Как только приезжает новый ростовщик из Рима, так некоторые улицы, а то и целые кварталы перетягивают потуже пояса на халатах! Только и выискиваете, кого бы еще ободрать! От ваших процентов только два пути: петля или рабство… Весь Пергам уже стонет от вас, хотя твоих земляков пока здесь немного — две или три сотни. А что если вас будет тысяча? Десять тысяч?! Чей будет тогда Пергам?! — А-а!.. — с облегчением выдохнул Луций. — Поэтому я и беру с тебя две лишние монеты, чтобы напиться на них и забыть о том, что завтра будет со мной и с моими несчастными земляками! — воскликнул носильщик. — Ты опасный человек! — медленно проговорил Луций. — И я не хочу доверять тебе свои вещи! — Да я и сам не хочу везти их! — закричал пергамец. — Подавись своими кровавыми денариями! — швырнул он монеты под ноги римлянину, и они, звеня, покатились по мостовой. — Я лучше подохну от голода, чем куплю на них хоть корку хлеба! Новый носильщик к которому обратился Луций, оказался сговорчивее первого. Он быстро погрузил на тележку три сундука и вопросительно взглянул на римлянина. — В гостиницу! — бросил ему Пропорций. — Тогда с господина еще один денарий! — сказал носильщик. — Это еще почему? — Потому что господин — римлянин… — Опять начинается! — возмутился Луций, но пергамец спокойно сказал: — Мне придется везти твои вещи в Верхний город, а это далеко и тяжело. — А разве в Нижнем городе нет приличных гостиниц? — спросил Луций. — Есть! — ответил носильщик. — Но в ней останавливаются пергамские купцы, которые очень сердиты на римлян. Если они увидят тебя в гостинице, то у господина могут быть неприятности… — А в Верхнем городе? — О! Там живет наша знать, и она очень любит вас, римлян. — Тогда давай в Верхний город! В пути носильщик неожиданно разговорился. Как вскоре понял Луций, это был влюбленный в свой город человек, знавший о Пергаме все. — Сначала эти края были священными землями кабиров! — безостановочно рассказывал он. — Потом здесь появились аркадские переселенцы под предводительством Телефа, сына самого Геракла и Авги! Потом сюда пришел Пергам, сын Пирра со своей матерью Андромахой, основавший на вершине этой горы небольшую крепость. Затем… — Скажи, — перебил носильщика Луций. — А ты давно видел царя? — Полтора года назад! — кивнул носильщик и продолжил: — Затем сюда пришел Асклепий из Эпидавра, по-вашему: Эскулап… — А как его здоровье? — снова перебил пергамца Пропорций. — Кого? — Ну, не Эскулапа же! — Ах да, Аттала! Откуда мне знать? Царь вот уже больше года, как заперся в своем дворце и не выходит оттуда. — Но что-то же у вас говорят о нем! — заметил Луций. — Например, как долго ожидают разрешения на встречу с ним чужестранцы… — А им вообще нечего ждать! — пожал плечами носильщик. — Царь никого больше не принимает — ни греков, ни пергамцев, ни вас, римлян! Так что ты не сможешь попасть в его дворец, зато можешь побывать в нашей Публичной библиотеке! А у вас, в Риме, есть библиотеки? — Д-да… — рассеянно пробормотал озадаченный Луций. — У нас одна захваченная Эмилием Павлом в Македонии библиотека царя Персея чего только стоит! — А она тоже публичная, как и у нас? — продолжал допытываться носильщик. — Она?.. — замялся Луций. Ему не хотелось унижать достоинства Рима отсутствием того, что есть в каком-то Пергаме, и он значительно заметил: — Между прочим, в этой библиотеке простым скрибой служит сын македонского царя! — И в ней тоже работают ученые? «Вот заноза!» — мысленно ругнулся Луций и, оглядевшись, поспешил перевести тему разговора: — Какая у вас чистота! Я бывал во многих городах и столицах, но нигде не видел таких чистых и ухоженных улиц. Будет теперь что рассказать о Пергаме дома, моим любопытным соседям! — доверительно обратился он к носильщику, стараясь вызвать его на откровенный разговор. Но реакция носильщика на похвалу оказалась совершенно неожиданной. — Как?! — изумленно вскричал он. — Господин считает, что Пергам это всего лишь богатый порт и чистые улицы? А наш алтарь Зевса?! Наши дворцы, храмы?! Носильщик резко повернул тележку в проулок. — Стой! Куда?! — попытался остановить его Луций, но пергамец не слышал его. — Вот — наш гимнасий, термы, городской колодец! — кивая по сторонам, объяснял он. — Это — Верхний рынок, центр всей гражданской жизни Пергама. А это — библиотека! В ней двести тысяч свитков! Разве она хуже Александрийской, которую незаслуженно причисляют к одному из семи чудес света?! — Сумасшедший город!.. Сумасшедшие люди… — бормотал Пропорций, с трудом поспевая за носильщиком и бросая беглые взгляды на красивый мраморный портал над городским колодцем, огромное здание библиотеки, скалы, угрюмо нависшие над Верхним рынком. Внезапно глаза его оживились: Луций заметил на возвышении дома знати. Один из них вполне отвечал его будущему положению сенатора. — А ну поворачивай вон к тому дому! — приказал он. — Я попрошу его хозяина взять меня на постой! — Ты можешь даже не мечтать договориться с ним! — усмехнулся носильщик. — Что ты можешь понимать в делах достойных людей! — возмутился Луций. — И в твоем Пергаме любят золото! — Он не примет от тебя даже все золото Рима! — Тогда я одарю его своей дружбой! — Дружить с ним — опасное дело! Однажды он пригласил на пир всех своих друзей и советчиков и велел охране перестрелять их из луков! — Кто же он? Городской судья? — Бери выше! — Ближайший друг царя? Носильщик оглянулся и весело оскалил зубы: — Еще выше! Это — сам царь! — Не может быть… — пробормотал Луций, оглядывая дом. — И здесь живет ваш Аттал?! Он невольно вспомнил, как знакомый египетский купец водил его по дворцу Птолемея в Александрии. Это был действительно царский дворец, в котором не побрезговали бы жить даже боги. Это был целый город: гигантский роскошный дворец с просторными залами для торжественных приемов и бесчисленными рядами комнат для придворных и сановников, побочных жен царя, евнухов, любимых мальчиков фараона; великое множество слуг окружали десятки зданий, разместившихся вокруг дворца. И все равно Птолемей был недоволен и требовал надстроить дворец… — А вот и алтарь Зевса! — торжественно сообщил носильщик, выкатывая тележку на просторную площадь. Луций нехотя проследовал за ним и ахнул, так же, как и часом назад, в пергамской гавани. Но теперь все эти корабли с гербами и значками казались песчинками по сравнению с тем, что открывалось его глазам. Небольшие статуи и колонна с носами захваченных в морских битвах кораблей были не в счет. Огромный, но несмотря на это удивительно легкий, почти невесомый мраморный квадрат с вдавленной серединой, заполненной стремящимися к жертвеннику ступенями, высился перед ним. Ионические колонны, образующие порталы… легкокрылые площадки… и снова — ступени, ступени… Всю северную сторону двора занимали многочисленные статуи из бронзы и мрамора, каждая из которых была столь великолепна и знаменита, что удостоила бы чести как афинский Парфенон, так и римский Форум. Но Луций даже не взглянул на них — так захватили его внимание фризы с изображением смертельной битвы богов и гигантов. Они выступали отовсюду — из углов, карнизов, и были так могучи, что им уже не хватало отведенного волей архитекторов пространства, в ход шли море, земля, небо… Обрушивающий молнии на восставших гигантов Зевс, казалось, достает взметнувшейся рукой до самого солнца. Афина, как и ее отец, повернутая к Луцию лицом, порывистым движением указывала на горную вершину, где хорошо было видно ее святилище. За грозной фигурой Посейдона переливалось всеми красками море. Радость победы, ликование сквозило в фигурах и лицах Аполлона, Диониса, Океана… Растерянностью и смертельным ужасом веяло от чудовищ со змеиными телами и головами быков и львов… Луций никогда не видел более совершенного и впечатляющего сооружения, созданного руками человека. И дело было не в размерах — египетские пирамиды были куда выше алтаря, но они вызывали лишь уважение, страх перед ничтожеством человека, а не священный трепет. Не в мастерстве: одно из семи чудес света — статуя Зевса работы Фидия в греческой Олимпии была пределом совершенства по сравнению с этими небрежными, а кое-где даже наспех сделанными скульптурными картинами, но, в отличие от него — величественного и безжизненного, они жили, ликовали, погибали… И уже совсем ни в какое сравнение с алтарем не шла гробница царя Мавзола — Мавзолей, которую Луций видел мельком, проезжая через Галикарнас. Луций повернулся к зачарованно глядящему на алтарь носильщику, хотел сказать, что увидел сейчас самое первое из семи чудес света, и вдруг, холодея, заметил, что тележка его пуста. — Эй! — вскричал он, озираясь и видя вокруг одни восторженные лица. — Где мои вещи?! — О, Афина! Носильщик бросился вправо, метнулся влево. Возвратился с разведенными руками. — Господин, не губи!.. У меня пятеро детей… Неужели ты хочешь, чтобы они стали рабами? Кто-то из окруживших Луция зевак злорадно прошелся по адресу ограбленного римлянина. Тучный купец прошагал мимо, больно толкнув его в плечо, и пробурчал: — Развелось в Пергаме римлян, шагу уже ступить нельзя, чтобы не натолкнуться на них! — Так ему и надо! В другой раз Луций нашел бы, что ответить всей этой толпе, дружно поддерживающей носильщика, у которого по щекам уже текли слезы. Но сейчас ему было не до этого. В сундуках лежало несколько кошелей с серебром и золотом для закупки оливкового масла и роскошная одежда для визита к царю. Но главное — там была легация. Кто он теперь здесь, в ненавидящем его городе, без документов, без денег, без достойной римской одежды?! Да, в Пергаме есть римляне, которые должны знать его. Но вся беда в том, что они знают Луция Пропорция, а не Гнея Лициния. А если же здесь прозвучит его имя, то все для него будет кончено: и провинция Азия, и сенаторская туника, и будущее консульство… Луций был в отчаянии. — Негодяй! — закричал он, с трудом удерживаясь, чтобы не ударить носильщика. — Ты нарочно подвел меня к этому алтарю, и пока я смотрел на возню богов и гигантов, твои дружки утащили мои сундуки! Ты не оплатишь мне тысячной доли всего того, что было в сундуках, если даже тебя с детьми сто, двести, триста раз продадут в рабство! И все-таки я проучу тебя! Где стража?! — Господин! Пощади… — Нет, я воздам тебе по заслугам! Готовь свою мерзкую шею к рабскому ошейнику! Ты станешь моим личным рабом, и я каждое утро, каждый полдень, каждый вечер буду напоминать тебе о сегодняшнем дне! Стража!! Толпа пергамцев, услышав угрозы римлянина, подалась вперед, еще секунда — и Луций был бы раздавлен, растоптан, истерзан ею… Спасение пришло неожиданно. Где-то рядом послышался властный голос: — А ну разойдись! Полтора десятка вооруженных рабов, стоящих перед вельможей, бросились вперед, расталкивая пергамцев, замахиваясь на них мечами. Узнав в чем дело, вельможа дружелюбно сказал Луцию: — Не отчаивайся! Сундуки твои тяжелы, и воры вряд ли успели далеко унести их. Эй! — хлопнул он в ладоши, подзывая рабов. — Быстро в погоню! Каждый, кто принесет сундук, получит свободу! Рабы стремглав бросились в разные стороны. Не прошло и пяти минут, как шестеро из них появились с тремя сундуками, держа их за обе ручки. Луций подскочил к ним, проверил печати: они были целы… — Ты спас меня! — поднял Луций сияющие глаза на вельможу. — Ты спас мою жизнь, даже… больше, чем жизнь! Я найду, как мне отблагодарить тебя! Плачущий на этот раз от счастья носильщик подполз на коленях к вельможе и исступленно принялся целовать край его расшитого золотом халата, умоляя в знак признательности за спасение семьи взять его жизнь. Знатный пергамец, не обращая на него внимания, подозвал принесших сундуки рабов и сказал: — Вы оказались хитрее, чем я ожидал: вшестером принести то, что легко могли донести трое! Но я прощаю вас! Радость римского гостя для меня дороже. Поэтому вы свободны. Только прежде отнесите эти сундуки ко мне домой! А ты, — наконец заметил он мигом вскочившего на ноги носильщика, — сегодня вечером придешь ко мне. Жизнь твоя мне не нужна, оставь ее детям, но разговор к тебе будет. Как там тебя по имени? — Демарх, мой господин, да не обойдут тебя всеми милостями боги! — Де-марх! — запоминая, повторил вельможа и повернулся к недоумевающему Луцию: — Меня зовут Эвдем. Ты, кажется, говорил, что хочешь отблагодарить меня? Так знай — лучшей для меня благодарностью будет, если ты почтишь мой дом своим присутствием и пробудешь в нем столько, сколько потребуют твои дела в нашем славном Пергаме. Конец первой книги КНИГА ВТОРАЯ «…пусть меня Рабом считают благородным. Нет имени — я душу сберегу, Все ж лучше быть по имени рабом лишь. Чем на плечи одни да оба зла: И рабский дух иметь, и рабский жребий». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  1. Хозяин Пергама На высокой постели из слоновой кости, украшенной золотыми фигурками богов, утопая в мягких подушках, лежал худощавый человек лет двадцати пяти с белокурыми кудрявыми волосами и такой же светлой неряшливой бородой. Его большие выпученные глаза, отливая нездоровым блеском, неотрывно смотрели на золотого Зевса с рубиновыми глазами. Полные губы, беспрестанно вздрагивая, неслышно шептали молитву повелителю всех богов. Это был царь Пергама — Аттал, прозванный в своем народе Филометором[87], шестой по счету правитель богатейшего государства мира, которое стало центром всего, что чувствовало себя истинно эллинским, и третий носящий тронное имя Атталидов. Это был последний царь греческого происхождения, в жилах которого текла кровь всех диадохов — полководцев Александра Македонского, разделивших после смерти своего кумира его великое царство: Птолемея Лага, Лисимаха, Селевка Никатора… «О, Зевс! Зевс! Зевс!.. — иступленно твердил он про себя, чувствуя, как сдавливает от слез горло. — О, великий из всех богов, ты, карающий зло и несущий людям справедливость, зачем ты сделал несчастнейшим из всех смертных не беглого раба… не ленивого крестьянина… не продажного вельможу, а меня: повелителя целого народа, твоего наместника на этой земле?! Зачем ты отдал своему брату Аиду мою мать Стратонику и милую, нежную Беренику, которая так и не успела стать моею женой?.. Почему не отвратил подлую руку, поднесшую им отравленную чашу, не предупредил меня, чтобы я дал им противоядия, ведь ты знаешь, что я изобрел средства против всех известных на земле ядов?!» Чуткое ухо царя уловило тихий говор за дверью: то ближайшие вельможи, не решаясь переступить порога царской спальни, гадали, в каком настроении проснулся сегодня их повелитель. Глаза Аттала злобно сощурились на дверь, уголки губ задергались. «Да, великий, я отомстил… Я собрал на пир всех тех, кто мог быть причастным к убийству матери и невесты, всех старых советников отца и велел своей охране перестрелять их из луков. Этим я вырвал у змеи, имя которой — заговор, самый большой ядовитый зуб. А если у нее их было два? Пять? Десять?! О, великий Зевс, помоги мне, избавь от врагов, убереги от друзей, открой глаза на то, что истинно творится за моим дворцом! Где? За каким домом, каким поворотом кинжалы, пики и отравленные стрелы? Они смотрят своими остриями мне прямо в глаза!.. Я не выдержу этого, о, великий!..» Пока Аттал, давясь рыданиями, бился головой в подушки, его ближайшее окружение, стоящее за дверью спальни, никак не могло прийти к решению, кому входить первому. «Друг и советник царя» Менедей; седобородый Верховный жрец; придворный лекарь Агафокл и даже всегда решительный и быстрый, как и подобает главе охраны царя, начальник кинжала Зимрид переминались с ноги на ногу и старались переложить это рискованное дело на чужие плечи. Базилевс в последнее время вспыльчив и озлоблен: не один десяток вельмож, не говоря уже о слугах и рабах, попавших ему под горячую руку, испытали на себе искусство палача. Что толку от того, что царь после этого неделями носит траур по казненному, одаривая его семью золотом, когда голова уже распрощалась с телом?.. — Иди! — подталкивал Зимрида локтем Менедей. — У тебя несколько срочных докладов базилевсу! — Мои доклады могут и подождать! — возражал начальник кинжала, в свою очередь глядя на Верховного жреца. — Базилевс молится, сейчас ему нужен такой человек, который стоит на самом мосту между людьми и богами… — Во время молитв не плачут, ибо они дарят людям целительную надежду! — нравоучительно поднял палец Верховный жрец. — А базилевс рыдает! Что, если ему опять не здоровится? Тогда единственный, кто должен быть с ним сейчас, — это лекарь! Три пары глаз требовательно уставились на побледневшего Агафокла. — Но я был у базилевса вчера вечером! — отступая на шаг, пробормотал он. — Он здоров… — А те страшные сердцебиения, что начались у него после гибели матери? — надвинулся на лекаря Менедей. — Или ты забыл, что точно такие же приступы унесли жизнь нашего обожаемого базилевса Эвмена?! — Н-но они уже месяц как не тревожат Аттала! — воскликнул в отчаянии Агафокл. — А ты уверен, что они не начались вновь? — прошипел Зимрид. — Или мне войти первому и доложить базилевсу, как ты печешься о его бесценном здоровье? — добавил Менедей. — Правда, правда! — закивал Верховный жрец. — Иди первым, доложи! — Ну? — не слушая старца, прикрикнул на Агафокла Менедей. Лекарь покорно вздохнул и робко постучал в дверь. Не услышав ответа, стукнул сильнее. Аттал вскрикнул от неожиданности, невольно прижал руку к груди, почувствовав, как бешено заколотилось в ней сердце. — О боги! Опять… — простонал он, впиваясь бешеными глазами в вошедшего лекаря. — Я только, я… — забормотал лекарь, отступая назад, но дверь предусмотрительно закрылась за его спиною. — Я только хотел узнать как твое бесценное здоровье, величайший… — Проклятье! Кто тебя просил входить так внезапно! — прохрипел Аттал, падая на подушки. — Ну, раз уже вошел, так помоги! Останови мое сердце, успокой его! Озолочу! Дам тебе столько золота, что все твои потомки… через тысячу лет… будут жить в роскоши! Агафокл торопливо просеменил к постели, приложил ухо к груди и, отшатнувшись, упавшим голосом сказал: — О, величайший! Я пытался вылечить от такой болезни еще твоего отца Эвмена. Увы! От нее нет ни притирок, ни снадобий. Это добрые и злые силы борются сейчас в твоей груди, и твое бедное сердце мечется между ними, нигде не находя спасения. Потерпи, скоро добрые силы одержат верх, и сердце сразу успокоится… — Прошлый раз это твое «скоро» продолжалось целых сорок минут, которые были для меня длиннее вечности! — сдавленно прохрипел Аттал. — А если верх возьмут злые силы?.. — О, величайший, это невозможно! Ведь ты такой добрый, такой славный… — Эвмен был еще добрей и славнее меня, и тем не менее… С минуту царь смотрел на склонившуюся перед ним голову лекаря и, когда несколько новых толчков в груди потрясли все его тело, закричал: — Менедей, Зимрид, все, кто там — сюда! Скорее!.. Вбежавшие вельможи, увидев царя, бледного, с каплями пота на лбу, в растерянности остановились. — Повелеваю… — прошептал Аттал, судорожно стискивая тончайшие одежды на груди. — Отыщите мне такого лекаря, который смог бы избавить меня от этих страданий! Пошлите людей в Александрию, Афины, Сирию, Индию, на все рабские рынки, где иногда продают толковых лекарей, но найдите такого, кто спас бы меня… Я ничего для него не пожалею, отдам все — лучше быть рабом и нищим, чем мучиться так… Невольнику я дам свободу, незнатному — титул своего друга, бедному — столько золота, сколько весит он сам! Богатому подарю целый город… — Тело царя вновь содрогнулось, и он закричал: — Весь Пергам, диадему, трон!.. Идите же, посылайте верных людей, дайте им моих лучших коней, золота из моей сокровищницы — только пусть поспешат… — А с этим что делать? — кивнул на замершего Агафокла Зимрид. Сердце в груди Аттала екнуло так, что стало темно в глазах. Это решило судьбу лекаря. — Отдай его палачу, — отворачиваясь, мстительно бросил царь. — О, величайший, пощади! — закричал Агафокл. — При чем тут я? Это все злые и добрые силы… Тебе надо больше молиться и приносить щедрые жертвы богам!.. — Правда, правда! — закивал Верховный жрец, но тут же осекся, потому что Аттал, метнув уничтожающий взгляд на лекаря, повторил приказ: — Палачу! Пусть рассказывает эти сказки в царстве Аида. Хвала богам, что хоть там никто не будет нуждаться в его сомнительных услугах! — Правда, правда! — поддакнул Верховный жрец, поспешно уходя из спальни вслед за начальником кинжала, который увел за собой вопившего Агафокла. Через час перед вернувшимся Зимридом лежал совершенно измученный приступом, изможденный человек, чуть заметно шевелящий бескровными губами. «О, Зевс… Зевс… — умиротворенно думал Аттал, прислушиваясь к ощущениям в груди и со страхом и радостью убеждаясь, что все, новых толчков больше нет, и сердце его работает тихо и ровно, и — о счастье! — он жив и, как прежде, может теперь до нового приступа есть, пить вино, заниматься любимой лепкой из воска или, сидя в оранжерее, описывать привезенные из дальних стран растения. — Зевс!.. Ты опять спас меня… И все-таки ты несправедлив ко мне. Почему в моих жилах течет кровь не моего родного отца Аттала, ни разу не болевшего за все свои восемьдесят два года, а его брата Эвмена, которого та же болезнь в пятьдесят лет превратила в человека, не способного и шагу ступить без носилок!? О, Зевс, ну почему здоровье моего отца ты передал сыну этого хилого Эвмена — Аристонику? Сейчас, когда я мучаюсь здесь, он скачет на горячем коне или купается в море, борясь с могучими волнами! О, великий, разве это справедливо, ведь пока я, а не он должен править такой огромной страной с таким непокорным, неблагодарным и диким народом!» Аттал наконец заметил Зимрида и слабым голосом спросил: — Как? Ты уже выполнил приказ?! — Да, божественный! — склонился в почтительном поклоне начальник кинжала. — Верные мне люди уже отправились в Египет, Грецию и Сирию. После доклада я найду и пошлю еще несколько человек на Хиос, Делос, Крит… — Я спрашиваю об этом бестолковом лекаре, который вошел так некстати! — перебил его Аттал. — Мойра Атропа… вернее, палач уже обрезал нить его жизни! — с ухмылкой поправился Зимрид. — Ты, как всегда, поторопился… Ведь этот Агафокл принимал меня на свет! Разве нельзя было подождать? — упрекнул Аттал, качая головой. — Как это жестоко… Эй вы! — крикнул он, прикладывая к глазам платок. — Цирюльника сюда, казначея и скрибу! Царь вздохнул и поднял глаза на Зимрида. — Ну, что там у тебя? — За ночь в столице и окрестных городах подавлено пять бунтов черни! — быстро доложил начальник кинжала, прибавляя два вымышленных бунта в округе для весомости своей работы. — Опять… Неблагодарные! — возмутился Аттал и закричал на раба, вносящего белый халат, шитый золотом и жемчугами: — Ты что это несешь?! Черные одежды сюда! Прогнать цирюльника! Я снова ношу траур… Он сел в постели и заторопил Зимрида: — Ну? — Двадцать семь мятежников казнены, их имущество конфисковано в твою казну! — поклонился начальник кинжала, на этот раз вдвое занижая цифру, так как половину денег он положил себе в карман. — Сто пятьдесят ремесленников в назидание всем остальным подвергнуты наказанию плетьми! — Многовато! — поморщился царь. — Неужели нельзя как-нибудь иначе? — С этим народом?! Да дай ему только волю, и он… — Ну, хорошо, хорошо! — перебил Зимрида Аттал. — Что еще? — Два инцидента с римскими ростовщиками! — охотно принялся перечислять начальник кинжала. — Один — в гостинице, куда зашел пьяный Фабий Валент, где его избили до полусмерти наши купцы, и второй — у алтаря Зевса. У некоего Гнея Лициния воры похитили три сундука, он начал угрожать черни, и, если бы не вмешательство Эвдема, не сносить этому Лицинию головы! — Эвдема! — воскликнул неприятно пораженный царь. — Он жив? Разве его не было на том пиру, когда я собрал всех советников отца? — Он был… болен! — запинаясь, объяснил Зимрид, ругая себя за неосторожность. В свое время он предупредил за немалую взятку своего опального предшественника о грозящей опасности. Теперь же, тщательно скрывая от ушей царя любое упоминание об Эвдеме в докладах других, проговорился сам. Надо было срочно еще раз спасать бывшего начальника кинжала, который в благодарность за это молчание помогал распутывать сложные преступления. И он торопливо сказал: — Теперь же Эвдем все время проводит в молитвах за твое исцеление. И я хочу послать за лекарем на рынки островов Эгейского моря именно его. Уверен, он сделает все, чтобы найти там лучшего в мире лекаря! — Если найдет, то я прощу его и — больше того — выполню любую его просьбу, можешь передать ему это, а не найдет… — Аттал красноречиво перевел глаза на стеллажи, заставленные колбами с ядами, и усмехнулся: — И это тоже скажи. — Он заметил склонившегося в поклоне у двери казначея и приказал: — Выдай пять талантов семье несчастного Агафокла… Тут Аттал снова вспомнил, что отправил на казнь лекаря, который принимал его с Аристоником на свет, и, глубоко вздохнув, поднял глаза на Зимрида: — Что Аристоник? — Живет по-прежнему в кварталах черни! — не улавливая причины изменения настроения царя, брезгливо усмехнулся начальник кинжала. — Тебе надо быть решительнее с ним, иначе он может возглавить бунт, который зреет в столице! — Аристоник? Против меня?! Это невозможно! — В Пергаме все возможно! — заметил Зимрид. — Но только не это! Каждый раз подталкивая меня к решению расправиться с Аристоником, ты забываешь, что он мой брат! За все шесть поколений династии Филетера не было ни одного убийства из-за престола! Запомни и передай всем, кто хочет рассорить меня с Аристоником: никогда рука Атталида не поднимется на своего, пусть даже сводного брата! — Да живете вы вечно! — воскликнул Зимрид, покорно склоняя перед Атталом голову. — Что еще? — Небольшой конфликт на границе с Вифинией! — быстро ответил начальник кинжала, радуясь перемене разговора. — Наши крестьяне, как всегда, что-то не поделили с вифинскими. По приказу Никомеда его воины высекли твоих подданных, которые обращаются к тебе с жалобой. — Пиши! — возмущенно приказал скрибе Аттал. — «Аттал, царь Пергамский, к Никомеду, царю Вифинии! С каких пор ты стал отводить себе роль судьи в неподвластных тебе владениях и, правя над вифинцами, судить пергамцев! Или ты хочешь унизить меня, скрывая корыстные помыслы под личиною человеколюбия? Ничего ты не добьешься и никого не испугаешь!» Это письмо немедленно Никомеду. Что еще? — Мои люди докладывают с границы, что Митридат, царь Понтийский, выведывает тропинки, ведущие к Пергаму. Может, готовит вторжение? — Ерунда! — отмахнулся Аттал. — Какие-нибудь учения, на которых помешался Митридат. — На учения не похоже! — возразил Зимрид. Царь на минуту задумался и снова приказал скрибе: — Пиши! «Царь Аттал Филометор, правитель Пергама, — царю Понта Митридату Эвергету. До меня дошли сведения, что ты проявляешь нездоровый интерес к моим границам. Что тебе с войны со мною? У меня сильная армия и крепкий флот. Не будет тебе ни прибыли, ни новых рабов. А будет радость Риму, сенат которого будет только потирать руки от радости, видя как правители двух самых сильных держав ослабляют друг друга, и, выждав удобный момент, захватит нас обоих голыми руками. Опомнись! Вспомни, о чем говорил Ганнибал, трусливо преданный вифинским царем Пруссием, Антиоху: „Забудь свою вражду с другими царями, объединись с ними. Только сообща вам удастся одолеть римлян. Иначе всех вас ждет рабство!“ Вспомни о печальной участи нашего родственника Антиоха[88], подумай над ней. Если же тебе нечего возразить мне, то пусть заговорят мечи!» Закончив писать, скриба растопил воск, скрепил им два тончайших белых пергамента и с поклоном подал их Атталу. Царь вдавил перстень с царской геммой в податливый воск, внимательно осмотрел оттиски на обоих письмах. Затем вытер перстень о поданую тряпицу и приказал Зимриду: — Письма Никомеду и Митридату доставить немедленно! — Будет исполнено, величайший! — воскликнул начальник кинжала. Пятясь и не переставая кланяться, он вышел из царской спальни, затворил за собой дверь, разогнулся — и скриба вздрогнул, увидев рядом с собой совершенно другого человека. Лицо Зимрида стало властным, высокомерным, спина надменно выпрямилась. Он медленно пошел по коридору, не замечая, как испуганно жмутся к стенам встречавшиеся на его пути вельможи, рабы и слуги. «Ай-ай, как неосторожно поступил сейчас базилевс! — думал он про себя. — Конечно, он и не думал объединяться с Митридатом против Рима, и не выступил бы против него, если б даже вся Малая Азия пошла за ним, просто выдал желаемое за действительное. И если это письмо дойдет до рук сенаторов… — Если оно дойдет до сенаторов, — вполголоса пробормотал он, входя в свой кабинет, — то я стану богатейшим человеком! Рим вынудит царя в качестве гарантий мира отдать несколько сотен заложников из самых знатных семей, заставив в угоду своим публиканам и купцам принять еще более жестокую денежную реформу, наводнит Пергам своими новыми ростовщиками… А это новые налоги, поборы, казни… Начнутся бунты среди знати и ремесленников, наемников и крестьян. Это повлечет за собой массовые аресты, конфискацию имущества, на чем можно будет как следует погреть руки! Нужно только умело распорядиться этим письмом и сделать так, чтобы оно попало не в руки Митридата, а отцов — сенаторов!» — Двух гонцов ко мне! — крикнул он рабу и, подумав, добавил: — И срочно разыскать посла Вифинии! Вскоре в коридоре послышались торопливые шаги. В кабинет вошли два молодых человека, сыновья знатных пергамских вельмож. Зимрид знал их с малолетства, часто бывал гостем в их домах и поэтому, оценивающе осмотрев обоих, приветливо сказал: — Ты, Никострат, немедленно отправишься в Вифинию и передашь это послание нашего базилевса Никомеду. А ты, Александр, — протянул он второе письмо стройному юноше со светлым пушком на подбородке, — доставишь этот пергамент в Понт, базилевсу Митридату Эвергету. — Как? Ты не дашь нам охрану? — удивился Никострат. — У меня нет лишних людей, — отрезал Зимрид. — В Пергаме неспокойно, и я отвечаю за жизнь базилевса. — Впрочем, если вы трусите… — Я не просил об охране! — воскликнул Александр, презрительно косясь на Никострата. Начальник кинжала улыбнулся ему и жестом приказал гонцам выполнять приказание. Через полчаса раб доложил о приходе посла Вифинии. Невысокий толстый вельможа, вбежав в кабинет, поздоровался с Зимридом и впился в его лицо тревожными глазами. — Боюсь, твой базилевс сегодня будет весьма недоволен тобой! — после долгого молчания сказал начальник кинжала. — Мой царь направил ему сегодня весьма неприятное письмо. — Как бы оно не стоило мне головы! — не без тревоги заметил посол. — Все может быть! — развел руками Зимрид. — Аттал был очень разгневан и обращался к Никомеду, как к последнему слуге! — О, Тихе[89]!.. — Но все еще может обойтись хорошо для тебя! — подбадривающе улыбнулся Зимрид и многозначительно добавил: — И для меня тоже! — Располагай мной! — воскликнул посол. — Наш царь написал сегодня еще одно письмо, — не переставая улыбаться, понизил голос Зимрид. — Думаю, его содержание поднимет настроение твоему базилевсу после прочтения первого письма. Зная, какие чувства питает Никомед к Риму, являясь истинным «другом и союзником римского народа», я уверен, что, передав это письмо, куда следует, он получил бы еще большее расположение сената! А ты, отдав ему такое письмо, заслужил бы еще большее расположение своего царя! — И… такое письмо у тебя? — Уже нет, — усмехнулся Зимрид и, увидев, как разочарованно вытянулось лицо посла, добавил: — Но я дам тебе возможность добыть его. Правда, это будет стоить тебе… десять талантов! — Эти деньги будут у тебя через час! — воскликнул посол. — Еще ты должен обещать мне покровительство своего царя, если у меня возникнут некоторые затруднения в Пергаме! — подумав, добавил начальник кинжала. — Ты можешь стать его подданным в любой момент! — Тогда бери надежных людей и отправляйся в погоню за моим гонцом. — Его имя — Александр. Поторопись — у его отца лучшие кони во всем Пергаме, однажды они сделали его победителем на Олимпиаде! — Самый лучший конь — стрела, пущенная умелой рукой! — чуть приметно усмехнулся посол Вифинии и по-свойски взглянул на Зимрида: — Но у меня мало людей, почти все в отъезде… — Шпионят в Пергаме! — покачав головой, заметил начальник кинжала и задумался: — Но это опасно — моих людей Александр знает в лицо… — Он забудет их, как только увидит меня! — пообещал посол. — А я добавлю к десяти талантам еще три… — Чего только не сделаешь ради друзей! — махнул рукой Зимрид и приказал рабу передать дежурному офицеру выделить пятерых воинов послу Вифинии. «Прекрасно! — подумал он, оставшись один в своем кабинете. — Тринадцать талантов — задаток, и еще неизвестно сколько, когда начнутся бунты! А теперь — за охрану Аттала! — встряхнулся он. — И клянусь богами, я буду охранять его, как самого себя и даже еще лучше! При каком правителе я смог бы накопить такое сокровище и еще добавить к нему столько, что сам смогу сделаться базилевсом. Если не Пергама — то той же Вифинии или Каппадокии! А что — ведь не родовитость, не армия, не ум, а золото правит в этом мире. Потому что на него можно купить и титул, и войско наемников, и целую толпу ученых советников!» 2. «Базилевс» и «консул» В то же утро Луций Пропорций проснулся в доме своего нечаянного спасителя Эвдема. Несколько услужливых рабов, предугадывая каждое желание, заботливо умыли гостя, расчесали, умастили тело дорогими благовониями и принесли его одежду. Его ли? Луций растерянно взглянул на белоснежную тунику, с любимой им бахромой на рукавах, но только сделанную из тончайшей восточной материи, стоимостью не меньше десяти обычных туник, на новые, украшенные золотыми пряжками сапоги, которым в Риме вообще бы не было цены. Он хотел было сказать, что это не его одежда, но на плечи его уже легла невесомая и вместе с тем необычайно уютная, заботливо сохраняющая тепло туника, а сидящий подле него раб уже возился с ремешками сапожек, пришедшихся по ноге Луцию. — Живи вечно, господин! — бухнулся он лбом перед поднявшимся римлянином, и все остальные рабы, крича «Живи вечно!», пятясь, поползли к двери. Едва последний раб скрылся за дверью, как в роскошно обставленную спальню вошел управляющий, полный мужчина с гладким, круглым лицом евнуха. Скрестив на груди пухлые руки, он поклонился, всем своим видом давая понять, что немедля выполнит любое желание гостя своего господина. — Ты, верно, ошибся, приказав рабам принести мне эту одежду! — трогая тунику, глубоко вздохнул Луций. — Такую может носить разве что только сенатор или даже консул! — Это скромный подарок моего господина достопочтенному гостю, — тонким голосом пропищал управляющий. — Да?! — приятно поразился Луций и повлажневшим от избытка чувств голосом спросил: — А где же сам Эвдем? — Он занимается со своими клиентами и ждет, когда ты освободишься! — Ах, да! — вспомнил Луций о своей официальной миссии в Пергаме. — Мне же нужно договориться с вашими торговцами о закупке большой партии оливкового масла! — Ты можешь не беспокоиться об этом! — хитро подмигнул римлянину управляющий, и плечи его затряслись от беззвучного смеха. — Вся эта партия масла уже в подвалах моего господина! И смею заверить, это лучшее масло, которое только можно найти в Пергаме! Тебе надо только дать команду, когда его отправить в Рим! — А кому платить? — Никому! — радостно шепнул управляющий. — Это подарок моего господина, доблестной армии славнейшего Фульвия Флакка! «Вся партия масла — бесплатно?! — мысленно ахнул Луций. — Но ведь это полмиллиона сестерциев! Действительно перед ними даже такая туника и обувь — скромный подарок! Что все это значит?..» Минуту подумав, он решительно сказал: — Я немедленно должен видеть твоего господина! — Он будет счастлив лицезреть тебя! Управляющий почтительно попятился, давая проход римлянину, и покатился рядом с ним, точно колобок, воркуя в самое ухо: — Мой господин приказал подготовить для тебя свою личную повозку, носилки и двенадцать человек охраны. Ты можешь пользоваться ими в любой момент, как собственными! «Двенадцать охранников, словно у консула! — не переставая удивляться, прикинул Луций. — Роскошная спальня, носилки, так меня не встречали даже в наших провинциях! Что-то тут неспроста… Кто он — этот Эвдем? Что ему нужно от меня?» Он вспомнил свою беседу накануне вечером с дружелюбным, радушным хозяином, свои сетования на трудности по закупке оливкового масла, так как со здешними купцами ему, римлянину, не просто будет заключить выгодную сделку. Напрягая память, слегка затуманенную обилием дорогих вин, которыми угощал его Эвдем, он припомнил почтительные, но вместе с тем преисполненные чувством собственного достоинства слова хозяина о возросшем влиянии Рима на всю Малую Азию, в том числе и на его родной Пергам. Говорил что-то еще, но все это было, как порыв ветра перед дождем. Истинных своих намерений Эвдем так и не открыл. Впрочем, так же, как и сам Луций. «Так чего ему надо от меня? — продолжал размышлять Пропорций. — Поддержки Рима в каком-нибудь заговоре против Аттала? Высокой должности в новой провинции? Разрешения поехать торговать в Рим? Как бы там ни было, а пятьсот тысяч сестерциев, надежный ночлег, охрана — как нельзя кстати! И совсем будет хорошо, если этот Эвдем поможет мне проникнуть во дворец к Атталу!» — Кроме того! — обежав повеселевшего Луция, запищал на другое ухо управляющий. — Если ты задержишься по делам в других городах нашего царства, рабы доставят тебя в лучшие харчевни Эфеса, Левков, Смирны. Можешь привести и своих друзей: еда, вино, танцовщицы — все оплачено! — Твой хозяин случайно не бог с рогом изобилия в руках? — недоверчиво слушая управляющего, рассмеялся Луций. — Нет, он на службе у начальника кинжала! Луций приостановился, словно налетел на невидимую стену. Внезапная догадка осенила его. «А этот Эвдем не так уж и прост! Повозка, охрана, оплаченный обед во всех городах, — все это действительно неспроста! Мало того, что я весь на виду в его доме, так теперь ему будет известен каждый мой шаг в Пергаме и за его пределами! Но он явно перестарался, теперь я буду начеку. Не отказываться же мне в самом деле от его подарков и услуг, чтобы не вызвать подозрений, да и без охраны в этом городе мне никак нельзя!» Сделав вид, что рассматривает одну из многочисленных в коридоре статуй — бородатого Сатира, — Луций кивнул управляющему, и они продолжили путь. Перед обитой позолоченными пластинами дверью евнух попросил римлянина минуточку подождать, пока он доложит своему господину о приходе достопочтенного гостя. — Не угодно ли тебе будет пока осмотреть эту прекрасную парную статую? — указал он коротким пальцем на мраморную фигуру девушки, склонившуюся над спящим юношей. — Это Селена и Эндимион, которого Зевс погрузил в вечный сон, чтобы сохранить ему вечную молодость и красоту. Скульптор запечатлел один из тех трогательных моментов, когда влюбленная Селена приходила в пещеру на горе Латмос, чтобы любоваться юношей и целовать его! Заинтересовавшийся Луций обошел статую и, когда оглянулся, управляющего рядом уже не было. Из приоткрытой двери донесся знакомый голос Эвдема: — Сейчас освобожусь. — И тот же голос, только уже жесткий, не терпящий возражений, быстро проговорил: — Это хорошо, что ты познакомился с рабом купца Артемидора. Теперь под видом обиженного римлянином человека ты должен проникнуть в его дом и сообщать мне о каждом новом госте, о каждом разговоре! Не обессудь, что для убедительности твоих слов о жестокости римлянина мои люди вчера основательно разукрасили тебя. Вот тебе за это три золотых статера! — Но, господин! — послышался знакомый Луцию голос, прерывающийся от обиды и волнения. — Я вызвался служить тебе совсем не ради денег!.. — Знаю, Демарх! — повысил голос Эвдем. — И потому доверил тебе один из самых опасных домов в Пергаме! А статеры возьми, — уже мягче добавил он. — Они еще пригодятся твоей семье. Ведь теперь некогда будет таскать тележки с вещами гостей Пергама, а твое прекрасное знание города поможет в достижении более высоких целей! Ступай! Дверь распахнулась, и на Луция чуть было не налетел тот самый носильщик, по вине которого он чуть было не остался без вещей. Увидев римлянина, Демарх испуганно отпрянул, словно встретил живое изваяние самого страшного бога, и бочком, бочком — между статуей и Пропорцией — стал протискиваться к выходу. — Разве так нежно я разукрасил бы тебя за вчерашнее? — усмехнулся Луций, глядя на покрытое синяками и ссадинами лицо носильщика, и погрозил ему вдогонку кулаком: — Я бы нарезал ремней из твоей подлой шкуры и с утра до ночи стегал бы ими твою жену и детей! Но погоди — это наша встреча с тобой не последняя! Сердито отдуваясь, Луций вошел следом за евнухом в роскошную залу. Нехотя кивнул приветливо улыбнувшемуся хозяину. — Встретил старого знакомого? — подводя римлянина к креслу с пурпурными подушками, спросил Эвдем, делая знак управляющему удалиться. — Я понимаю, он оживил в тебе неприятные воспоминания. Но, право, это безобиднейшее и самое покорное на свете существо! Забудь о нем, словно его никогда не существовало. Тем более, что это святая правда: как только он окажет мне небольшую услугу, мои люди превратят его в воздух, землю, траву… Они, в отличие от меня, не поэты, но дело свое знают. Лучше скажи, как тебе спалось в моем дворце, не испытываешь ли ты в чем нужду или недостаток? — В твоем дворце впору останавливаться самим богам! — искренне воскликнул Луций. — А твоим гостеприимством и щедростью остался бы, наверное, доволен даже сам Юпитер! Эта подаренная армии Рима партия оливкового масла, туника, твоя забота о моем безопасном передвижении по Пергаму… — Пустяки! — мягко перебил Луция Эвдем. — Твой дом, наверное, богаче дворца самого царя! — вкрадчиво заметил Луций, осторожно подталкивая разговор к Атталу. — И прекраснее! — Богаче — да, — кивнул Эвдем и виновато пожал плечами. — Но — не прекраснее! — Как?! Да твоя спальня, эти залы, коридоры со статуями… Одна только Селена, ласкающая юношу, чего стоит! — Отныне она твоя! — О! — Но остерегайся! — лукаво поднял палец Эвдем. — Если от невинных ласк со спящим Эндимионом Селена родила пятьдесят дочерей, то тебя ждет настоящее разорение бесчисленным количеством приданых! Ведь, судя по вчерашним восторгам танцовщиц, ты далеко не сонный человек! Вспомнив приятно проведенную вторую половину вчерашнего пира, Луций довольно усмехнулся и вздрогнул от неожиданного вопроса: — Когда велишь запаковывать эту статую? «Выпытывает, что именно привело меня в Пергам: оливковое масло, которое он уже закупил, или… Ай, хитрец, задурманивает приятными разговорами, чтобы узнать главное. Но меня так просто не проведешь!» Не переставая улыбаться, Луций ответил уколовшему его острым взглядом Эвдему: — Благодаря тебе, этот поистине царский подарок можно упаковывать хоть сегодня. Но… — нарочито долго помедлил он, — я хотел бы осмотреть Пергам, когда еще представится такая возможность. И потом — очень надо повидать вашего царя, о нем столько противоречивых слухов у нас в Риме, но вряд ли это возможно… — В Пергаме все возможно! — вдруг послышалось за спиной Луция. Римлянин обернулся и увидел поигрывающего плеткой коренастого человека с жестким, надменным лицом. — Я к тебе, Эвдем! — не сводя глаз с римлянина, обратился к хозяину незнакомец. — Это Зимрид, начальник кинжала, то есть охраны нашего царя! — представил его Эвдем. — А это Гней Лициний, — показал он на Луция. — Мой гость и друг, приехал сюда с легацией для закупки нашего оливкового масла. — Легацию! — коротко бросил Зимрид, протягивая руку к Луцию. — Что? — испуганно переспросил тот, бросая взгляд на Эвдема. — Легацию! — настойчивее повторил начальник кинжала и, когда побледневший Пропорций, увидев чуть заметный кивок хозяина, достал легацию, буквально выхватил ее из рук римлянина. — Так. «Дана Гнею Лицинию… — Зимрид поднял глаза на Луция, словно прикидывая, подходит ли ему это имя. — В том что… оказывать содействие…» Подпись… печать… Все верно! Так зачем ты приехал в Пергам? — Там все написано! — кивнул на легацию Луций, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом начальника кинжала. — Закупить оливковое масло для армии Фульвия Флакка… — Это ты расскажешь в Риме своему Фульвию! — посоветовал Зимрид. — А мне скажешь правду. — Ты забываешься! — захлебнулся Луций. — Перед тобой посланник великого Рима! Будущий сенатор, может быть, даже консул! — Тем более! — усмехнулся Зимрид и угрожающе придвинулся к римлянину: — Правду! Ну? — Но почему… почему ты мне не веришь? — прохрипел Луций, отступая назад и чувствуя спиной стену. — Потому что покупатели оливкового масла не приезжают в Пергам с легацией, подписанной самим претором, который, как мне известно, сейчас у вас за главу государства! Потому что ты, всадник, можешь стать сенатором только если окажешь своему Риму неоценимую услугу! Потому что… — Оставь его, Зимрид! — вступился за Луция Эвдем. — Он мой гость и ничего плохого не замышляет против Пергама! Гней, подтверди! — Клянусь! — воскликнул Пропорций, пряча за спину руку с рубиновым перстнем. — Смотри, Эвдем! — пригрозил Зимрид, отходя от Луция, — помимо — гм-м — двух талантов это может стоить тебе головы! — Моя голова давно уже ничего не стоит. Одно слово Аттала — и… — Как сказать! — загадочно покачал головой начальник кинжала. — Еще десять талантов — и ты, как прежде, каждый день сможешь иметь счастье лицезреть Аттала и беседовать с ним! — Это невозможно… — прошептал Эвдем. — Ты шутишь! — В Пергаме — все возможно! — усмехнулся Зимрид. — Но прежде ты должен съездить на Хиос, Родос, Делос, обшарить все их рабские рынки и найти такого лекаря, который смог бы избавить нашего царя от мучительной болезни! — Как — у него опять сердцебиения? — Увы! — сокрушенно покачал головой начальник кинжала. — И против них бессильны острые мечи и пики моих верных людей. Найди такого лекаря, прошу тебя, Эвдем. И я в тот же день представлю тебя царю. — И меня?.. — шагнул вперед Луций. — Я… заплачу! — Может, и тебя! — кивнул Зимрид. — Если только, конечно, это не пойдет во вред базилевсу, хотя какой ему может быть вред от вашего старого, алчного претора! Так — какие-нибудь беспошлинные закупки пергамента для Египта, куда ввоз его строго запрещен нашим законом. Я угадал? — Я восхищен тем, что ваш царь доверил должность начальника кинжала столь проницательному человеку! — деланно изумился Луций, вздыхая с облегчением. — То-то! — назидательно заметил Зимрид. — А денег твоих мне не надо! Да-да! — повторил он удивленно приподнявшему бровь Эвдему. — Не надо! Вдруг я сам когда-нибудь стану базилевсом! — в шутку сказал он, и глаза его лукаво блеснули. — Вспомни тогда, Гней Лициний, о моей услуге! — Конечно, не забуду, когда сам стану консулом! — тоже в шутку сказал Луций, и глаза его повеселели. 3. Лавка Артемидора После посещения Эвдема счастливый Демарх, сжимая в кулаке три статера — целое состояние для его семьи, торопился выполнить приказание своего нового господина. Ноги сами несли его к лавке купца, у которого вчерашним вечером он договорился встретиться с рабом Артемидора. — Самого Артемидора пока нет, — сказал тогда раб, сочувственно выслушав рассказ Демарха о пропаже вещей перед алтарем Зевса. — Он в отъезде вот уже два месяца. Но твои сведения о том, как римляне готовы поступить с нами, могут заинтересовать его друзей. Приходи завтра! Демарху понравился этот раб — образованный и мягкий, как все рабы из далекой Греции. Но что-то в его голосе, в привычке то и дело оглядываться во время разговора вызывало неприятное ощущение. «В лавке этого Артемидора зреет явно что-то преступное! Недаром Эвдем сказал о ней, что это один из самых опасных домов в Пергаме! — на ходу думал он. — И это наверняка так, хоть там и говорят о своей ненависти к римлянам. Не может такой добрый и справедливый человек, как Эвдем, преследовать хороших людей. Значит, Артемидор, его друзья и даже рабы замыслили заговор, может, они собираются рассорить Пергам с Римом, а это — война, в ходе которой погибнут или попадут в рабство многие пергамцы, как знать, возможно, и мои дети! Это новые бессмысленные разрушения святилищ и храмов, быть может — о боги! — даже великого алтаря Зевса!..» К высокому просторному дому с нарисованными яркими красками на стене вазами Демарх подошел с твердым убеждением, что в нем находятся его личные враги. Он с трудом заставил себя улыбнуться радостно бросившемуся к нему знакомому рабу, благо, это жалкое подобие улыбки грек расценил как то, что разбитые римлянином губы плохо повинуются пергамцу. — Иди за мной! — оглянувшись по сторонам, быстро приказал раб. Следуя за ним, Демарх прошел мимо многочисленных прилавков, уставленных дорогими вазами, мегарскими чашами, амфорисками, стеклянными колбами, всем тем товаром, место которому только в домах зажиточных людей Пергама. Сам Демарх пользовался только сосудами, купленными в самых дешевых гончарных мастерских, и потому зачарованно озирался вокруг, спотыкаясь и приостанавливаясь, к неудовольствию поторапливающего его раба. У одной из круглобоких ваз он застыл, и никакие окрики грека не могли заставить его сдвинуться с места. Ваза была расписана знакомыми фрагментами восточного фриза алтаря Зевса! Демарх обошел вазу кругом, поражаясь, как точно сумел воспроизвести художник каждое движение Зевса и Геи, каждое перышко на крыльях торжествующей победы Ники. Голова борющегося с самим Аполлоном змееногого гиганта так же, как и на самом алтаре, слегка стилизована, и точно так же в ней уже нет живого огня. Еще один шаг — и Демарх увидел гиганта, сражающегося с Гекатой. Но тот ли это гигант, вялый, бесстрастный, самый неудавшийся из всех окружавших его фигур? Здесь он был изображен художником, превратившимся вдруг из покорного подражателя в соперника великим создателям алтаря, борцом, с неукротимой, бешеной яростью кусающим зубами плечо своего божественного противника, совсем как гигант в группе Дионы на северном фризе. Почувствовав, что его трогает за локоть раб, Демарх с неохотой оторвал глаза от вазы, собрался даже купить ее. Он уже хотел спросить о цене, как вдруг вспомнил, что все эти вазы, боги на них, сам алтарь подвергаются угрозе, и идет она, возможно, из этой самой лавки. Демарх сжал в кулаке статеры и решительно шагнул следом за рабом. У неприметной двери грек остановился и, оглянувшись на скучающих продавцов, быстро открыл ее, поторапливая Демарха знаком следовать за ним. За дверью оказались ступеньки, ведущие вниз. Их освещали несколько тускло горящих светильников. Ожидавший увидеть мрачное и таинственное подземелье, Демарх остановился перед стеной, снизу доверху заставленной полками с вазами и мегарскими чашами. Это был обычный подвал торговой лавки, где хранились товары. Но раб, заговорщицки подмигнув, повернул одну из самых неброских ваз, и стена бесшумно отодвинулась, обнажая еще одну дверь. Раб открыл ее, жестом пригласил Демарха за собой, но вскоре неожиданно остановился. Пергамец в потемках едва не налетел на него. Впереди стояла группа вооруженных людей. В свете далекого факела блеснули бронзовые наконечники пик. Демарх почувствовал, как одно из них уперлось своим острием прямо ему в грудь. — Кто? — отрывисто бросил стоящий к ним ближе всех человек. — Фу ты, Пифон! Вечно пугаешь меня своим неожиданным появлением, — проворчал грек, пытаясь отвести от своей груди пику. — Кто?! — грозно повторил воин. — Да это же я — Лимней! — Кто?!! — в третий раз воскликнул воин, всем своим видом давая понять, что еще мгновение — и он пронзит грека. — Гелиос! — торопливо ответил раб. — Да радует он нас своим теплом и светом вечно! — опуская копье, заученно отозвался воин. — Это другое дело. Проходи! — Можно подумать, что ты впервые видишь меня! — упрекнул Пифона грек. — Ведь не прошло и получаса, как я вышел отсюда! — А откуда мне знать, кого ты привел за собой? — огрызнулся воин. — Сказано — пропускать тех, кто назовет имя Гелиоса, а всех остальных убивать на месте, так я и делаю! «Строгие у них порядки! — догоняя Лимнея, подумал Демарх. — Видно, дело здесь куда серьезнее, чем предполагает Эвдем. Странно только одно — выбрали для пароля Гелиоса, а сами собираются глубоко под землей!» Наконец Лимней остановился и сообщил: — Пришли! Чуть слышно скрипнула дверь. Демарх невольно зажмурился от ударившего в глаза яркого света. Помявшись на пороге, он вошел в большую, просторную комнату и робко осмотрелся вокруг. Это была обычная с виду скульптурная мастерская, каких немало он видел в Пергаме. Повсюду стояли готовые и незавершенные статуи, глыбы и небольшие куски неотесанного мрамора. На этих кусках и глыбах сидели несколько человек в одежде пергамских купцов и воинов. Вдоль стен на лавочках и ложах, предназначенных, очевидно, для натурщиков, тоже вперемешку сидели купцы, ремесленники, командиры наемных отрядов и — Демарх даже глазам своим не поверил — рабы. Все эти богато и бедно одетые люди, с перстнями на пальцах и ошейниками на шеях, с аккуратно завитыми волосами и клеймами на щеках совсем как равные переговаривались и отчаянно спорили друг с другом. При появлении Демарха шум мало-помалу стал стихать. Вскоре все взгляды устремились на окончательно заробевшего пергамца. Сидевший в кресле мужчина лет тридцати, одетый в грубый халат бедняка, красивый, широкоплечий, с волнистыми волосами, спадающими на плечи, кивком головы приказал Демарху выйти на середину и, оглядев его, сочувственно спросил: — Это тебя приказал так жестоко наказать римский торговец? В его голосе было что-то такое, что Демарх невольно поклонился и почтительно ответил: — Да, господин… — В чем же ты провинился? — Я вез в гостиницу его вещи, и воры украли их. — А где находился в это время сам римлянин? — Он был рядом и осматривал алтарь Зевса… А когда обнаружил пропажу, пообещал продать меня и всю мою семью в рабство! — Узнаю римлян! — усмехнулся мужчина. — Невинного они готовы продать в рабство, а виноватого — убить после жестоких пыток! — К счастью, вещи нашлись, — быстро добавил Демарх, умалчивая о помощи Эвдема. — Но этот римлянин предупредил, что в случае новой нашей встречи он нарежет из моей спины плетей и прикажет с утра до ночи хлестать ими моих деток… Гул возмущенных голосов заглушил его последние слова. — Вот видишь, Аристоник, как они уже обращаются со свободными пергамцами! — выкрикнул худощавый ремесленник. — А ты предлагаешь ждать! — положил пальцы на рукоять меча один из командиров наемников. — Садись на любое свободное место, здесь у нас все равны! — улыбнувшись Демарху, мягко сказал сидевший в кресле мужчина, которого только что назвали Аристоником, — побочный брат нынешнего царя Аттала, родной сын великого Эвмена, имя которого Демарх боготворил, потому что в его правление был построен алтарь Зевса. — Ты — носильщик, и этим можешь быть полезен нам! — прибавил худощавый ремесленник. — Вы, носильщики, первыми в Пергаме узнаете новости со всех концов света, в том числе и о делах Рима, и благодаря твоим друзьям мы узнаем о беззакониях сената даже раньше царя! Словно в подтверждение его слов, с одной из скамей послышался знакомый голос: — Демарх, сюда! Демарх повернул голову и увидел Кабира — своего давнего конкурента в борьбе за выгодных гостей Пергама с тяжелыми, громоздкими сундуками и ящиками. Это был тот самый носильщик, который отказался везти вещи Луция Пропорция в Верхний город. Всегда хмурый и неразговорчивый, Кабир на этот раз приветливо улыбнулся Демарху. Освобождая рядом с собой место, шепнул: — Рад тебя видеть здесь! Скоро весь Пергам, все окрестные города будут с нами. Но — тс-с! Опять сейчас станут торопить Аристоника. И чего он медлит?.. В скульптурной мастерской тем временем действительно накалялись страсти. Вскакивая со своих мест, перебивая друг друга, купцы, ремесленники, воины и рабы кричали: — Освободи нас от проклятых римских ростовщиков! — Дай нам перерезать глотки их прихвостням — царским вельможам! — В море всех римлян! В море! — Жрецы больше половины пергамских храмов и святилищ с тобой, Аристоник! — Армия не желает больше терпеть унижений и притеснений со стороны Аттала! — Все до единого рабы за тебя, Аристоник! — И ремесленники! — И крестьяне! — Весь Пергам ждет твоего знака!.. — Постойте! — властным голосом воскликнул Аристоник, поднимая руку. — Не все сразу. Ты, Анаксарх, говори! С мраморного возвышения поднялся рослый купец, столь величественный и дородный, что с него самого впору было ваять Посейдона или Атланта. Глухо откашлявшись, могучим басом сообщил: — Я, как вам известно, только вчера вернулся из Ликаонии. Местная знать, правда, опасается, что если в нашем восстании примет участие чернь, то поднимутся их бедняки и рабы. Но в принципе ей — что Аттал, что Аристоник — все едино, главное, что оба они — сыновья всеми уважаемого там Эвмена. — У Эвмена был только один сын — Аристоник! — выкрикнули из дальнего угла. — Весь Пергам знает, что Аттала Стратоника родила от его дяди, который женился на ней после того, как пронесся ложный слух о гибели Эвмена! Благородный же Эвмен, вернувшись из похода, ни словом не упрекнул жену и усыновил Аттала! — А любил Эвмен только одну женщину в мире — мать Аристоника, и хоть она была рабыней, наш Аристоник имеет даже большие права на престол, чем Аттал! — подтвердил худощавый ремесленник. — Фархад! — дав ему договорить до конца, обратился к купцу с короткой персидской бородкой Аристоник. — Что скажешь ты? — В Сирии меня дважды ограбили, один раз, когда я ехал туда, и второй — уже по пути обратно, — выставив корявые зубы, весело объяснил неунывающий перс. — Но зато я привез больше, чем деньги! Я привез сведения, что сирийский базилевс Антиох не выставит против нас ни одного десятка своих воинов, если Рим двинет на Пергам свою армию! Все, кто находился в мастерской, поднялись со своих мест и радостными возгласами выразили свой восторг последними словами купца. Демарх с изумлением обнаружил, что он тоже стоит рядом с Кабиром и радуется известию. — Вот видишь, Аристоник, — пробасил Анаксарх. — Нужно действовать! — Неизвестно, какие новости привезет нам из Греции и Македонии Артемидор, хозяин дома… — покачал головой Аристоник. — Уверен, что архонты Греции и несчастные македоняне поддержат нас и даже выставят против ненавистных им римлян свое войско! — вскричал Фархад. — Когда меня последний раз ограбили в Греции… Его слова потонули в дружном хохоте. Аристонику, чтобы навести тишину, пришлось несколько раз ударить молотом по мраморной глыбе. — Кто у нас был в окружающих Пергам государствах? — спросил он, едва только смолк последний веселый возглас. Поднялся высокий стройный торговец, в котором Демарх признал известного всему Пергаму скупщика краденого Херимона. — Меня никто не грабил, вернулся я с большой выгодой, — растягивая слова, произнес он, — но вести мои неутешительны. Каппадокия, Понт и Вифиния до конца будут преданы Риму и Атталу; если его, конечно, будет поддерживать сенат. И Ариарат, и Митридат, и Никомед в случае нашего выступления выставят свои армии на стороне Рима, и тем самым замкнут нас в кольцо с севера и востока. — Но с юга-то это кольцо замкнуто не будет! Риму не до нас! — воскликнул седобородый купец. — По вашему заданию я побывал в Риме и могу поклясться, что во всей Италии только и разговоров сейчас, что о Сицилии да Нуманции! На их окончательное покорение консульским армиям потребуется два-три года, не меньше! — А мы тем временем окрепнем, выстроим крепости, вооружим народ… — Купим новых наемников! — И Митридаты с Ариаратами все это время не двинутся с места! — Надо действовать, Аристоник! — Ну что ж, — задумчиво кивнул Аристоник. — Пожалуй, я поговорю с братом и постараюсь убедить его выгнать всех до единого римлян из Пергама! — А мы будем день и ночь молиться за твой успех! — заверил молодой жрец. — Поговоришь? Молиться?! — вскочил худощавый ремесленник. — Да надо поднимать народ, армию! Идти на дворец! Спихнуть с трона зажиревшего Аттала!! Аристоник тяжело поднялся и гневно взглянул на ремесленника. — Сейчас начнется знакомая история! — шепнул Кабир, подталкивая локтем Демарха. — Цари — они все из одного теста, даже если их матери — рабыни… — Аттал мой брат, и я не хочу даже слышать советы низвергнуть его с трона! — запальчиво произнес Аристоник. — Мой отец Эвмен с детства повторял мне, что никогда рука Атталида не поднималась на своего брата! Призовет Аттала Аид по своей воле в свое царство, пожалуйста, я готов править Пергамом, и править по справедливости, так, чтоб не было больше здесь ни богатых, ни бедных, ни униженных, ни рабов, а все были бы равными и счастливыми, как в прекрасной книге Ямбула о сказочном государстве солнца. Но пока Аттал жив — я требую не произносить больше при мне вслух то, что я только что услышал! Боги вразумят его, и я вместе с ними! Я отправлюсь к нему во дворец… — И мы с тобой, Аристоник! — закричали, срываясь с мест ремесленники и рабы. Лишь купцы, которым явно не пришлись по душе слова Аристоника о том, что при его правлении все будут равны в Пергаме, оставались на своих местах, тихо перешептываясь и переглядываясь друг с другом. — Мы пойдем с тобой! — не унимались рабы. — Он отравит или прикажет расстрелять тебя стрелами! — Аттал мой брат, и он не причинит мне зла! — отрезал Аристоник и набожно поднял голову: — К тому же путь во дворец мне будет освещать бог живых людей, а не мертвых, — Гелиос. Помолимся же ему, богу, который одинаково понятен и дорог всем народам и племенам, собранным в Пергаме! — Не очень-то подходящее место это подземелье для молитвы лучезарному богу! — проворчал, воздевая свои огромные руки, Анаксарх. — Ничего, настанет время, когда мы выйдем из этого подземелья и провозгласим Гелиоса главным богом на всей земле! — воскликнул Аристоник, светлея лицом и нараспев читая молитву. И свободные, и рабы на привычных для себя языках — персидском, греческом, сирийском, египетском — принялись восхвалять и взывать к помощи великого бога Солнца, не жалеющего своего тепла и света ни бедным, ни богатым, ни свободным, ни рабам. Демарх видел вокруг себя счастливые, просветленные лица, слышал призывы к Гелиосу, Митре, египетскому богу Ра и вскоре сам уже, не стыдясь своих слез, исступленно твердил имя Гелиоса, призывая его к добру и справедливости. Когда он снова вышел на улицу Пергама и вдохнул свежий, пьянящий воздух, было уже темно. Колесница Гелиоса давно пересекла горизонт за Адрамитским заливом. Противоречивые мысли одолевали Демарха. Разумом он по-прежнему верил Эвдему, которому был бесконечно благодарен и предан за спасение своей семьи от неминуемого рабства. Но сердце его уже тянулось к Аристонику и его друзьям, стоящим на стороне таких же обездоленных и нищих, как и сам он, людей. 1. «Образованный эллин тридцати семи лет!» Пятые сутки плыл Эвбулид по успокоившемуся морю в трюме обычного торгового парусника, к акростолию которого словно в насмешку была прикреплена скульптура юной Талии с комической маской в руке. После короткой беседы с каждым пленником и беглого осмотра их сирийским лекарем перекупщик вручил Аспиону три тяжелых мешочка. Пока они, довольные друг другом, отмечали выгодную сделку обильной выпивкой на капитанском помосте, надсмотрщики перегнали рабов на свой корабль. Здесь их затолкали в этот трюм, куда более приспособленный для перевозки живого товара. В отличие от деревянной крышки, закупоривавшей трюм «Горгоны», словно пробка амфору, люк «Талии» закрывала металлическая решетка. И хотя в ее отверстия не пролезла бы даже голова годовалого ребенка, она пропускала столько свежего воздуха и света, что Эвбулид, спустившись по ступенькам вслед за Ладом, с облегчением подумал, что здесь он не будет страдать от духоты и полумрака. Весь пол трюма был завален змеевидными цепями, свисавшими с массивных колец, вбитых во все стены, и оканчивавшимися кандалами и наручниками. Не успел Эвбулид освободить себе от них место в углу, как в трюм вбежали люди с молотками в руках, ругаясь, распутали цепи и принялись умело приковывать к ним как свободнорожденных, так и рабов. Эвбулид стал было возражать пожилому кузнецу, что он не собирается бежать. Тот, не слушая его, приложил к щиколоткам грека тяжелые бронзовые полоски, до блеска отполированные ногами прежних пленников, и несколькими ловкими ударами скрепил их. Затем тоже самое проделал с запястьями Эвбулида. — Крепкие пято! — послышался рядом сдавленный голос Лада. Покраснев от натуги, он пытался разогнуть наручники. — Такие с одного раза не сымешь! — Ни с одного, ни с тысячи! — усмехнулся один из кузнецов. — Не ты один пытался! — Добротная вещь, и мастер хороший! — подтвердил бывший вольноотпущенник Сосий, с любопытством ощупывая кандалы на ногах Лада, и вдруг вскрикнул, словно в руке его оказалась живая змея: — Не может быть! Это ведь моя работа! Вот и клеймо!.. — Мир тесен! — позванивая молотком, проворчал один из кузнецов, с любопытством поглядывая на Сосия. — А у нас говорят — не рой другому яму, сам попадешь в нее, — хмуро заметил Лад, прекращая бесполезные попытки освободиться от наручников. — Так ты кузнец? — проверив напоследок, крепко ли держит цепь Эвбулида, перешел к Сосию пожилой мужчина. — Да! И ты тоже? — по-приятельски спросил бывший вольноотпущенник. — Раб! — коротко бросил кузнец. — И ты — раб. Все мы тут рабы… Он аккуратно приложил к ногам своего коллеги бронзовые полоски и точными ударами начал заковывать Сосия в изготовленные на совесть в его афинской мастерской кандалы и наручники. Эвбулид тем временем ошеломленно смотрел на свои руки и ноги, отказываясь верить собственным глазам. Он, свободнорожденный эллин, видевший такие оковы на сотнях, тысячах рабов и считавший это естественным и справедливым, вдруг сам оказался в положении последнего из беглецов, которого хозяин в наказание приказал посадить на цепь. Он — Эвбулид, герой Карфагенской войны, гражданин великих Афин, тезка, а может даже — как любил он утверждать — и далекий потомок знаменитого скульптора Эвбулида и не менее известного оратора, противника самого Демосфена, Эвбула — раб?! Такой же ничтожный, презираемый и беззащитный, как все эти варвары — фракийцы, далматы, геты?.. Как тот самый раб, которого нашел умирающим на улице Фемистокл? Как Армен?! Он повернулся к Аристарху, чтобы поговорить с ним и услышать хотя бы слово сочувствия, но увидел, что лекарь, даже закованный, сидел в знакомой позе со скрещенными ногами и умиротворенной улыбкой на губах. Эвбулид со смешанным чувством умиления и возрастающего раздражения к этому поражавшему его упорством в достижении цели и бесчувственностью к собственным бедам человеку лишь удрученно махнул рукой. Услышав бряцанье своей цепи, откинулся спиной к стене и тоже закрыл глаза. «Раб!» — с невыразимой тоской понял он, с трудом удерживая себя, чтобы не закричать от собственного бессилия. Крышка люка лязгнула, и послышалось шлепанье босых ног по ступеням. Эвбулид открыл глаза, и в первый момент ему показалось, что он уснул и видит сон. Трое дюжих рабов стащили вниз и поставили на середину трюма бочку воды, большую амфору с вином и несколько тазов, доверху наполненных вареной морской рыбой. Увидев воду, жирных тунцов, за которых даже самые скупые афиняне, не раздумывая, развязали бы свои кошельки, Эвбулид судорожно глотнул слюну и подался вперед. Все было продумано в этом трюме: цепь позволила дотянуться ровно до его середины. Ослепленный жадностью, Эвбулид одной рукой схватил тунца, другой — сорвал с края бочки деревянный ковш, плюхнул его в бочку. Поднес к растресканным, дрожащим от нетерпения губам и с наслаждением пил, пил, не отрываясь, прохладную свежую воду, думая только о том, как бы побыстрее напиться, чтобы приняться за тунца… Изголодавшиеся, измученные жаждой люди рванулись вслед за Эвбулидом и, отчаянно ругаясь, вырывая друг у друга ковши и рыбу, набросились на воду и еду. Тщетно рабы объясняли, что рыбы много, что они принесут десять, даже двадцать тазов, если пленникам захочется еще. Напрасно Аристарх, очнувшись и узнав, в чем дело, предупреждал всех: — Ешьте понемногу! В несколько минут опустошив и дочиста вылизав тазы, проглотив даже кости, пленники кинулись наверх по ступенькам и заколотили кулаками в решетку трюма, прося принести им еще рыбы. Рабы не обманули и вскоре втащили несколько тазов с дымящейся рыбой. Заменили опустевшую амфору вина на новую, полную. Наевшиеся досыта пленники тяжело разбрелись и разлеглись по-над стенами. Некоторые тут же захрапели, другие принялись стонать, жалуясь Аристарху на тошноту и нестерпимую боль в животе. — Говорено же вам было — не торопитесь! — упрекал их лекарь. — Ну что вам стоило разделить эту пищу на два или даже на три дня?! И ты, Эвбулид, туда же! Ведь грамотный же человек! Сам он, проглотив лишь пару кусочков самого нежирного тунца и запив их водой, двигался, насколько позволяла цепь, легко и быстро. Одним он советовал немедленно пройти к отхожей бочке, предусмотрительно поставленной перекупщиком в каждом углу, и расстаться с едой, заложив в рот два пальца. Другие, в том числе и Эвбулид, сами стремглав неслись к бочкам, схватившись обеими руками за живот. На другой день спустившиеся в трюм рабы вынесли зловонные бочки, заменили их на чистые, внесли несколько тазов с вареной рыбой. Теперь каждый ел столько, сколько хотел. — А мне так даже нравится такое рабство! — икнув, блаженно вздохнул бывший ремесленник из греческой Беотии. — Такого обилия рыбы и пусть даже самого дешевого вина я не видел в своем доме по самым большим праздникам! — Подожди! — усмехнулся пожилой гребец. — Нас еще будут по два раза на день расковывать и выводить на палубу! — Неужели и среди торговцев рабами можно встретить людей? — слабо удивился Эвбулид. — Людей?! — насмешливо переспросил гребец. — Да этот перекупщик, как и все торговцы живым товаром, старается только ради себя! Много ли он получит за нас после того, что с нами сделали пираты? Кому нужны изможденные, раненые, да еще и подслеповатые рабы?! Нет, теперь он будет лечить нас и кормить, словно баранов перед жертвоприношением! — Уверен, он еще погоняет свою триеру по волнам, чтобы мы приобрели товарный вид, и получит по мине за каждую затраченную на нас драхму! — подтвердил бывший кузнец — вольноотпущенник. И он не ошибся. Вместо того чтобы за два дня добраться до ближайшего острова с невольничьим рынком, перекупщик, то и дело меняя курс, еще несколько суток лавировал в Эгейском море, откармливая дармовой рыбой, выгуливая на палубе своих рабов и залечивая им раны. Наконец увидев, что большинство из них окрепли, пополнели, а лица некоторых даже залоснились от сытости, дал рулевому приказ брать курс на остров Хиос. Разумеется, Эвбулид не мог знать этого, и новый разворот судна, от которого попадали на пол стоявшие рабы, воспринял как десятки прежних поворотов, не догадываясь, что именно он уже разделил всю его дальнейшую судьбу на две половины: жизнь свободного человека и жизнь раба. Не обращая внимания на усилившийся топот ног на палубе, он по-прежнему вполголоса беседовал с Сосием и другими вольноотпущенниками. Строил планы, как выкупиться из неволи, не представляя еще, как это удастся сделать ему, не приученному ни к какому труду, не знающему ни одного ремесла. Утешало его лишь одно: что и кузнец Сосий, прежде чем стать известным кузнецом и выкупиться из рабства, был ничего не умеющим подмастерьем. Эвбулид был уверен, что жажда свободы поможет ему освободиться от этих оков, увидеть Гедиту, детей и еще пройти по таким бесконечно далеким от него теперь улочкам Афин… — И потом, разве обязательно мне быть кузнецом или горшечником? — вслух делился он внезапной надеждой с Сосием. — Ведь я могу стать скрибой, переписчиком книг, наконец, грамматиком! Я буду писать так старательно и быстро, что почернеют пальцы, перепишу книг больше, чем все остальные рабы, воспитаю своему… хозяину прекрасного сына! И он в благодарность даст мне свободу! — Это было бы очень хорошо и справедливо! — не глядя в глаза Эвбулиду, соглашался старый кузнец, умалчивая о том, что еще предстояло узнать и испытать этому горящему надеждой эллину. Кому как не ему, Сосию, было знать, что желание раба для его хозяина — это мышь в пустом чулане: будет сидеть молча — не заметит, а пикнет — убьет, и что нет в мире более невозможной вещи, чем благодарность господина в виде свободы. На рассвете следующего дня триера причалила к просыпающейся гавани зеленого холмистого острова. Привычно скрипнула решетка. Спустившиеся кузнецы заменили тяжелые оковы легкими, но не менее прочными кандалами и наручниками. Позванивая ими, зябко ежась от утренней прохлады, пленники потянулись по ступенькам наверх. Радуясь новой прогулке, Эвбулид поднялся за ними на палубу и замер пораженный, увидев вместо бескрайнего морского горизонта гавань с полутора десятками стоявших в ней кораблей. — Родос? Крит? Делос? — гадали невольники, разглядывая дома и мощеную дорогу, круто уходящую вверх, на густо застроенный холм. — Хиос! — уверенно ответил Аристарх и показал рукой куда-то за макушки городских храмов. — Здесь прекрасная библиотека… — И родина Гомера! — пробормотал кто-то из греков, уныло осматривая остров, где, по преданию, был похоронен великий поэт. Из-под навеса появился озабоченный перекупщик. Увидев его, надсмотрщики защелкали бичами и погнали пленников к спущенному трапу. Эвбулид на мгновение замешкался, и тут же плеть обожгла его спину. Удар был не сильным — за порчу спины предназначенного к продаже раба надсмотрщику самому бы досталось от господина. Но Эвбулиду показалось, что весь мир раскололся на части. Никто, никогда, кроме отца и матери в детстве и расплатившихся за это своими жизнями пунов, не поднимал на него руку. Вскрикнув от гнева, он рванулся было к надсмотрщику, но Аристарх неожиданно сильной для его худощавого вида рукой удержал его и буквально столкнул на ступеньки трапа. — С ума сошел? — набросился он на Эвбулида. — Что ты этим докажешь? — Привыкай, эллин, к ласкам своей новой жены! — ухмыляясь, покрутил плетью надсмотрщик. — Иначе у нового господина тебе не прожить и дня! Когда последний невольник сошел на выложенную гладкими плитами площадь гавани, надсмотрщики, щелкая бичами, привязали их попарно друг к другу и длинной вереницей повели по дороге, ведущей на холм. Перекупщик шел сзади. То и дело он останавливался и охотно отвечал заговаривавшим с ним прохожим, что таких крепких и ценных рабов давно уже не привозили на священную землю Хиоса. Вскоре показался и сам хиосский рынок, местная агора, с храмами, общественными зданиями и многоголосой толпой продавцов и покупателей. Как и в Афинах, бредущий в паре с Ладом Эвбулид слышал призывные голоса: — Колбасы! Горячие колбасы! — Мегарский лук! Злой мегарский лук!! — Баранки! Баранки! — Масло! Кто забыл купить масло?! Так же отчаянно спорили за каждые полобола торговцы мясом и дичью с бедно одетыми покупателями. Разница была лишь в том, что на этот раз между Эвбулидом и агорой была небольшая, с широкими щелями изгородь и веревка, которой он был привязан к Ладу и идущим впереди и позади невольникам. Дорога вывела их к огромной площади, тоже битком забитой народом. Здесь никто не носил своих товаров, никто не торговался, но спорили не меньше, чем на соседнем рынке. В центре площади возвышался высокий помост, на котором стояли глашатаи и агораномы. Здесь торговали рабами. Торг еще, судя по всему, не начинался. Покупатели смолкли, вытягивая шею и разглядывая подведенную партию новых рабов. Стоящие на «камне продажи» агораномы бегло взглянули на пленников «Горгоны» и «Талии». Глашатаи осмотрели их куда внимательнее, словно прикидывая, сколько им запрашивать за восхваление этой партии с давно знакомого им перекупщика. Неожиданная мысль, что среди покупателей мог находиться знающий его какой-нибудь афинский купец или приехавший по делам на Хиос приятель, озарила Эвбулида. С трудом сдерживая волнение, он стал озираться по сторонам. Внимательно разглядывая пестро одетых хиосцев, споткнулся и ударился о спину идущего впереди Сосия. В толпе засмеялись. Раздались возмущенные окрики, что рабы этой партии так слабы, что их даже ноги не держат. Эти слова долетели до ушей как глашатаев, так и перекупщика. Глашатаи красноречиво переглянулись, подмигивая друг другу. Перекупщик что-то сердито крикнул надсмотрщику, и на спину Эвбулида обрушился по-настоящему сильный удар. Вскрикнув от неожиданности, он выгнулся от боли, сделал шаг в сторону, порываясь отомстить обидчику, а там — будь что будет! — Но Лад без труда натянул веревку и удержал его. — Не время! — коротко бросил он, обводя сузившимися глазами надсмотрщика, перекупщика и толпу покупателей. — Потерпи — мы еще отомстим всем этим. И убежим. Слова сколота отрезвляюще подействовали на Эвбулида. Он окончательно успокоился, обмяк и равнодушно снес все насмешки надсмотрщика, выделившего его из остальных пленников. Дорога привела их в небольшой загон, где уже ожидали начала торга несколько партий прибывших раньше рабов. Эвбулид покорно принял из рук своего обидчика ведро с разведенным в воде мелом, поданное с язвительной ухмылкой, и глухо спросил: — А что с ним делать? — То же, что и все остальные! — усмехнулся надсмотрщик, показывая на Сосия и гребцов, которые привычно обмазывали себе ноги до самых колен белой краской. — Зачем? — удивился Эвбулид. — Для красоты! — буркнул надсмотрщик и взревел, пиная ведро так, что краска сама брызнула на ноги окаменевшего Эвбулида: — И затем, эллин, что это означает, что ты предназначен для продажи! «Для продажи!» — вздрогнул, словно от удара плетью, Эвбулид. Пораженный этой мыслью, он машинально опустил руку в ведро и провел побелкой по одной ноге, затем — по другой. — Живее, эллин! — заторопил Эвбулида надсмотрщик. Потеряв терпение, схватил ведро и вылил всю белую воду с мелом на ноги грека. — Вот так! Это тебе не афинская сомата, где однажды твои земляки заставили меня проделать тоже самое! «Лучше бы Пакор зарубил меня! — не слушая надсмотрщика, бессильно опустился на землю Эвбулид. — Или „Горгона“ утонула во время шторма… Все было бы лучше, чем сносить такие унижения и позор. О, боги! Чем я прогневил вас, что вы заставляете меня так страдать?..» Между тем торг уже начался. Агораномы увели из загона партию смуглолицых малоазийцев. Вскоре из-за изгороди, отделявшей Эвбулида от «камня продажи», послышались громкие крики глашатаев: — Гончар из Библа, двадцати четырех лет! — Художник из Фригии, тридцать два года! Умеет воспроизводить на амфорах и вазах любые моменты из жизни героев и богов! — Тридцатилетний чеканщик из Эфеса! — Сирийская танцовщица, одиннадцать лет! Свет не видывал подобной искусницы и шалуньи! Судя по шуму и одобрительным возгласам, доносившимся из-за изгороди, покупателям пришлись по вкусу рабы, привезенные из Малой Азии. Бросавшие до этого ревнивые взгляды на своих соседей — конкурентов купцы оживились, зашептали благодарственные молитвы и стали обмениваться заверениями, что такое удачное начало — залог выгодного торга на весь день. Как только агораномы увели из загона третью партию, перекупщик вернулся к своим рабам и, показывая надсмотрщикам то на одного, то на другого, приказывал: — Гета раздеть до пояса, может, кто из новичков-покупателей позарится на его крепкие руки и не заметит его слабых ног. Фракийца поставить в середину, чтобы не было видно отрубленных пальцев — вдруг кто решит купить всю партию целиком! Лекаря и кузнеца вести отдельно — буду продавать их в лавке, как дорогой товар. Остальных — раздеть и обмазать маслом, чтобы была видна каждая мышца! Взволнованные не меньше перекупщика приближающимся моментом продажи надсмотрщики бросились выполнять приказания господина. Замелькали торопливо снимаемые хитоны, халаты, склянки с оливковым маслом… Отведенный вместе с Сосием в сторону Аристарх бросил невеселый взгляд на медленно раздевающегося Эвбулида, подбадривающе крикнул: — Не теряй надежды, Эвбулид! Будь здоров. Прощай!.. — Прощай! — через силу улыбнулся Эвбулид и, положив на землю гиматий, вопросительно взглянул на подскочившего надсмотрщика. — И хитон тоже, все снимай! — прорычал тот, разрешая при этом, однако, знаком Ладу оставаться в набедренной повязке. — Но… — замялся Эвбулид, холодея от мысли, что должен предстать перед толпой варваров в обнаженном виде. Он — гражданин великих Афин, куда еще допустят не каждого из этих покупателей для поклонения святым местам! «Бывший гражданин!» — горько усмехнулся про себя он, дотрагиваясь задеревенелой рукой до своего хитона. — Живее, эллин, живее! — заторопил его надсмотрщик и сам сорвал с плеча Эвбулида дешевую костяную пряжку, скреплявшую верхние концы хитона. — А это я возьму себе на память о нашей встрече! Вспомнив о том, что у него под хитоном спрятан мешочек с привезенными Арменом монетами, Эвбулид с напускной покорностью кивнул и, как только надсмотрщик отошел, шепнул Ладу: — Этот негодяй не успокоится, пока не разденет меня догола! Спрячь деньги. Лад быстро сунул мешочек под набедренную повязку и заговорщицки подмигнул греку: — Они нам еще понадобятся! — Да услышат твои слова боги!.. Вздохнув, Эвбулид высвободил руки из отверстий в хитоне. Тут же к нему с Ладом подскочил один из корабельных рабов с амфориском. С уважением смазав крепкое тело Лада маслом, рельефно выделившим могучие мышцы сколота, он перешел к Эвбулиду и оскалил зубы: — А этому что выделять — складки на животе? «Замолчи, раб!» — чуть было не сорвалось с языка Эвбулида. Но он вспомнил, что сам теперь ничем не отличается от этого сирийца, и до боли сцепил зубы, чувствуя, как холодят его спину, живот, руки вымоченные в оливковом масле ладони. Шум за изгородью стих. Появились агораномы. Один из них обвел взглядом загон, ища очередную партию, и перекупщик подтолкнул ближайшего к нему надсмотрщика: — Выводи! Захлопали бичи, заскрипели, отдаваясь где-то в самом сердце, массивные ворота. Перекупщик, дав несколько монет агораномам, попросил их не продавать до его возвращения никого из своей партии и повел Аристарха с Сосием в лавку для самых дорогих рабов. Остальные невольники, выстроившись в затылок друг другу, длинной вереницей потянулись из загона. Глядя себе под ноги, Эвбулид поднялся по ступенькам на «камень продажи». Только здесь поднял голову и тоскливым взглядом обвел притихшую в ожидании сообщения глашатаев толпу покупателей. Где-то среди них был и его будущий хозяин. Господин!.. — Партия рабов на любой вкус! — в один голос закричали глашатаи. — Эллины, геты, фракийцы, даже один скиф — выносливый и могучий, как Геракл! Восторженным гулом встретили покупатели слова глашатаев. Расталкивая локтями соседей, заторопились на «камень продажи». Самые нетерпеливые подскочили к Ладу и, дивясь, щупали мышцы его рук, хлопали по шее, плечам. Сколот стоял ровно, не шевелясь, словно каменное изваяние. Казалось, это был самый покорный раб из всей партии. Но Эвбулид чутьем угадывал, что стоило такое спокойствие Ладу. В глазах сколота росла ярость, еще минута — и не сдержали бы его ни легкие наручники, ни рослые агораномы. Теперь уже Эвбулид пришел на помощь Ладу. — Лад! — предостерегающе шепнул он сколоту. — Не время… Вспомни, чему ты учил меня… Потерпи! Не только Эвбулид, но и бывалые глашатаи почувствовали опасность, исходившую от могучего раба, и, подбежав к нему, вывели на середину помоста. — Двадцатипятилетний скиф с отменным здоровьем! — выкрикнул один. Второй, сгибая руку Лада в локте, искренне добавил: — Клянусь Сераписом, такого крепкого раба я еще не видел за время всей моей службы на вашем рынке! — Но где же его торговец? — бросая по сторонам беспокойные взгляды, воскликнул один из покупателей. — Я бы не пожалел за этого скифа и десяти мин! — А я — пятнадцати! — оттеснил его плечом сосед. — А я — семнадцати! — просунулся вперед еще один покупатель. — Торговец скоро подойдет, с ним и договаривайтесь! — отвечал на все вопросы агораном и, когда ему надоели назойливые хиосцы, дал знак глашатаям выводить следующего раба. — Образованный эллин тридцати семи лет! — услышал Эвбулид и не успел еще сообразить, что речь зашла о нем, как цепкие руки подхватили его под локти и повели к середине «камня продажи». — Образованный эллин! — повторил глашатай, видя, что никто не торопится к греку. — Откуда он? — выкрикнул кто-то снизу. — Из Афин! — О-о! — разочарованно протянул тот же голос. — В моей мастерской уже работал один афинянин — так даже года не выдержал! — Убежал? — удивились в толпе. — Подох! И все же несколько человек подошли к Эвбулиду. Долговязый сириец обошел его кругом, оглядывая с ног до головы. Недовольно покачал головой и спустился с помоста. Зато другие заставляли его сгибать руки, подпрыгивать и приседать. Мысленно махнув на все рукой, Эвбулид покорно сносил все эти издевательства. Он даже не противился, когда тучный малоазиец приказал открыть ему рот и стал осматривать зубы, точно у лошади. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Эвбулид повернул голову и увидел, что на него смотрит седобородый мужчина в греческом хитоне. Он никогда не видел этого человека, но что-то словно кольнуло его и подсказало, что это — путешественник из Афин. Продолжая машинально выполнять приказания дотошных покупателей, Эвбулид сгибал и разгибал руки, подпрыгивал, приседал, даже станцевал какой-то танец, бросая на грека отчаянные взгляды. Наконец, мужчина приблизился и, словно ненароком вставая между нагим пленником и толпой покупателей, тихо спросил: — Это верно, что ты из Афин? — Да! — торопливо кивнул Эвбулид. — А ты? — Тоже. — Купи меня! — голос Эвбулида сорвался, он облизнул пересохшие губы и сбивчиво забормотал: — Купи и увези в Афины! Я буду твоим рабом, стану выполнять любую, даже самую грязную и тяжелую работу, только верни меня на родину и спаси от этого кошмара! — Изгнанник? — строго спросил афинянин. — Нет, что ты! Это все пираты… — Понятно. Ну и что же теперь с тобой прикажешь делать? — Купи… — прошептал Эвбулид, с мольбой глядя на земляка. — Купить-то я тебя, конечно, куплю, — задумчиво проговорил мужчина и вопросительно взглянул на просиявшего Эвбулида. — Но вот вопрос, на какие деньги мы тогда вернемся в Афины? Ведь хозяин затребует за тебя не меньше семи мин, а у меня после путешествия по здешним островам осталось всего восемь… — Я отработаю! — прижал руки к груди Эвбулид. — Я буду выполнять самую грязную, самую… — Пустое! — перебил его афинянин. — Как только вернемся домой, одолжишь у знакомых и вернешь мне. Или ты думаешь, совесть позволит мне обратить в рабство своего земляка? Только бы теперь твой торговец не запросил за тебя больше, чем у меня есть… — Не запросит! — выдохнул Эвбулид. — Не должен! Кому я нужен здесь? — И это верно. В его партии я вижу немало рабов, которых здесь, на Хиосе, прости, называют никчемными. Например, вон тот фракиец без пальцев или, еще раз прости — ты! Будем надеяться, что он согласится избавиться от тебя за доступную мне цену. — Сами боги послали тебя сюда! — не стыдясь выступивших слез, пробормотал Эвбулид, мысленно давая обет сразу по возвращении домой принести жертвы всем главным богам Олимпа. С нетерпением ожидал он возвращения перекупщика, но того все не было. И лишь когда недовольство покупателей достигло предела и стали раздаваться голоса, требующие снять всю партию с торга, появился торговец. Довольно улыбаясь, он вбежал на ступеньки, виновато развел руками и крикнул: — Прошу простить достопочтенных хиосцев, но мой торг окончен. Я продал всю партию оптом! — Как это продал? — протиснулся сквозь толпу недовольных афинянин. — Я хочу купить у тебя вон того эллина! Это же бросовый товар, а я дам тебе за него — семь мин… восемь! — Я сказал, оптом! — не переставая улыбаться, объяснил перекупщик и все с той же довольной улыбкой заверил: — Приходи через месяц, и я предложу тебе целых десять таких эллинов! — Прости! — проходя мимо Эвбулида, буркнул афинянин. Затем остановился: — Назови хоть твой адрес, чтобы я мог передать твоим домашним о твоем несчастье… — Как передать? — побледнел Эвбулид, с трудом отрываясь от мыслей о том, что все страхи и унижения позади и он вскоре снова будет с Гедитой и детьми. — Разве ты не выкупил меня у него? Что случилось?! 2. Лекарь с нагрузкой А случилось вот что. Пока покупатели на «камне подажи» препирались из-за Лада и осматривали остальных рабов, перекупщик, удобно расположившись в одной из комнат небольшой лавки, охотно показывал богатым хиосцам двух своих дорогих рабов. На Сосия почти никто не смотрел. Люди причмокивали языками, разглядывая изготовленные старым кузнецом наручники, дивились злой иронии судьбы, что сам мастер оказался в оковах собственной работы, но никто даже не спросил перекупщика о цене. Всех отпугивали слезящиеся подслеповатые глаза старика и его слабые, негодные больше для тяжелой работы руки. Зато около Аристарха столпилось немало любопытных. Особенно настойчивым был коренастый мужчина с высокомерным лицом, назвавшийся Эвдемом. Объехав несколько крупных островов Эгейского моря, вельможа так и не нашел на их рабских рынках подходящего лекаря для Аттала. Он уже собирался поехать в глубь материка и поискать такого в городах Сирии и Каппадокии, но по привычке до конца выполнять полученный приказ решил для очистки совести побывать на Хиосе и Родосе. И надо же такому: сразу же по прибытии на Хиос он, кажется, обнаружил именно то, что искал. — Скажи, — не обращая внимания на остальных покупателей, дотошно пытал он Аристарха, — а лихорадку ты лечить умеешь? — Конечно! — улыбнулся Аристарх. — А вправлять вывихи, лечить переломы? — Конечно! — повторил лекарь и, опережая Эвдема, принялся перечислять: — И вывихи, и переломы, а также боли в животе, изжогу, тошноту, прострелы в спине… — Даю за такого лекаря двадцать мин! — воскликнул худощавый покупатель с болезненным лицом. — …ломоту в ногах, резь в глазах, — продолжал Аристарх, — головную боль… — Полталанта! — не давая раскрыть рта худощавому, вскричал полный хиосец. — Талант! — …шум в ушах, простуду, боль при глотании в горле! — закончил Аристарх и взглянул на Эвдема: — Продолжать? — Нет! — покачал головой Эвдем и впился глазами в лекаря: — Ответь мне еще только на один вопрос — сердцебиение ты вылечить можешь? — А как они протекают? — оживился Аристарх. — Ну… — помялся Эвдем. — Возникают ни с того ни с сего, потом больному начинает не хватать воздуха и казаться, что вот-вот — и разорвется его грудь… — Мне нужно осмотреть этого человека! — решительно сказал Аристарх, делая шаг к двери и только тут замечая на своих руках наручники… — И ты излечишь его? — воскликнул Эвдем. — Смотря от чего начинаются эти приступы! — Что ж… Ответ не хвастуна и действительно ученого лекаря! — Если у этого человека такие приступы наступают от перевозбуждения или сильнейшего потрясения, то я помогу ему. — Да-да! У него недавно умерли мать и невеста! — А если у него это идет от изменений в самом сердце, то — увы! — покачал головой Аристарх и виновато развел руками. — Будем надеяться на первое… — чуть слышно пробормотал Эвдем и громко объявил перекупщику: — Я покупаю лекаря. — Только сначала заплати больше, чем я! — вскричал полный хиосец. — Нет, чем я! — оттеснил его худощавый покупатель. — Я даю полтора таланта! — Десять талантов! — отрезал Эвдем, обращаясь к перекупщику. — И прекратим эту мышиную возню. Пораженные покупатели недоверчиво переглянулись и, с сожалением оглядываясь на умелого лекаря, один за другим потянулись в соседнюю комнату. — Так по рукам? — спросил Эвдем, оставшись наедине с не знающим как скрыть свою радость перекупщиком, и, не дожидаясь ответа, хлопнул в ладони: — Эй, Протасий, вноси! В комнату торопливо вбежал управляющий Эвдема. — Господин, неужели нашел? — пропищал он, радостно всплескивая руками. — Где золото? — нахмурился Эвдем. — Несут, несут! — закивал Протасий, и на пороге появились два раба, несущих за ручки тяжелый ларец. — Отсчитай десять талантов! — приказал Эвдем евнуху, и тот, радостно хихикая, принялся открывать крышку ларца. — Постой! — неожиданно остановил его перекупщик, смекнув, что ради этого лекаря странный покупатель, возможно, купит у него и старого кузнеца. — Я не продаю этого лекаря в одиночку, я привел его вместе с этим прекрасным кузнецом и хотел бы продать их обоих! — Хорошо! — нетерпеливо кивнул Эвдем, даже не глядя в сторону Сосия. — Сколько я тебе еще должен за твоего мастера? — Талант! — выпалил перекупщик, холодея от собственной наглости. — Протасий, ты слышал? — обратился к управляющему Эвдем. — Да, господин! Но… — Отсчитай еще один талант! Перекупщик поняв, что вельможа пойдет на все, чтобы только выкупить лекаря, даже привстал со своего места от волнения. — Еще одно маленькое условие… господин… — Что еще? — недовольно бросил Эвдем. — Я привез на Хиос этого великого лекаря вместе с остальными рабами и не хотел бы… — Сколько у тебя их еще? — теряя терпение, выкрикнул Эвдем. — Пятьдесят четыре, господин, всего пятьдесят четыре! — Куда мне столько? Ну да ладно, сколько ты хочешь за них? — Всего по десять мин за каждого! — боясь дышать, выдавил из себя перекупщик. — Товар очень хороший, есть грамматики, пастухи, гребцы, один скиф только чего стоит, так что цена самая скромная… — Ладно! — жестом остановил купца Эвдем и потер лоб. — Всех, так всех! Протасий, слышал? — Да, господин! — засуетился евнух, бегая от ларца к столу и выкладывая мешочки с золотом. — Ровно двадцать талантов! — бросил он наконец последний мешочек, и Эвдем, а следом за ним и перекупщик направились к выходу. После объявления перекупщика, жалеющего, что не запросил с вельможи по двенадцать мин за каждого раба, возмущенная толпа покупателей стала требовать скорее выводить новую партию. Эвдем издалека осмотрел спускающихся со ступенек невольников и приказал евнуху: — Весь этот «хороший товар» доставишь на какой-нибудь триере в Пергам и разбросаешь по моим мастерским и виллам. Кузнеца — на кузню. А я с лекарем поеду сейчас же, надеюсь, уже завтра к вечеру быть принятым Атталом! — Базилевс возвращает тебе свою прежнюю милость?! — восторженно взвизгнул Протасий и задохнулся от радости. — Да за это… за это не жалко было отдать и всего твоего состояния! А я, глупый, горевал о двадцати талантах! К вечеру следующего дня Эвдем, ведя перед собой Аристарха, подошел к царскому дворцу. На стук из ворот вышел незнакомый охранник. Удивившись тому, что это не пергамец, которым Зимрид доверял охрану Аттала, а наемный грек, Эвдем строго приказал: — Срочно позови начальника кинжала! Несколько минут спустя следом за охранником появился еще один грек, одетый в нарядный халат придворного вельможи. — Я просил вызвать начальника кинжала! — дрогнувшим голосом сказал ему Эвдем, начиная понимать, что за время его отсутствия во дворце что-то случилось. — Я и есть начальник кинжала! — подтвердил грек, подозрительно оглядывая вельможу. — Что тебе нужно? — Да мне, собственно… — замялся Эвдем. — Я договорился встретиться с Зимридом! — Твой Зимрид оказался змеей, которую пригрел на своей груди царь! — отрезал грек. — Страшно подумать, что жизнь Аттала каждое мгновение подвергалась смертельной опасности! Царь так потрясен, что до сих пор не может прийти в себя, и теперь его беспрестанно мучают приступы сердцебиения! — Так значит, мой пациент — царь? — удивился Аристарх, оборачиваясь к Эвдему. Начальник кинжала бросил на него недоуменный взгляд и перевел глаза на вельможу. — Объясни толком, что натворил Зимрид! — попросил его Эвдем. — Это уже знает весь Пергам! — усмехнулся грек. — Этот мерзавец решил передать через вифинского посла тайную переписку нашего царя с Митридатом Риму! — Зачем ему это было нужно? — невольно вырвалось у Эвдема. — Изменник хотел получить десять талантов! — скривил губы грек. — Он сам сказал об этом во время пытки. Хвала богам, что у Александра, который вез это письмо, оказались быстрые кони. Смертельно раненного, они принесли его в дом отца, и перед смертью он успел сказать, что в него стреляли люди Зимрида и вифинский посол! — И где же они теперь? — побледнел Эвдем. — Посол сидит на колу в своей родной Вифинии, — охотно объяснил грек. — А остальные уже там, где скоро будешь и ты, если, конечно, не убедишь меня в том, что явился во дворец не со злым умыслом. Эй, стража! — хлопнул он в ладоши, и вокруг Эвдема и Аристарха встали вооруженные греки с угрожающими лицами. — Ну, пошли? — улыбнулся начальник кинжала вельможе. — Ты ведь так хотел во дворец! — Я только привел лекаря, который излечит царя от сердцебиений! — воскликнул, отступая на шаг, Эвдем. — Это правда, что ты вылечишь его? — обратился к Аристарху грек. — Судя по всему, да! — кивнул лекарь. — Прекрасно! — обрадовался начальник кинжала. — Царь давно ждет тебя! Он обещал дать тому, кто приведет такого лекаря, любую награду! Так ты по-прежнему настаиваешь лично отвести его? — покосился он на Эвдема. — Да нет! — пробормотал тот, понимая, куда клонит грек. — Мне было только приказано доставить его в Пергам… — Ну что ж, в таком случае ты благоразумный человек, и я думаю, эта наша встреча не последняя! Запомни: меня зовут Никодим, — приветливо улыбнулся Эвдему начальник кинжала. — А сегодня я не видел тебя! И учти, если бы не этот лекарь! — Он красноречиво провел ребром ладони по горлу и, проталкивая в коридор Аристарха, приказал захлопнуть ворота перед носом ошеломленного вельможи. «Ну и люди окружают царя, один другого не лучше! — покачал он головой. — Когда все же это кончится и я займу в этом царстве место, достойное себя по своему уму и богатству?!» Зло сплюнув, он круто развернулся и пошел прочь от дворца, не зная, что ему теперь сказать Гнею Лицинию, который, как он догадывался, прибыл совсем не ради беспошлинного пергамента и на помощь которого он очень и очень рассчитывал после того, как в Пергам войдут римские легионы… 3. Еще один Афиней Партия купленных Эвдемом рабов отплыла с Хиоса на попутном паруснике, пересекла последние стадии Эгейского моря, а Эвбулид все никак не мог прийти в себя от случившегося. Миновали богатый порт Элею, пошли быстрым шагом по плодородной долине, подгоняемые надсмотрщиками, которых, в свою очередь, торопил едущий позади в повозке евнух, а он заново переживал минуты, проведенные им на «камне продажи». То вспоминался вселивший в его сердце надежду разговор с земляком, обещавшим выкупить его. То вдруг вздрагивал, отчетливо слыша ликующий голос перекупщика: «Мой торг окончен!» — Ты что-то сказал? — участливо наклонился к идущему рядом Эвбулиду Лад. Несколько раз он порывался успокоить грека, развеселить его рассказом о том, как весело проходят некоторые праздники у него на родине, но грек отмалчивался или отвечал невпопад и шел дальше, поглощенный мучительными мыслями. Вот и теперь он даже не услышал сколота, только едва заметно пошевелил губами. Лад прислушался и различил: — Боги не верят больше мне, они отвернулись от меня, раз не хотят, чтобы я принес им жертвы во всех афинских храмах! Я погиб… «Да он и впрямь погибнет в неволе через месяц или еще по дороге сойдет с ума от горя!» — не в шутку встревожился Лад и сделал еще одну попытку поднять настроение упавшему духом греку. — Говорят, нас ведут в Пергам! — сообщил он Эвбулиду подслушанную от пленников-малоазийцев новость. — Ну и что? — отозвался тот. — А то, — торжествуя заметил Лад, — что в Пергаме с рабами обращаются куда справедливее, чем в твоих Афинах, почти как у меня на родине! — Убивают сразу, чтобы не мучались? — одними губами невесело усмехнулся Эвбулид. — Зачем? — воскликнул сколот. — У нас ровно через десять лет пленник или становится другом, или уезжает к себе домой. Говорят, — понизил он голос, — что и в Пергаме есть царские мастерские, где делают то, на чем пишут договоры о торговых сделках! — Пергамент! — нехотя подсказал Эвбулид. — Да. Пер-гамент! — выговорил непривычное слово Лад. — И там тоже рабов через десять лет делают свободными! «Десять лет! — ужаснулся Эвбулид. — Если Гедите, которая уже стала официальной вдовой, удастся каким-то чудом поднять детей без денег, без друзей, то Диоклу будет двадцать три, Филе — двадцать два, даже Клейса станет невестой!.. Пройдет целая жизнь! И все же это хоть какая-то надежда пусть на старости, пусть совершенно незнакомыми увидеть их и обнять!» — Но ведь для этого еще надо попасть в царскую мастерскую! — вслух сказал он и мечтательно прищурился: — Отмучаться десять лет — и домой… — Если не попортишь ни одного листа пергамента при обработке! — злобно усмехнулся идущий сбоку пожилой надсмотрщик. — А шкурки эти тонкие, ножик острый — того и гляди, пропорет насквозь! Вот тебе еще пять лет рабства! А там уснешь от усталости и пересушишь его на солнце или, наоборот, не досушишь — вот и все десять! — пробормотал он, вздыхая, и вдруг накинулся на Лада с Эвбулидом. — А с твоими ручищами, скиф, только с нежными шкурками и работать! Да и ты, Афиней, можешь не мечтать о царских мастерских, только вас, неумелых эллинов, там и не хватало! — Я — Эвбулид! — поправил надсмотрщика грек, но тот, выделяя каждое слово шлепком плети по ладони, назидательно заметил: — Эвбулид умер, его нет и никогда не было, и не будет больше ни через десять, ни даже через двадцать лет. Ты — раб из Афин, Афиней! Понятно? Ну, кто ты? — Эвбулид! — выкрикнул грек, почувствовав, как кровь ударила ему в голову. Если бы не веревка, которую крепко тянул на себя Лад, он бросился бы на надсмотрщика и зубами впился бы в него, а там — будь что будет… Взвизгнула и обожгла спину плеть. Еще раз, еще… Один из ударов пришелся в бровь, и кровь залила глаз Эвбулиду, мешая видеть надсмотрщика, уклоняться от его плети. — Ну, так кто ты? — Эвбулид!.. — Кто?! — Эвбулид… Подъехавший к остановившимся рабам управляющий дворцом Эвдема узнал, в чем дело, оглядел круглыми глазками задыхавшегося от боли и унижения Эвбулида и приказал надсмотрщику: — Бить до тех пор, пока не привыкнет к новому имени! Охотно кивнув, надсмотрщик обрушил на Эвбулида град слепящих ударов. — Кто ты? Кто?! — выкрикивал он, переводя дух. — Эвбулид… — стоял на своем грек. — Эвбулид?!! Так получай еще! Ну, кто ты теперь? — Афиней! — шепотом подсказал фракиец, болезненно сморщившись, словно это его били сейчас плетью. Остальные рабы тоже принялись уговаривать: — Афи-ней! Афиней… — Эвбулид! — повторил грек. Надсмотрщик изо всех сил полоснул его плетью в ярости, даже не заметив, что этот удар принял на себя Лад, заслонивший Эвбулида плечом. — Ты — Афиней! Запомнил? Повтори! — Так он эллин? — встрепенулся евнух, с интересом наблюдавший из повозки за истязанием раба. — Тогда поаккуратнее! Он мне еще понадобится. Смотри — за его шкуру я спрошу с тебя, как когда-то с тебя спрашивали за испорченный пергамент! Бросив на управляющего недовольный взгляд, надсмотрщик ослабил удары. Лад, подставляющий под часть из них свое могучее тело, шепнул Эвбулиду: — Смирись на время, брат! У тебя останется имя, потому что я все равно буду называть тебя Эвбулидом, даже если они убьют меня за это! — Ну? — задыхаясь от усталости, прохрипел надсмотрщик. — Как твое имя? Афиней? Да, Афиней? — Да… — опустил голову Эвбулид. — Скажи так, чтобы слышал господин управляющий. — Афиней… — бросил Эвбулид, глядя в землю. — На первый раз достаточно! — милостиво улыбнулся Протасий, давая знак вознице продолжать путь, и вся вереница рабов, поторапливаемая надсмотрщиками, быстрым шагом потянулась за его повозкой. Через час показалась высокая гора с домами и храмами, усеявшими даже ее вершину. — Пергам! — воскликнул кто-то сзади. — Уезжал отсюда рабом, и рабом возвращаюсь! — Еще полдесятка стадиев, и мы выйдем на дорогу, ведущую прямо в город! — повторил унылый голос. Но этим словам пергамца не суждено было сбыться. Следуя знаку поджидавшего рабов Протасия, надсмотрщики прогнали вереницу мимо поворота и повели туда, где зеленели поля, стояли, утопая в цветущих садах, богатые виллы. Возле одной из них евнух сошел с повозки и пошел навстречу вышедшему из ворот высокому персу, управляющему одного из многочисленных загородных имений Эвдема. — Приветствую тебя, Филагр! — восхищенно оглядываясь по сторонам, пропищал он. — Какой воздух, какая красота! До чего ж у тебя подходящее имя[90] к такой жизни! И какой порядок везде — обязательно доложу об этом нашему господину! — Да живет он вечно! — почтительно склонил голову Филагр. — Как он? — По-прежнему в делах и тревогах! — вздохнул Протасий. — Но о тебе не забывает. Удивляется, что ты до сих пор не скопил денег, чтобы выкупиться… Вот — прислал в твое имение десяток рабов, отбери, каких сочтешь нужными, а остальных надсмотрщики отведут другим! — Лучше бы он передал пару амфор вина… А рабынь нету? — с любопытством оглядел вереницу рабов Филагр. — Увы! — развел руками евнух и внимательно посмотрел на одутловатое лицо управляющего. — Постараюсь привезти в следующий раз. А то ты тут вконец сопьешься! — Смотри, а то те, что ты привез мне в прошлые месяцы, уже приелись! — предупредил перс и погасшим взглядом еще раз посмотрел на рабов. — Возьму у тебя вон того здоровяка, — показал он пальцем на Лада, — потом вон тех троих… Кузнеца нет? — Есть! — А то мой вчера сбежал от меня! — От тебя?! — изумился Протасий. — В Аид! — охотно объяснил Филагр, и оба управляющих расхохотались. — Возьми еще вон того эллина — Афинея! — кивнул на Эвбулида Протасий. — Пусть послужит грамматиком у сына нашего господина… Кстати, как он? — Публий? Чем могут заниматься дети во время каникул — играет в бабки, колотит рабов… — Учится любовным утехам у молодых рабынь? — хихикнул, подмигивая, евнух. — Этому он уже научился в твоем дворце! — усмехнулся Филагр. — На днях такое учинил в женской бане! Заставил всех рабынь… — Расскажешь мне об этом вечером, за кружкой вина! — перебил перса Протасий. — Я люблю слушать о таких делах во всех подробностях, тем более они, уверен, позабавят нашего господина, такого мрачного в последнее время! А пока вели самого меня искупать твоим рабыням в баньке и дай работу своим новым рабам. По знаку Филагра из ворот выскочили три рослых надсмотрщика с длинными бичами. Они отделили от вереницы рабов, на которых указал управляющий, и погнали их в имение. Не доходя до ворот, один из надсмотрщиков коснулся концом рукояти бича пятерых невольников и повел их в сторону видневшегося вдали поля. Лада, Сосия и Эвбулида два надсмотрщика повели по ухоженной, посыпанной дробленым камнем дорожке. У входа в дом их опять разделили: сколота и кузнеца надсмотрщики погнали дальше, Эвбулида потащила за собой выбежавшая из двери толстая рабыня со злым, хитрым, как показалось Эвбулиду, лицом. «Ключница! — догадался грек, с трудом поспевая за быстрой не по возрасту женщиной. — И до чего же они похожи друг на друга во всех богатых домах: что в Афинах, что здесь…» Не останавливаясь, ключница подвела Эвбулида к домашнему очагу, усадила на крошечную скамейку и, пошарив в сундуке, принялась сыпать ему на голову сушеные фиги и финики. — О, великая Гестия, приобщи этого раба к нашему домашнему культу, сделай покупку господина полезной этому дому! — забормотала она. — Я буду служить грамматиком у сына самого господина! — важно заметил Эвбулид. Не слушая его, ключница пробормотала еще одну молитву и, явно надсмехаясь над новым рабом, сказала: — Ты, миленький, будешь служить в этом доме там, где пожелает управляющий, мать Публия и я! Удивившись тому, что ключница назвала первым не жену, купившего его господина, а перса, Эвбулид ворчливо посоветовал: — Не бери на себя слишком много, женщина! Это мы еще посмотрим, кто окажется ближе к господину — я, грамматик, который сделает из его сына великого ученого или философа, или ты, только и умеющая, что ворочать ключами! В запале Эвбулид забыл рассказы своих приятелей, что нет на свете более мстительных и умеющих плести интриги рабов, чем дорожащие высокой милостью господ ключницы. Иначе бы он заметил, как тревожно и вместе с тем злобно блеснули ее глаза, и непременно почувствовал бы опасность, идущую от ее, казалось бы, приветливого и вкрадчивого голоса, каким она вызвала привратника и велела отвести нового раба Афинея в комнату для рабов-мужчин. В этой небольшой, душной комнатушке, с наваленным в углу тряпьем, ножницами, которыми обычно стригут овец, Эвбулиду отрезали пышные, волнистые волосы, чтобы он больше не был похож на свободных людей. Выдали вместо изорванного, окровавленного хитона короткий шерстяной, оставляющий открытым правую руку и часть груди, надели на голову шапочку из собачьей кожи. — Будет холодно ночью — укроешься этим! — сказал привратник, бросая в угол на тряпье две сшитых бараньи шкуры. — Здесь будет твое место! — Для грамматика сына госпожи можно было бы найти место и получше! — заметил Эвбулид. — Какой там госпожи! Эвдема! — поправил его привратник и протянул ячменную лепешку и горсть дурно пахнущего чеснока. — На лучше, подкрепись! — Это что — завтрак? — охотно надкусил лепешку Эвбулид, не притрагиваясь к чесноку, вызвавшему у него отвращение. — Или обед?! — И ужин тоже! — грустно усмехнулся привратник. — Привыкай к такой жизни, эллин, — Ахей, Беот, или как там тебя? — Афиней! — с набитым ртом пояснил Эвбулид. — Во-во! И отдыхай, если, конечно, не попадешь на глаза этой старой карге-ключнице! Публий — бараньи рога ему в душу! — уехал на охоту в горы, так что сегодня можешь спать спокойно! Весь остаток дня, мучаясь от голода, но так и не притронувшись к гнилому чесноку, Эвбулид пролежал на пахнущем немытыми человеческими телами тряпье в углу. К вечеру в комнату потянулись домашние рабы — садовник, повар, водонос, знакомый уже ему старый привратник. От них, пока управляющий имением с Протасием наслаждались вином и пением молодых кифаристок, он узнал, что Публий — греческий перс с римским именем — незаконнорожденный сын Эвдема, что мать его, как и у брата нынешнего царя, — бывшая рабыня, со временем надоевшая Эвдему, в отличие от наложницы отца Аристоника, которую Эвмен — царь любил всю свою недолгую жизнь. Запутавшись в том, кто от кого родился, кто кому надоел и у кого брат в нынешних правителях Пергама, Эвбулид понял только одно: больше всех наук пятнадцатилетний Публий любит уроки, которые дают ему юные и особенно зрелые рабыни, а высшую философию видит в том, как бы понаряднее разукрасить лица попавшихся ему под руку рабов. В последнем новоявленный грамматик смог убедиться уже на следующее утро во время первого занятия с сыном Эвдема. — Начнем с истории! — приветливо сказал он ворвавшемуся в увешанную коврами комнату чернявому юноше. — Амура и Психеи? — уточнил, плюхаясь в высокое кресло и задирая ноги, Публий. — Это слишком обыденно! Давай лучше про гермофродита! Только не до того, как его увидела нимфа, а после, когда по ее просьбе боги слили их в одно двуполое существо. Вот бы и мне так, а то, понимаешь, надоело все! Одно и то же… — Я вижу, ты неплохо разбираешься в жизни богов и героев, если знаешь даже такие малоизвестные истории, гм-м, не очень-то подходящие для твоего юного возраста. Поэтому давай лучше перейдем к истории Эллады — величайшей из всех государств мира. Я расскажу тебе о ее прекрасном и трагическом прошлом, — пообещал Эвбулид зевающему Публию, — о величественных статуях Фидия и справедливых законах Солона, о неповторимых шедеврах Праксителя и Тимомаха, моего далекого предка скульптора Эвбулида и Скопаса. Я расскажу тебе о знаменитой Марафонской битве, в которой эллины одержали решительную победу над персами… — Над персами?! — гневно вскричал Публий. — Давай! Только я сейчас покажу тебе, кто победил в этой битве: твои предки или мои! Публий принялся срывать со стен тяжелые серебряные и золотые блюда и швырять ими в голову едва успевавшего уклоняться Эвбулида. — Ну, кто взял верх? А-а?! Юноша потянулся к свисающим с пурпурного ковра махайре и римскому мечу. Эвбулид, обращая все в шутку, поднял руки: — Ты! — Тогда — на колени! — скомандовал Публий. Пожав плечами, Эвбулид улыбнулся и встал на колени. — Проси пощады! — потребовал Публий. — Пощади! — прижал ладони к груди Эвбулид. — Не так! — закричал юноша. — Повторяй за мной: нет на земле силы… — Нет на земле силы… — улыбаясь, повторил Эвбулид. — …более могущественной, чем великая армия персов… — …персов… — …которая наголову разгромила ничтожных эллинов в Марафонской битве! — Но это противоречит истории! — воскликнул Эвбулид, поднимаясь. — На колени! — поднимая римский меч, вскричал Публий. — Пожалуйста… — снова опустился на колени грек, которому начинала не нравиться такая игра, но он не хотел портить отношения со своим своенравным учеником с первого же занятия. — Опусти голову, раз ты пленный! — Опустил! Что дальше? — Так кто победил в битве при Марафоне? — Я твой грамматик, мальчик, и обязан говорить тебе правду: эллины! — Замолчи, проклятый эллин! — Но ведь ты по матери — тоже сын Эллады! — напомнил Эвбулид. — Моя мать ничто! Она — рабыня!! — дрожа от ярости, закричал Публий. — Разве так можно говорить о своей матери? — с укором покачал головой Эвбулид. — Да! Можно! Да! Она — грязная, жалкая рабыня! — Разве она виновата в том, что родилась в неволе? — Не надо тогда было ложиться под моего отца и рожать меня! — швырнул меч в угол комнаты Публий, повалился на пол и принялся кататься по коврам, крича: — Кто я теперь? Кто?! Если у отца родится сын от свободной, то он, а не я станет законным наследником дворца, всех имений, моих рабынь! А меня ждет несчастная судьба Аристоника… — И из-за этого надо оскорблять свою родную мать?! — Замолчи!! — Нет, это ты помолчи! — строго сказал Эвбулид. — Я твой грамматик, и не ты, а я должен разговаривать с тобой и задавать вопросы! Мне противно даже слушать тебя! — А может, ты не хочешь меня и видеть? — привстал Публий. — Да, — признался Эвбулид. — Я даже не хочу видеть такого испорченного, невоспитанного и неблагодарного мальчика, как ты! — Тогда, — процедил сквозь зубы юноша, поднимая с пола массивное блюдо с изображением Орфея, спускающегося в Аид, — закрой глаза, раб! — Для чего? — А чтобы ты больше никогда в жизни не увидел меня и своей вонючей Эллады, жалкий раб! — воскликнул Публий, замахиваясь блюдом. Защищаясь, Эвбулид выставил руку. Блюдо скользнуло по его ладони и грохнулось на потерявшего равновесие юношу. Публий закричал. В то же мгновение дверь распахнулась, в комнату вбежала ключница, крича и царапая себе лицо ногтями: — Убили! Убили!.. Солнышко ты мое ненаглядное, и как же это я не уберегла тебя, как не углядела! Опустившись на колени, она подняла голову удивленного Публия и принялась гладить его волосы, обливая их слезами. На вопли ключницы сбежался весь дом. — А вон и управляющий — волчьи зубы ему в глаз — идет! — шепнул повару привратник. — Конец теперь эллину! — И надо было Афинею связываться с этой мерзкой бабой! — согласно вздохнул повар. Узнав в чем дело, Филагр шепнул на ухо Публию, что только что в баньку пошли две десятилетние девочки из соседнего имения. Когда тот, резво вскочив, выскочил из комнаты, гневно повернулся к Эвбулиду: — Как смел ты, раб, поднять руку на своего господина?! — Но я не поднимал, я только защитился! — попытался было объяснить Эвбулид, но управляющий не слушал его. — Как смел ты защищаться, когда тебя бьет господский сын?! — вскричал он. — Но иначе он размозжил бы мне голову! — возразил Эвбулид. — Видишь, какого грамматика ты приставил к Публию? — возмутилась ключница, подступая к управляющему. — Уверена, что наш господин не одобрит твоего выбора. Ведь этот эллин даже не понимает, что лишил бедного мальчика нового развлечения! — Да, наверное, не каждый эллин может быть грамматиком, — не желая ссориться с ключницей, которую побаивается сам Протасий, согласился Филагр. — И вообще — зачем Публию грамматик в каникулы? — примирительно заметила ключница. — В городе — учись, в имении — тоже учись! Когда же отдыхать бедной головушке? — А куда же тогда этого девать? — кивнул в сторону Эвбулида управляющий. Ключница усмехнулась: — Да хотя бы в поле! — Нет, он там долго не протянет! — оглядев Эвбулида, с сомнением покачал головой Филагр. — Отправлю-ка я лучше в поле водоноса, а Афинея поставлю на его место! — решил он. — Смотри, ты в поле хозяин, а я — здесь! — с вызовом сказала ключница и бросила колючий взгляд на Эвбулида. — Пусть пока поработает водоносом! Задолго до рассвета она растолкала сонного Эвбулида и дала ему два огромных кувшина. Показав рукой, где течет ручеек, объяснила, что до обеда он должен наполнить водой стоящий на кухне пифос. — Вот этот? — изумился Эвбулид. — До обеда?! — А с обеда до вечера будешь носить воду в поле, можешь брать ее из ближайшего прудка — какая разница, что пить рабам, а тебя зато управляющий не прикажет бить плетьми за медлительность! — вкрадчивым голосом, от которого Эвбулиду стало не по себе, добавила ключница. Взяв кувшины, он направился к ручью. Пройдя через сад, огород с весенней зеленью капусты и огурцов, миновав рощицу с оврагом, убедился, что до него не меньше пяти стадиев. «С ума сошла старуха! — ругнулся он про себя. — Да разве мыслимо до обеда наполнить пифос, когда от дома к ручью полчаса хода и столько же обратно?!» Он опустил кувшины в прозрачную воду, подставил горлышки быстрым струйкам. Задумался, вспоминая Афины и свой дом… Очнувшись, подхватил кувшины и бодрым шагом отправился с ними обратно. Вскоре, однако, кувшины стали оттягивать руки, дыхание сбилось, пот заструился по лбу. Эвбулид пошел медленнее, с недовольством заметив, что дорога от ручья все время идет в гору. Ключница встретила его у двери кухни упреками. — Ты что ж это, миленький, двигаешься, как неживой! В доме ни капли воды, повара ругаются, грозятся оставить управляющего, госпожу и бедного Публия без обеда, а ты принес всего только два кувшина! — Я и эти-то еле донес! — задыхаясь, огрызнулся Эвбулид. — Разве можно быстрее? — А ты, миленький, бегом, бегом! — посоветовала ключница. — Прежний водонос все только бегом делал и до обеда пифос стоял полненький, и все были довольны, и повара, и я, и он! — А чем же он мог быть доволен? — через силу усмехнулся Эвбулид. — А тем, миленький, что не остался без обеда! Как?! — изумилась она. — Он не предупредил тебя, что у нас здесь такой порядок: кто норму не выполняет, тому я не даю никакой еды? Поэтому ты, наверное, и не спешил! Так что давай, миленький, побегай, побегай, до обеда у тебя еще есть время. А после, как я и обещала, — на поле, миленький, там тоже хотят пить! Ключница подтолкнула Эвбулида к выходу и захлопнула за ним дверь. До обеда Эвбулид, ничего не видя от заливавшего глаза пота, успел принести всего лишь шесть кувшинов, каждый раз с тоской убеждаясь, что пифос уже пуст. Вычерпывали ли воду повара или хитрая ключница выливала ее под садовые деревья, он не знал. Ключница же, не дав ему и присесть, после последнего его прихода показала на солнце и замахала руками: — Все, миленький, уж ты не подходи сегодня ко мне вечером за едой! А теперь давай на поле, иначе не миновать тебе плетей управляющего! Как Эвбулид добрался до своей лежанки на полу незадолго до полуночи, как упал на нее, он не помнил. Закрыл глаза — и сразу повалился в темную и бездонную, как огромный пифос, пустоту. Очнулся он от настойчивых толчков и шепота на ухо: — Вставай, миленький, вставай! — А? Что?! — завертел головой Эвбулид и, видя темные полоски за дверью, спросил: — Разве уже утро? — Что ты, миленький, полночь! — объяснила ключница. — Придется тебе сегодня начать работу чуть пораньше. Иначе ты опять останешься без еды, а мне жалко тебя, ой, жалко! Небось дома у жены под теплым крылышком мяско с чесночной подливкой едал да разные там салаты? Привыкай, миленький, здесь тебе скоро гнилой чесночок слаще вашей афинской рыбы покажется! Ну, вставай, миленький, пошли! Эвбулид невольно проглотил слюну, чувствуя, что его уже подташнивает — то ли от голода, то ли от вчерашнего напряжения. Шатаясь, двинулся к выходу и услышал позади себя шепот: — Вот мерзкая баба — скорпиона ей под юбку! — не слезет теперь с Афинея, пока не загонит его в могилу! — Сам виноват! — зевнул кто-то в ответ. — Сделали рабом, так сиди и молчи, радуйся лепешке, да тому, что тебя сегодня били на два удара меньше, чем вчера! А то себя решил показать: мол, я эллин, я грамматик, мне все дозволено! — Да! — вздохнул старый привратник. — Это ему не Афины, где, говорят, рабы пьянствуют, обжираются и даже женятся. Это — Пергам, ослиный хвост ему в глотку! На улице, ежась от ночной прохлады, Эвбулид поднял оба кувшина. Спотыкаясь в потемках, побрел к ручью. Руки ломило, ноги дрожали от вчерашней работы, дыхание быстро пресеклось, хотелось забросить кувшины в ближайшие кусты, сесть и не думать ни о чем. Но голод упорно гнал и гнал его вперед. Небо было усеяно высокими крупными звездами. Казалось, ничего не изменилось в мире — такое же небо с такими же звездами было и над его родными Афинами. Но прыгающий перед глазами месяц, заметно потолстевший со дня нумения, когда он виделся беспомощной — в нитку полоской, упрямо напоминал, что все происшедшее с ним не сон, что десять дней, равные по насыщенности событий целому году, навсегда отделили его от прежней жизни. К утру пифос был наполовину заполнен водой. Повеселевший, несмотря на страшную усталость, Эвбулид почти бежал к ручью с пустыми кувшинами, но, возвратившись, с ужасом обнаружил, что пифос пуст. — Послушай, — обратился он к пробегавшей мимо ключнице, — ты не видела, кто взял воду? — Воду? Какую воду? — удивилась ключница. — Не было здесь никакой воды, миленький, я только что проверяла! Ты, наверное, вместо того чтобы работать, спал где-нибудь под кустом и видел во сне, что пифос сам наполняется водою! Так не бывает, миленький, и мне кажется, ты сегодня снова останешься у меня без обеда! «Мерзкая баба!» — вспомнились Эвбулиду ночные слова привратника. Он промолчал, не желая навлечь на себя новую неприятность со стороны этой мстительной старухи. И надо было пугать и злить ее тем, что окажется ближе к хозяину, чем она? Кто он теперь — уже не грамматик, а водонос. И кем будет завтра? Размышляя так, он вновь направился к ручью и встретил по дороге группу рабов, переходящих с одного поля на другое. — Не дает тебе покоя ключница? — усмехнулся один из них, жилистый невысокий сириец. — Тебе-то какое дело? — огрызнулся Эвбулид. — Да никакого! Просто я носил до тебя эти кувшины! — И успевал до обеда наполнить весь пифос?! — Да. — А потом еще носить воду на поля?!! — Конечно! — А я вот с полуночи тружусь — и никак не могу наполнить этот проклятый пифос! — уныло признался Эвбулид. — До половины уже наполнил его, а он опять пуст! Ума не приложу, как мне одолеть эту ключницу! — А ты перехитри ее! — посоветовал сириец. — Как?! — Она сказала тебе носить воду из того ручья? — Да. — А вот там, у тебя за спиной, есть еще один, от него до дома всего двадцать шагов! Поворачивай назад, и ты за пару часов наполнишь весь пифос и успеешь еще отдохнуть перед дневной работой! — Спасибо! — обрадовался Эвбулид, круто поворачиваясь. И вдруг остановился: — Но ведь она опять потихоньку будет вытаскивать воду! И я буду вынужден делать то, что делают в Аиде данаиды[91]! — Не знаю, что там они делают, — возразил сириец. — Но ты громко, на весь дом, считай каждый вылитый в пифос кувшин! Ключница хитра и коварна, но не умеет считать даже до трех! Цифры представляются ей чем-то великим, вроде как детьми самих богов! И если она может обманывать тебя, то не посмеет обмануть их! Хвала богам, что отец научил меня счету, иначе бы я и недели не протянул здесь от голода! — крикнул он на прощанье, убегая вслед за ушедшими далеко вперед товарищами. Как ни устал после бессонной ночи Эвбулид, но он бегом пустился к дому, отыскал сразу за ним ручей и, напевая, внес на кухню два полных кувшина. — Один, два! — торжественно провозгласил он, выливая воду в пифос и с удовлетворением заметил испуг на лице вошедшей ключницы. — Три, четыре! — прокричал он через несколько минут, убеждаясь в том, что воды в пифосе не убавилось. — Пять, о Великий Зевс! Шесть, несравненная Афина! — Семь, да будет вечно славно это истинно счастливое число! Восемь!! Через два часа, как и обещал бывший водонос, пифос был полон. Эвбулид, убедившись, что больше в него не войдет ни капли воды, поставил кувшины на пол и поднял на ключницу измученные, но сияющие глаза: — Ну, так что у нас сегодня на обед? — На, миленький! — процедила сквозь зубы ключница, подавая Эвбулиду половину лепешки и горсть гнилого чеснока. И когда тот принялся за еду, мстительно усмехнулась: — А когда понесешь воду в поле, передай моему бывшему водоносу Сиру, что я очень соскучилась по нему и буду умолять управляющего о его скорейшем возвращении в дом. Уж я откормлю его здесь, миленького, уж откормлю на славу! 4. Эргастул Так протянулось несколько недель, и наступил десий — месяц, когда весна переходит в лето. Ключница, казалось, больше не замечала Эвбулида, срывая зло на привратниках, рабынях и поварах. За это время он сильно похудел, заметно спал с лица, на подбородке и щеках наметилась жесткая курчавая бородка. Черпая в прудке воду, он с грустью отмечал, как меняется весь его облик еще недавно жизнерадостного, ухоженного цирюльниками и банщиками человека. Он уже не смеялся, не радовался жизни. Зато научился беспрекословно выполнять приказания ключницы и старших поваров, кланяться управляющему, и благодаря этому его ни разу не привязывали к столбу, от которого с утра до вечера слышались вопли и стоны избиваемых плетьми рабов. Все чувства Эвбулида притупились, взрыв ярости и негодования, из-за которого он в первый же день рабства едва не лишился жизни, сменился полным безразличием ко всему происходящему. С раннего утра до захода солнца он носил кувшины, радуясь, когда они были пустыми, и стискивая зубы, когда оттягивали руки. Оказались свои маленькие прелести и в рабстве: когда в горсти гнилого чеснока случайно попадался свежий зубчик, когда по дороге к пруду он вдруг замечал блеснувшую в траве ягоду — уцелевшую случайно, потому что еще до его прибытия всю эту округу на коленях облазили вечно голодные рабыни и рабы. И уж почти счастлив был Эвбулид, слыша сетования привратника, что еще один работник на полях умер от непосильного труда — пуховую подушку ему в Аид — и что всем им, домашним рабам, несказанно повезло: ведь скоро жатва, а за ней — вторая вспашка, которая, как известно, для лучшего выведения сорняков проводится в самый солнцепек. Тогда рабы — всем им по мягкой подушке — десятками и даже сотнями будут спускаться в Аид… Так жил Эвбулид, страдая и тихо радуясь, изо дня в день выполняя ставшую для него привычной работу, и казалось, что так будет продолжаться всю его жизнь: ручей — кухня, кухня — ручей… обед на ходу и снова: пруд — поле, поле — пруд… Беда пришла по своему обыкновению внезапно. Однажды к нему, возвращающемуся с ручья, подбежал привратник и закричал: — Скорее, тебя вызывает управляющий!.. — Сейчас, — кивнул Эвбулид, — вот только воду донесу! — Да ты что?! — опешил привратник, выбивая из рук Эвбулида кувшины. — Сам управляющий, сто медуз ему за шиворот!.. Когда Эвбулид быстрыми шагами подходил к дому, навстречу выскочили два надсмотрщика. — А ну, поторапливайся! Живей! Живей! — толкая в спину, они погнали его перед собой. Эвбулид понял, что произошло что-то непоправимое. И он не обманулся в своих предчувствиях. Сидевший за обеденным столиком в комнате, куда надсмотрщики втолкнули Эвбулида, управляющий поднял красные от постоянных попоек глаза и сощурил их на склонившегося в поклоне раба: — Ага! Вот и он. Что это? — раздельно спросил он, доставая из гидрии за длинный хвост мышь и брезгливо бросая ее на стол. Сидевшая рядом с Филагром молодая женщина с болезненным лицом — мать Публия прижала ладонь ко рту. Публий с интересом поглядывал то на мокрую мышь, то на своего незадачливого грамматика. — Ну? — побагровел Филагр. — Отвечай, со злым умыслом или случайно ты решил отравить сына нашего господина, его мать и меня — твоего управляющего?! Понимая весь ужас своего положения, Эвбулид не в силах был отвести глаз от стола, уставленного жареным, вареным, тушеным мясом, запеченной рыбой, салатами, соусами, румяными пирожками. Наконец, взгляд его остановился на злосчастной мыши, и он растерянно пробормотал: — Не знаю… Может, случайно она попала в кувшин, когда я набирал воду. — Я говорила ему, я предупреждала его: миленький, носи воду из дальнего ручья, там и вода слаще, и рабы в нем не купаются! Так нет же, этот ленивый Афиней решил носить из ближнего, а в нем столько грязи, столько грязи, вон — даже мыши попадаются! Управляющий перехватил взгляд ключницы на раба и усмехнулся в бороду: — Да, этот ручей так близко, что в него даже попадают домовые мыши! Однако ему не хотелось портить отношения со сварливой старухой, отливавшей для него в минуты безденежья вино из хозяйских амфор, и он добавил: — Повара, наливавшего воду в гидрию, и Афинея — к столбу. Всыпать каждому по двадцать пять ударов — и на неделю в эргастул! — И потом — на поля? — уточнила ключница. — Зачем? — покачал головой управляющий. — Уверен, что это послужит им неплохим уроком! — Только сначала пусть сделают то, что предназначалось для нас! — воскликнул Публий. — Что именно? — не понял Филагр. — Пусть сожрут эту мышь! — Ах, мой миленький! — восхитилась ключница. — Ты будешь большим человеком, когда вырастешь! — Справедливое решение! — наклонил голову управляющий и приказал надсмотрщикам: — Сарда сюда! Вбежавший повар пал на колени перед столом и застыл в глубоком поклоне, как бы заранее соглашаясь на любое наказание. Эвбулид расширенными глазами смотрел, как Публий, взяв нож, разрезал мышь пополам и протянул одну из половинок повару. Не поднимая головы, тот покорно принял ее, глотнул и зажал кулаком рот, удерживая рвоту. — На, запей! — управляющий с брезгливой гримасой протянул рабу кубок вина. Сард проворно схватил кубок и, обливаясь, сделал несколько мучительных, шумных глотков. — А теперь ты! — подошел к Эвбулиду Публий, протягивая окровавленный кусок со слипшимися волосами. — Нет! — отшатнулся Эвбулид. — А я говорю, ешь! — Нет! — Ешь! Половинка мыши прижалась к самым губам Эвбулида. Он оттолкнул руку юноши и закрыл лицо ладонями, решив: пусть лучше его убьют, чем он падет до такой степени. — Оставь его, Публий! — вдруг услышал он голос управляющего, открыл глаза и увидел усмехающееся лицо Филагра. — Разве ты не видишь, что этот Афиней сыт? Поэтому я изменяю свое наказание по отношению к нему! Дать ему пятьдесят ударов у столба и посадить на три недели в эргастул на одну воду, если он, конечно, хорошо будет вести себя! Если выживет — на поля его, как раз поспеет к началу второй вспашки! — А водоносом конечно же прикажешь поставить снова Сира? — тут же осведомилась ключница. — Ставь, кого хочешь, все равно они больше месяца у тебя не держатся! — махнул рукой управляющий и, осушив полный кубок вина, дал знак надсмотрщикам вывести из комнаты рабов. Через полчаса окровавленного, бесчувственного Эвбулида надсмотрщики втащили в эргастул и бросили на пол. Придя в себя, он оглядел мрачные стены небольшого помещения, низкий потолок, земляной пол, на котором не было подстилки, и увидел над собой равнодушное лицо Сарда. — Что со мной? — силясь повернуться на бок, прошептал он. Сард помог ему и, деловито осмотрев иссеченную плетьми спину, ответил: — Пятьдесят ударов. — Мне больно… Они убили меня! — простонал Эвбулид. — Пятьюдесятью-то ударами? — присвистнул Сард. — Тебя что — ни разу не ставили к столбу? — Нет… — И не били никогда в жизни?! — Никогда… Если не считать дороги сюда… — Тогда все ясно. В следующий раз кричи погромче и не сжимайся! — начал поучать Эвбулида Сард. — С криком вся боль выходит, да и после не так мучаешься. А когда стискиваешься перед ударом — то кожа лопается! Вот так-то, это целая наука! Привыкай… — Поздно… — с горечью усмехнулся Эвбулид. — Управляющий посадил меня сюда на одну воду. Если вытяну — так все равно не выдержу больше недели на полях! — Слышал! — кивнул Сард. — И что ты отказался есть ту мышь? Так противно стало? — Я человек… — Ах да, гордость не позволила! Все вы, эллины, гордые… А я съел. Да! Съел!! Я уже восемнадцать лет в рабстве и вынес от них такое, что эта мышь тортом может показаться! И что же — живу! На коленях, с согнутой шеей, всеми презираемый, униженный, опозоренный — живу! А ты — что теперь с тобой будет через неделю, после того, как я выйду отсюда? — Кем ты был до рабства? — вместо ответа спросил Эвбулид. — Судя по твоей речи, на своей родине ты был далеко не последним человеком! — Сказать тебе — так не поверишь! — отмахнулся Сард. — Я был главным судьей в Каралисе. — Что?! — забыв о боли, приподнялся на локтях Эвбулид. — Да-да, — уныло подтвердил раб. — Главным судьей и правой рукой правителя этого крупнейшего города Сардинии… Когда-то вокруг меня вилась целая стая угодливых и старательно выполнявших все мои приказы управляющих и надсмотрщиков. Да что там — у меня самого было по меньшей мере две сотни рабов, готовых по одному движению моих глаз не то что какую-то мышь, а съесть друг друга! — И ты дошел до такой жизни?! — Что делать? Уж очень хотелось жить… Пусть рабом, пусть у столба, но только жить: дышать этим воздухом, пить, есть — жить! К счастью, я всегда готовил себе сам, боясь, что кто-нибудь из рабов отравит меня. И поэтому после того, как Тиберий Гракх разгромил наше войско, в доме купившего меня господина мне сразу же нашлось дело. И вот я повар, раб, жру мышей, сижу с тобой в эргастуле вместо того, чтобы самому сажать людей и давать советы правителю… Презираешь меня, эллин? — Нет, — подумав, покачал головой Эвбулид. — Жалею. — А я тебя! — давясь от слез, выкрикнул Сард. — Потому что ты уже на полдороге к лодке Харона! А я хоть и не такой гордый, как ты, не судья, не правая рука правителя — но проживу так еще пять, десять, даже двадцать лет! Всю неделю после этого разговора Сард молчал, угрюмо глядя в одну точку. Без слов он делился с Эвбулидом своим жалким обедом, который ему приносила ключница раз в два, а то и в три дня, на все вопросы эллина отвечал односложно и снова умолкал, мучительно думая о чем-то своем. Ровно через неделю Эвбулид остался один. Медленно потянулись дни и бессонные ночи. Изредка ключница приносила и молча ставила кувшин с затхлой водой, но чаще забывала делать даже это. Однажды мимо эргастула прошел привратник, и Эвбулид узнал его старческий голос: — Опять этот лукавый евнух пожаловал — горячую женщину ему в объятия! Через три дня голод стал преследовать Эвбулида, не давая ему ни секунды покоя. Обоняние обострилось, и он стал явственно различать запахи кухни. Пахло мясными супами, жареной рыбой, чесночной подливкой. Вжимаясь лицом в дверь, Эвбулид подолгу вдыхал эти ароматы дергающимися от нетерпения ноздрями. Но вскоре запах пищи стал раздражать его. Он забивался в самый дальний угол и часами лежал, отвернувшись к стене, стараясь заглушить муки от воспоминаний о времени, когда был свободным человеком. Вспоминались ему родители — пожилые уже — он был поздним и единственным ребенком в семье — мать и отец. До семи лет он прожил с матерью в гинекее, оставившем в памяти запахи дешевых ковров и убаюкивающий шорох прялки. Игрушек ему покупали мало. Поэтому, наверное, каждая из них запомнилась навсегда: раскрашенная синей краской трещотка, волчок, всегда норовивший заскочить в угол, глиняная тележка с крошечными деревянными колесиками… Отец всегда был добр к нему, чаще, чем мать, разрешал выбегать на улицу, правда, всегда ругал, если заставал Эвбулида, играющего с детьми соседских рабов. Он почти не задержался в памяти — помнится только, что у него было всегда озабоченное лицо. И все. Он слишком мало занимался с сыном и редко бывал дома, чтобы Эвбулид мог запомнить большее. А однажды он ушел и не вернулся. Заигравшийся на улице с ребятами и удивленный тем, что его никто не зовет домой, он вбежал в гинекей и увидел плачущую мать, которая раскладывала на крышке сундука темные одежды. — Вот и нет больше у тебя отца! — тихо вымолвила она, и на следующий день они переселились в мужскую половину. И не потому, что обычай разрешал мальчику жить в гинекее только до семи лет, а потому, что отец погиб на войне, которая шла далеко от Афин… К счастью, скопленные отцом деньги и помощь братьев матери, живших в далекой Аркадии, позволили Эвбулид у, в отличие от детей соседей — бедняков, закончить всю школу. Правда, дети богатых смеялись над тем, что его не сопровождает в школу педагог, и что он сам носит свои таблицы и учебники. Зато, когда такой педагог наказывал розгой орущего сынка судьи или торговца, уже Эвбулид, в свою очередь, громко смеялся над ним. После палестры, где он научился бегать, прыгать, метать копье, танцевать и плавать, промелькнуло еще два года необязательной учебы у малоизвестного в Афинах ритора, который недорого брал за обучение юношей премудростям философии и сладкоголосию лирических поэтов. В день восемнадцатилетия, когда он был внесен в гражданские списки и стал эфебом, умерла мать. Никогда ему не забыть того дня, когда она лежала, обращенная лицом к порогу, а над дверью со стороны улицы в знак траура висели ее поседевшие, увядшие к старости волосы… Едва истресканная от зноя земля приняла глиняный гроб и немногочисленные родственники крикнули прощальное «Хайре» и заспешили по домам, чтобы очиститься от осквернения, как к Эвбулиду подошел космет[92] и сказал, чтобы тот поспешил на торжественную клятву эфебов. Вдвоем они наскоро совершили очищение, без которого нельзя ни общаться с другими людьми, ни входить в храм, и направились в храм Аглавры. Сколько лет прошло с того далекого боэдромиона, когда он стоял в полном вооружении со своими товарищами, мешая со слезами слова клятвы. Может, потому, что чутье его было обострено смертью матери, каждое слово стало ему святым и запомнилось до сих пор. — Я не наложу позора на это священное оружие, — торопливо зашептал Эвбулид, мысленно сжимая в руке древко копья, — и никогда не покину своего товарища в битве, где бы я не стоял. Я буду сражаться за моих богов и за мой очаг и оставлю после себя отечество не умаленным, но более могущественным и сильным. И сам и вместе со всеми я буду разумно повиноваться всем правящим и разумно подчиняться законам в будущем. Я не допущу нарушения их и буду сражаться за них и один, и со всеми. Я буду чтить отечественные святыни. Да будут свидетелями клятвы боги Аглавра, Гестия, Энно, Энналий, Арес, Афина Воительница, Зевс, Фалло, Авксо, Гегемона, Геракл, границы моего отечества, пшеничные и ячменные поля, виноградники, оливки и фиги! После этого в течение двух лет Эвбулид вместе с другими юношами из бедных семей готовился стать гоплитом, с завистью глядя на обучавшихся на всадников сыновей купцов, судей и архонтов. Четыре обола в день — невелика плата за пролитый на учениях пот, а порою и кровь, да и те по обычаю отбирали следившие за нравами и дисциплиной софронисты, покупавшие для эфебов все необходимое. И все-таки это было самое счастливое и беззаботное время после детства, его последние месяцы перед самостоятельной жизнью в общительных, гостеприимных и вместе с тем глухих и бесчувственных к чужим бедам Афинах. Софронисты ежедневно выдавали им по лепешке с мясом и сыром, лук, репу, вино, и эфебы не беспокоились о своем завтрашнем дне. Единственное, что заботило их в то золотое время, — это где приятнее провести очередной вечер после насыщенного учениями и занятиями в палестре дня. Измученные придирками гопломахов, делавших из них настоящих гоплитов, а также акониста, токсота и афета[93], одни эфебы по вечерам продолжали учиться философии и красноречию во время дружеских бесед с учеными. Другие, благо никто не обязывал юношей жить в казарме, предпочитали иные развлечения, направляясь в сомнительные заведения, где проводили приятные часы с флейтистками и за игрой в кости или коттаб[94]. Иные не брезговали ночными дебошами, наводившими страх на припозднившихся афинян. Бывал Эвбулид и с первыми, и со вторыми, и с третьими. Однажды, когда они с группой эфебов, громко смеясь и подшучивая друг над другом, шли из палестры в квартал Мелите, где у хозяина харчевни «Нектар Олимпа» водилось недорогое вино, навстречу им попалась афинская семья, идущая в храм. Семья как семья — пожилые родители и их хорошенькая дочь. Шли они не спеша, благоговейно поглядывая на своды храма. И тут девушка, сторонившаяся эфебов, неожиданно взглянула на Эвбулида и улыбнулась то ли ему, то ли своим мыслям. Она улыбнулась так хорошо, что Эвбулид растерялся и, отставая от друзей, заробев, тоже улыбнулся девушке. И она — на этот раз он уже точно знал, что эта улыбка предназначалась ему, — улыбнулась во второй раз. Тут же Эвбулида подхватили под руки эфебы и, смеясь, продолжили свой путь. — Видели эту троицу? — воскликнул один из них по имени Фемистокл. — Это мои соседи. Между прочим, старик, будучи архонтом, лет двадцать назад спас Афины от голода. Он не дал купцам взвинтить цены на хлеб, и самое удивительное — ни одна драхма за те страшные месяцы не прилипла к его рукам. Мог стать самым богатым человеком города, а теперь — почти нищий. Но дочь-то его какова, а? — смеясь, подмигнул он Эвбулиду. — А как ее зовут? — с деланным безразличием спросил Эвбулид. — Гедита! В тот вечер он не мог ни играть в кости, ни поддерживать веселые шутки подвыпивших товарищей. Лишь когда во время игры в коттаб настала его очередь оставлять своей чаше немного недопитого вина, чтобы плеснуть им в обведенный на стене кружок, он немного оживился. Отпив кисловатое вино, он с удовольствием произнес про себя «Гедита!» и, не надеясь особо на успех, махнул чашей в сторону стены. И надо же было такому случиться: все вино до единой капли попало точнехонько в центр круга, издав смачный шлепок. Эфебы восторженно захлопали в ладоши и наперебой принялись поздравлять Эвбулида с тем, что его так пылко любит его избранница. — Клянусь, ты задумал имя моей очаровательной соседки! — наклонившись к уху Эвбулида, прошептал Фемистокл и предложил: — Хочешь, покажу тебе окна ее гинекея? …За дверью эргастула снова послышались шаги. Эвбулид, приподняв голову, прислушался и узнал голоса Филагра и Протасия. — Наш господин крайне обеспокоен доходами от нынешнего урожая! — пискливо объяснил евнух. — За эти последние дни он потратил столько, сколько не тратил, пожалуй, за целых десять лет! Еще немного — и нам придется закладывать его дворец! А все этот римлянин. С его приездом господин стал непохожим на себя, выполняет каждое его желание, дарит бесценные подарки! А тот и рад за чужой счет с утра до вечера торчать в кабаках и подставлять ладони под подарки, которые сыпятся на него, как из рога изобилия! Обещает, что скоро в Пергаме будет масса рабов из Сицилии! — И что надо нашему господину от этого римлянина? — удивленно воскликнул Филагр. — Не знаю, — строго ответил Протасий. — Знаю только, что если урожай окажется плохим, то не сносить тебе головы. И поверь, на этот раз я вряд ли смогу помочь тебе. — Придется выставлять на жатву и вторую вспашку даже домашних рабов? — не без тревоги спросил Филагр. — А это уже твои заботы! Но учти — при нынешних убытках господин спросит тебя за порчу каждого из рабов! — О боги! — Но особенно Эвдем разгневается на тебя, — понизил голос евнух, — если хоть один волос упадет с головы той рабыни, которую я привез сегодня на твою виллу в своем экипаже! — Рабыню — в экипаже? — Это не обычная рабыня! — предупредил Протасий. — Она римлянка, и, покупая ее вчера на нашем пергамском рынке, господин приказал держать ее на положении свободной, с той лишь разницей, что есть и спать она будет вместе с остальными рабынями! — Понимаю — очередная наложница! — усмехнулся Филагр. — Не думаю! — возразил ему евнух. — Значит, за нее обещан огромный выкуп? — И это вряд ли, хотя она действительно родственница знатных римлян, которые, по ее словам, отказались выкупить ее у пиратов. — Так за что же ей такая честь? — Откуда я могу знать? — неожиданно взорвался Протасий. — Наш господин теперь души не чает во всех римлянах. Говорит, что скоро по дешевке скупит всех сицилийских рабов и тогда без выкупа отпустит ее на свободу. Все, что он делает с этим римским гостем, окружено тайной и неведомо даже мне, от кого раньше не было никаких секретов! Теперь, дорогой Филагр, господину нужны не развлечения, а хорошая выручка от продажи зерна, фиг, вина и первосортного оливкового масла! А мне — две трети того, что ты получишь в награду, иначе не жди больше моей поддержки! — Будет Эвдему и зерно, и фиги, и масло, хотя мне придется ответить перед господином не за один десяток рабов, умерших на таком солнцепеке! — вздохнул Филагр. — А тебе — пара горстей серебра… — Но главное — Домиция, — напомнил, оживившись, евнух. — Именно так зовут эту римлянку. Голоса медленно удалились и стихли. Эвбулид опустил голову и снова отвернулся к стене. О чем же он думал? Ах, да — Гедита… Он зажмурился, улыбнулся, потом тихо произнес: «Геди-и-та!» Тогда Фемистокл не обманул его и в тот же вечер подвел к дому в небогатом квартале Афин. Жестом приказав Эвбулиду молчать, показал пальцем на тускло освещенное окно второго этажа. Сколько часов простоял здесь Эвбулид, проклиная себя, под насмешливыми взглядами прохожих, прежде чем услышал смех Гедиты, разговаривавшей с матерью. Затем увидел ее в окне: удивленную, испуганную и радостную, когда их взгляды встретились. Несколько недель его молчаливого стояния под окнами оборвались как сон: возмужавших эфебов разбросали по всем концам Аттики, охранять ее священные рубежи. Эвбулид попал служить в пограничную крепость Филу. Жизнь в крепости, несмотря на предчувствие близкой опасности, текла вяло и полусонно. Единственными врагами под высокими стенами были наглые лисы, повадившиеся таскать неосторожных гусей, выпущенных хозяйками на сочную зелень пригородных лужаек… Через год он возвратился в Афины. Словно почувствовав его возвращение, Гедита стояла у окна и, не побоявшись выглянувшей из-за ее плеча матери, приветливо помахала ему рукой. Осмелев, Эвбулид решительно постучал бронзовым молоточком в дверь и уже через десять минут возлежал на клине за уставленным скромным ужином столиком, беседуя с отцом Гедиты. Пожилой Калиопп приветливо расспрашивал Эвбулида о Филе, о службе, о том, как вооружены и обучены эфебы. Но, как только разговор коснулся его дочери, сказал: — Ты, Эвбулид, судя по всему, хороший человек. И родители твои были уважаемыми людьми. Лучшего мужа для своей Гедиты я и не желаю. Но я — приверженец давних обычаев и убежден в том, что лучший возраст для вступления в брак для невесты — двенадцать — шестнадцать, а жениха — двадцать четыре — тридцать лет. И если Гедиту через месяц — другой уже можно вести к алтарю, то тебе нужно подождать еще самое малое, как я понимаю — четыре года! Дождешься — буду рад видеть тебя. Ровно через четыре года он снова вошел в дом, поразившись тому, что скромная обстановка за это время стала почти нищенской. Сильно сдавший Калиопп, узнав Эвбулида, пригласил его сесть и грустно сказал: — Откровенно говоря, давая тебе в прошлый раз отсрочку на четыре года, я думал, ты передумаешь, забудешь мою дочь… — Забыть Гедиту? — вскричал, поднимаясь, Эвбулид. — Сядь и не перебивай меня, — устало попросил Калиопп. — Я сделал так потому, что мне нечего тебе давать за Гедиту. Денег у меня нет, дом заложен-перезаложен, имущество — сам видишь, какое, так что приданого… — Не надо мне никакого приданого! — вскричал Эвбулид. — У меня есть дом и кое-какие средства, оставленные после смерти родителей. Главное — что я и Гедита любим друг друга! Расчувствовавшись, Калиопп благодарно положил ладонь на плечо Эвбулиду, но тут же строго заметил: — Любовь любовью, но без приданого афинский брак считается недействительным! — Да никто даже не узнает об этом! — клятвенно заверил Эвбулид. — Ах, молодость, молодость… — вздохнул Калиопп. — Когда-нибудь ты сам станешь отцом взрослой дочери и поймешь, как это тревожно отдавать свою дочь замуж без приданого. Ведь это означает, что ее положение в твоем доме будет необеспеченным. Нет, — поднялся он, давая понять, что разговор окончен. — Давать за невестой приданое требует закон, но больше — обычай, более могущественный, чем любое писаное правило. И я не в силах нарушить его. Прощай! Ошеломленный отказом, Эвбулид вышел из дома, не глядя на дорогое окно, побрел по улице и очнулся оттого, что кто-то схватил его за руку. Он поднял глаза и увидел улыбающегося Фемистокла. — Эвбулид, ты? — радостно вскричал тот. — Ну что, прощай эфебия? — И не только она… — с горечью вздохнул Эвбулид. Несколько минут спустя, в харчевне, куда затащил его друг, он рассказал обо всем, что произошло в доме Калиоппа. — Какое варварство! — вскричал Фемистокл и, помогая себе нетерпеливыми жестами, горячо заговорил: — Человек, спасший от голода тысячи и тысячи афинян, должен доживать свой век в нищете и не в состоянии даже выдать замуж свою дочь! До какого же позора дожили Афины, если позволяют себе так обращаться с человеком, оказавшим неоценимые услуги отечеству! — Раньше такое дело решилось бы очень просто! — заметил прислушивавшийся к их разговору старый хозяин харчевни. — Афинская община или несколько состоятельных граждан, сложившись, дали бы неплохое приданое для дочери такого заслуженного человека!.. — Ай да старик! — всплеснул руками Фемистокл. — Да твоими устами говорят сами боги! Он швырнул на стол медяк за выпитое вино и потащил за собой Эвбулида. — Куда? — недоумевая, упирался он. Но Фемистокл был неумолим. Он провел Эвбулида через все Афины и, выйдя в богатый квартал, решительно постучал в двери первого же дома. — Жди меня здесь! — приказал он, направляясь в комнаты следом за рабом-привратником. До самого вечера обходил зажиточные дома Фемистокл. Из одного он выходил сердитым, грозя захлопнувшейся за ним двери кулаком, зато из других — сияющим и заговорщицки подмигивал ничего не понимающему Эвбулиду. Лишь незадолго до полуночи он обнял его и, как в тот памятный вечер в харчевне, когда обещал показать окна Гедиты, шепнул на ухо: — Приходи завтра пораньше к Калиоппу. — Но ведь он дал мне понять, чтобы я никогда больше не заходил в его дом! — Приходи! — настойчиво повторил Фемистокл. — Я уверен, что это будет самый счастливый день в твоей жизни! Эвбулид последовал совету друга и с рассветом уже робко стучался в дом Калиоппа. Дверь открыл сам хозяин, неожиданно помолодевший и заметно взволнованный. Вопреки опасениям, он приветливо поздоровался с Эвбулидом и радушным жестом пригласил его в комнату. Здесь на составленных вокруг столика с кувшином вина и сладостями клине уже возлежали семь или восемь человек, судя по одеждам и уверенным лицам, занимавших далеко не последние места в Афинах. При появлении Эвбулида они прервали свою беседу и с любопытством осмотрели его с ног до головы. — Ну что ж, вполне воспитанный и приятный молодой человек! — наконец, подал голос один из них, и недоумевающий Эвбулид с изумлением признал в нем одного из недавно избранных архонтов. — И мы, Калиопп, только можем поздравить тебя с такой удачной партией для твоей дочери! — принялись поддакивать остальные. — Выпьем за их будущее счастье! — И за их будущих детей, чтобы они были такими же честными и славными, как и ты, Калиопп! — Я думаю, что ничто не мешает нам тотчас же провести заключение контракта, — не терпящим возражений тоном заметил архонт после того, как чаши были осушены до дна. — Свидетелей для этого дела более, чем достаточно, отец невесты здесь, жених — тоже, ну а присутствие невесты вовсе необязательно! — Видишь ли, Эвбулид! — шепнул на ухо Эвбулиду Калиопп, пока гости переговаривались о содержании будущего брачного договора. — Оказывается, живы еще в Афинах давние добрые обычаи. Из уважения к моему прошлому, эти люди пришли мне на помощь и из своих средств решили выделить на приданое для Гедиты. Вот только не знаю, откуда они узнали, что я не могу выдать свою дочь за тебя! Наверное, им подсказали это сами боги… «Знаю я этого бога! — восторженно подумал Эвбулид, не чуя под собою ног от счастья. — Спасибо, Фемистокл!» Как во сне, доносились до него слова о мебели, платьях, золотых серьгах, кольце, посуде… А гости все расщедривались: — Как молодым обойтись без сундука для одежды? — А без ларя для кладовой? — Без рыночной корзины? Как во сне, читал написанный договор, в котором говорилось, что он, Эвбулид, берет себе в жены свободнорожденную Гедиту, дочь Калиоппа и Нарои, с приданым — платьями, посудой и украшениями стоимостью в тысячу драхм. «Если же Гедита совершит что-либо дурное, что навлечет позор на ее мужа, — торопливо глотал он ненужные строки, — то лишится всего, что принесла с собой, однако Эвбулид должен доказать истинность обвинения против Гедиты перед тремя почтенными мужами, которым выразят свое доверие обе стороны. Эвбулид не имеет права ни вводить в дом иную женщину, ни признавать своими детьми, рожденных ему другой женщиной, так как все это навлекло бы позор на Гедиту, ни вообще под каким-либо предлогом причинять зло своей жене. Если же окажется, что дурной супруг сделал что-либо подобное, и Гедита сможет это доказать в присутствии трех мужей, которым обе стороны выразят свое доверие, то Эвбулиду придется вернуть Гедите ее приданое и сверх того уплатить еще 1000 драхм пени». Взяв с Калиоппа торжественное обещание, которое тот дал в присутствии свидетелей от имени своей дочери, архонт торжественно вручил два экземпляра договора Эвбулиду и Калиошгу, чтобы они хранили его отдельно и могли в случае необходимости представить для судебного разбирательства. — Ну, вот и все! — выполнив свои обязанности, довольным голосом подытожил архонт. — Дело — за свадебным пиром. Молодым остается только немного подождать до полнолуния гамелиона! Словно на крыльях летел Эвбулид домой. До зимнего месяца, посвященного Гере, покровительнице брака, когда совершалось большинство свадеб в Афинах, оставалось немногим более пяти недель. «Как хорошо, что великая богиня, супруга самого Зевса, избрала для себя именно этот день, очень близкий месяц,» — то и дело твердил он про себя. Но кроме Зевса и Геры был на Олимпе еще один небожитель — Арес, бог войны, самый неистовый враг счастья, браков и справедливости. Вернувшись домой, радостный Эвбулид обнаружил на пороге белую дощечку. Она извещала, что все мужчины в возрасте до тридцати лет должны явиться на смотр послезавтра, принеся с собой оружие, доспехи и запас пищи на три дня. Через два дня, со многими знакомыми по эфебии юношами, в составе греческого отряда он отправился под Карфаген, который осаждала римская консульская армия… 5. Добрая рука Протянулась еще одна бесконечная неделя в эргастуле. Вялость и тупое безразличие ко всему происходящему охватили Эвбулида. Изредка, придерживаясь от слабости за стены, он подходил к двери и подолгу вслушивался в долетавшие до него голоса идущих мимо рабов. Старик-привратник и ставший опять водоносом Сир на все лады поносили сживавшую их со света ключницу, повара договаривались устроить маленький пир из утаенных продуктов. Полевые рабы проклинали жару, тяжелую работу, озверевших надсмотрщиков. Эвбулид удивлялся, что за эргастулом по-прежнему бурлит жизнь с ее тревогами и обидами. Потом случилось непонятное — целыми днями ему мерещились знакомые голоса: Гедиты, Диокла, Клейсы, Армена, даже тех людей, которых он видел считанные часы, — триерарха «Афродиты», Дорофея с дочерью, Аспиона… Они окликали его из-за стены, звали с крыши, из-под пола, со всех углов, жалели, угрожали, предупреждали, советовали… Из последних сил он метался по сторонам, рвал ногтями дверь, царапал стены, в изнеможении падал на пол, затихал, а голоса не умолкали, грозя ему безумием. — Эвбулид! Эвбулид! — стонала невидимая Гедита. — Диокл сбежал! …Квинт требует возврата долга и мельницы. Клейса заболела… Что мне делать?! — Гони мои двенадцать мин и мельницу! — хохотал Квинт. — С процентами, да поживее! Не хватало мне только судиться со своими старыми друзьями! — Но Квинт… — шептал Эвбулид. — Я отдам! — Когда?! Я проиграл уже все сокровища Коринфа, и мне не хватает как раз этих денег, чтобы отыграться у консула Муммия! Гони немедленно, или я продам в рабство твою старшую дочь! — Квинт, ты не посмеешь! Долговое рабство в Афинах давно отменено! — Плевать я хотел на твои Афины и их законы! Выбирай — или долг, или Фила! — Ты шутишь, Квинт!.. — Разве ты когда-нибудь видел, чтобы я шутил?.. — В волны, Эвбулид, скорее в волны! — советовал из-за двери Дорофей. — Смотри, как это делаем мы с дочкой, — совсем не страшно… И — свобода! — Отец, не забудь, когда вернешься, рассказать про триумф в Риме! — просил Диокл. — Рабство есть результат не справедливости, а насилия! — доказывал Фемистокл. Эвбулид затыкал уши, кричал, чтобы заглушить эти голоса, но они пробивались сквозь его слабые пальцы: — Господин, ты свободен… — Но ты убил моего человека, земляка моих людей. Значит, с тебя уже полтора таланта! — А мой братик тоже будет из глины, как наш Гермес, что живет за дверью? — Все, кто живы, ко мне!! Через три дня голоса оставили Эвбулида. Никто больше не звал его, никого не было слышно за стенами эргастула. То ли забывшая о нем, то ли решившая, что наказанный раб умер от голода, ключница перестала носить воду. Боясь расплескать ту дурно пахнущую жидкость, что оставалась на дне миски, Эвбулид время от времени подползал к ней и, низко наклонившись, по-собачьи лакал ее. Вскоре одиночество стало тяготить его и мучать не меньше, чем раньше навязчивые голоса. Плача, Эвбулид то звал Гедиту с Диоклом, то Армена и даже Аспиона, то колотил вялыми кулаками в дверь, окликая Сира, привратника, ключницу. Но за эргастулом по-прежнему было тихо. Очевидно, напуганный Протасием Филагр отослал на поля всех рабов до единого. Однажды, когда Эвбулид потерял уже всякую надежду на связь с внешним миром, снаружи послышался торопливый шепот: — Афиней!.. Он недоверчиво приподнял голову, решив, что ослышался, но шепот явственно повторился: — Афиней! Это был не призрачный голос Гедиты или Филы, а живой, взволнованный женский голос, совершенно незнакомый ему: — Афиней, ты жив? Откликнись, это же я — Домиция!.. Опираясь о пол дрожащими руками, Эвбулид на коленях подполз к двери и, не в силах вымолвить слова, толкнул ее ладонью. — Живой! — обрадовался голос. Дверь осторожно скрипнула, приоткрылась. В ночном проеме, на фоне усеянного звездами неба, появилась женская фигура. Бесшумно опустившись на колени, она поставила на пол кувшин и миску с едой и принялась гладить Эвбулида по лицу, волосам, шепча: — Я знала, знала, что мы еще встретимся! Родной мой!.. «То были голоса, теперь — видение, и совсем как живое… Но все же это лучше, чем одному!» — подумал Эвбулид и вслух спросил, не узнавая своего голоса: — Кто ты? — О, Минерва, это не он! — вскричала девушка, отшатываясь от Эвбулида. Она произнесла эти слова по латински, и Эвбулид, как ни было затуманено его сознание голодом, понял, кто находился сейчас перед ним — та рабыня-римлянка, о которой Протасий сказал Филагру, что ни один волос не должен упасть с ее головы. — Постой! — протянул он руку, содрогаясь от мысли, что девушка исчезнет так же внезапно, как появилась, и он снова останется один. — Только не уходи!.. Но римлянка оттолкнула его руку и, еще раз воскликнув: «Не он!», — выбежала из эргастула. С упавшим сердцем Эвбулид слушал, как, скрипнув, захлопнулась дверь, как торопливо закрывался тяжелый засов. В клетушке эргастула снова стало темно и тихо. «Опять один! — закрыл глаза Эвбулид. — Зачем она приходила сюда, почему я — не я? Кого она ожидала здесь увидеть? А может, ее вообще не было?.. Конечно же, не было! — принялся успокаивать себя он. — Как не было ни Гедиты, Квинта, триерарха с „Афродиты“, как скоро не будет и меня…» Он собрался было лечь прямо у двери, но пальцы неожиданно натолкнулись на какой-то предмет. Эвбулид ощупал его и вскрикнул от радости, узнав в нем кувшин, который принесла девушка. Не веря самому себе, он схватил его в руки, убеждаясь, что воды в нем по самое горлышко, и приложился к нему жадными губами. Это была самая вкусная вода, какую он когда-либо пил в своей жизни, и даже не вода, а теплый настой трав, подслащенный медом. Не в силах оторваться от глиняного горлышка, Эвбулид пил, пил сладкую, терпкую жидкость, тщетно уговаривая себя сделать лишь несколько глотков, а остальное оставить на потом. Он так и уснул в обнимку с кувшином. И когда проснулся, первой мыслью было: «А где миска с едой? Ведь если есть кувшин, то девушка приходила на самом деле, а ведь у нее была еще миска!» Было уже утро, судя по полоскам розового света в двери, и он сразу увидел возле себя миску. Заглянул в нее и едва не заплакал от счастья: она до краев была полна серой полужидкой кашей. Такую в Афинах скормили бы еще не каждой свинье, но сейчас он съел бы всю эту кашу разом, да еще и вылизал бы дочиста дно миски. Останавливало его лишь воспоминание о том, что произошло с ним, когда он наелся досыта в трюме «Талии» всего после трех дней голодания. А тут — без малого месяц! Или полмесяца?.. Давно потерявший счет времени, Эвбулид уже не воспаленным воображением — вполне осознанно припоминал слова Аристарха: «Говорено же вам было — не торопитесь! Ну что вам стоило разделить эту еду на два или даже на три дня? И ты, Эвбулид, туда же! Ведь грамотный человек!» Вздохнув, Эвбулид сделал небольшой глоток, потом, подумав, — второй, третий… и с сожалением отставил миску на шаг от себя. «Где теперь Аристарх? Что с ним? — думал он, вспоминая удивительного лекаря. — Все так же мечтает прожить до ста двадцати лет? А может, его уже нет на свете… Как ему не повезло! Как не повезло из-за этого всем людям — и тем, что живут сейчас, и тем, что будут жить после…» Эвбулид вздохнул, покосился на миску и, не удержавшись, сделал еще глоток, после чего решительно переставил миску на два шага, отвернулся, потом подумал и отнес ее в дальний угол. После этого он вернулся к двери и стал неотрывно смотреть на полоски света, дожидаясь, когда они станут белыми, чтобы можно было сделать еще несколько глотков. Стараясь отогнать навязчивые мысли, Эвбулид стал думать о Гедите. Он вспомнил свою свадьбу сразу после возвращения с войны, счастливое лицо Гедиты, которую он перевозил в свой дом в украшенной цветами повозке, ее мать, державшую в руках горящий факел, зажженный от домашнего очага. Под свадебную песню в честь Гименея он перенес Гедиту через порог, и их, счастливых и радостных, родственники и соседи щедро осыпали финиками, орехами, фигами и мелкими монетами. Затем факелом разожгли очаг, принесли жертвы предкам и после заполночной трапезы хлебом с фруктами они с Гедитой начали семейную жизнь… Эвбулид отвел взгляд от полосок света, которые еще только золотились. Солнцу, судя по ним, было еще далеко до зенита. Закрыл глаза. В первый день после свадьбы, по совету некоторых приятелей, он сразу решил показать, кто в доме истинный хозяин. Теперь смешно вспоминать, но именно так оно и было. Едва они разложили по углам многочисленные подарки, как он с важным видом стал поучать Гедиту, что она должна хранить все запасы в порядке и каждую вещь на своем месте. Говорил, чтобы фрукты, приносимые в дом, были хорошо высушены, одеяла и одежда хранились в сундуках, обувь всегда была выставлена в ряд, дабы он сразу мог определить, какую пару выбрать сегодня. Не забыл и то, как должна быть расставлена посуда и горшки. В заключение же строго заметил, повторяя слово в слово то, что услышал от подвыпившего гостя на свадьбе: — Из гинекея — ни шагу! Если женщина выходит на улицу, то она должна быть уже в таком возрасте, чтобы прохожие спрашивали, не «чья она жена?», а «чья она мать?». Он продолжал бы и дальше в том же духе — недостатка в советах и поучениях как от ровесников, так и знатных гостей не было, но Гедита неожиданно обняла его за плечи и, стесняясь, шепнула на ухо: «Эх, Эвбулид, ну зачем мне выходить из дома, когда в нем ты!..» Эвбулид сцепил зубы, чтобы не застонать. Боги послали ему такую жену, а он, пусть даже не по своей воле, оставил ее на произвол судьбы одну с тремя детьми и огромным долгом Квинту! Да и раньше не особо баловал. Ее б на руках носить, а он чуть что: «Замолчи, женщина, а то у тебя заболит голова» или: «Занимайся лучше своей прялкой!» А подарки, сколько он сделал ей подарков за всю жизнь? Два отреза на хитоны да колбу, что купил у купца из Пергама, совершенно никчемную теперь для нее вещь. Откуда ей взять благовония, чтобы хранить их в ней, пусть хоть она трижды из Пергама!.. «Пергама! — мысленно ахнул Эвбулид. — Так ведь тот купец был из Пергама. Да-да, точно — он еще приглашал меня к себе в гости, посмотреть скульптуры, которые хвалил сам царь! Что стоит ему попросить царя забрать меня в царские мастерские, откуда через десять лет выпускают на свободу! Я не испорчу ни одного листа пергамента, буду стараться, как десять рабов, вместе взятых, и снова увижу Гедиту, Филу, потреплю за вихры Диокла, впрочем, — помрачнел он, — какие там вихры, если сын уже станет зрелым мужем… Да и вообще, — накинулся на себя Эвбулид, — как я найду этого купца, если уже никогда не выйду за стены этого проклятого эргастула!..» Отогнав от себя легкую, как дуновение свежего ветерка, надежду, он вдруг увидел, что полоски в двери уже белые, и, больше не сдерживая себя, ополовинил миску. Дожидаясь вечера, снова стал думать о своей потерянной семье. Нет, не все так плохо было у них с Гедитой. Было то, что редко встречается в афинских домах, где браки заключаются, как правило, по воле родителей, — любовь и обжигающая сердце нежность. Спустя год после свадьбы у них родился Диокл. Купленный Эвбулидом Армен украсил дверь дома венком из оливковых ветвей — символ будущей гражданской храбрости сына своего господина, и Эвбулид с гордостью слушал, как проходившие мимо афиняне говорили: «Этот дом посетило счастье, здесь родился мальчик! Его имя[95] принесет ему большое будущее!» Спустя еще год Армен украсил дверь шерстяной повязкой, напоминавшей о женском трудолюбии. Дочку назвали Филофеей — любящей богов, по-домашнему просто Филой — любящей… Когда же родилась еще одна дочь, в дом уже все настойчивее стучалась бедность: наследство умерших родителей и приданое Гедиты таяли как дым. И все равно он не унывал, надеялся на лучшее и с молчаливого согласия Гедиты назвал свою младшую дочь Клейсой[96]… Эвбулид не заметил как уснул. Когда проснулся, увидел, что за дверью уже ночь. Засмеявшись от радости, он набросился на оставшуюся в миске кашу, допил настой в кувшине и, блаженно откинувшись, уснул на этот раз сытым, спокойным сном. Сколько он спал — час, сутки, не помнил. Очнулся от осторожного поскрипывания шагов по посыпанной дробленым камнем дорожке. Шли, без сомнения, к эргастулу. Знакомо отодвинулся засов, скрипнула, открываясь, дверь. На пороге, как и в первый раз на фоне звездного неба, возникла знакомая фигура Домиции… — Афиней! — дрогнувшим голосом окликнула она и, увидев поднявшегося ей навстречу Эвбулида, попросила: — Давай скорей кувшин и миску, чтобы управляющий не догадался, что я была здесь. А себе возьми вот это… Эвбулид, бормоча слова благодарности, протянул римлянке пустую посуду и принял из ее рук что-то теплое, завернутое в большие листы папоротника. Сверток защекотал ноздри запахом вареного мяса. — Почему так тихо в усадьбе? — спросил он, шумно глотая слюну. — Филагр отослал всех домашних рабов на поля, но сам иногда наведывается сюда вместе с липучим сыном Эвдема! — вздохнула она и посоветовала: — Ты ешь, не стесняйся! Эвбулид отогнул лист и стал расправляться с куском мяса, судорожно глотая его и давясь. — Листья не выбрасывай, их тоже можно есть, — заметила Домиция, не сводя глаз с изголодавшегося пленника. — Это целебный папоротник. Он придает силы. Им я когда-то подняла на ноги и твоего земляка Афинея… А ему досталось еще больше, чем тебе. — А кто он, твой Афиней? — с набитым ртом промычал Эвбулид. — Почему ты решила, что он — это я? — Потому что вас, Афинеев, не так уж и много. Если раб эллин, то он, как правило, Ахей или Беот. Сказали, в эргастуле сидит Афиней, проданный пиратами в рабство, вот я и подумала… — Что? — Ничего, — неожиданно нахмурилась Домиция. — Просто мой Афиней очень хотел вернуться из Сицилии к себе в Грецию. А море так и кишит пиратами, это я уже испытала на себе… — Скажи, а каков он из себя? — торопливо спросил Эвбулид, видя, что девушка собирается уйти. — Все-таки я тоже из Афин, может, даже знаю его! — Не надо меня успокаивать! — покачала головой Домиция. — Он часто рассказывал мне про ваши Афины, и я знаю, что они ничуть не меньше Рима. Разве ты можешь знать хотя бы в лицо всех их жителей? — Но, может, он рассказывал тебе про квартал, в котором жил? — допытывался Эвбулид. — Ты вспоминай, а я буду подсказывать! У нас есть квартал Мелите… — Нет. — Коллит. — Нет-нет! — Может, Кайле? — Кажется, он говорил, что его дом был недалеко от афинского водопровода! — вспомнила римлянка. — Большого? — живо переспросил Эвбулид. — Да-да! — обрадовалась Домиция. — Большого! Помню, я тогда еще смеялась — а разве в Афинах еще и маленький есть? — Район Большого водопровода… — пробормотал Эвбулид. — Как все — таки выглядит из себя твой Афиней? — Он лет на десять старше тебя, черная курчавая бородка, глаза большие, на щеке — клеймо… — подумав, добавила девушка. — Борода, на десять лет… — прищурился Эвбулид, припоминая пожилого ремесленника, который отправился торговать глиняной посудой в соседнюю Аркадию, да так и не вернулся домой. — Скажи, а он раньше не был горшечником? — Нет! — улыбнулась Домиция. — В своих Афинах он не умел ничего, это у нас, в Сицилии, научился, пожалуй, всем ремеслам на свете! — А отец его случайно не судья? — Да что ты? Разве позволил бы судья, чтобы его сына с позором выгнали из родного города? — Так твой Афиней изгнанник?! — Ну да! — И когда его изгнали из Афин? — Лет пять, может, шесть назад… Он не любил говорить со мной об этом. — За что его изгнали? — Кажется, он укрыл чужого раба. Но почему ты спрашиваешь об этом? Ты что, действительно знал Афинея? Да?! Я же вижу! Почему ты молчишь?! «Потому что это, по всей видимости, должен быть Фемистокл! — чуть было не сорвалось с языка Эвбулида, но он тут же остановил себя: — Нет, это невозможно — ведь десять лет разница, а Фемистокл всегда выглядел моложе своих лет! Впрочем, если он пробыл пять или даже три года в рабстве…» — Скажи, — обратился он к Домиции, — а он не рассказывал тебе о своих друзьях в Афинах? Ведь должны же были у него остаться там знакомые или родственники! — Только один близкий друг, — подумав, ответила девушка. — Афиней помог ему жениться на своей соседке, и я сильно ревновала его, когда он вспоминал об этом, потому что он всегда говорил о ней с такой теплотой… — Имя! — перебивая ее, вскочил с места Эвбулид. — Как его настоящее имя? — А разве я не сказала? Фемистокл… — О боги! — Так все-таки ты знал его! — Мне ли не знать своего лучшего друга! — опускаясь на пол, засмеялся Эвбулид и, поражаясь такому странному стечению обстоятельств, покачал головой: — Скажу тебе больше: перед тобою никто иной, как тот самый его друг, о котором ты только что говорила! — О, Минерва! Так ты — Эвталит?! — Эвбулид, — поправил, смеясь, грек. — Прости, но у вас, греков, такие трудные имена! — Конечно, — горько усмехнулся Эвбулид. — Афиней куда проще! — И тебя тоже изгнали из Афин? — Нет, я сам… Эвбулид снова набросился на мясо с сочными листьями папоротника. Давясь, стал рассказывать, как он уважал и любил Фемистокла, как часто вспоминал о нем в последнее время. — Подожди меня, я сейчас! — в конце концов, не выдержала Домиция и, всхлипывая, выбежала из эргастула. Пошатываясь от слабости, Эвбулид прошел за ней следом, вышел в незакрытый дверной проем, всей грудью вдохнул свежий воздух сада и прислонился спиной к деревянным доскам своей тюрьмы. Так он стоял, глядя на высокие звезды, от которых теперь его не отделяло ничто, кроме колышащихся ветвей деревьев, пока снова не послышались торопливые шаги Домиции. — Ты с ума сошел! — ужаснулась римлянка, видя пленника на свободе. — Вдруг тебя кто-нибудь увидит! — А тебя? — слабо улыбнулся ей в ответ Эвбулид. Домиция помогла ему войти в эргастул и принялась деловито складывать на пол принесенные миски. — Вот сыр, мед, мясо с лепешкой, настой из трав, — перечислила она и приказала: — Рассказывай еще! — Хорошо! — улыбнулся Эвбулид. — Но сначала скажи, который сегодня день? — Майские иды[97], — ответила Домиция. — По-вашему: первый день Таргелиона. И на следующую ночь, и в течение еще нескольких ночей, заменяя пустые миски на новые, наполненные мясом, фруктами, рыбой, овощами, приходила в эргастул Домиция. Эвбулид заметно окреп, повеселел, мысли о скорой смерти оставили его. Смеясь, он рассказывал Домиции о проделках эфебов, зачинщиком которых частенько оказывался неистощимый на веселые выдумки Фемистокл. Римлянка слушала, как юноши проигрывали в кости последний хитон, отправляясь домой в одежде Амура, как заставляли почтенных афинян изображать из себя петухов, добиваясь, чтобы они кукарекали и махали руками, словно крыльями. Ужасалась. Потом сама рассказывала, как тяжело жилось другу Эвбулида в Сицилии. Эвбулид вздыхал, жалел Фемистокла и, как только мог, успокаивал Домицию. На одиннадцатый день шаги послышались задолго до заката. Эвбулид обрадованно рванулся к двери, но тут же остановился. Судя по звукам, шли два человека. И делали они это, совершенно не таясь. — Еще не завонял! — сказал грубый мужской голос, и другой, хриплый, равнодушно заметил: — Тем лучше. Все приятнее будет тащить его. Открывай! Дверь пронзительно заскрипела, и Эвбулид зажмурился от ударившего в глаза яркого света. — Смотри! Живой… — раздался с порога удивленный голос. — Что же теперь нам делать? — Может, крюком по голове? А то что скажем Филагру? — Что теперь он может посылать на работы еще одного раба! — усмехнулся Эвбулид, подслеповато глядя на двух малоазийцев — могильщиков с длинными крючьями в руках, которыми они обычно оттаскивали тела умерших рабов на свалку за имением. — Смотри — он еще и разговаривает! — воскликнул долговязый раб с тупым лицом. — И улыбается… — подтвердил его коренастый напарник. — Но человек не может жить целый месяц без воды! — И без пищи!.. — Не иначе, как тут замешаны злые боги! — попятился долговязый. — Скорее к Филагру. Пусть сам с ним разбирается… Дверь эргастула захлопнулась. — Эй, вы, куда?! — бросаясь к ней, закричал Эвбулид. — Вы что, жалкие трусы, собираетесь предать своего товарища по несчастью?! — Он еще и ругается! — донесся в ответ испуганный голос, и другой, срывающийся, заторопил: — Бежим… Понимая, что Филагр, в отличие от забитых малоазийцев, сразу догадается, что пленник жив не благодаря добрым или злым духам, Эвбулид весь остаток дня не находил себе места. Насколько раньше ожидал он прихода Домиции, настолько слезно молил теперь богов предупредить ее об опасности и помешать ей прийти сегодня. Но римлянка по своему обыкновению появилась на дорожке сразу же после заката. Услышав ее легкие шаги, приближающиеся к эргастулу, Эвбулид прижался губами к тонким щелям в двери и зашептал: — Домиция! Уходи… не подходи, Домиция! Но, должно быть, Домиция не услышала Эвбулида, она как ни в чем не бывало приближалась к двери. И тогда он, забыв про осторожность, громко крикнул: — Домиция! Уходи! Шаги смолкли. Эвбулид прислушался к тишине за дверью. «Поняла!», — с облегчением подумал он и в ту же секунду услышал оглушительно громкий в чуткий ночной час голос Филагра: — А ну, стой! Дверь распахнулась. Эвбулид увидел управляющего в окружении трех дюжих надсмотрщиков и жавшихся друг к другу малоазийцев. Надсмотрщики запалили факелы и осветили стройную фигурку римлянки. В руках Домиции были миски и кувшин. — Значит, Домиция! — с удовлетворением заметил Филагр. — Я так и думал. — Не тронь ее! — закричал Эвбулид, бросаясь к выходу, но дверь захлопнулась перед его лицом. — Она не виновата! — принялся колотить он толстые доски. — Слышишь, ты! Это я, я просил, умолял сжалиться надо мной… Она не хотела! — Ты пойдешь у меня завтра на поле, коли уж выжил здесь! — усмехнулся Филагр. — И клянусь богами, я буду очень удивлен, если ты протянешь там хотя бы десятую часть того времени, что провел в эргастуле! А ты, — услышал Эвбулид, — скажи спасибо, что за этим делом застал тебя я, а не наш господин Эвдем. И вообще, твое счастье, что он выделяет тебя из остальных рабынь! И не пойму, что он в тебе нашел?.. За дверью послышались тяжелые шаги Филагра и звонкий шлепок, похожий на пощечину. — Что-о? — взревел управляющий. — Ты ударила меня? Меня?! — Не будешь в другой раз распускать руки! — бросила в ответ римлянка. — Да я тебя за это… я, — задохнулся управляющий и крикнул надсмотрщикам: — А ну, хватайте эту недотрогу, делайте с ней все, что хотите! — Только попробуйте! — голос римлянки зазвенел, как туго натянутая тетива. — Тот, кто дотронется до меня, испытает на себе весь гнев Эвдема! — Да мужчины вы или нет?! — продолжал бесноваться управляющий. — А-а-а, трусы! Тогда я сам… — Остановись, Филагр! — послышался голос одного из надсмотрщиков. — Ты слишком много выпил сегодня… — Не больше, чем вчера! — огрызнулся Филагр. — А ну, пусти! — Пожалуйста, — усмехнулся надсмотрщик. — Но, смотри, как бы сегодняшний кувшин вина не оказался для тебя последним. — С Эвдемом шутки плохи… — глухо подтвердил кто-то. — Или тебе с Публием мало других рабынь? — Ладно… — остывая, прохрипел Филагр. — В конце концов, моя жизнь мне дороже, мне еще до выкупа далеко… Пусть уходит! Но пусть знает, что коридоры и дорожки в имении нашего господина — узкие и мы с ней встретимся! 6. Встреча Наутро в эргастул вошли уже знакомые Эвбулиду могильщики. На этот раз кроме крючьев в руках у них были остро заточенные серпы. Из-за их спин выглядывало удивительно знакомое лицо: редкие всклокоченные волосы и потухший взгляд. — Сосистрат! — вскричал Эвбулид, бросаясь к бывшему пленнику «Горгоны». — Сосий… — уныло вздохнул раб, выволакивая на середину эргастула кандалы с цепями и свой немудреный кузнецкий инструмент. Несколькими ударами он скрепил оковы на ногах Эвбулида, проверил, не мешает ли цепь махать воображаемым серпом, и, разогнувшись, хлопнул по плечу грека: — Ну, иди! Удачи тебе… По густо заросшей тропинке малоазийцы, также звеня оковами, провели Эвбулида через лес, ручей, из которого он когда-то черпал воду для бездонного пифоса, миновали зазеленевший пруд, откуда он носил полные кувшины для рабов, и, наконец, вышли на поля. Насколько хватало взгляда у опьяневшего от простора и свежего воздуха грека, все пространство было усеяно густыми волнами спелого хлеба. Всюду копошились загорелые люди в набедренных повязках. Коренастый раб подтолкнул Эвбулида в спину и приказал: — Иди к той высокой скирде, найди старшего и передай ему, что господин управляющий велел поставить тебя на жатву. Малоазийцы, переговариваясь вполголоса, привычно побрели к своему участку на поле. Эвбулид направился к указанной скирде, но, не дойдя до нее и полсотни шагов, неожиданно услышал радостный крик: — Эвбулид! Успевший уже отвыкнуть от своего имени грек недоуменно завертел головой, не ослышался ли. — Эвбулид! Живой!!! — со стороны скирды к нему ковылял высокий, плечистый раб. — Лад? — не поверил своим глазам Эвбулид. Разглядев в приближающемся человеке сколота, он, путаясь в оковах, бросился к нему навстречу: — Лад!.. — Живой!.. Подбежав, сколот обнял Эвбулида, отстранился от него, словно застеснявшись этого порыва. Но, убедившись, что перед ним целый и невредимый грек, снова прижал его к своей груди. Зазвенел оковами. — Эвбулид! А мне говорили, что ты умер от голода! Что тебя уже отволокли на свалку… Выходит, — радостно блеснул он глазами, — та рабыня, которую я принял за госпожу, успела помочь тебе? — О, Лад! Это Домиция спасла меня от смерти! Если бы не она… — только и смог выговорить Эвбулид, впервые называя своего раба по имени и радуясь от мысли, что снова рядом с ним этот могучий, такой надежный человек. — Значит, ее зовут Домиция? — с несвойственной ему мягкостью произнес Лад и, обняв грека за плечи, повел к высокому дереву. — Постой! — сделал попытку высвободиться Эвбулид. — Я должен сначала доложить о своем приходе старшему по этому полю… — Быстро же тебя приучили к порядку! — покачал головой сколот и, продолжая вести Эвбулида к спасительной тени, невозмутимо продолжил: — Дней десять назад надсмотрщик повел меня за серпами к Сосию на кузницу и по дороге сказал, что ты попал в эргастул и тебе там совсем худо. Ну все, думаю, пропал ты! Когда мы шли через сад назад, он убежал за чем-то в дом. Стою, жду его и вдруг вижу — идет по дорожке девушка. В жизни не видел такой красивой. Если бы не хитон — подумал бы, что это сама госпожа! Я и спросил, не знает ли она, что стало с человеком, который сидит в эргастуле. Сказал, что там находится мой друг, господин из Афин. «Афиней?» — закричала вдруг она, и, поверишь, как только услышала про тебя, так взволновалась, принялась расспрашивать, каков ты из себя, давно ли в рабстве, не был ли раньше в Сицилии. Я сказал, что свободные греки больны бывать где угодно и в Сицилии тоже. Сказал, что тебя продали сюда пираты, но тут появился надсмотрщик… Так, значит, ее зовут Домиция… Эвбулид удивленно покосился на Лада. Тот перехватил его взгляд, смущенно кашлянул и, усадив грека в разлапистую тень дерева, с напускной строгостью приказал: — Ну, давай докладывай о своем прибытии! — Кому? — не понял Эвбулид. — Мне — старшему рабу на этом поле. Помощнику самого надсмотрщика! — Лад шутливо распрямил плечи. — Или, по-твоему, я не гожусь для такой должности? — Лад? Ты начальник здесь? — не поверил Эвбулид, счастливо глядя на сколота. — А ты думал, я здесь зря время теряю? — усмехнулся сколот. — Честно говоря, я думал, что ты давно уже сбежал! — И правильно думал! — кивнул Лад. — Если бы не эти проклятые пято, что сделал Сосий, — показал он глазами на оковы. — Если бы не ты в твоем эргастуле… — покосился он на Эвбулида, — то я был бы уже на полпути к дому! — Или еще дальше от него, — вздохнул Эвбулид. — Твоя родина слишком далека, чтоб до нее можно было добраться. Лад бросил на него быстрый взгляд и, убедившись, что в словах грека нет и тени на давнюю иронию, развел руками: — Я избил камнем все ноги и руки, но на этих пято не осталось даже зазубрины. Проклятый Сосий свое дело знает. Тогда я стал корчить из себя самого покорного и старательного раба, надеясь, что Филагр когда-нибудь меня сделает надсмотрщиком, а заодно и снимет пято! Клянусь, это получилось у меня неплохо. Он всегда ставил меня в пример остальным рабам. А после того, как я стреножил взбесившегося от жары быка, сделал старшим. — Так, значит, ты скоро станешь надсмотрщиком — и мы сбежим? — обрадовался Эвбулид. — Кто знает? — пожал плечами Лад. — Должностей надсмотрщиков на всех полях всего лишь две, а эти мерзавцы мрут куда реже, чем мы… Вот если бы ты, — он испытующе взглянул на грека, — пошел в подручные к Сосию и научился сбивать оковы, своровал кое-какой инструмент… — Я? Сбивать? — удивился Эвбулид. Лад посмотрел на его обескураженное лицо и, махнув рукой, медленно встал. — Ну что, отдохнул немного? — спросил он. — Тогда пошли. У высокой скирды сколот вручил Эвбулиду серп и громко, чтобы слышал проходящий мимо надсмотрщик, предупредил грека: — Срезай стебли вот здесь, наверху, у самого колоса, чтобы потом не утомлялись молотильщики и веяльщики! Увидев, что надсмотрщик отошел в сторону, где засвистела его плеть, он подмигнул Эвбулиду: — Вот так-то, брат, потерпи уж, иначе и тебе не сносить его плетей. — Я постараюсь, — кивнул Эвбулид, обливаясь потом под палящими лучами солнца. — Только не понимаю, зачем так высоко срезать — ведь почти вся солома будет потеряна… — Филагру главное хлеб, побольше да побыстрее! — мрачно ответил сколот и, взглянув на Эвбулида, подбадривающе улыбнулся. — Отец бы меня за такую работу дома высек! Эвбулид взял в неумелые руки колос и взмахнул серпом. — Осторожней! — предостерегающе воскликнул Лад. Но Эвбулид, не рассчитав своих действий, уже поранил руку. — Ты что, — проворчал сколот, прикладывая к порезу лист подорожника, — никогда в жизни серпа в руках не держал? — Нет… — честно признался Эвбулид. — А мотыгу? — Тоже… — И что же мне с тобой делать? — задумался Лад и махнул рукой: — Ладно! Ты вот что — делай только вид, что работаешь, а в остальном положись на меня. — Но, Лад, тебе и так несладко!.. — Ничего, Эвбулид! — подбадривающе заметил сколот. — У меня еще хватит сил, чтобы сбежать и прихватить с собой тебя и… Домицию! — Домицию? — недоуменно переспросил Эвбулид. Эвбулид хотел было уже рассказать Ладу о Фемистокле, но промолчал, увидев, как вновь помягчело лицо сколота при упоминании о девушке. Орудуя серпом, он выбился из сил уже через полчаса. — Как же вы тут работаете? — смахивая пот, простонал он. — Так и работаем! — сгребая сразу пучок колосьев и ловко отхватывая их серпом, ответил Лад. — Люди мрут как мухи, Филагр звереет. — То-то в доме почти не осталось рабов… — пробормотал Эвбулид. — Да, — подтвердил сколот. — Сначала он присылал к нам привратников, садовников, но, когда они слегли, стал гнать сюда даже поваров! — Что же, старик-привратник… — Умер! — Пуховая подушка ему в дорогу! — невольно вырвалось у Эвбулида. — А повар Сард? Его тоже сюда прислали? — живо поинтересовался он. — Да, — отозвался Лад. — Он уже отмучился. — Как? И он умер?! — вскричал грек. — Его нашли в канаве с перерезанными серпом венами, — припоминая, ответил сколот. — Вот как?.. А был уверен, что проживет больше меня. — Эвбулид вдруг вспомнил незадачливого Сарда, как делился он с ним в эргастуле своими жалкими крохами — бывший судья крупнейшего города Сардинии. — А Сир? Что-то я не вижу, чтобы он носил сюда воду! Он-то как? — Воду теперь носит другой сириец, — отрезал Лад. — А прежнего забили у столба до смерти. — За что?! — Говорят, он какую-то ключницу утопил в пифосе! И охота ему было связываться с бабой! — Эта баба повреднее сотни мужиков будет! — возразил Эвбулид, с жалостью думая о Сире и со злорадством о ключнице. — Через нее и все мои беды! — Били? — на миг оторвался от работы Лад. — И били, и мышью живой пытались накормить, и вообще! — махнул рукой Эвбулид. — Да, досталось тебе, как я погляжу! — сочувственно проговорил сколот. — Да уж было… Как Эвбулид доработал до захода солнца, как Лад перенес его в небольшой сарайчик, где, вяло переговариваясь, готовились ко сну рабы, он не помнил. Очнулся оттого, что на лицо струйкой поливали воду. Он принялся жадно ловить ее пересохшими губами, открыл глаза и увидел над собой сколота, державшего в руках самодельный ковшик, сделанный из большого листа лопуха. — Прости, Эвбулид, — улыбался он, — чаша не мегарская, и даже не простая глиняная, зато цены ей нет на этом поле. При упоминании о мегарской чаше Эвбулид мигом вспомнил купца из Пергама. Порывисто сел. — Слушай, не надо нам твоей кузницы и того, чтобы мы дожидались, пока тебя сделают надсмотрщиком! — У тебя что, есть иной план? — заинтересовался Лад. — В Пергаме у меня есть знакомый! — заторопился Эвбулид. — Я уверен, он или выкупит нас, или, в крайнем случае, устроит в царские мастерские, откуда отпускают на свободу! — Через десять лет? — усмехнулся Лад. — Мне это не подходит. — А если тебя сделают надсмотрщиком через двадцать лет? — спросил грек. — Или ты думаешь, что эти пято к тому времени станут ветхими? Или у тебя прибавится сил, чтобы ты разогнул их?! Сколот долго молчал. Потом спросил: — А кто он, этот твой знакомый? — Купец! — охотно ответил Эвбулид и замялся: — Правда, я не знаю, где он живет в Пергаме… — Ну, это не беда! — заметил Лад. — Твои деньги я сохранил. Дадим их Филагру, когда он поедет отвозить продукты в Пергам. За несколько кувшинов вина, что мы купим на них, он из-под земли отыщет нам твоего купца! Назовешь только имя! — Но я не знаю его имени… — пробормотал Эвбулид. — Да, хорошие же у тебя знакомые! — покачал головой Лад. — Ну, хоть что-то ты о нем знаешь? — Конечно! — припоминая купца на афинской сомате, его товары и разговор с ним, отозвался грек. — Он торгует мегарскими чашами, вазами в виде человеческих голов и лепит скульптуры, которые хвалит сам царь! Да, еще в его мастерской делают вазы с позолотой и колбы, где лекари хранят яды! — По такому описанию Филагр за час отыщет нам твоего знакомого! — успокоил Эвбулида Лад и, удобно устраиваясь на полу, посоветовал: — Спи! Завтра чуть свет опять работать. — О боги! — громко воскликнул Эвбулид. — Когда же закончится эта жатва?! — Эх, Афиней! — ответил ему кто-то из проснувшихся рабов. — Кончится жатва — начнется пахота, потом надо сеять, опять пахать, а там и новая жатва подоспеет… И так вся наша жизнь, будь она трижды проклята! ЧАСТЬ ВТОРАЯ  1. Золотая клетка Прошло полгода с того времени, как Прот, поделив с Евном сокровища Тита Максима, стал одним из богатейших жителей Тавромения. Он купил за бесценок дом почти в самом центре столицы Новосирийского царства, не такой роскошный, как дворец Ахея, но все же с множеством комнат, атрием и, как он мечтал, с фонтаном во дворе. Каждый день к нему приходили высокопоставленные гости: то Серапион, то Клеон с братом, то другие члены Совета или сумевшие быстро и ловко разбогатеть бывшие рабы. Изредка появлялся Евн, он возникал в доме всегда неожиданно — ласковый, веселый, но с быстрым, обжигающим взглядом. Для того, чтобы угощать всех этих гостей, а также поддерживать чистоту в залах и комнатах, увешанных пурпурными коврами, уставленных золотой и серебряной посудой Тита, Прот купил несколько рабов из числа сицилийцев, которые так и не примкнули к движению Евна. Так в доме появились Сарды, Фраки, Геты и один Герм — рослый германец с косматой черной бородой. В первые дни, чувствуя себя неловко, когда эти люди кланялись перед ним и называли его господином, Прот не разрешал назначенному надсмотрщиком илирийцу Протодору, подаренному ему Серапионом, прикасаться к ним даже пальцем. Но после того как подававший во время пира вино Сард неосторожно опрокинул кувшин и несколько алых капель пролилось на белоснежный хитон гостившего у него Евна, перепуганный Прот вызвал надсмотрщика и приказал строго наказать раба. С тех пор всем его слугам стало житься ничем не лучше, чем в доме своих бывших господ. Не было такого дня, чтобы плеть Протодора не свистела над спиной очередного несчастного у вкопанного в землю за домом столба. Сам же Прот все больше и больше входил во вкус своей новой жизни. Он не стал менять данное отцом Луция имя на свое истинное — Дейок или более значительное, как это сделали несколько бывших рабов, а теперь преуспевающих господ, ставших из Сиров и Тавров Каллистами, Асинкритами, Викторинами[98]. Имя Прот — то есть, первый, главный, — вполне его устраивало, и он надеялся, что оно приведет его в Совет, а там, как знать, может, и на одну из самых почетных должностей, окружающих царя. Ведь, если уж на то пошло, думал он, то и самого Евна-то забитые сирийцы избрали не столько благодаря его магическим трюкам, сколько из-за его имени, веря, что оно является залогом их непобедимости и счастливой жизни. И все-таки Прот скучал. Днем он обходил лавки со своими товарами и вместе с нанятыми торговцами подсчитывал прибыль, вечерами пировал с кем-нибудь из Совета под музыку и танцы молодых эллинок, а по ночам просыпался и долго смотрел невидящими глазами в темноту, потому что ему снился Пергам и старые, возможно уже умершие, родители. Тогда весь этот дом, ковры и вазы казались ему золотой клеткой, которой его окружил Евн. Выход был, и о нем напоминал Фемистокл во время своих редких встреч с Протом. Эллин убежденно говорил, что Проту нужно немедленно расстаться со своим богатством, отдать его Евну, и тот незамедлительно сдержит свое слово, даст ему римскую трирему, которая в считанные недели доставит его в Пергам. — Ты должен предупредить свой народ, своего базилевса о грозящей опасности! — твердил Фемистокл, но был уже день, свет которого и ожидание новой попойки заглушали ночные мысли Прота, и он каждый раз повторял надоедливому эллину: — Ты просто завидуешь мне, моему богатству! Что я буду делать в Пергаме таким нищим, как ты? Или ты предлагаешь мне, чтобы я через месяц-другой продал там себя за долги в рабство и стал таким же, как мои Сарды и Фраки? — Я предлагаю тебе остаться человеком! — каждый раз заканчивал разговор Фемистокл. — Чтобы ты не стал в конце концов таким же мерзавцем, как твой бывший хозяин, выбросивший тебя на остров Эскулапа! Шли дни, недели, месяцы, и опасения Фемистокла понемногу стали сбываться. Прот, для которого не было других примеров в своей рабской жизни, кроме Луция, постепенно перенял многие его привычки и становился все более похожим на своего бывшего господина. Сначала робко, а потом все смелее он стал заниматься подлогами, лжесвидетельствами против своих конкурентов в продаже хлеба и вина, которых он закупил неслыханное количество. С рабами он говорил, цедя слова сквозь зубы и уже не стеснялся отвешивать тяжелые и звонкие оплеухи за самые малейшие провинности. Совесть уже не мучила его по ночам. Он стал понемногу забывать о той опасности, которая грозила Пергаму. Евн, Серапион и Клеон одобряли образ его жизни, и был лишь один человек, который еще напоминал ему о своем долге, — Фемистокл. Но Прот старательно избегал его, и когда, на исходе осени, тот вместе с Ахеем уехал в Мессану, проверять, как восстанавливаются ее полуразрушенные стены, казалось, и вовсе забыл о нем. Дни по-прежнему текли в праздности и развлечениях, когда однажды по городу пронеслась весть: сменивший нерешительного Флакка новый консул Кальпурний Пизон неожиданным штурмом захватил Мессану и со всей консульской армией двинулся на Тавромений. Весь гарнизон Мессаны и Ахей погибли, оставшиеся в живых несколько тысяч человек были распяты на крестах. Новость эту принес чудом уцелевший Фемистокл, который теперь стал самым желанным гостем во всех знатных домах столицы. Не смог побороть в себе искушения, чтобы не пригласить его и не узнать всех подробностей взятия Мессаны, а главное, разузнать, так ли уж велика опасность, и перепуганный Прот… 2. Беглец из Мессаны Фемистокл вошел в дом Прота в полном вооружении. Грудь его защищали дешевые, но надежные в бою против копий и стрел бронзовые бляхи. С пояса в ножнах, едва не доставая до пола, свисал длинный сарматский меч. Рука и шея его были перевязаны, но держался он твердо и сразу же повел разговор о Мессане. — Я никогда не видел римлян такими яростными и кровожадными! — сказал он, и лицо его исказилось недавними воспоминаниями. — Когда я крикнул одному центуриону, зачем же он добивает пленных, ведь из них еще могут получиться рабы, он сказал мне: «На наш век еще хватит провинций и новых рабов! А ваше царство мы вырвем с корнем, по цветочку, по травинке, и ни одна рабская душа не останется здесь в живых! «Я был крепко связан и не мог ответить ему достойным образом, — покачал головой Фемистокл. — Наутро меня должны были распять! — Как же тебе удалось бежать? — прошептал смертельно побледневший Прот. — К счастью, у одного из моих товарищей при обыске не нашли нож, — объявил грек. — И нам удалось развязать веревки. Но до Тавромения я добрался только один. По всем окрестностям уже действуют отряды этого Пизона. Они вылавливают сторожевые посты и просто отбившихся от городов рабов и тут же либо распинают их, либо просто сжигают на кострах. Но все это мелочи по сравнению с тем, что было в Мессане! Кровь наших братьев текла там такими потоками, что невозможно было бежать по улицам, не поскользнувшись на ней. Настоящее подземное царство сделал из города Пизон и по достоинству занял в нем трон самого Аида! — Что же теперь с нами будет? — с мольбой уставился на Фемистокла Прот. — То, что мы заслужили своей трусостью и бездействием! — жестко ответил грек. — Смерть — кому на крестах, кому в огне. Но ты еще можешь спастись и спасти других. — Я? — не веря в свое спасение, воскликнул Прот. — Но как? — Сегодня же отдай все до последнего обола Евну! Сегодня же, потому что завтра может уже быть поздно! 3. Царское слово Весь день Прот ходил мрачнее тучи из угла в угол главной залы своего дома. Два противоречивых чувства боролись в нем: страх снова стать нищим или же расстаться с жизнью. Он привык к этой окружавшей его почти год роскоши, к тому, что он всесильный господин, которого уважают и боятся в Новосирийском царстве. И отказаться от своего нового положения и достатка он был уже не в состоянии. Под вечер пришел хмурый Клеон. — Римляне совсем близко! — осушив кубок вина, сообщил он. — Этот Пизон, оказывается, неплохой вояка, и если бы не милость Астарты к нашему базилевсу, то через месяц — другой Тавромений был бы в его руках. — Чем же так опасен этот Пизон? — с трудом ворочая языком от страха, спросил Прот. Ставший главнокомандующим вместо погибшего Ахея Клеон отставил пустой кувшин и своим обычным резким голосом ответил: — А тем, что он за считанные недели сумел сделать то, что за целый год не удавалось Фульвию Флакку! Он взял Мессану с одного удара, разбив в бою восемь тысяч наших воинов и еще больше взяв в плен. Он обеспечил надежную связь между Италией и Сицилией! А главное, он так уверен в своей силе, что спокойно оставил наши города на восточном побережье и двинулся на Тавромений. Дисциплина и осторожность — вот чего перестало хватать нашей армии и чего с лихвой достает легионам этого Пизона! — Говорят, — встрял в разговор, как всегда гостивший по субботам у Прота, Серапион, — когда в первые дни пребывания Пизона в Сицилии один из конных отрядов был окружен нами и принужден сдать оружие и пройти под ярмом[99], — Пизон очень необычно наказал его командира. Он заставил его ежедневно всякий раз, когда менялась стража, стоять перед палаткой главнокомандующего в обрезанной тоге, без пояса и с босыми ногами, что для римского офицера обозначает небывалый позор. Сверх того, он воспретил ему общение с другими и пользование баней. А у всего конного отряда были отняты лошади, и теперь они должны воевать простыми пращниками… — Это похоже на Пизона, — мрачно кивнул Клеон. — И, как главнокомандующий армией, переставшей верить в себя и разложившейся, я завидую ему, потому что он может повелевать всеми своими тысячами, словно единым человеком! Но я верю в непобедимость Астарты и не завидую ему, потому что с нами человек, говорящий ее устами, — великий Антиох! Он укажет нам путь разбить непобедимую консульскую армию. Последние слова главнокомандующего привели Прота в полное отчаяние. Веру в сверхестественные способности Евна он потерял после того, как однажды в этой же зале, где молился с пеной на губах своей Астарте Евн, нашел после ухода гостей кусочек корня какой-то травы. Опасаясь отравы, он дал пожевать его рабу, и когда у того появилась на губах пена, точь-в-точь такая же, как он видел у Евна, понял, что это красящий корень растения струтия. Такую он жевал в детстве с мальчишками, пугая друг друга. Поняв, что Тавромений и все Новосирийское царство обречено, раз даже главнокомандующий, не раз бивший наголову римлян, теперь уповает лишь на сомнительную поддержку Астарты, Прот решился немедленно последовать совету Фемистокла. — Серапион! — окликнул он придремавшего начальника кинжала, и когда тот уставился на него своим обычным бегающим взглядом, торжественно сказал: — Слова Клеона о великой Астарте глубоко тронули меня. И в этот тяжелый час всего нашего царства я решил отдать ей в жертву все свое состояние — этот дом, эти ковры и статуи, все свои лавки, посуду и деньги до единого обола! — Я могу прямо сейчас сообщить эту новость нашему базилевсу? — вскочил Серапион. — Да! — кивнул ему Прот. — Передай мои слова и скажи, что я всегда свято чтил Астарту, тем более что Антиох поклялся ею отпустить меня на родину, и, надеюсь, еще не забыл своего обещания! Серапион выбежал. Клеон долго и с чувством тряс вспотевшую руку Прота. — Я всегда был уверен в тебе, Прот! С первого дня был уверен в тебе! Помнишь, как я впервые увидел тебя? За кубком вина они стали вспоминать тот далекий уже день, когда Прот окликнул стоящего у фонтана Клеона, и тот едва было не задушил его, заподозрив в нем римского лазутчика. Через час в залу вбежал Серапион. Окинув деловым взглядом стены и убедившись, что ковры, статуи и золотая утварь на месте, он торжественно сказал Проту: — Величайший базилевс велел передать тебе свое признание за то, что ты принес в жертву великой Астарте все свое состояние! Он хотел лично сказать тебе об этом, но он молится сейчас великой богине! — многозначительно добавил начальник кинжала, умалчивая, что Евн на самом деле пирует со своим шутом и наложницами. — И еще, несмотря на свою занятость, базилевс нашел время, чтобы испросить совета у Астарты насчет твоего отплытия в Пергам… — И что же ответила ему Астарта?! — подался вперед Прот, забывая изобразить на лице почтительную мину, чем изумил богобоязненного Клеона. — Она ответила, — растягивая каждое слово, сказал Серапион, — что ты немедленно можешь отправиться в Катану и брать любую из стоящих в ее порту римских военных трирем. Соответствующее письмо уже подготовлено. Гребцов и триерарха ты также найдешь в Катане. — Серапион на секунду задумался, вспоминая, как на его вопрос о дальнейшей судьбе Прота, Евн сказал: «Пускай теперь убирается куда хочет, а корабль возьмет в Катане, все равно все они скоро опять станут римскими!» — но решил смягчить слова царя: — Базилевс желает тебе счастливого пути и советует не мешкать, потому что надеется уговорить Астарту, чтобы она отвернула армию Флакка от Тавромения и направила ее на восточное побережье! Несколько минут Прот смотрел, как вошедшие по знаку Серапиона люди снимают со стен ковры и уносят золотую посуду, уводят его рабов, берут у Протодора ключи от подвала, где хранились бочонки с золотыми сиракузскими статерами, афинскими тетрадрахмами, родосскими драхмами, но, не выдержав такой пытки, выбежал из своего бывшего дома, взяв на ходу из рук подоспевшего царского писаря письмо с личной печатью Евна. У городских ворот, где все уже было готово к обороне, он увидел явно поджидавшего кого-то Фемистокла. Отведя Прота за мешки с песком и огромные чаны со смолой, под которыми горели костры, Фемистокл протянул ему мешочек с едой и сказал: — Это тебе пригодится в дороге! — Внимательно посмотрев на Прота, добавил: — Ну вот, ты наконец снова стал хоть и нищим, но человеком. — Может, пойдешь со мной? — спросил Прот, неожиданно почувствовав признательность к этому, так досаждавшему ему раньше, греку. — Евн дал мне целую трирему с гребцами, и я завезу тебя в твои Афины. Фемистокл отрицательно покачал головой. — Нет, — не сразу ответил он. — Я начинал это восстание, и я отвечаю за жизнь тех, кто верит мне. Эти люди дороги и близки мне, поэтому я останусь с ними. — Смотри, завтра будет уже поздно! — недавними словами эллина предупредил Фемистокла Прот. — Может, все-таки поедешь, а? Вместо ответа Фемистокл поправил меч на боку и подтолкнул Прота к пронзительно заскрипевшим и медленно поднимающимся воротам. Прот вышел из столицы, превратившейся в крепость, тревожно осмотрелся вокруг, вздрогнул, увидев далеко в горах огоньки костров. То были места ночлегов первых римских отрядов. Он с сожалением взглянул на притихший, настороженный Тавромений и, не оглядываясь, поспешил по петляющей тропинке в направлении восточного побережья. 1. Удивительный город В Пергам снова пришел десий. Весна быстро переходила в лето. Словно в тягучем сне в душную летнюю ночь остались в памяти Эвбулида от минувшего года рабства жатва и молотьба, когда он, поддерживаемый Ладом, сносил дозревшие в поле снопы на ток, а потом деревянными вилами переворачивал солому и подсовывал ее под ноги мулов, выбивавших копытами зерно из колосьев. Потом он окапывал ветвистые гранатовые деревья. Обкладывал их корни свиным навозом, чтобы плоды были слаще, наслаждался прохладой тени и мысленно благодарил Филагра, который поставил их со сколотом на эту работу в награду за старательный труд. Затем пришел месяц сбора олив. Надсмотрщики бегали по саду, запрещая рабам трясти деревья и заставляя их срывать оливки по одной, чтобы они не сминались и давали больше масла. Все делалось бегом. Если рабы, относившие корзины давильщикам, или надсмотрщики медлили, то тогда сам Филагр пускал свою плеть в ход и хлестал ею всех без разбора. Не лучше было и на сборе винограда, после которого Эвбулид, Лад и немногие оставшиеся в живых рабы давили его босыми ногами в больших четырехугольных чанах на высоких подставках. Так прошло лето. После первых осенних дождей — веленья богов к севу — провели последнюю вспашку и бросили в землю зерна будущего урожая. За зиму Эвдем выгодно продал фрукты, хлеб и оливковое масло и выдал Филагру за старание целую мину и пять драхм на угощение рабов. Получив награду, управляющий отсчитал привезшему ее Протасию семьдесят пять драхм, а на оставшиеся деньги беспробудно пьянствовал несколько дней. После этого он вспомнил о рабах и велел выдавить им по чаше виноградных выжимок. Еще распорядился выдать каждому масла из обработанных оливок, которое Эвбулид в свое время употреблял разве что для светильника, немного муки и, освободив рабов на полдня от повинностей, велел перевести всех в рабскую спальню за господским домом. Когда все невольники собрались вместе, Эвбулид с горестным изумлением отметил, что, кроме Лада, вокруг, него нет ни одного знакомого лица. К новой страде в имении полностью сменилось три больших партии рабов, и если бы не сколот, то и Эвбулида давно уже сменил какой-нибудь сириец или косматый гет. А так он был жив и смотрел, как Лад невозмутимо поджаривает на чадящем оливковом масле лепешки из муки, которую он принес с мельницы. За дверью сумрачного помещения, в котором храпели, стонали и отчаянно ругались во сне изможденные рабы, был один из последних прохладных вечеров. — Не спи, Эвбулид, — вывел грека из дремотного состояния сколот. — Сейчас мы с тобой настоящую трапезу сотворим — вашим богам и не снились такие щедрые жертвы! — Эх, Лад! — зевая, вздохнул грек. — Тебе, в твоей Скифии даже не снилось, как мы в Афинах чествуем наших богов! Один только праздник в честь Деметры осенью, после сбора урожая чего стоит! — Деметры? — непонимающе приподнял бровь сколот. — Зевса знаю, Афину знаю, Диониса, — подмигнул он, показывая на чаши с молодым вином, — тоже знаю. А эта, как ты говоришь, Де-мет-ра? — Богиня земных плодов и урожаев! — прищурившись, кивнул Эвбулид. — Каждую осень мы славим ее вместе с дочерью Персефоной, божественной повелительницей подземного царства теней. — Час от часу не легче! Теперь — Пер-се-фо-на… — проворчал Лад, запоминая. — Это самый таинственный и торжественный праздник, ведь Персефона — супруга самого Аида! Полгода живет она под землей и полгода с разрешения Зевса со своей матерью. Представь себе: утро, все совершают очистительные омовения в море около Афин. Потом обмывают поросенка, которого назавтра принесут в жертву в ее храме. В этот день процессия выходит из Афин. Впереди — верховные жрецы, архонты, судьи, иностранные послы, за ними — огромная толпа афинян, жены и мужья, рабы и господа — все вместе! По дороге они останавливаются во всех местах, посвященных Деметре, и подолгу молятся там… На побережье в Элевсине, где стоит ее храм, осматривают скалу, на которой сидела Деметра, оплакивая дочь, похищенную в свое царство Аидом. Затем горюют перед святилищем, наконец, радуются счастью богини, вновь увидевшей свою дочь. А потом на обратном пути во время перехода через мост на реке Кефис, чтобы развеять торжественное настроение, местные жители шутят, смеются над афинянами, задирают их, но как только процессия минует мост, шутки стихают и праздник снова становится самым торжественным в году… Ведь это праздник урожая! — А мы приносим жертвы богу земных посевов летом! — заметил Лад, протягивая Эвбулиду лепешку. — В этот день молодые люди украшают себя венками, раскладывают ввечеру огонь и пляшут вокруг него и еще… Сколот осекся. Эвбулид проследил за его взором и увидел в дверном проеме знакомую стройную фигурку. — Домиция! — вскричал он и, звеня оковами, бросился к римлянке. — Будь здоров, Афиней! — улыбнулась она и кивнула Ладу: — И ты будь здоров!.. Сколот пробормотал что-то невнятное. Эвбулид, скрашивая его неучтивость, вызванную неловкостью при виде девушки, заторопился, приглашая Домицию разделить их небывалое пиршество. — Правда, здесь запахи совсем не те, что в господском доме и слова можно услышать самые непотребные… — извиняющеся заметил он, но Домиция только пожала плечами в ответ. — Я ведь и сама рабыня, — усмехнулась она, подсаживаясь к сколоту. — А у нас ночью и не такого наслышишься. Знаешь, как плачут женщины, когда зовут своих детей, которых больше не увидят никогда в жизни? Как зовут невесты своих отнятых женихов?! Она вспыхнула и, чтобы скрыть свое смущение, принялась жевать кусок лепешки, протянутой ей Эвбулидом. Лад заерзал. Отодвигаясь, с медвежьей ловкостью опрокинул свою чашу. Вино пролилось на землю. Эвбулид чуть приметно усмехнулся и поделился со сколотом своим вином. Лад шумно вздохнул и незнакомым греку голосом сипло сказал: — У меня на родине говорят: «Живая вдова — позор всему роду!» Ты могла бы последовать вслед за мужем, если он неожиданно умер? — Да, — ответила Домиция, думая о Фемистокле. — А могла бы ты пойти с ним на войну и рубиться с врагами на равных? — Да, — повторила Домиция, вспоминая глаза Фемистокла и его мягкие волосы, курчавую бороду. — А крепких воинов от него родила бы? — Да! Да! — рассмеялась Домиция. — Выходи за меня! — неожиданно сказал Лад, опуская свою огромную ладонь на тонкое запястье девушки. — Ты почти свободная, я почти надсмотрщик, — горестно усмехнулся он. — Поговорим с Филагром, дадим ему денег на большую амфору вина, он уговорит Эвдема. Ведь, правда, у нас есть деньги, Эвбулид? — Да, но… — замялся грек. — Вот видишь? — приблизил лицо к Домиции сколот. — Ты что? — очнулась девушка, отшатываясь от Лада. — Вы с ума сошли?! И ты, Эвбулид, позволяешь говорить в своем присутствии такое?! Ведь ты же друг моего Афинея! Домиция вскочила и, швырнув на пол лепешку, выбежала наружу. Лад оторопело проводил ее взглядом и перевел глаза на грека: — Ты что, Эвбулид, знал ее жениха? — Да… — И ничего не сказал мне об этом?! — Да, но… — Эх вы, господа! — раздельно произнес Лад и, схватив чашу, двумя глотками осушил ее. — А впрочем, все равно она будет моей женой! Какая девушка! Как она выдернула свою руку! Такого я еще не встречал никогда… А как она выбежала отсюда! И потом — она могла пойти с мужем на войну, рубиться на равных, а главное, поспешить потом за ним в царство теней! Она будет моей женой! — в хмельном запале повторил он и схватил Эвбулида за руку так, что тот вскрикнул от боли. — И ты мне в этом поможешь! — Лад, но Фемистокл мой друг… — возразил Эвбулид. — А я? — ревниво произнес Лад. — И ты тоже! С минуту Лад соображал, потом встряхнул головой и решительно произнес: — Все. Не будем больше терять время. Как, ты говоришь, зовут твоего знакомого в Пергаме? Ах да, не знаешь… Тогда вот что! Завтра Филагр повезет в Пергам муку и масло. Мы вызовемся помочь ему, а уж в городе что-нибудь придумаем! — Так он и возьмет нас с тобой! — недоверчиво усмехнулся Эвбулид. — Возьмет! — уверенно ответил сколот. — Мы предложим ему твои деньги, и никуда он не денется. Видел, какой он сейчас с похмелья? За кружку вина мать родную продаст. А тут — на целую амфору. Наутро все произошло так, как наметил сколот. Управляющий, обрадованный щедрой взяткой, которую пообещал ему Лад, долго удивлялся, что рабам удалось сохранить такие немалые деньги от пиратов, перекупщика и надсмотрщика, а главное, от него, Филагра. Обещал лично обыскать до нитки каждого раба и, наконец, милостиво согласился взять с собой Лада в награду за хорошую работу на страде. Он даже не возражал против Эвбулида, которого сколот также попросил взять с собой. Спустя час счастливые Лад и Эвбулид сидели, свесив ноги, на краешке подводы, груженой амфорами с маслом и мукой, и смотрели, как проплывают мимо них, подрагивая на ухабах, лесистые холмы, поля и бескрайние пастбища с пасущимися стадами. В город они въехали незадолго до полудня. Эвбулида столица Пергамского царства поразила невиданными размерами, богатством храмов и дворцов, разноязыкими толпами людей на широких, уложенных улицах. — Я никогда не видел столь чистых городов! — невольно вырвалось у него, и Филагр, необычно добродушный в предвкушении скорой выпивки, охотно ответил ему: — По царскому указу здешние большие дороги должны быть не меньше двадцати локтей в ширину! И если владельцы домов не содержат свои участки в чистоте, здешние астиномы тут же описывают их имущество! — Удивительный город! — воскликнул Эвбулид. — Еще бы! — подтвердил Филагр. — Это единственная столица в мире, где запрещено стирать белье, мыть посуду и поить скот в общественных источниках. Рабу за это дают сто ударов в колодке, после этого он носит тяжелые кандалы еще десять дней, а когда их снимут, то он получает еще пятьдесят ударов от астиномов. Ну а потом, разумеется, и от господина, у которого конфискуется скот, белье и взимается штраф в пятьдесят драхм! Кстати, все эти деньги даже в случае войны идут на ремонт дороги. — Удивительный город… — повторил Эвбулид, оглядываясь по сторонам. — Но еще более удивительное в нем здешнее вино! — строго заметил управляющий, многозначительно посматривая на лавки виноторговцев, мимо которых проезжала повозка. Лад достал узелок с деньгами и протянул его Филагру. Управляющий, передав рабу вожжи, торопливо развязал концы платка и радостно крякнул, увидев среди меди серебряную тетрадрахму. — Сейчас мы доставим господину продукты и повеселимся вволю! — облизывая пересохшие губы, пообещал он и, выхватив вожжи из рук сколота, стал яростно нахлестывать ими неповоротливых мулов. — Но, господин! — взмолился Эвбулид. — Помоги сначала нам отыскать моего знакомого!.. — Он тоже эллин? — оглянулся на грека Филагр. — Да, только здешний пергамец! — ответил за друга сколот. — Раб? — слегка смягчился управляющий. — Нет, господин, — купец! — Вином? — оживился Филагр. — Вазами, господин, а еще этими, ну как их, в которых хранят яды… — обратился за помощью к Эвбулиду Лад. — Колбами! — быстро подсказал тот. Филагр, сразу потеряв интерес к разговору, отвернулся от рабов и стал еще яростнее хлестать мулов. — Вазы и колбы подождут! — наконец, крикнул он. — Сегодня у меня есть дела поважнее! И он хохотнул, проводив взглядом винную лавку. Погрозил пальцем стоящей около ее двери пергамской продажной красотке. — Все пропало! — прошептал Эвбулид, показывая глазами на Филагра. — Теперь он не станет даже слушать нас, а денег, чтобы он опять взял нас с собой в Пергам, у нас больше нет… — Ничего, Эвбулид, не унывай! — тоже шепотом ответил Лад. — Может, еще что-нибудь придумаем… — Да что тут можно придумать!.. Через полчаса грек со сколотом уже сидели в ближайшей ко дворцу Эвдема винной лавке. Проклиная в душе управляющего, они смотрели, как тот, обливаясь, выпивает один кубок крепкого родосского вина за другим. — Я — раб! Каково, а? — быстро захмелев, наклонился он к сколоту. — Этот полумужчина Протасий постоянно напоминает мне об этом! Он все время говорит мне: бросай пить и выкупайся у Эвдема! А как мне выкупиться, если после каждого урожая я должен платить ему две трети того, что заплатит мне господин. Иначе — одно слово Протасия, и я сам с серпом и мотыгой отправлюсь на поля! И как мне после этого не пить? Моя жизнь, скиф, что колесо в телеге — все вертится, вертится в пыли и грязи, и нет у нее края, чтобы я мог ухватиться за него и переставить всю телегу на вольную дорогу… Выпив две большие чаши кряду, он внезапно захрипел и уронил голову на стол, залитый вином. — Все! — убежденно сказал Лад. — Теперь он не проснется до утра. Пошли. — Куда? — недоумевая, спросил поднявшегося сколота Эвбулид. — Как куда? — в свою очередь удивился Лад. — Искать твоего купца. — Но Филагр… Что будет, если он придет в себя?! — Не придет, — убежденно сказал Лад. — Не может человек так быстро проснуться после целой амфоры! Меня тревожит другое… — Что?.. — Да так… — неопределенно махнул рукой сколот, не отвечая на вопрос друга. Выйдя из лавки, они сели в повозку, укрыли ноги сеном, чтобы прохожим не было видно их оков. Лад взмахнул вожжами, и они поехали по улицам Пергама. — Эй, — в предвкушении скорой встречи с человеком, который может дать ему свободу, окликнул Эвбулид пергамца, — скажи, где здесь лавка, в которой продают мегарские чаши и стеклянные колбы? — Чаши и колбы? — удивленно переспросил прохожий. — Да! Да! — воскликнул Эвбулид. — И еще вазы с позолотой! — Да вот она, перед вами! Рука прохожего показала направо. Эвбулид увидел прямо перед собой лавку с вывеской, на которой были изображены знакомые сосуды… Не веря в такое быстрое счастье, он соскочил с телеги, бросился на правую сторону улицы… — Эвбулид! — предостерегающе воскликнул Лад, заметив появившегося за углом астинома. Грек, покорно согнувшись, сделал вид, что выполняет обычное поручение своего господина. Войдя в лавку, он оглядел прилавки, робко погладил одну из ваз с рельефом в виде растительных гирлянд, недавно вошедших в моду, и попросил подошедшего к нему раба — продавца: — Позови мне своего господина… — Но дешевую глиняную посуду я могу продать тебе и сам! — возразил раб. — Мне нет дела до твоей посуды, мне нужен хозяин этой лавки! — нетерпеливо вскричал Эвбулид. — Хорошо! — пожал плечами продавец, и дав знак своим товарищам поглядывать за покупателем, направился наверх по скрипучей деревянной лестнице. Вскоре наверху послышались шаги, лестница вновь заскрипела. Эвбулид увидел ноги, блестящий персидский халат, радостно сделал шаг вперед и тут же в растерянности остановился, увидев перед собой незнакомого человека. — Этот? — оглянувшись на продавца, спросил купец и недовольно посмотрел на Эвбулида: — Чего тебе надо? Кто тебя прислал? — Мне… Я… — запнулся Эвбулид и пристально заглянул торговцу в глаза. — Прости, я, кажется, ошибся… Скажи, где я могу видеть купца, который торгует такими же чашами и вазами, как у тебя?.. А еще, — добавил он, — сосудами в виде человеческих головок. Торговец обвел Эвбулида внимательным взглядом. Убедившись, что на нем нет клейма беглого раба, ответил: — Тебе надо в конец этого квартала, по левой стороне найдешь то, что ищешь! — Правда?! — обрадованно воскликнул Эвбулид и, торопливо выйдя из лавки, забрался на подводу и крикнул Ладу: — Скорее! В конец этого квартала… В следующей лавке его тоже ждало разочарование. Ее торговец оказался худым и высоким, в отличие от того — низкого и плотного — с афинской соматы. На вопрос раба, где ему отыскать купца, статуи которого хвалил сам царь Аттал, он рассеянно ответил, что в Пергаме многие торговцы занимаются ваянием, но, скорее всего, эллину нужен Леонид, неоднократно возивший свои товары в Афины. В новой лавке Эвбулида встретил еще один незнакомый ему купец. — Вот этого я и опасался! — наконец признался Лад, когда они с Эвбулидом объехали несколько улиц, уставленных бесчисленными ремесленными мастерскими и лавками. — Ведь это же город одних торговых лавок! Как мы найдем твоего знакомого, не зная его имени? — Похоже, ты прав… — уныло согласился Эвбулид. — Что же нам теперь делать? — Либо ждать, пока меня Филагр сделает надсмотрщиком, — разворачивая повозку, после долгого молчания ответил сколот. — Либо… Он тревожно замолчал, оборвав себя на полуслове. Эвбулид проследил за его взглядом и, холодея, увидел, что прямо на них мчатся несколько всадников, помахивая плетьми. В одном из них он с ужасом узнал разъяренного Филагра. Подскакав к повозке, управляющий наотмашь ударил Эвбулида плетью по лицу, замахнулся было на Лада, но, встретив бешеный взгляд с трудом сдерживающего себя сколота, нехотя опустил руку и закричал: — Мерзкие твари! Решили убежать?! От меня?! Да я вас за это… я… — Он задохнулся, увидев перед собой вывеску с винным кувшином, неожиданно подобрел, махнул рукой и, приказывая рабам следовать за ним, добавил: — Ваше счастье, что от денег осталось еще немного, чтобы я мог выпить и, может быть, даже немного простить вас! В харчевне, опрокинув в широко разинутый рот парочку кубков дешевого вина, Филагр уже совсем добродушно втолковывал Эвбулиду с Ладом: — От меня не убежишь!.. Разве что только в Аид… Благодарите судьбу, что вас поймал я, а не Эвдем или этот грязный Протасий… Иначе ходить бы вам с клеймом на лбу или вообще… Упоминание о евнухе стерло с лица управляющего благодушное выражение. Перед тем как выпить очередной кубок, он злобно пообещал: — Но я тоже для острастки накажу вас! Я прикажу… — Он не договорил, снова приложившись к кубку. — Да это же бездонный пифос, а не человек! — удивленно заметил Лад. Наблюдая за Филагром, он вдруг заговорщицки подмигнул Эвбулиду и обратился к управляющему таким покорным голосом, какого грек никогда не ожидал услышать от сколота: — Господин… Прикажи бить нас плетьми у столба, вели послать снова на поля, но только не отправляй нас на кузницу! — Что? — не понял Филагр. — На кузницу! — умоляюще повторил Лад. — В вашей кузнице такая духота, что мои легкие, привыкшие к северному воздуху, не выдержат там и недели! И эллин тоже слаб, кузница сразу убьет его… Сколот толкнул ногой под столом Эвбулида. Тот, сообразив, наконец, куда клонит Лад, торопливо поддакнул: — О, господин, не посылай! Уж лучше снова в эргастул, на одну только воду. Сжалься, господин! Лад, заметив, как начало отмякать лицо Филагра, сделал другу предостерегающий жест, чтоб тот не перестарался. Но было уже поздно. Управляющего растрогали слова рабов, давших ему денег на эту сегодняшнюю выпивку. Он допил вино. Вконец подобрев, согласно кивнул и сказал совсем не то, на что надеялись рабы, ожидавшие, что их пошлют в наказание туда, где легко можно будет сбить с себя оковы и бежать: — Хорошо, Скиф, я не отправлю тебя на кузницу, хотя там давно пора заменить старого лентяя Сосия. И Афинея не отправлю, раз уж ты просишь за него. Ты — самый преданный и сильный раб в имении, за это я уважаю тебя и, так уж и быть, накажу вас только неделей эргастула на одной воде! 2. На «одной воде» Проснувшись на следующее утро, Эвбулид со вздохом оглядел знакомые стены эргастула и, увидев пьющего из кувшина Лада, тоном бывалого человека предупредил: — Пей понемногу и только когда уже совсем невмочь. Сколот удивленно взглянул на грека. Тот объяснил, кивнув на дверь эргастула: — Неизвестно, когда нам принесут новую, да и принесут ли вообще… Повинуясь, Лад неохотно поставил кувшин на пол. Эвбулид, чувствуя себя хозяином в этом полутемном, тесном помещении, принялся поучать его: — Больше лежи, чтобы сохранить силы, и старайся думать о чем угодно, только не о еде. Сколот удивленно взглянул на друга. Не возражая, лег к стене и закрыл глаза. Воодушевленный Эвбулид тем временем продолжал, припоминая слова покойного Сарда: — А если Филагр прикажет нас бить, то кричи громче — с криком вся боль выходит. — Да ну? — деланно усмехнулся сколот. — Точно, — подтвердил Эвбулид, сам сомневаясь в правдивости своих слов. — А главное, не сжимайся. Когда напрягаешься — то кожа может лопнуть. — Да ну? — Вот тебе и ну! Привыкай — это целая наука… Сначала тебе будут мерещиться всякие вкусные запахи, а потом ничего, привыкнешь! — Не привыкну! — неожиданно вскочил Лад и шумно вздохнул: — Нет, я так больше не могу. Как только глаза закрою, вижу хлеб, вино, мясо, которое поджаривают на костре… — Думай о побеге! — посоветовал Эвбулид, глотая слюну. — Вот я и думаю, — охотно ответил сколот. — Филагра мы все равно с тобой перехитрим, не сейчас, так когда он совсем отупеет от вина. Разобьем эти проклятые пято, убежим подальше от имения, уведем в горы из какого-нибудь стада овцу или быка… — Быка? — А что? Завалим его, разведем костер и начнем поджаривать на огне самые вкусные и жирные куски. Сало будет капать с них в костер и шкворчать, как стаи воробьев по весне, а мясо наливаться цветом, с которым ничто не может сравниться в природе: более румяным, нежным, как вспаханная земля, вкусным, как… — Лад, Лад! — не в силах больше терпеть таких слов, вскричал Эвбулид. — Прекрати, говори о чем угодно, только не о еде, да еще так красочно… Я никогда не видел тебя таким красноречивым, разве что только в разговоре с Домицией… — Я всегда красноречив, когда голоден, — проворчал, не принимая иронии друга, сколот. — Тогда, если бы ты родился в Элладе и голодал хотя бы через день, наверняка мир бы узнал еще одного знаменитого поэта! — усмехнулся Эвбулид. — Кого? — не понял его Лад. — Ну, человека, который сочиняет аэды, энкомии, дифирамбы, одним словом — стихи! — пояснил грек. — А что это такое — сти-хи? — Как бы тебе это объяснить… — задумался Эвбулид и, не найдя подходящих слов, предложил: — Лучше, послушай: Сладкое яблоко ярко алеет на ветке высокой, Очень высоко на ветке, забыли сорвать его люди, Нет, не забыли сорвать, а достать не сумели… — Вот чудаки! — Взяли бы камень, да сбили! — возмутился Лад. — А то, ишь — достать не сумели, знать, в эргастуле, как мы с тобой, ни разу не сидели! — Это же стихи, Лад! — упрекнул сколота грек. — Сама Сапфо! — Ну и что? Вот если бы она принесла нам это сладкое яблоко, то я бы похвалил ее сти-хи! — Да… — покачал головой Эвбулид. — До лирики ты явно еще не дорос. Слушай тогда Аристофана, у него попроще: Кутить не хорошо: как лишнего хлебнешь, В чужую лезешь дверь, кого-нибудь прибьешь, Потом платись за все с похмелья кошельком. Лад длинно зевнул: — Твои стихи говорят только о том, что мне и так известно. Что я — сам в чужую дверь после доброго вина не лез или не прибивал кого-нибудь после пира? Нет, мне больше нравится слушать о ваших богах. Только о тех, которых у нас нет. Расскажи, а? Эвбулид обрадовался. — О чем бы мне тебе рассказать? О Зевсе, который метает молнии? Это самый главный бог на Олимпе! — У нас есть такой бог — Перун! — возразил Лад. — Тогда, может, о боге веселия Дионисе? — И такой бог у нас есть, мы зовем его Ладо, он еще правит любовью и согласием. — О Деметре я тебе уже рассказывал. А о Гелиосе? — А кто это? — живо заинтересовался Лад. — Бог солнца! — И этого мы чтим, правда, как Дажебога… — Да у нас действительно одинаковые боги! Только зовем мы их по-разному, — озадачился Эвбулид и вдруг воскликнул: — Погоди! А сын у вашего Дажебога есть? — Нет… — Тогда слушай! Был у солнца Гелиоса сын. Звали его Фаэтон. Надсмеялся однажды над ним один из его друзей. «Не верю я, что ты сын лучезарного Гелиоса, — сказал он. — Ты — сын простого смертного!» Эвбулид рассказывал притихшему Ладу о том, как огорченный Фаэтон отправился во дворец к своему отцу, а сам вспоминал тот вечер, когда все это говорил им с Квинтом его Диокл. Что-то мешало Эвбулиду в горле. Диокл не уходил из глаз. Но когда он дошел до того места, где Фаэтон сел в колесницу Гелиоса и Гелиос, натерев ему лицо священной мазью, чтобы не опалило его пламя солнечных лучей, возложил на голову сына сверкающий венец, то сам увлекся своим рассказом. — Сын мой! — повысил он голос. — Помни мои последние наставления, исполни их, если сможешь. Держи как можно крепче вожжи. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и не опускайся низко, не то спалишь всю землю. Все остальное я поручаю судьбе, на нее одну и надеюсь. Бери крепче вожжи, пора, ночь уже покинула небо. О, дай мне самому светить земле! Не губи себя! — Ну! Ну! — заторопил сколот переводящего дух Эвбулида. — Но Фаэтон, — выдержав горестную паузу, продолжил грек, — быстро вскочил в колесницу и схватил вожжи. Помчались кони на небо с непривычно легкой для себя колесницей. Вот они оставляют обычный путь Гелиоса и несутся без дороги. А Фаэтон не знает, где же она, не в силах править конями. Взглянул он с высоты вниз и побледнел от страха, так далеко уже под ним была земля. Он уже стал жалеть, что упросил отца дать ему править его колесницей. Эвбулид посмотрел на подавшегося к нему Лада и объяснил: — Уже много проехал Фаэтон, но впереди еще более длинный путь. Не может он справиться с конями, не знает их имен, а сдерживать их вожжами нет у него силы. Кругом себя видит он страшных зверей и пугается еще больше. Вот раскинулся впереди чудовищный, грозный скорпион, — растопырил руки Эвбулид, — прямо на него несут Фаэтона кони… Увидел несчастный юноша покрытого темным ядом скорпиона, грозящего ему смертельным жалом, и, обезумев от страха, выпустил из рук вожжи. Лад неожиданно схватил Эвбулида за руку и уже не сводил глаз с его чуть видимого в полутьме лица. — Еще быстрей понеслись тогда кони, почуяв свободу, — продолжил Эвбулид. — То взвиваются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над самой землей. Сестра Гелиоса, богиня луны Селена, с изумлением глядит, как мчатся кони ее брата без дороги, никем не управляемые, по небу. Пламя от близко опустившейся колесницы охватывает землю. Гибнут большие, богатые города, гибнут целые племена. Горят горы, покрытые лесом: двухглавый Парнас, Ида, Пелион, Кавказ. Дым заволакивает все вокруг, не видит в нем Фаэтон, где он едет. Вода в реках и ручьях закипает. Нимфы плачут и прячутся в ужасе в глубоких гротах. От жара трескается земля, и луч солнца проникает в мрачное царство Аида. Моря начинают пересыхать, и страждут от зноя морские божества. Тогда поднялась великая богиня Гея — Земля и громко воскликнула: «О, величайший из богов, Зевс-громовержец! Неужели должна я погибнуть, неужели должно погибнуть царство твоего брата Посейдона, неужели должно погибнуть все живое?! Смотри, Атлас едва уже выдерживает тяжесть неба. Ведь небо и дворцы богов могут рухнуть. Неужели все вернется в первобытный Хаос? О, спаси от огня то, что еще осталось!» Услышал Зевс мольбу богини Геи, взмахнул рукой, бросил свою сверкающую молнию и поразил ею колесницу. Кони Гелиоса разбежались в разные стороны. По всему небу до сих пор разбросаны осколки колесницы и упряжь коней Гелиоса. — Да-да, — прошептал Лад, — на моей родине они тоже хорошо видны по ночам, только до сих пор мы называли их Млечным путем… — Фаэтон же, — не слушая сколота, вздохнул Эвбулид, — с горящими на голове кудрями пронесся по воздуху, подобно падающей звезде, и упал в волны реки Эридана, вдали от своей родины. В глубокой скорби отец его, Гелиос, закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь пожара освещал землю… Лад снял свою ладонь с руки Эвбулида, шумно вздохнул. Грек взглянул на него и удивился детскому выражению на лице сколота. Тонкий луч закатного света, пробившийся сквозь щель в двери, сверкнул на его щеке раз, другой, и Эвбулид понял, что сколот плачет. — Лад, — успокаивающе сказал он, — не надо. Это было давно, очень давно. — Но ведь было! — дрогнувшим голосом возразил сколот и ударил кулаком по полу. — Эх-х, и почему он не смог удержать вожжи! — Вот сколько знаю тебя, — улыбнулся Эвбулид, — столько и удивляюсь. Ты такой разный: то готов убить, зверь, настоящий зверь, то испуганный и кроткий… — Я?! — Вспомни Домицию, — вместо ответа снова улыбнулся Эвбулид. — То доверчивый и плачущий, как дитя, а то и коварный и хитрый, как сотня Гермесов! Как ты чуть было не провел вчера Филагра!.. — Поживи рядом со скифами — и не такому научишься! — проворчал Лад. — Иной раз идешь к ним на пир и не ведаешь, вернешься назад или голова твоя останется у них и сделают из нее чашу. — Чашу? — переспросил грек с тем же удивлением, что звучало в словах сколота, когда речь шла о стихах. — Из которой пьют вино! — пояснил Лад. — Вино?! — Ну да! У скифов есть обычай головы убитых врагов приносить своему царю. А так как они воюют со всеми, с кем не лень, особенно с родственниками, то погибнуть можно не только в поле, но и на пиру, в гостях. — Зачем же ты ходишь тогда к ним? — Не ходишь, а ездишь, — поправил Лад. — До них от моей тверди — несколько конных переходов. А езжу потому, что нельзя отказываться от приглашения кровных родственников. — Родственников?! — Ну да. Мой дед по матери — скиф, да и всяких дядей с племянниками у меня там хватает. — Так какого же ты тогда племени? — воскликнул Эвбулид. Лад улыбнулся. — Одни зовут нас сколотами, другие — неврами, третьи — венедами… На самом же деле, — он произнес незнакомое Эвбулиду короткое, но певучее слово на родном языке. — Хотя, по правде сказать, мы родственники и тем, и другим, и третьим, и нас немудренно спутать. — Но, надеюсь, там у себя вы не пьете вино из голов убитых врагов?! — уточнил Эвбулид. — Нет, конечно, хотя мне не раз приходилось видеть это у скифов и даже пробовать их вино из таких чаш. Их делают очень просто, — охотно принялся объяснять Лад. — Победитель делает круговой надрез около ушей, берет голову в руки и вытряхивает ее из кожи. Потом очищает бычьим ребром от мяса эту кожу, разминает и пользуется ею как полотенцем. — Лад! — с ужасом воскликнул грек. — А потом скиф отпиливает всю часть черепа до бровей, — невозмутимо продолжал сколот, не понимая причину возмущения друга, — обтягивает снаружи бычьей кожей или золотом, если богат, и пользуется им как чашей. — Лад, помилосердствуй!.. — простонал Эвбулид, борясь с подступившей к горлу тошнотой. — Хочешь вина? — по своему понял грека сколот и вздохнул: — Я тоже не прочь бы выпить. Представляешь, когда приходишь в гости к такому скифу, он наливает тебе полную чашу и объясняет, из черепа какого врага она сделана и как геройски он его победил. Раз же в году старейшина замешивает целый чан вина, и из него пьют только те скифы, которые имеют такие чаши. А которые не имеют, сидят в сторонке и смотрят на них. Те же, кому удалось убить много врагов, пьют из обеих чаш разом. Нам бы сейчас по две чаши, а, Эвбулид, что молчишь? Рассказать еще про скифов? Или про сарматов? О-о, они еще кровожаднее моих родственников! — Не надо про скифов… — выдавил из себя Эвбулид. — Расскажи лучше о своей родине. Не понимаю теперь, почему ты так стремишься туда. — Потому, что надо ее видеть! — воскликнул Лад. — Это столько лесов, столько полей, что и слов-то не хватит. Мы ведь — не то что вы — немногословное племя. Это у вас я научился долго говорить. Приеду домой, глядишь, еще и не поймут меня… А реки… какие у нас реки! — А дома двухэтажные или одно-, как у нас в Афинах? — Вообще безэтажные, — улыбнулся Лад. — Мы ведь живем просто, в землянках. — Как в землянках? — не понял Эвбулид. — Ну — в таких вырытых в земле и обложенных сверху бревнами и мхом норах. — Как же вы в них живете? — Так и живем… Удим рыбу в реках, в лесах ловим диких зверей, силками из волоса — зайцев, ходим с рогатиной на медведя. А главное — сеем жито. Без хлеба нам никак нельзя. Потому и домашний очаг считается у нас священным, как у тебя в Афинах храмы, а огню мы молимся под овином, в котором сушим зерно. Еще священными для нас всегда бывают гости или, как вы говорите, путешественники. Мы встречаем их лаской, с радостью угощаем и сдаем друг другу на руки. Тому, кто не уберег гостя от беды, мы мстим, как если бы он оскорбил нас самих. — Удивительное племя! — одобрил Эвбулид. — А как вы наказываете воров? — А у нас их нет! — пожал плечами Лад и, услышав в полной темноте удивленный возглас Эвбулида, пояснил: — У нас не принято воровать друг у друга. Каждый, выходя из землянки, оставляет дверь отворенной и готовую пищу для странников. Правда, бывает, что совсем бедный человек украдет что-нибудь, чтобы угостить своего гостя, но наказать такого ни у кого не поднимется рука. — Удивительный, прекрасный народ! — повторил Эвбулид. — Конечно! — подхватил польщенный похвалой Лад. — У нас есть очень справедливые и нужные законы, которых нет даже у вас, эллинов. У нас дети могут умерщвлять своих старых, болезненных родителей, которые становятся в тягость всему семейству, или родители — новорожденных детей, если их трудно будет прокормить… — Д-да… — почесал затылок Эвбулид. Не желая обидеть Лада своим возмущением таким бессердечным законом, сказал: — В отношении родителей — боги вам судьи, а вот со своими детьми в таких случаях мы поступаем иначе. Те отцы, которые не в состоянии содержать дочерей, сразу после родов жены горшкуют их. — Горш-куют? — Да, кладут в большой глиняный горшок и оставляют у дверей храма или в другом посещаемом месте. — И они умирают? — Конечно, если их никто не подберет. А подберут — так станут рабынями. Мальчиков же мы всегда признаем, они для афинян желанные, — заметил Эвбулид. — А у вас как поступают с рабами? — Сначала так же, как и вы, мы заставляем их пахать на быках, жать, а потом через десять лет или отпускаем домой, или, если они не желают этого, делаем своими друзьями… Он хотел было продолжить, но грек схватил его за руку, услышав на дорожке знакомые шаги Домиции. — Что с тобой? — удивился Лад. — Тише, — прошептал Эвбулид и, подбежав к двери, негромко окликнул: — Домиция, мы здесь!.. — Да уж знаю, — послышался мягкий голос римлянки. Пленники услышали осторожный звук отодвигаемого засова. — Домиция, не надо! — воскликнул грек. — Вдруг опять нагрянет Филагр?.. — Ничего, — ответила римлянка, отворяя дверь. — Он слишком боится Эвдема, чтобы сделать мне что-нибудь дурное. От ярких звезд и высокой луны в эргастуле стало светлее. Домиция протянула Эвбулиду кувшин с вином, еду в миске и сказала: — Наверное, вам мало будет, но я потом принесу еще! В миске оказалось мясо, тушенное с овощами. Эвбулид с жадностью набросился на еду, Лад же выковыривал куски медленно, ел аккуратно. Римлянка засмеялась, до того показалось ей чудным то, что эллин и варвар как бы поменялись местами. — Что ты? — не переставая жевать, нахмурился Эвбулид. — Да так, — уклончиво ответила Домиция, прыснула в кулак и вдруг посерьезнела. — Я зашла было к вам в рабскую спальню за домом, но там сказали, что вы в эргастуле. А о чем вы тут говорили? — Лад рассказывал мне о своей родине! — пояснил грек с набитым ртом. — Это там, где жены воюют, а потом убивают себя вслед за своими мужьями? — уточнила Домиция и подсела к переставшему жевать Ладу. — Расскажи и мне! — В другой раз. Как-нибудь… — пробормотал сколот. — Другого раза не будет! — неожиданно послышался из-за двери взбешенный голос Филагра, и тут же в дверном проеме, заслонив свет, появился он сам — коренастый, широкоплечий, готовый броситься на пленников. — Все неймется, Домиция? — прохрипел он. — Все пользуешься благосклонностью нашего господина, грязная рабыня?! — Не больше, чем пользуешься ею ты, грязный раб! — невозмутимо ответила римлянка. — Что-о?! — взревел управляющий. Обдавая пленников запахом винного перегара, двинулся к Домиции, замахнулся на нее. Но ударить не успел. Словно невидимая сила приподняла тяжелое тело Филагра над землей и выбросила из эргастула. Звеня оковами, Лад опустил сжатую в кулак руку и бросился следом за управляющим. На его пути выросли надсмотрщики и скрутили сколота его же цепями. Рванувшегося ему на помощь Эвбулида ухватили за руки еще два надсмотрщика и держали так, не давая сдвинуться с места. — Ну что ж, — медленно поднялся Филагр. Сплюнул на землю выбитый зуб. — Будем считать, что я поплакал, а вы посмеялись. Теперь моя очередь смеяться, а ваша плакать. Ты, Афиней, немедленно отправишься на кузницу в помощь Сосию, и я очень удивлюсь, если ты протянешь там больше недели. А ты, Скиф, будешь сидеть здесь у меня без воды! И, умирая от жажды, не жди Домицию. Я раз и навсегда отобью у нее охоту даже видеть мужчин, не то что разговаривать с ними или носить пищу и воду! Прощай! Будем считать, что мы квиты за купленное тобой вино! 1. Письмо в Афины В ту минуту, когда задыхающийся от ярости Филагр обрекал на мучительную смерть ослушавшихся его рабов, Луций Пропорций страдал от бессонницы в одной из многочисленных комнат дворца Эвдема. Досаждали ему комары, духота, навязчивые мысли о бесплодности долгого пребывания в Пергаме. И если веки все же смыкала непреодолимая тяжесть, то короткие сны, один другого нелепее и жутче, заставляли его вскидывать голову и испуганно пялиться на темные силуэты стола, сундуков, канделябры, а потом снова думать о своих неудачах в этом городе, отгонять от лица назойливых комаров и вновь проваливаться в короткое омутное забытье. Снился ему Квинт в сенаторской тунике и рабском ошейнике с его, Луция, клеймом «Верни беглого раба Луцию Пропорцию». Брат, широко разведя руки для объятий, радостно бежал к нему навстречу, но никак не мог добежать… Снился почему-то безногий Тит и неведомый ему Аристоник. Смуглый, поджарый, чем-то похожий на Демарха брат Аттала плавил в ковше над светильником его золотые и с мстительной усмешкой обещал: — Вот уж я напою сейчас тебя, господин! Вот уж напою вволю… Окончательно очнулся Луций от легкого стука в дверь. Прищурившись, различил на пороге освещенную коридорным светом фигуру Эвдема. Увидев, что канделябры погашены, а римлянин лежит в постели, хозяин дворца нерешительно потоптался и уже хотел уйти, как Луций ворчливым голосом остановил его. — Я не сплю, Эвдем! — сказал он, отгоняя мрачные мысли и пожаловался, садясь в постели: — Будь прокляты эти пергамские ночи. Клянусь вашей любимой Никой, я уже забыл, когда спал больше одного часа! Эвдем прошел в комнату, не спеша зажег светильник в углу. Понимающе кивнул. — Я тоже не помню, когда последний раз высыпался по-человечески. Служба, Гней, служба! Вот и сейчас не меньше пяти агентов дожидаются меня в приемной. И каждого выслушай, каждому втолкуй новый приказ, а там, глядишь, и новые подоспеют! — Так гони их прочь! — посоветовал Пропорций. — Ведь ты, как я понимаю, уже давно не на службе у Аттала! — Но и ты тоже выполнил свою миссию в Пергаме, отправив год назад оливковое масло в Рим! — чуть приметно усмехнулся Эвдем, бросая внимательный взгляд на побледневшего Пропорция. — А я любуюсь Пергамом и его окрестностями! — тут же нашелся римлянин и для убедительности добавил: — Кстати, по твоему же совету! — А я по твоей просьбе ищу для тебя доступ во дворец! — в свою очередь, напомнил пергамец. — Или тебе уже не нужна встреча с Атталом? Луций мгновенно свесил с постели ноги и, не сводя с Эвдема умоляющих глаз, признался: — Еще как нужна! Мне давно надоело пялить глаза на вашу гигантомахию на алтаре Зевса и покосившийся храм Афины. Я уже и верить боюсь в то, что когда-нибудь смогу назвать этих богов истинными именами, не боясь, что за это мне всадят нож в спину! — Вот поэтому я и не сплю ночами, чтобы мы с тобой скорее назвали их Юпитером и Минервой. И не у вас в Риме, а здесь — в эллинском Пергаме, — жестко отрезал Эвдем и зачастил, глотая слова: — Каждый день, каждый час мне доносят, что в Пергаме зреет небывалый бунт. Кроме рабов и черни в него уже вовлечено купечество, ремесленники, наемники! Я знаю все, кроме одного: кто его готовит… Каждую ночь я пытаю выданных мне бунтарей, и мне все чаще кажется, что это не люди, а бесчувственные статуи! Под этой самой комнатой, в своих подвалах, я жгу их огнем, режу на куски, бросаю на битое стекло, замуровываю заживо, а они только хохочут мне в лицо и клянутся Гелиосом, что мы с тобой, Гней, будем повешены первыми! И отказываются, отказываются выдать главных заговорщиков! Но я все равно дознаюсь, куда ведут нити бунта, в каком доме Пергама они сходятся воедино. И тогда я поспешу к царю, и, клянусь, в тот же день ты будешь принят им! — Ты обещаешь мне это уже целый год! — простонал Луций. — А я до сих пор ни на шаг не приблизился к царскому дворцу! — Но, Гней, сейчас это стало совсем невозможным, — напомнил Эвдем. — После предательства Зимрида Аттал перестал принимать у себя не только нас, пергамцев, но и вас! Исключением являются только трое: послы дружественных Пергаму Афин и Каппадокии и ваш Сервилий Приск, которого Аттал принимает только из страха перед Римом! — Да знаю я это! — с досадой перебил хозяина Луций. — Виделся и с эллином, и с послом Ариарата — подлецы так дорожат честью, которую оказывает им царь, что даже не стали слушать меня! — А Сервилий Приск? — Сервилий… Этого не купишь ни золотом, ни должностями, мы это в Риме хорошо знаем. Вместе с Квинтом Пропорцием, моим бра… — Луций осекся и испуганно покосился на Эвдема, не услышал ли? Хозяин поправлял фитиль в светильнике, и он успокоенно продолжил: — Вместе с одним центурионом он отбил у пиратов одну из триер с захваченными в Коринфе сокровищами и не присвоил себе ни одной статуи, ни одного золотого блюда! Единственное, за кого он мог бы еще похлопотать, по его словам, для кого мог бы сделать многое на свете, так это для Квинта… того центуриона, — снова поправился Луций, досадуя на себя за оплошность. Эвдем задумчиво спросил: — А тебе знаком этот центурион? — Еще бы! — воскликнул Пропорций, но, смутившись под пристальным взглядом Эвдема, сбивчиво добавил: — Знаком… Немного, совсем чуть-чуть… — Так напиши ему! — Я? — Ну да. — Квинту?! — Конечно, если так зовут центуриона! Луций покачал головой. — Но это невозможно… Письмо могут перехватить! Я не знаю, где сейчас Квинт — в Риме или в Афинах… И потом… Нет, это невозможно! — Подумай! — мягко сказал Эвдем, направляясь к двери и предусмотрительно оставляя светильник непогашенным. — Верного человека я тебе дам, такого, что снесет письмо хоть в Аид и вернется с ответом! Может, это хоть на день да ускорит то, ради чего ты здесь, в Пергаме! Пропорций вздрогнул и уже собрался спросить, что хочет сказать этим Эвдем, но хозяин бесшумно прикрыл за собой дверь. «Что же делать? Что делать? — заходил по комнате Луций. Под ноги попалась оброненная на пол подушка, он зло пнул ее и тяжело опустился на постель. — Эвдем знает обо мне куда больше, чем я о нем. Но он не враг мне — иначе я давно оказался бы в одном из его подвалов! — Пропорций чутко прислушался, но снизу, из-под устланного персидскими коврами пола не доносилось ни единого звука, ни одного стона. — Да, он искренне хочет помочь мне, потому что заинтересован, чтобы Пергам стал римской провинцией, но не все ему здесь подвластно! Поэтому он и предложил мне написать письмо Квинту… А если это ловушка? Если он, чтобы выслужиться, покажет мое письмо Атталу?! Тогда я даже и помолиться перед смертью не успею!» Луций обхватил голову руками и откинулся на пуховые подушки. «Нет, — тут же успокоил он себя. — Эвдем нуждается во мне. Конечно, он прочитает письмо. Но тем лучше, так я убью в одном лесу двух вепрей: и попрошу помощи у Квинта, и объясню все Эвдему без лишних слов. Риск? Конечно… Но что мне остается делать? Возвращаться с пустыми руками в Рим и идти под суд за прежние грехи? Нет, играть, так играть! Играю на все, что у меня осталось». Пропорций рывком соскочил с постели, подбежал к столу и пододвинул к себе тончайший лист дорогого пергамента. Обмакнул тростниковое перо в черные чернила, сделанные из пахучих орешков, и размашисто вывел: «Пергам. Июньские календы в консульство Муция Сцеволы и Кальпурния Пизона Фруги. Гней Лициний Квинту Пропорцию, в Афины, квартал Мелите, второй дом от горшечной Анархия, по правой стороне. Или в Рим: дом у седьмого столба, считая от храма Кастора и Поллукса». Здесь в Луции проснулась скаредность купца, и он стал писать мельчайшими буквами, экономя чужой пергамент. Или его преследовала рожденная страхом наивная мысль, что враги — попади это письмо в их руки — не разгладят того, что может погубить его. Во всяком случае, потея от напряжения, он вывел: «Лициний Пропорцию привет. Не торопись упрекать табулярия в ошибке и осыпать его проклятьями, как это умеешь только ты, дорогой Квинт. Я вполне полагаюсь на твой ум и проницательность и уверен в том, что поймешь по почерку, кто автор этого письма, и сделаешь все как надо. Письмо это я посылаю с верным человеком, которого дал мне, — Луций мгновение подумал и, хитро улыбнувшись, вновь крупно и размашисто написал, — самый преданный и нужный Риму человек, которого я встретил в Пергаме и услуги которого, я уверен, еще не раз и не два оценит сенат. Итак, дорогой Квинт, как ты уже понял, я нахожусь в Пергаме, который наши соотечественники хотят видеть своей провинцией. Целый год я торчу здесь, а наша цель так и не достигнута. Вся беда в том, что никак не могу попасть на прием к здешнему базилевсу. Единственный человек, кто может помочь мне в этом, — хорошо известный тебе посол Рима в Пергаме Сервилий Приск. Напомни ему о себе и попроси, чтобы он помог мне попасть во дворец…» Через час Пропорций закончил писать письмо, свернул его, приложил к воску перстень. Полюбовавшись на четкое изображение приготовившейся к прыжку пантеры, вышел из комнаты. Он спустился по лестнице, миновав приемную Эвдема с сидящими в ней агентами — роскошно и бедно одетыми пергамцами, — и уверенно вошел в кабинет хозяина. Бровь его недовольно переломилась — он заметил стоящего перед Эвдемом Демарха. Носильщик тоже увидел римлянина и невольно отступил на шаг. — Написал? — приветливо спросил Луция Эвдем, не обращая внимания на Демарха. Взяв письмо, пробежал глазами по адресу. — Через час твое письмо уйдет в Афины, — пообещал он. — Ну, а если адресата там не окажется, то в Рим! Луций повернулся, собрался было уйти, но Эвдем придержал его за локоть. — Останься! — предложил он. — Ты можешь услышать здесь немало интересного для себя. Например, о том, что организаторы заговора каждый день меняют место своих встреч, или послушать твоего старого знакомого Демарха. Целый год он следят за самым опасным домом в Пергаме, где живет некий купец Артемидор, и что же ты думаешь: уверяет меня, что там нет ничего опасного! Неужели за целый год заговорщики ни разу не выбрали для своих сборищ эту лавку? — Дай его на полчаса мне и покажи, как нам с ним пройти в твои подвалы, — обещаю, он все расскажет! — усмехнулся Луций, кивая на Демарха и с удивлением отмечая, что эти слова не произвели на пергамца ни малейшего впечатления. — Этим от него ничего не добьешься! — покачал головой Эвдем. — Иное дело, что в моих руках — судьба всей его семьи… — Господин! — задрожав всем телом, воскликнул Демарх. — Ты же обещал… — И ты обещал помочь мне! — оборвал пергамца Эвдем. — Больше того, поклялся самой страшной клятвой выдать мне опасных людей, что бывают в этом доме: беглых рабов, купцов, чьи речи насторожат тебя, а еще лучше — самого Аристоника, если он вдруг поведет себя подозрительно! — Как? — удивился Луций, вспоминая свой разговор с претором. — Он видит Аристоника? — В том-то все дело! — воскликнул Эвдем. — Полностью положившись на этого Демарха, я доверил ему самый важный для меня дом, а он платит мне за свое спасение черной неблагодарностью. Я человек справедливый и мягкий, может быть, и прощу его. Но боги — боги, которыми ты, Демарх, клялся год назад, — они ведь не простят. Они обрушат самую страшную кару, болезни, беды, несчастья на твоих детей и жену. Этого ты хочешь? — Что ты, господин, что ты! — с трудом владея собой, вскричал Демарх. — Значит, ты помнишь свою клятву? — Конечно, господин… — И выполнишь ее? — Да… — Тогда вот что. Мне стало известно, что в лавке Артемидора сегодня или завтра должны собраться преступники. Даю тебе два дня сроку на то, чтобы ты сообщил мне о подозрительных людях в доме купца Артемидора! — Слушаюсь, господин… — чуть слышно пролепетал Демарх, направляясь к выходу. — Постой! — остановил его Луций. — Подожди меня в коридоре. — Слушаюсь, господин… — Впрочем, нет! — поправился римлянин, понимая, что весь его разговор с агентом все равно через несколько минут будет известен хозяину. — Подожди здесь. Он быстро вышел из коридора, миновал приемную, взошел по лестнице и, порывшись в сундуке, вернулся с кошелем золотых монет. — Возьми, — протянул он деньги Демарху и, когда тот изумленно поднял длинные ресницы на римлянина, строго сказал: — Это деньги великого Рима. Дай их рабам, которые бывают в доме Артемидора, пусть они убьют этого Аристоника! Эвдем метнул из-под бровей удивленный взгляд на нового, незнакомого Пропорция. После того как тот выдержал его, не отвернулся, не отвел глаз, подошел к Демарху и сам заложил тяжелый мешочек ему за пояс. — Ты понял, что сказал тебе этот господин? — сурово спросил он. — Да. — Ты хорошо понял или мне повторить его приказ? — Не надо… — Так чего же ты стоишь? — Иду, господин… — прошептал Демарх и, поддерживая пояс, скрючившись, словно у него внезапно заболел живот, пятясь вышел из кабинета. Эвдем вопросительно взглянул на Луция. Тот выдержал и этот взгляд, деланно зевнул, пожелал хозяину покойной ночи и затворил за собой двери. Выйдя из приемной, Луций нарочито громко скрипя ступеньками, сделал несколько шагов наверх, потом с кошачьей ловкостью спустился и спрятался за групповой статуей бородатых сатиров. Стараясь не дышать, он стоял, дожидаясь своего часа… …Эвдем тем временем взял со столика письмо, подержал его, точно взвешивая, на руке. Потом достал из ящичка остро отточенный нож, приблизил его подрагивающими пальцами к восковой печати и отдернул руку, услышав шорох в приемной. Несколькими быстрыми шагами он пересек кабинет, рывком распахнул дверь и крикнул испуганно замершим в почтительных поклонах агентам: — Все явитесь ко мне завтра с рассветом. Вернувшись к столику, он уверенным движением отделил печать с изображением пантеры от письма, нетерпеливо развернул пергамент и впился глазами в написанные по латыни строки. Прошло пять минут, десять, полчаса… «Достаточно, и для того, чтобы прочесть письмо, и для того, чтобы принять решение», — подумал Луций. Он вышел из-за статуи и взялся за дверь приемной. На лавках не было ни одного агента. «Значит, я важнее для Эвдема, чем его заговоры!» — с удовлетворением подумал он и распахнул дверь. Эвдем, занятый своими мыслями, не сразу услышал, как кто-то вошел в кабинет. Заметив, как рванулись языки пламени на светильнике, недовольно бросил: — Ты что ли, Протасий? — Нет, я! — спокойно ответил Пропорций. Эвдем вздрогнул, увидев на пороге римлянина, положил ладонь на раскрытое письмо, но, поняв, что уже выдал себя, поднял на Луция побледневшее лицо. — Ну, и что ты теперь скажешь? — невозмутимо спросил Луций. — Как мне быть дальше с вашим неприступным царем? Эвдем, подумав, спокойно ответил: — Будем думать, Гней, или — как там тебя — Пропорций? — Луций кивнул. — Да, будем думать, как заставить Аттала завещать Пергам Риму. И надеяться либо на то, что мне все же удастся раскрыть заговор, либо на помощь твоего брата. Эвдем нагрел над пламенем светильника отрезанную печать, ловко приклеил ее к письму и деловым тоном добавил: — А теперь пора вызывать самого верного моего табулярия и Протасия. — Протасия-то зачем? — не понял Луций, морщась от резкого звона колокольчика в руках Эвдема. — А затем, — заслышав торопливые шаги в коридоре, вполголоса объяснил пергамец, — чтобы он передал мой приказ во все имения срочно ковать вместо серпов и мотыг мечи и наконечники стрел и копий. Уверен, что совсем скоро они будут в очень большой цене! 2. Срочный заказ Кузница, рисовавшаяся в воображении подходившего к ней Эвбулида мрачными красками, на деле превзошла самые дурные ожидания. С первого же взгляда на темный, приземистый сарай, из открытой двери которого пахнуло в лицо нестерпимым жаром, на рвущееся из горна пламя и раскаленную полоску металла на наковальне она показалась греку похожей на подземное царство Аида. Эвбулид на мгновение замешкался. Надсмотрщик отчаянно заругался и, втолкнув раба в кузницу, торопливо выскочил на свежий воздух, захлопнув за собой дверь. Сосий оторвал взгляд от наковальни, недовольно покрутил головой и, в сердцах бросив тускнеющую на глазах полоску будущего серпа в сосуд с водой, глухим голосом пожаловался: — Опять перегрел… Совсем никуда стал — руки дрожат, глаза почти ничего не видят. Это хорошо, что ты пришел… — Как же — пришел… Привели! — усмехнулся Эвбулид. — А мне все едино. Я со вчерашнего дня без помощника! — И где ж он? — из вежливости поинтересовался грек, сбрасывая с себя всю одежду и оставаясь в одной набедренной повязке. — Где-где… — проворчал Сосий, мучительно кашляя в кулак. — Там, где и все прежние. Где скоро и мы с тобой будем. Придут два могильщика с сирийскими рожами — и никто никогда не вспомнит о несчастной судьбе кузнеца Сосия. — Сосистрата, — поправил Эвбулид, с жалостью глядя на вольноотпущенника. Тот лишь махнул рукой, равнодушно заметив: — Мне теперь все едино! Ну, что стоишь? Бери клещи. Я сейчас… Эвбулид покорно прошел к наковальне. Пока Сосий откашливался, снова огляделся вокруг. Первое его впечатление вскоре сменилось уверенностью, что он действительно попал в то место, откуда ни одному живому существу нет больше возврата на землю. Сполохи огня из горна, блуждавшие по закопченным стенам, казались бесплотными и легкими тенями умерших. Пламя хрипело, подражая рычанию страшного пса Кербера. Долетавшие до сосуда искры шипели, словно змеи на шее этого трехголового охранника подземного царства. Да и сам Сосий, почерневший, высохший за последние месяцы, казался похожим на сурового старого Харона, изображения которого Эвбулид часто встречал на вазах работы старых мастеров. — Ну, что стоишь? — справившись с приступом кашля, снова набросился он на грека. — Не видишь — пламя в горне слабеет! — И что же я должен делать? — растерялся Эвбулид. — Раздувай меха, пока снова не загудит! Пытаясь прикрыть локтем лицо от нестерпимого жара, грек неумело качнул воздух раз, другой, третий… — Да не отворачивайся! И обеими, обеими руками качай! — прикрикнул Сосий. — Иначе я и десятка серпов до вечера не успею сделать! Пламя опаляло лицо, трещали брови и волосы, сушило горло, нагрелись даже наручники. Задыхаясь, Эвбулид раздувал мехами огонь, и как только в горне что-то весело запело, рванулся к двери, за которой был спасительный свежий воздух. Дверь не поддавалась. Он стал колотить в нее кулаками и, когда понял, что никто снаружи его не слышит, безвольно опустил руку. Затравленно оглянулся на кузнеца. — Когда же она откроется? — Вечером, — берясь за молот, коротко ответил Сосий. — Вечером?! — Да, если мы успеем сделать все, что нам положено за день. — И что же нам положено? — Десять мотыг, десять серпов, сегодня вот еще новый засов для эргастула. С замком… — А… — помедлил Эвбулид. — Если не успеем всего этого до вечера? — Конечно, не успеем, — бесцветным голосом отозвался Сосий. — Я и без замка-то в последнее время не всегда успевал. А тут на него часа три потрачу, не меньше. Еще засов… Филагр приказал сделать его таким, чтобы сам Геракл, попади он в эргастул, не сумел справиться с ним. Так что, по всему выходит, будем сидеть сегодня до утра… — До утра? — вскричал ошеломленный Эвбулид. — В этой духоте?.. — А утром — новый заказ, — не слушая его, продолжал Сосий. — Не успеем — еще ночь просидим здесь. Бывает, я неделями не выхожу отсюда. Но мне-то ничего, я стар, кровь уже не греет — мерзну даже у горна. А тебе придется туго. Ну, да боги смилостивятся — может, быстрее меня отмучаешься! — Зачем же они нас воздуха лишают? — чуть не плача от отчаяния, простонал Эвбулид. — Оставили бы открытой дверь — я ведь закован… — Ах, да! — неожиданно вспомнил Сосий. — Совсем забыл. Вот память стала… Ну-ка, подойди ко мне! Кряхтя, он опустился на колени перед Эвбулидом, приставил зубило к кольцам на оковах и несколькими сильными ударами сбил с его ног кандалы. Поднявшись, повторил то же самое с наручниками. — Добротная работа! — оглядев цепи, похвалил он и вздохнул: — Теперь такую и не осилю… А ты говоришь, зачем они закрывают нас. Да потому что из всех рабов только у нас такое право — ходить без оков. У нас, да у надсмотрщиков, да у Филагра. А еще у тех, кто лежит уже на свалке за имением, — он посмотрел куда-то за закрытую дверь. Эвбулид потер мокрые от пота запястья, непривычно легкие без наручников, давно уже ставших неотъемлемой частью его тела — как ногти, борода или нависшие над губой усы, о которых не вспомни, так и не мешают. Потопал ногами, удивляясь, что не слышно звона цепей. И, не дожидаясь команды кузнеца, неумело взялся за клещи: — Ну, показывай, что делать! Может, успеем еще до вечера сделать то, что нам велено… — Как же — успеем… — недобро усмехнулся кузнец, кивая на дверь, за которой послышался скрип открываемого засова. — Легки на помине, уже пожаловали. Не иначе как им что-то еще понадобилось! — А может, заберут то, что ты успел сделать, и скажут — хватит на сегодня? — с надеждой спросил Эвбулид. — Как же — хватит им… — проворчал Сосий. — Да этого Филагра хоть завали серпами, все ему мало покажется… Дверь рывком распахнулась, обдав лицо Эвбулида свежим воздухом. В кузницу вошел Филагр. — Жив еще, — процедил он сквозь зубы Эвбулиду и направился к Сосию: — Вот что, старик. Кончай делать серпы и мотыги. Немедленно принимайся за новый заказ! — Замок? — понимающе кивнул кузнец. — Какой еще замок! — воскликнул Филагр и, обдавая Сосия перегаром, со значением объяснил: — Господин приказал начать ковку мечей и наконечников копий. Справишься? — Отчего же не справиться, дело привычное! — пожал плечами кузнец. — Сколько надо-то? — Много! Очень много! — ответил Филагр. — Иначе и мне, и тебе… — Он красноречиво провел ребром ладони по горлу и коротко бросил: — За три дня сделаешь два десятка мечей… — Хорошо, господин, — поклонился Сосий. — А наконечников… — управляющий на минуту задумался, шевеля губами, — пожалуй, не меньше пяти… — Десятков? — Каких десятков?! Сотен! — Да это невозможно, — удивленно взглянул на Филагра Сосий. — Даже в молодости, когда я копил деньги, чтобы выкупиться, я не сделал бы столько за три дня! — А теперь сделаешь! — жестко отрезал управляющий. — Иначе… — Он снова провел ребром ладони по горлу и, не глядя на Эвбулида, вышел из кузницы. — Вот и все, Афиней! — вздохнул Сосий, роясь в заготовках металла. — Молись подземным богам, потому что небесным ни мне, ни тебе больше не помолиться… — Почему? — холодея, спросил Эвбулид. — А потому, что этот заказ Филагра мы не выполним и за месяц. А через месяц ни тебя, ни меня уже не будет в живых… Хоть мне и холодно у горна, но и я должен дышать свежим воздухом. А ты — и подавно. Но Сосий ошибался, говоря, что заказ им не выполнить и за месяц. К вечеру Филагр, напуганный переданной через Протасия угрозой Эвдема сместить всех управляющих, которые вовремя не справятся с заказом, снова зашел на кузницу. Он деловито перебрал еще теплые мечи, пересчитал тяжелые наконечники копий и с яростью закричал на Сосия: — И это все, мерзавец? — Все, господин, — опустил голову кузнец. — Я же предупреждал, что мне и раньше было не под силу такое, а уж теперь, когда глаза закрываются сами собой… — Замолчи! — замахнулся на него Филагр. — Я тебе усну! Эй, Кар! В кузницу вошел бородатый надсмотрщик кариец. Управляющий протянул ему первый попавшийся под руку меч, выкованный Соснем: — Следи за этим лентяем, не давай спать! А если он начнет дремать, то коли его вот так! — Он неожиданно кольнул наконечником Кара под ребро и перешел к Сосию: — Так! Так! А если этот вздумает спать, — не глядя, кивнул он в сторону Эвбулида, — то, пока не проснулся, руби ему голову! Филагр ушел. Надсмотрщик, вместо того чтобы выполнять наказ управляющего, погрозил мечом кузнецу, потом — кулаком — Эвбулиду. Разморившись в духоте, сел у двери, вытянул ноги и через минуту громко захрапел. Проснувшись под утро, он заглянул в корзину, в которой почти не прибавилось наконечников, схватился за голову и, подбежав к Сосию, принялся колоть старика до крови, чтобы Филагр не смог упрекнуть его за плохую работу. Напрасно кузнец объяснял, что не виноват, и просил пощадить его. Кар был неумолим. — Господин! — закричал он, едва только Филагр на рассвете открыл дверь кузницы. — По твоему приказу я колол Сосия всю ночь, но, видят боги, свет не знал большего лентяя и сони! Взгляни на его спину и плечи и убедись в том, что каждое мое слово — правда! — Значит, ты не можешь не спать? — заглянув в полупустые корзины, бросил бешеный взгляд на Сосия управляющий. — Не могу, господин, — покорно ответил тот, познав за долгое время рабства всю бессмысленность жаловаться управляющему на надсмотрщика. — Что же мне с тобой сделать? — задумался Филагр. — Не знаю, господин. Я как могу борюсь со сном. Но веки сильнее меня. Они закрываются сами собой, и я словно проваливаюсь куда-то, бью молотом мимо заготовок, порчу их… — Значит, это веки во всем виноваты? — уточнил Филагр. — Да, господин… — Ну тогда их сейчас у тебя вообще не будет! — Что ты хочешь этим сказать господин? — сделал шаг назад кузнец. — А вот что! Кар, держи нож! Управляющий протянул карийцу свой остро заточенный кинжал с рукояткой в виде обвивающей зайца змеи и приказал: — Отрежь-ка Сосию веки! — Как? — замешкался надсмотрщик. — До бровей! Кар с готовностью кивнул и тяжелыми шагами приблизился к кузнецу. — Господин, сжалься! — повалился на колени Сосий. — Мне осталось жить какой-нибудь месяц! Я все уже потерял в этой жизни… Не лишай же меня еще и век! Лучше убей сразу… Как я буду без них лежать в земле! Песок и глина засыпят мне открытые глаза, и я не смогу увидеть даже Харона! Смилуйся! Пощади! Надсмотрщик, которого смутили мольбы кузнеца, вопросительно посмотрел на управляющего. — Режь! — коротко бросил тот. Кар склонился над Сосием. Страшный крик огласил кузницу, резанув Эвбулида по сердцу. — А ты что стоишь, Афиней? — вывел из оцепенения Эвбулида резкий окрик Филагра. — Промой Сосию раны и засыпь золой! И через полчаса за работу. Учти, если уснешь и ты — то Кар проделает с тобой то же самое. Филагр ушел, больше не обращая внимания на рабов. Эвбулид склонился над стонущим стариком, не без труда развел ему руки, которыми он закрывал свое лицо, и, содрогаясь от жалости, стал хлопотать над ним. Через полчаса Сосий, лицо которого страшно изменилось, а выпученные глаза неотрывно смотрели перед собой, снова взялся за молот. — Я был уверен, что ослепну и перед смертью ничего не буду видеть, — пожаловался он греку. — Но никогда не думал, что это будет так ужасно! Глупец, разве может раб строить какие-то планы?! — Но ведь ты же видишь! — возразил Эвбулид, стараясь успокоить старика. — Пока да! — простонал Сосий. — Но через несколько часов жар высушит мне глаза — и тогда все… навсегда. Эвбулид порывисто схватил за руку кузнеца и зашептал, кося глаза на зевающего Кара: — Давай убьем этого палача и сбежим! Освободим из эргастула Лада, отправимся в Пергам. Там мы найдем моего знакомого купца, он даст денег, и мы наймем для тебя лекаря… — Эх, Афиней! — высвобождая руку, вздохнул кузнец. — Я раб! И слишком долго был рабом, чтобы смог поверить в удачный исход побега. — Как знаешь… — пробормотал Эвбулид, с ужасом думая о том, что еще два-три года — и он сам станет таким же смирившимся со своей долей рабом. Если, конечно, еще выберется живым из этой проклятой кузницы. «Надо бежать, бежать!.. — решил он. — Бежать, пока не поздно, пока окончательно не превратился из человека в тупое, покорное животное! Прихватить зубило, молот, вызволить Лада, сбить с него оковы и бежать, бежать… Но сначала надо убить Кара». Эвбулид потянулся к корзине. Косясь на дремлющего надсмотрщика, достал теплый наконечник. Но Кар спутал все его планы. Открыв глаза и увидев, что работа у Сосия пошла, он решил, что его присутствие здесь необязательно, и вышел из кузницы, закрыв за собой дверь. Там он, с наслаждением вдыхая свежий воздух, затянул бесконечную, унылую песню. Эвбулид со злостью швырнул в корзину ненужный теперь наконечник копья. Ворвавшийся под вечер Филагр похвалил кузнеца, велел надсмотрщику сходить на кухню и принести ужин посытнее. Кар, прихватив с собой Эвбулида, охотно отправился выполнять приказание. Выйдя из кузницы, грек вдохнул полную грудь вечерней прохлады и почувствовал, как слабеют его ноги, кружится голова. На кухне изголодавшийся Кар жадно набросился на еду, которую протянула ему новая ключница, чем-то похожая на прежнюю. Пока надсмотрщик, чавкая, давился ячменной кашей с мясом, Эвбулид вышел в коридор, прошел к пифосу, зачерпнул воды, чтобы напиться… и поперхнулся, услышав за спиной голос Филагра. — Ты убил сегодня прекрасную лань! — втолковывал кому-то управляющий. — Но разве это достойная добыча для юноши, в жилах которого бурлит настоящая кровь! — Что ты хочешь этим сказать? — воскликнул юношеский голос, и Эвбулид вздрогнул, узнав голос Публия. — А то, что стоит ли тебе ломать ноги в горах и часами выслеживать добычу, когда нежная, кроткая лань через полчаса по моему приказу будет мыть свое розовое тело в баньке всего в нескольких шагах от тебя! — Как! Ты нашел мне новую рабыню и до сих пор молчал?! Кто же она? — Наша римлянка! Эвбулид, не веря услышанному, машинально положил ковш и прислушался. — Римлянка! — воскликнул недовольно Публий. — Конечно, я бы с удовольствием побыл с ней, но ведь ты знаешь, что мой отец… — Знаю! — перебил юношу Филагр. — Но можешь не беспокоиться. Я давно заметил, что ты неравнодушен к ней, и потому кое-что придумал. Сколько друзей ты сегодня привел с собой с охоты отдохнуть здесь? — Шестерых. — Вот, идите к ней все вместе! Идите, идите! — захохотал управляющий. — И ничего не бойтесь: Эвдем приезжает только завтра, а за ваши сегодняшние проказы перед ним ответят другие! — Филагр! Ты настоящий друг! — радостно вскричал Публий. — Конечно, — охотно отозвался управляющий. — А чтобы ты не сомневался в этом, я попрошу Протасия для завтрашней ночи срочно разыскать тебе… египтянку! — Эллинка, финикиянка, сирийка, теперь римлянка, а завтра — рабыня из Египта, — довольным голосом перечислил сын Эвдема. — Клянусь Эросом, Филагр, у тебя на каникулах я лучше изучаю географию, чем в своей пергамской школе! Смех и голоса удалились в дальние комнаты и стихли. «Мерзавцы! Что задумали, а?! — очнулся Эвбулид, бросаясь по коридору. — Нужно не дать им сделать свое грязное дело! Надо предупредить Домицию!» Он уже взялся за ручку двери, из-за которой слышался разговор Филагра с Публием, как услышал резкий окрик выходящего из кухни надсмотрщика: — Куда?! Не отвечая, Эвбулид распахнул дверь, но войти в комнату не успел. Кар в два прыжка догнал его и с силой дернул за руку: — Куда?! Эвбулид, пытаясь высвободиться, умоляюще посмотрел на Кара. — Пусти! Мне надо… — В господские комнаты тебе, жалкому рабу?! — возмутился Кар. — А ну марш назад в свою кузницу! Откуда-то из дальних комнат донесся смех Публия, возбужденные голоса его дружков. Эвбулид оттолкнул надсмотрщика и рванулся вперед. Кар взревел, рывком развернул грека к себе и почти без замаха ударил его тяжелым кулаком в лицо. Потом схватил обеими руками за складки хитона на груди и с силой хватил затылком о стену. Эвбулид медленно сполз на пол. Кар приподнял его, снова замахнулся, но, увидев, что раб оглушен и не делает больше попыток вырваться, удовлетворенно пробормотал: — Вот так-то оно будет лучше! Пшел в кузницу! Вложив Эвбулиду в руки поданные ключницей миску и кувшин с вином, надсмотрщик повел его, толкая в спину. Шатаясь, Эвбулид прошел мимо эргастула, где сидел Лад. Лишь перед дверью кузницы, пока надсмотрщик, чертыхаясь, пытался в темноте справиться с засовом, Эвбулид начал понемногу приходить в себя. Он уже собрался с силами, чтобы хватить Кара по голове кувшином, но дверь распахнулась, и тот втолкнул его в дохнувшее раскаленным воздухом помещение. 3. Кинжал Филагра Эвбулид захватывал клещами из горна бесформенные куски пышащего огнем металла и клал их один за другим на наковальню. Почти не глядя, как все они под быстрыми и точными ударами молота Сосия превращаются то в мечи, то в ножи, то в наконечники стрел и копий, он с ужасом представлял, как в эти самые мгновения врывается в баню, где моется Домиция, Публий с друзьями, как все они тянут к ней свои похотливые руки. Сосий, казалось, решил превзойти самого себя. Он словно не ведал усталости. Не прикоснувшись ни к еде, ни к вину, он только прикрикивал на своего помощника. Эвбулид сначала с досадой, потом с возрастающим удивлением и наконец с изумлением узнавал на наковальне македонскую махайру, тяжелый сарматский меч, короткий меч римского легионера, узорчатый наконечник копья, нож с диковинной рукояткой в виде пальмового дерева, крепкие наручники, пластины для доспехов и даже ножницы для стрижки овец. — Ты что, Сосий! — увидев ножницы, окрикнул кузнеца Эвбулид. — Филагр же велел тебе делать оружие!.. — Молчи! — торопясь, принялся обрабатывать новую заготовку кузнец, и взору грека предстала удивительной красоты и легкости фибула, изображающая оленя, гордо поднявшего свои рога. — Возьми… — охладив ее в кувшине с водой, протянул фибулу напарнику Сосий. — Как знать, может, тебе повезет больше, чем мне, и ты еще скрепишь ею жматий, который может носить свободнорожденный человек. И только тут, принимая фибулу, Эвбулид понял, что Сосий таким способом прощается с жизнью, заново переживая самые счастливые мгновения, когда в нем жила надежда на свободу. Вскоре удары молота стали не такими сильными и точными, несколько раз кузнец бил мимо. Эвбулид старался вовремя подставить клещи под новый удар. Наконец, настала минута, когда Сосий, обрабатывая очередной наконечник копья, так и не смог ни разу попасть по нему. — Что с тобой? — окликнул его Эвбулид и участливо спросил: — Может, выпьешь вина? Отдохни… — Нет! — воскликнул Сосий, поднимая молот и вновь ударяя мимо клещей, в которых была зажата заготовка. Услышав пустой звук металла по наковальне, он опустился на пол и вздохнул: — Твоя правда, Эвбулид. Видать, я свое отработал… Он повернул лицо к напарнику, и Эвбулид вздрогнул, едва не закричал от сострадания и ужаса: на месте глаз Сосия были истресканные красные пятна. Печной жар за несколько часов высушил глаза, лишенные век. — Помоги мне подняться, — тихим голосом попросил кузнец. Эвбулид осторожно взял его под руки, повел мимо наковальни, к корзинам, заполненным оружием, которые он перетащил к выходу. — Не веди меня к двери, — поежился Сосий. — Холодно… Посади у горна… Вот так, хорошо… Эвбулид протянул ему кувшин с вином. Кузнец на ощупь принял его, долго пил и наконец сказал: — Подними меня. Проведи к наковальне! — Но ты же… — замялся Эвбулид. — Веди! — повысил голос Сосий. В его тоне было столько настойчивости, что грек не стал спорить. — Дай мне клещи! — приказал он. Эвбулид покорно протянул кузнецу клещи, помог удобнее взять их в руки. — Бери молот! — продолжал командовать Сосий и, когда Эвбулид поднял с пола тяжелый молот, приказал: — Бей! — Я? — удивился Эвбулид. — Бей! — повторил кузнец. — Я буду тебя учить. Я научу тебя тому, что умел сам. Если успею… Эвбулид пожал плечами и с силой стал ударять молотом по бруску металла. — Не так! — поморщился, прислушиваясь к звуку, кузнец. — Начинай с одного края и полегоньку, полегоньку… Вот так. Так! Через полчаса перед Эвбулидом, точно следовавшим подсказкам Сосия, лежал наконечник копья. Слегка искривленный, с неровными краями, но все же наконечник, первая вещь, сделанная его руками! — Смотри-ка! — удивленно сказал он, обращаясь к присевшему перед наковальней Сосию. — Получилось! Может, еще один попробуем? Кузнец не отозвался. — Эй! — заподозрив неладное, окликнул Эвбулид, подскочил к Сосию, тронул за плечо и, когда тот упал, выпустив из рук клещи, понял, что кузнец мертв. — Эй, Кар! — закричал он, бросаясь к двери и колотя в нее кулаками. — Открой! Сосий умер! Надсмотрщика на месте не оказалось. Заявился он только под утро, хмуро выслушал Эвбулида и вышел, не забыв запереть за собой дверь. Через несколько минут в кузнице появились малоазийцы — носильщики… — Возись с этим кузнецом! — недовольно проворчал коренастый, подцепляя мертвое тело Сосия длинным крюком. — Не мог подохнуть завтра. — Аккуратнее! — закричал на него Эвбулид. — Какая ему разница теперь? — помогая напарнику, усмехнулся долговязый раб. — А вот нам надо спешить! — Да! — похвастался Эвбулиду коренастый. — Господин управляющий за нашу верную службу сделал нам прекрасный подарок! — Он разрешил нам сделать все, что мы только пожелаем, с римлянкой в баньке, а потом и ее отнести на свалку! — Что? Домицию? А ну, стойте негодяи! — бросился к двери Эвбулид, но перед ним неожиданно вырос Кар. — Опять буянишь? — погрозил он своим тяжелым кулаком. — Выпусти меня… — без всякой надежды вырваться наружу попросил Эвбулид. — Чего захотел! — ухмыльнулся надсмотрщик. — Ответь лучше, что я теперь Филагру скажу? Проклятый Сосий! Не смог протянуть пару дней! Пусть бы хоть такие кривые наконечники, да делал! — Это я сделал наконечник… — глухо проронил Эвбулид. — Ты? — не поверил Кар. — Ну, я… — хмуро подтвердил грек. — Сосий научил. — А еще можешь? — Могу! — Так начинай! — приказал Кар. Эвбулид с опаской посмотрел на дверь — малоазийцы уже скрылись за деревьями сада и проходили, наверное, сейчас мимо эргастула, от которого до баньки считанные шаги. И Лад ничего не знает, ни о чем не догадывается… «Лад! — вдруг промелькнула в голове спасительная мысль. — Вот кто может спасти Домицию от этих могильщиков!» — Хорошо, я начну! — быстро сказал он. — Но мне нужен толковый, крепкий помощник. — Я приведу тебе хоть троих! — пообещал Кар, делая шаг к двери. — Не нужно троих! — остановил его Эвбулид. — Приведи одного, того, что сидит сейчас в эргастуле! — Скифа? — Да, он отлично разбирается в этом деле, а с другими я работать не буду. Хоть убей. — А что скажет Филагр? — задумался надсмотрщик. — Он ведь приговорил этого скифа к смерти! — Если я не буду ковать оружие, поверь, следующим он приговорит тебя… — пообещал Эвбулид. — Это верно, — поскучнел Кар. — Что делать… Филагр сейчас докладывает о порядке в имении Эвдему, и я не могу без вызова войти к господину… А вдруг господин спросит, как идут дела на кузнице? — Конечно же спросит! — подтвердил грек. — Ну ладно, раз он опытный! — сдался Кар. — Я приведу тебе скифа. Думаю, Филагр не станет ругать меня за то, что работа в кузнице не остановилась… Вскоре дверь вновь открылась, и Эвбулид увидел Лада. — О, как у тебя тут хорошо! — воскликнул тот, поднося ладони к огню. — А я, понимаешь, намерзся в этом эргастуле ночью… Что стряслось? — наконец заметил он выражение крайней озабоченности на лице грека. — Домиция, Лад, беда… — выдохнул Эвбулид, едва только дверь захлопнулась за Каром. — Вчера Публий с дружками по наущению Филагра надругались над ней… — Проклятье! — вскричал Лад. — …а теперь двое могильщиков отправились в баньку, чтобы продолжить их мерзкое дело и убить ее… — Бежим туда! — вне себя от ярости закричал сколот. — Постой! — Эвбулид схватил молот и несколькими ударами расковал Лада. — Вот, зазвенел молот! — послышался довольный голос надсмотрщика, он открыл дверь, чтобы похвалить Эвбулида, и тут же, не успев крикнуть, свалился под ноги Ладу. — Бежим! — крикнул сколот, и Эвбулид, бросая молот, кинулся за ним следом. Промелькнули шарахнувшиеся в сторону и удивленно глядящие на них садовые рабы, остался позади эргастул… Оставив далеко позади себя задыхающегося от быстрого бега Эвбулида, Лад ударом ноги распахнул дверь баньки и исчез за ней. Мгновение — и два диких вопля слились в один и, захлебнувшись, смолкли. Тут же со стороны дома послышался какой-то шум. Эвбулид оглянулся и с ужасом увидел спускавшихся со ступенек хозяйского дома надсмотрщиков, Филагра и того самого человека в одежде персидского вельможи, который купил его на Хиосе. Без сомнения, это был сам Эвдем. Последним с крыльца спустился евнух Протасий. — Лад! — предостерегающе крикнул Эвбулид, побежал по направлению к баньке, но не успел добежать до нее. Ближайший надсмотрщик опередил его, заглянул в распахнутую дверь и громко крякнул: — Господин управляющий! Беда! Эта римлянка… Эту римлянку… — Не уберегли? — расталкивая всех, сорвался с места Филагр. — Проворонили самую дорогую рабыню нашего господина! Жалкие лодыри! К столбу каждого! В плети! По сто… двести… тысяче ударов! Я же предупреждал, смотреть в оба за этими могильщиками, они давно положили глаз на Домицию, которую я оберегал пуще собственного глаза! В голосе управляющего было столько неподдельного возмущения, что, не услышь Эвбулид раньше разговор за стеной дома, он ни секунды бы не сомневался в его искренности. — Казню! Всех! До единого! — кричал на ходу Филагр и вдруг остановился, увидев Лада, выносящего из бани на руках прикрытую изорванным хитоном Домицию. — Как?! — ошеломленно воскликнул он. — Ты?! — Я, — спокойно ответил Лад, хмуро оглядывая господ. — Почему не в эргастуле? Что ты здесь делаешь?! И без оков… Не отвечая, сколот прошел сквозь расступившуюся толпу, бережно опустил Домицию на землю под яблоней и аккуратно поправил на ней хитон. Римлянка слабо застонала. — Жива, — обрадовался Эвдем. — Да, господин, — поклонился Лад. — А те два негодяя, что надругались над ней, уже в вашем Аиде. Вели оттащить крючьями их мерзкие тела на свалку! — Кто это? — повернулся к кусающему губы Филагру Эвдем. — Скиф! — встрепенулся тот. — Из той партии, что ты купил на Хиосе, господин. Он сидел у меня в эргастуле. — Припоминаю, — наморщил лоб Эвдем. — Не тот ли это раб, которого ты как-то просил назначить надсмотрщиком? — Да, господин! Это самый покорный и преданный тебе раб из всех последних партий! — поклонился Филагр. — За это ты и посадил его в эргастул? — удивился Эвдем и внимательно посмотрел на управляющего имением. — Ты стал очень странным, Филагр! Не слишком ли много в последнее время ты пьешь вина? — О, господин! — побледнел управляющий. — Не больше, чем другие, самую малость! — Смотри, как бы не пришлось подумать о твоей дальнейшей судьбе! Еще один твой проступок… — покачал головой Эвдем и вдруг заметил, что ноги Лада свободны от оков. — Почему не закован? — быстро спросил он. — Он работал со мной в кузнице, и я по приказу надсмотрщика расковал его! — сделал шаг вперед Эвбулид. — Без оков и не сбежал! — вслух рассудил Эвдем и с интересом посмотрел на Лада. — Это действительно редкий раб. Я подумаю о его судьбе и о том, не назначить ли мне его действительно надсмотрщиком! Эвдем достал кошель и бросил под ноги сколоту золотую монету: — А пока вот тебе за то, что спас эту рабыню и наказал виновных! — Виновные, господин… — снова подался было вперед Эвбулид, но Лад, подняв монету, предостерегающе дернул его за хитон и, перехватив подозрительный взгляд Филагра, сделал вид, что заставляет своего друга ниже склониться перед Эвдемом. — Хорошо, идите в кузницу! — разрешил Эвдем и склонился над Домицией, сокрушаясь, что во всем имении нет ни одного врача. — …Ты что? — набросился Эвбулид на Лада, когда они остались вдвоем на тропинке. — Надо было рассказать обо всем Эвдему! Ведь сегодня участь Домиции в этой же баньке разделит еще одна несчастная! — Эвдем наказал бы только одного Филагра! А Публий? — покачал головой Лад. — Нет, Эвбулид, тут силой не возьмешь, попробуем хитростью. Весь день Лад проработал в подручных у Эвбулида и после заката попросил Кара открыть дверь, сказав, что ему нужно срочно видеть самого Эвдема. Прослышавший о том, что господин собирается назначить скифа надсмотрщиком, Кар беспрепятственно выпустил его из кузницы. Сколот быстрыми шагами прошел по дорожке, подкрался к баньке и, увидев сквозь щели свет, бесшумно отворил дверь. В одном углу низкого помещения сидел пьяный Филагр. Голова его безвольно свешивалась на грудь. В другом углу, белея юным телом, лежала рабыня, над которой стоял Публий. — А ну очнись, дрянь! — кричал он, пиная ее ногой, и недовольно обернулся к Филагру: — Слушай, что вы мне с Протасием подсунули? Глаза его округлились. Публий увидел сколота. — Ты что? Кто?! — попятился он, но споткнулся о тело рабыни и растянулся на полу. — Я — твоя смерть! — тихо ответил Лад и, выхватив из-за пояса бесчувственного Филагра кинжал с ручкой в виде змеи, обвившей зайца, замахнулся на онемевшего от страха Публия. …Вернувшись в кузницу, сколот разбудил крепко спящего Эвбулида. — Зачем ты ходил к Эвдему? — спросил, потягиваясь, грек. — Свершить правосудие, — коротко ответил Лад. Сон мигом слетел с Эвбулида. — Я убил Филагра его же оружием, — видя недоумение друга, усмехнулся Лад и объяснил: — Я прирезал Публия кинжалом управляющего и вложил его в руку пьяного Филагра. Теперь Эвдем решит, что управляющий убил его сына из ревности к рабыне, и мерзавец сам кончит свою жизнь у столба! И поделом ему — не будет рыть яму другому! — Значит, бежим? — радостно вскочил Эвбулид. — Да… Но сначала подождем, пока придет в себя Домиция. — Ты прав, Лад. Но если она проболеет слишком долго? — Тогда, боюсь, нам снова придется искать твоего купца! Золотой на это дело у нас есть, попросим нового управляющего. — Если только он согласится… — Да кто же откажется получить в дар целый золотой! — усмехнулся Лад и вздрогнул от радостного крика Эвбулида: — Вспомнил! — Что? — Имя моего купца! — пояснил Эвбулид. — Ну, не все имя, а его половину. Как только ты сказал о даре, я вспомнил, что он — подаренный! — Подаренный? Кому? — удивился Лад. — Афине, Гермесу, а может, Аполлону… — наморщил лоб Эвбулид и забормотал: — Афинодор… Аполлодор… Гермедор… Нет, только не Гермедор! Больше похоже на первые два… — С них и начнем, — решил Лад. — А теперь давай спать! — Но нас накажут завтра, если мы не сделаем эти проклятые наконечники! — Завтра и без нас есть кого наказывать Эвдему! — широко улыбнулся Лад и, растянувшись на полу у двери, с чувством исполненного долга через минуту громко захрапел. Наутро в кузницу ворвался запыхавшийся Кар. Едва не налетев на Эвбулида, он робко тронул за плечо сколота и, когда тот открыл глаза, склонился перед ним в почтительном поклоне: — Господин… — Это ты мне? — удивленно спросил Лад, приподнимаясь на локте. — Да, да, господин! — угодливо закивал Кар. — Только что Эвдем назначил тебя управляющим усадьбой вместо казненного сегодня ночью негодяя Филагра и срочно требует к себе! — Ну вот, — неторопливо вставая, усмехнулся Лад ошеломленному Эвбулиду, — а ты сомневался, что новый управляющий не согласится выполнить твою просьбу! 1. Снова в Пергам! Оказавшись в главной комнате дома, Лад скользнул удивленными глазами по стенам, увешанным яркими коврами, бронзовым статуям и вазам в углах. Увидев стоящего у окна Эвдема, вполне искренне — в благодарность за скорое освобождение из рабства — склонил перед ним свою могучую шею. — Я долго думал, Скиф, прежде, чем найти нового управляющего в этом имении, — барабаня пальцами по синему, в красных цветах ковру на стене, задумчиво произнес вельможа. — Должность эта почетна и желанна каждому рабу, но не каждый раб отвечает всем требованиям, необходимым для нее. Да, ты предан, старателен, как докладывал мне Филагр, — лицо его исказилось от ярости и душевной боли, — неплохо разбираешься в ведении сельского хозяйства. Ты на редкость силен, и перед твоей плетью будут дрожать даже самые наглые рабы. Но и у тебя есть один недостаток. Ты — варвар! Лад с тревогой вскинул свои большие, серые глаза на Эвдема. Тот перехватил его взгляд и успокаивающе заметил: — Но это не так страшно по сравнению с коварством, лестью и пьянством моих управляющих эллинов и пергамцев! К тому же, у тебя будет прекрасный друг и помощник — Протасий! — кивнул он на сидящего в дальнем углу евнуха, и тот, приветливо улыбаясь, часто закивал Ладу, буравя его хитрыми глазками. — Твое дело, Скиф, выжимать из рабов все. А он будет помогать тебе в остальном. И еще — нам нужно изменить твое имя, Скиф. Мои гости в этом имении станут смеяться, узнав, что в управляющих столь дремучий варвар. Флавий! — оглядев Лада, решил Эвдем. — Отныне ты будешь называться Флавием! — Что в переводе с великой латыни означает — Белокурый! — хихикая, подсказал евнух чуть приметно сузившему глаза сколоту. — Отныне ты будешь ходить без оков всюду, где только пожелаешь, питаться и жить — в этом доме, можешь жениться на подходящей рабыне — женатый раб вдвойне привязан к своему господину, — продолжал Эвдем. — А пойдут дети, так и втройне. С каждого хорошего урожая я буду давать тебе денег в твой пекулий. При хорошем поведении и воздержанности к вину лет через десять ты сможешь выкупиться и стать моим клиентом. А пока вот мое первое приказание: вчера ты спас от смерти Домицию… — Лад вздрогнул и невольно подался вперед. — Сегодня же я поручаю тебе заботу о ней. Положи ее в крытую повозку и отвези толковому лекарю в Пергам. Протасий покажет, где это, и даст денег на лечение. И — немедленно назад, пора выгонять рабов на жатву! — Господин! — поклонился Лад, вспомнив об Эвбулиде. — Разреши мне взять с собой одного раба, чтобы он помог выносить из повозки Домицию. — Хорошо, — кивнул Эвдем. — Возьми любого. Какие еще вопросы у моего управляющего Флавия? — Никаких, господин! — с несвойственной ему торопливостью ответил Лад, думая только об одном: что он наверняка видит Эвдема в последний раз. — Ну что же, иди, — внимательно глядя на него, разрешил вельможа. Когда Лад вышел, Эвдем негромко сказал Протасию: — Не нравится мне что-то его торопливость. Или он потерял голову от радости, или… Проследи за ним в дороге, — приказал он. — И дай горсть монет рабу, который поедет с ним, чтобы он доложил потом о каждом шаге этого Флавия в Пергаме… В сопровождении догнавшего его евнуха Лад пошел по коридорам господского дома. Протасий обещал ему свою постоянную поддержку и заступничество перед господином взамен сущего пустяка — четырех пятых всего того, что будет давать ему после сбора урожаев Эвдем. Сколот охотно кивал и думал о том, что лекарь, без сомнения, за золото Эвдема быстро поставит на ноги Домицию и они втроем сегодня же убегут из Пергама. Но главное, он сейчас увидит Домицию! — Так, значит, договорились? — останавливаясь перед скромной дверью на первом этаже, спросил Протасий. Сколот снова кивнул, и евнух, отворяя перед ним дверь, обрадованно воскликнул: — Здесь эта римлянка! Забирай ее, а я прослежу за тем, как готовят в дорогу повозку! Лад, мгновение помедлив, шагнул в комнату, огляделся и увидел сидящую в углу римлянку. — Домиция! — обрадованно воскликнул он, но рабыня даже не посмотрела в его сторону. — Домиция… — обеспокоенно повторил сколот, подходя к ней. — Это же я — Лад! Римлянка неохотно повернула голову и уперлась в Лада большими невидящими глазами. — Скиф? — наконец узнала она. — Зачем ты здесь?.. Лад с нежностью смотрел на сидящую в неудобной позе девушку, на ее тонкую шею, слабые руки, отвел глаза от покрытых ссадинами ног и, проглотив комок в горле, ободряюще сказал: — Я здесь, чтобы отвезти тебя к лекарю, в Пергам! А потом, как только он вылечит тебя, мы убежим. Ты, я и Эвбулид! — В твою далекую Скифию? — горько усмехнулась Домиция. — Да! — воскликнул Лад и, спохватившись, с опаской покосился на дверь. — Там, где жены лишают себя жизни вслед за мужьями? — Да… Лад протянул руку Домиции, намереваясь подхватить на руки, но она отшатнулась и дикими глазами взглянула на сколота. — Что с тобой, Домиция? — удивился Лад. — Это же я! Ты что, не узнаешь меня?! Римлянка неожиданно успокоилась и откинулась назад, прислонив затылок к стене. Лад, затаив дыхание, следил за каждым ее движением, выражением на осунувшемся лице. — Лучше бы они убили меня! — наконец, со стоном сказала Домиция. — Зачем ты вырвал меня от них? Мне было уже все равно, я желала лишь одного — скорее умереть… — Ты должна жить, Домиция! — меняясь в лице, выдавил из себя сколот. — Ради чего? Для кого? — Ради меня! Римлянка открыла глаза. — После всего того, что ты видел, ты готов принять меня в свою постель? Взять в жены?! — с безразличием в голосе спросила она. — Но ведь ты же не виновата в этом! — в свою очередь, удивился Лад. — Конечно, я возьму тебя в жены и, как это принято среди людей моего племени, буду самым преданным мужем! — Уходи! — неожиданно сказала Домиция и снова закрыла глаза. — Но почему, Домиция? — воскликнул Лад, с трудом подавляя в себе желание протянуть руку к упавшей на ее лоб пряди. Домиция не ответила. — Ну что ты молчишь? Неужели ты не поняла, что я не могу без тебя. Ты такая хрупкая. Я буду оберегать тебя до самой моей смерти. А когда умру — ты последуешь за мной. Ты ведь так сделаешь, Домиция? — Нет… — прошептала римлянка, не открывая глаз. — И ты не пошла бы со мной на войну и не рубилась бы с врагами на разных?.. — Нет! — И не родила бы от меня крепких воинов? — не отступался Лад. — Нет! Никогда!! — иступленно закричала Домиция и тихо попросила: — Уходи, Скиф. И не смотри на меня так! Ты хороший, сильный, тебя любая девушка полюбит. А я… мое сердце любит другого. — Того Афинея? — глухо уточнил сколот, и глаза его злобно блеснули. — Да… — Этого Феми-стокла? — с трудом выговорил греческое имя Лад. — Да, да! — сквозь слезы улыбнулась Домиция. — А если он умрет? Римлянка недружелюбно взглянула на сколота, повела плечом, словно отгоняя подобные мысли, и покачала головой: — Все равно тебе не на что надеяться. Потому что первой умру я. — Ты?! — вскричал Лад. — Но я не дам тебе сделать этого! — А я и не собираюсь у тебя спрашивать! — резко ответила Домиция. — Уходи. Или я позову управляющего… — Ну и зови! — огрызнулся Лад. — Только знай, что этот управляющий сделает вот что… — Что? — удивленно спросила Домиция и вскрикнула от неожиданности. Лад легко поднял ее на руки и понес к выходу. — Что ты делаешь? Пусти! — кричала девушка, и Лад даже сквозь полушерстяной хитон чувствовал, как горит ее тело. — Ты мне противен… Пусти… Все равно я не буду жить… — Будешь! — коротко бросил Лад, вынося Домицию из дома, где сразу у порога их уже ждала готовая к поездке повозка. Бережно уложив римлянку на духмяное сено, сколот поправил над ней полог и уверенным голосом, словно всю жизнь проходил в управляющих, приказал пробегавшему мимо рабу: — Сбегай на кузницу и приведи сюда Эвбулида. — Какого Эвбулида? — не понял раб. — Да, какого? — бросил подозрительный взгляд на нового управляющего евнух. — Из всех эллинов-рабов в этом имении я знаю лишь Афинея! — Это он и есть, — поняв, что совершил оплошность, ответил Лад и пояснил не сводящему с него глаз Протасию: — В Афинах я был рабом у этого Афинея и до сих пор не могу избавиться от привычки называть его Эвбулидом и даже господином. Ну да ничего, пусть теперь он привыкает обращаться ко мне не иначе, как господин! Ну, что стоишь? — набросился он на переминающегося с ноги на ногу раба. — Выполняй! — А кто же станет работать на кузнице? — забеспокоился евнух, глядя вслед убегающему рабу. — Это уже твоя забота! — грубо ответил Лад. — Если ты хочешь, чтобы мои четыре пятых были в золоте, а не в меди, то сегодня же пришли сюда приличного кузнеца, а не такого, который только делает вид, что работает, а на самом деле лишь портит заготовки и наносит ущерб нашему господину! — Вот ты какой, Флавий! — удивленно протянул Протасий, глядя на сколота и не без удовольствия думая, что сэкономит сегодня горсть монет. Разве есть смысл следить за рабом, который с сегодняшнего дня стал господином своего бывшего хозяина? 2. Страх и совесть В то же самое утро Демарх проснулся задолго до рассвета в своем крошечном глинобитном домике на окраине Пергама. Он долго лежал на сколоченном из грубых досок топчане, глядя невидящими глазами в дочерна закопченный потолок. Вставать не хотелось. И не потому, что надо было принести из колодца воды и разбудить детей. Эти два занятия, которые ложились на него каждый раз, когда жена ждала ребенка, всегда были ему в радость. Зачерпывая кувшином воду и неся ее домой, он с удовольствием глядел на просыпающийся город. А когда поднимал на руки сонных дочерей и сына и, смеясь, наблюдал за тем, как падают их головки ему на плечи, забывались нищета, предстоящая тяжелая работа на весь день, и он был вполне счастлив. Не хотел же он вставать и нарочито медлил, потому что сегодня истекал срок, данный ему Эвдемом. Слыша, как раздувает огонь в очаге жена, Демарх вздохнул и закинул руки поудобней за голову. Полон Пергам воров, убийц, беглых рабов, с досадой думал он, так нет же — подавай Эвдему заговорщиков. Для Эвдема они преступники. А какие же они преступники — носильщик Кабир, купцы Анаксарх, Фархад, Артемидор, ремесленники, воины, да и сам Аристоник? Разве они украли что-нибудь или оскорбили непочтением богов? Да они сами готовы поделиться с другими, чтут богов и особенно Гелиоса, как вряд ли кто еще в Пергаме, и вся их вина в том, что они хотят, чтобы такие, как он, бедные и несчастные люди были счастливы и свободны. И еще — чтобы калиги римских легионеров не загрохотали по улицам Пергама и не топтали земли их вольного царства. Собраться бы с силами сегодня вечером и высказать все свои сомнения Эвдему. Демарх покачал головой и даже застонал от досады: да разве станет Эвдем слушать об этом? Конечно, размышлял он, этот вельможа спас всю его семью от рабства, и он, Демарх, должен быть благодарен ему за это и помнить, что поклялся богами слушаться его во всем и не предавать своего всемогущего господина. Но теперь он не мог предать и своих товарищей. Так что же делать? Где выход?.. Демарх знал, что, сломайся он в последнюю минуту, Пергам в эту же ночь лишится своих самых верных защитников. На это он не пойдет. Но что же тогда будет с его несчастной семьей — женой и детьми? Ведь угрозы Эвдема не пустые обещания. Он сел, обхватил колени руками. Вспомнил, как вельможа однажды повел его в подвалы своего дворца. Страх, который он испытал там, снова охватил его. Уже сами проходы подвала, устланные яркими коврами, вызывали желание броситься назад. Редкие факелы, какие-то хрипы, стоны, словно из-под земли, с каждым шагом только усиливали тягостное ощущение. То и дело он натыкался на странные выступы, делающие проходы еще более узкими. Демарх внезапно налетел на один из них. Эвдем усмехнулся, постучал ладонью по выступу и сказал: «Все, умер. Видишь — ничего не слышно…» Только тогда Демарх понял, что за стоны и хрипы слышались со всех сторон: каждый выступ, сложенный из массивных серых кирпичей замуровывал живого человека! Ноги его словно приросли к полу, с трудом делал он каждый шаг за идущим как ни в чем не бывало Эвдемом. А когда пламя факела высвечивало новый выступ, испуганно обходил его, почти прижимаясь спиной к осклизлой стене. Ничего более мрачного и жуткого он не видел за всю свою жизнь. Но самое страшное ждало впереди. Эвдем, отворив одну из железных дверей, прикрикнул на него, чтобы не мешкал, и, когда он остановился в проеме, пораженный тем, что увидел, буквально насильно втолкнул в небольшую комнату с низкими, полукруглыми каменными сводами. Посередине комнаты, прикованный тяжелыми цепями к потолку, висел окровавленный человек. Бородатый мужчина — палач, как сразу догадался Демарх, оглянувшись, увидел Эвдема и на немой вопрос вельможи отрицательно покачал головой. «Жги!» — коротко приказал Эвдем, и Демарх внезапно поймал на себе его пристальный, испытующий взгляд. Палач приоткрыл дверцу печи, вынул раскаленный докрасна прут и, обойдя мужчину, как бы прикидывая, где ему будет больнее, приложил его плашмя к спине несчастного. Мужчина дернулся и безумными глазами уставился на своих мучителей. Запахло паленым мясом. «Ну? — спокойно спросил у него Эвдем. — Тебе и теперь нечего мне сказать?» «Господин, — завопил пленник. — Я сказал тебе все! Все! Все!» «Жаль, — покачал головой Эвдем. — Я думал, ты окажешься умнее… — И приказал, вопросительно взглянувшему на него палачу: — Ну-ка сходи, погладь этим прутом его родственников, может, хоть это на него подействует!» Палач угодливо кивнул, сунул прут в печь, подождав немного, вынул его и, убедившись, что он снова стал малиновым, тяжелыми шагами направился к двери, которую Демарх сразу и не заметил. «Ты не встречал этого человека в лавке Артемидора?» — дружеским голосом вывел его из оцепенения Эвдем, кивая на повисшего на цепях мужчину. «Нет, — ответил он, стараясь не глядеть на несчастного, невольно спросил: — А кто он?» «Такой же агент, как и ты, только предавший меня и перекинувшийся на сторону заговорщиков!» — с угрозой ответил Эвдем, и Демарх вздрогнул, услышав дикие вопли из приоткрытой двери, за которой исчез палач. Без сомнения, кричали дети и женщина. «А там мы пытаем его семью, чтобы он лучше понял свою вину передо мной и быстрее разговорился! — объяснил Демарху Эвдем. — Так, значит, ты не знаешь его? Жаль! Тогда пошли наверх, я ведь только для этого и привел тебя сюда!» Нет, не для этого показал ему вельможа муки несчастного. Эвдем хотел запугать его, показать, что будет с ним и его семьей, если он окажется таким же строптивым. И кажется, своего добился. Тот ужас, который он испытал в том подвале, снова всякий раз охватывал его, едва он слышал голос Эвдема или видел его… «Что же мне теперь делать?» — в отчаянии думал Демарх, он встал с постели и отправился за водой. Проснувшийся город уже не радовал его, как прежде, утренним многоголосьем и пестротой улиц. «Так что же делать: убить свою совесть, и всю жизнь провести дома, не смея выйти за дверь, чтобы не встретиться глазами с соседями, друзьями, с теми, кого успел полюбить, или… отдать жену и детей на муки палача Эвдема?!» — Что с тобой, Демарх? — встревоженно спросила жена, которую соседи называли Мелиттой, «пчелой», а он, переиначив ее имя, — Мелитиной, что на эллинском означало «медовая». — Уж не болен ли ты? — Нет-нет, — поспешил успокоить ее Демарх и похолодел от мысли, что на эти плечи, спину, заметно уже выдававшийся живот может опуститься раскаленный прут палача… — Может, мне самой разбудить детей? — Ну что ты! — через силу улыбнулся Демарх. — Они уже такие большие, а тебе не следует больше подымать тяжести! Он вошел в отделенную пологом из разноцветных старых лоскутков детскую половину и склонился над широким топчаном. С краю, как всегда, спал его сын, семилетний Дасий[100], которого он назвал так потому, что он родился с густыми и черными, на удивление соседей, волосами. — Дасий! — легко поднимая его, шепнул Демарх. — Вставай. — Ну еще немножечко, отец… — пробормотал сын, не открывая глаз. — Вставай, вставай! Все ребята уже во дворе, тебя дожидаются! — А сын Арата тоже там? — Сон мигом слетел с мальчугана. — Он должен мне семь альчиков! — Там-там! — гладя его по взлохмаченным со сна волосам, кивнул Демарх. — Тогда я побежал! Пятилетняя Анфиса тоже встала без долгих упрашиваний. Демарх тревожным голосом сказал, что заболела ее любимая глиняная кукла, и девочка побежала в угол лечить ее. Только самая младшая, Саранта долго капризничала и, роняя сонную головку на плечо отца, никак не соглашалась встать на ноги. Помня о том, как тяжело далась им с Мелитиной эта болезненная, слабая девочка, собственно, они и назвали ее поэтому таким защитным именем[101], Демарх не ругал и не торопил дочь. Наконец, придумав, что сегодня к ним в очаг пришли волшебные искры, на которые Саранта может смотреть сколько ей вздумается, он опустил ее на пол, и девочка радостно побежала к очагу, взглянуть на удивительных гостей. Все домашние дела были закончены. Пора было выходить из дома: собрания заговорщиков обычно начинались ранним утром. Демарх наскоро позавтракал куском ячменной лепешки с кружкой кислого, слегка подслащенного медом вина, подбадривающе улыбнулся жене и, оглянувшись на прощание, вышел на улицу. «Дверь бы надо поправить и крышу переложить…» — вдруг подумал он и, отгоняя мысль, что, возможно, больше никогда не увидит ни этой двери, ни крыши, ни самого дома, махнул рукой и зашагал, невольно замедляя шаг, по знакомой дороге к лавке купца Артемидора. 3. Афинодор? Аполлодор? Уже больше часа поджидал Эвбулид, сидя в повозке, Лада с Домицией после того, как тот, отказавшись от его помощи, отнес девушку на руках в дом лекаря. Давно ожили улицы Пергама, наполнившись пестрыми потоками спешащих по своим делам покупателей, рабов, озабоченных купцов и важных вельмож. Уехал, устав ждать, Протасий, приказав Эвбулиду передать управляющему Флавию сразу же возвращаться в имение, не задерживаясь в городе. А Лада все не было. Наконец, он появился, растерянный, один, без Домиции. — Ну что? — предчувствуя недоброе, встретил его вопросом Эвбулид. Лад беспомощно развел свои могучие руки: — Сказал, что во всем надо положиться на волю богов… Что у нее страшная горячка. Что любой другой лекарь уже посоветовал бы мне отрезать у Домиции прядь волос, но он самый лучший в Пергаме и постарается спасти ее… Эвбулид, — с тревогой взглянул он на друга, — а что это у вас означает — отрезать у больной прядь волос? — Ничего страшного! — нарочито бодрым голосом поспешил успокоить Лада грек. — Это значит… — замялся он, вспоминая лекаря, который тоже советовал поступить так с Филой в знак того, что у нее никаких надежд выжить, — что он хотел таким способом умилостивить богов и принести им в жертву прядь прекрасных волос Домиции. Не может Аполлон и его сестра отказаться от такого подарка! — Да? — недоверчиво взглянул на Эвбулида Лад, ища на лице следы лжи и не найдя их, с облегчением выдохнул: — Тогда мне остается верить в то, что через месяц мы снова заедем сюда и вернемся с живой и невредимой Домицией в имение. — Как через месяц?! — воскликнул Эвбулид. — Он что, не побоялся оставить у себя рабыню на такой долгий срок? — Лекарь смотрел только на золото, которое велел передать ему Протасий! — пояснил Лад. — И даже не разрешил тебе заехать раньше, чтобы справиться о ее состоянии? — Он смотрел на золото… — глухо повторил сколот. — Когда же мы теперь сможем убежать?! Лад виновато пожал плечами. — Лекарь сказал, что если боги смилостивятся над Домицией, то он все равно будет лечить ее еще целый год… — Целый год?! — вскричал Эвбулид. — Ох, уж эти лекари, да ради золота Эвдема он еще десять лет будет делать вид, что лечит ее! — И еще, когда я соврал ему, что мой господин собирается отвезти Домицию в Рим и спросил, выдержит ли она эту дорогу, — добавил Лад, — он ответил, что даже после его лечения везти ее нужно будет в полном покое, без тряски, в окружении ласковых и преданных слуг. Но, Эвбулид, бегство из Пергама будет трудным даже для нас, не то что для нее. И потом, моя родина так далеко, дорога до нее убьет Домицию! Что же нам делать?.. Впервые Лад выглядел таким беспомощным и нерешительным. Эвбулид невольно улыбнулся, видя, как в глазах этого огромного бесстрашного человека готовы вот-вот появиться слезы и, подумав, уверенно ответил: — Надо искать моего купца. Если мы упросим его выкупить нас троих, то я тут же отправлюсь в Афины, а ты сможешь повезти Домицию к себе на родину, не подвергая ее опасностям, которые на каждом шагу подстерегают беглых рабов! — Так поехали! — запрыгнул в повозку Лад и выхватил вожжи. — Куда? — остужая его пыл, спросил Эвбулид. — Надо сначала расспросить прохожих. Первым купцом попавшимся им навстречу был Анаксарх, спешащий на собрание в лавку Артемидора. Занятый своими мыслями о сегодняшней встрече с торговцем, больше года прожившим по приказанию Аристоника в Риме, и каким-то беглецом из Сицилии, он не сразу понял, чего добиваются от него два раба, спрыгнувшие из богатой повозки. — Афинодор или Аполлодор? — наконец, уяснив что к чему, переспросил он. — Так у нас в Пергаме одних только Афинодоров не менее ста, и, как минимум, десять из них торгуют вазами и мегарскими чашами и сами ваяют из бронзы или мрамора! — Всего десять? — обрадованно переспросил его высокий раб с тяжелыми плечами, судя по новой одежде, назначенный недавно управляющим дворца или имения. — Так говори скорее, где они живут! Анаксарх, с недовольством глядя на восходящее солнце, наскоро объяснил все, что от него требовалось, и пошел скорой походкой дальше, что совсем не шло его грузной, дородной фигуре. — Ну, так с какого начнем? — усаживаясь в повозку, спросил Лад Эвбулида. — С того, что живет направо или с того, что налево? — Вообще-то, Протасий велел передать тебе, чтобы мы сразу же возвращались в имение, — замялся Эвбулид. — Стоит ли теперь с ним ссориться? Ведь у нас еще месяц! — Боюсь, что нам и месяца не хватит, чтобы отыскать твоего подаренного, — проворчал Лад. — Что, если твой купец был подарен не Афине, а какому-нибудь Гелиосу или Деметре? — Есть еще Посейдон, Гермес, Дионис… — удрученно добавил Эвбулид. — Вот-вот, — подхватил Лад. — У вас, эллинов, богов не меньше, чем лавок в этом Пергаме, и каждому мог быть подарен твой купец. Тут не то что месяца — года бы еще хватило! — не без тревоги заметил он и, неожиданно улыбнувшись, показал крепко сжатый кулак. — А Протасия не опасайся, он у меня вот где! Разве он найдет еще такого управляющего, который согласится отдавать ему почти все заработанные у Эвдема деньги? — Тогда… — ненадолго задумался Эвбулид и кивнул направо. — Начнем с того Афинодора, который ваяет из воска, как сам Аттал, и часто возит свои товары в Аттику! 4. «Запомните это имя!» «Так что же мне делать? Что придумать? — вопрошал себя Демарх, сидя в самом углу скульптурной мастерской Артемидора. — До назначенной Эвдемом встречи осталось всего несколько часов, а я еще не знаю, как мне быть!» Он медлил, идя сюда, охотно останавливался для бесед со знакомыми пергамцами, невпопад отвечал на их вопросы, и когда вошел в это помещение, то с упавшим сердцем увидел, что все заговорщики были уже в сборе. Ждали Аристоника, который должен был приехать из приморского города Левки. Здороваясь, Демарх невольно опускал глаза перед людьми, которые за короткое время стали ему понятными и близкими. Наконец в коридоре послышался легкий шум и в сопровождении нескольких вооруженных рабов в мастерскую — полы легкого дорожного плаща враспашку — быстрыми шагами вошел Аристоник. Поздоровавшись со всеми кивком, он направился к своему любимому месту в углу. Только тут Демарх с ужасом заметил, что сидит рядом с высоким креслом побочного брата царя. Ему показалось, что взгляды всех собравшихся устремлены на него. — Смотри, какой он сегодня решительный! — шепнул на ухо, как всегда подсевший к нему Кабир. — Может решил дать сигнал к восстанию, а? — Не знаю… — рассеянно пробормотал Демарх, еще ниже опуская голову. — Может быть… — Может быть! — возмущенно зашипел Кабир. — Да все мы только и ждем этого! Скажи Аристоник одно только слово, призови всемогущим Гелиосом, и весь Пергам поднимется в считанные минуты! — Да-да, конечно… — не слушая носильщика, кивнул Демарх. — Что это с тобой? — участливо взглянул на него Кабир. — С женой что? Или опять Саранта заболела? — Да нет, просто не выспался! — вздохнул Демарх и, не желая загрязнять себя ложью, искренне признался: — Честно говоря, даже не хотел идти сегодня сюда… — И очень многое бы потерял! — Кабир кивнул на сидящего рядом с хозяином лавки худощавого человека в римской тоге и прямым, словно точеным из мрамора, носом. — Видишь этого человека? — Римлянина? — Он римлянин только наполовину! — быстро зашептал Кабир, увидев, что Аристоник поднял руку, призывая всех к тишине. — Его отец был изгнан из Рима за кражу скирды хлеба, а мать наша, пергамская. Зовут его Постум, и у него удивительная способность запоминать все, что он увидит и услышит. Под видом квирита он больше года пробыл в Риме, вот теперь приехал, чтобы рассказать нам о нем… Кабир замолчал, перехватив недовольный взгляд Аристоника, и приложил ладонь к губам, красноречиво обещая, что будет нем, как рыба. — Артемидор! — добившись полной тишины, окликнул Аристоник. — Где же наш благородный квирит? — Вот он! — улыбнулся купец, подталкивая Постума к центру мастерской. — Здесь! — подтвердил тот, глядя на побочного брата правителя Пергама. — Не узнаешь? — Да где же тебя узнать! — покачал головой Аристоник. — Накажи меня Гелиос, истинный патриций! И как тебя только не растерзали по пути сюда? — Да уж могли… — признался «римлянин» и, поправляя складки на тоге, добавил: — Только очень хотелось предстать перед вами во всем этом обличье! — Боялся, что мы без этого тебе не поверим? — обвел глазами собравшихся Аристоник. — Нет, Постум, нам хорошо известно, скольким опасностям ежедневно ты подвергался в этом проклятом городе, и без всякой тоги поверили бы каждому твоему слову! Верно я говорю? — Верно, Аристоник! Говори, Постум! — закричал, вскакивая с места, Кабир и подмигнул Демарху — мол, что я тебе говорил? Со всех сторон послышались одобрительные голоса: — Верно, верно! — Говори! — Не тяни!.. — Говори, Постум, — с мягкой улыбкой разрешил Аристоник и откинулся в кресле, чтобы удобнее было слушать. Постум сдержанно кивнул, посмотрел на Аристоника, потом — на Демарха, как показалось тому, прожигая его взглядом до самого сердца, на подавшегося вперед Кабира, обвел всю мастерскую серыми, запоминающими глазами и спокойно начал: — Рим сейчас переживает не самые лучшие дни в своей истории… — Хвала богам! — пробасил Анаксарх. Постум жестом попросил не перебивать его и продолжил: — За все семь веков его существования вряд ли найдется и трех примеров, чтобы так волновалось население внутри города, чтобы так была слаба армия и чтобы столь небезопасно для республики было на ее границах. Вот уже восемь лет Рим не может овладеть крошечной крепостью в Испании — Нуманцией, весь гарнизон которой едва ли насчитывает десять тысяч человек. И даже разрушителю Карфагена Сципиону Эмилиану пока не под силу сделать это, хотя на всех перекрестках Рима только и говорят, что бывший консул вот-вот разрушит стены Нуманции и продаст всех ее жителей в рабство! — Проклятые римляне! Будь проклят богами каждый, кто только их поддерживает! — прошептал Кабир, стискивая кулаки. — Не так блестяще обстоят дела у римлян и в Сицилии, — тем временем невозмутимо продолжал Постум. — И хотя нынешний консул Кальпурний Пизон, прозванный за свою честность Фруги… — Неужели среди римлян можно увидеть хоть одного честного человека? — воскликнул Анаксарх. — Да, — обращаясь к нему, кивнул Постум и тут же добавил: — Но только по отношению к своему народу. Этот Пизон, будучи претором в Сицилии, еще до восстания Евна закупил для Рима хлеб ниже нормированных сенатом цен и весь остаток до единого асса вернул в казну! Так вот… хотя он и осадил Тавромений, столицу Новосирийского царства, но до окончательной победы ему еще далеко… — Подожди, Постум! — остановил рассказчика Артемидор и показал на сидящего рядом с ним человека в лохмотьях некогда богатой одежды. — О событиях в Сицилии нам расскажет их непосредственный свидетель, участник штурма Мессаны. Верно, Прот? Прот, заметно исхудавший, осунувшийся за этот последний год, ловя на себе жадные, заинтересованные взгляды, согласно кивнул. «Какие люди! Какие люди… — глядя то на Постума, то на Прота, с восторгом думал Демарх. — Один проливал кровь за свободу рабов в Сицилии, другой рисковал жизнью в Риме. И что же — выдержав все испытания, они ушли от смерти в чужих краях, чтобы встретить ее здесь, в родном Пергаме?!» — Хорошо, тогда я не стану касаться событий в Сицилии, — с легкой обидой сказал Постум, и Демарх приготовился слушать, боясь пропустить слово. — Я буду рассказывать о том, что творится сейчас в Риме. Чтобы всем было понятно, коротко объясню то, что предшествовало этим событиям. Еще в ту далекую пору, когда Рим шаг за шагом завоевывал Италию, он по обычаю отбирал у побежденных одну треть их земли. Эта отобранная земля поступала в распоряжение государства и так и называлась: «общественная земля». — Распоряжаются кровной землей несчастных италийцев, как своей собственной! — закричал Кабир, и голос его задрожал от возмущения. — Проклятые римляне! — заволновались вокруг. — Им нет дела до слез крестьянина, у которого они украли его землю! — Какие там слезы — кровь! Ведь они наверняка убили этого крестьянина. Разве ты отдал бы так просто свою землю? — Я — ни за что! — Вот и он тоже… Постум подождал, пока утихнет шум, и спокойно продолжил: — Эту общественную землю римское правительство сдавало в аренду за небольшую плату. Многие знатные семьи столетиями пользовались ею и в конце концов стали считать ее своей собственностью. Часть этой общественной земли и захотел передать разорившимся и продавшим свои участки крестьянам ставший недавно народным трибуном Тиберий Гракх. — Тиберий Гракх? — задумчиво переспросил Аристоник. — Я, кажется, уже слышал это имя. Кто он? — Очевидно, тебе говорили о его отце, который начал кровавые бойни в Испании и разгромил Сардинию, продав почти всех жителей этого острова в рабство. Он женат на дочери Сципиона Африканского, победившего Ганнибала. От этого брака у них родился Тиберий Гракх — запомните это имя! О нем я и хочу рассказать. — Ну и семейка… — пробормотал, подергивая плечами, Анаксарх. — Дед и отец — душители целых народов. А что же сын? — Я, кажется, не произносил слова «душители», — резко бросил Постум. — Да, дед и отец Тиберия пролили немало крови. Но не следует забывать, что Карфаген до того, как склонить свою голову перед Римом, унижал и притеснял немало государств. А Гракха-старшего во время его наместничества в Испании очень уважали местные племена и особенно — Нуманция. — То-то она восстала против добренького Рима! — усмехнулся Анаксарх и замолчал, присмиренный недовольным взглядом Аристоника. — Я присутствовал при первом триумфе Тиберия на Палатинском холме, когда он впервые во время праздника сообщил, что решил бороться за преобразования в государстве, — сощурившись, словно заново переживая события годичной давности, сказал Постум. — Слышал и другие его предвыборные выступления. Он говорил о доблести римлян, о тех крестьянах, которые, пролив кровь за отечество, возвращались к своим поросшим сорными травами участкам, а потом, разорившись, продавали их богатым землевладельцам, оставаясь без земли и уходя в Рим, чтобы жить там на жалкие подачки. Каждый раз, заканчивая свои речи угрозами, что над Римом нависла смертельная опасность, он под одобрительный рев народа выдвигал свои требования: ограничить право пользования общественной землей пятьюстами югерами на самого арендатора и еще по 250 югеров на двух его взрослых сыновей, если они имелись, отобрать у владельцев всю общественную землю сверх этой нормы и передать ее безземельным и малоземельным крестьянам участками по тридцать югеров без права продажи за небольшую арендную плату. — Вот дает! Словно по писаному читает… — восхищенно прошептал Демарху Кабир и вслух спросил у Постума: — И что же, избрали его? — Конечно, — кивнул Постум. — Со всех окрестностей в Рим стали стекаться крестьяне, и Тиберий Гракх в короткий срок стал вождем народного движения. Все до единого трибуны проголосовали за него, несмотря на пущенный сенатом слух, что он предложил переделить землю с целью, возмутить народ и внести расстройство в жизнь государства. — Так, значит, Тиберий — наш? — недоверчиво спросил Кабир. — И тоже вождь, как Аристоник? — Наш Аристоник — вождь всех обездоленных, будь они пергамцами, сирийцами, эллинами или даже римлянами! — возразил носильщику Постум. — А Тиберий — вождь только римской бедноты. Главная его цель — возродить могущество армии Рима, которую в основном пополняет крестьянство, чтобы покорять все новые и новые народы. — Если даже такой чуткий к чужим страданиям человек сеет благо своему народу, чтобы другие пожинали слезы и кровь, что же тогда ждать от остальных римлян? — воскликнул Аристоник, обводя притихших заговорщиков гневным взглядом. — От того же Сципиона или «честнейшего» Пизона?! — Не бывать им в Пергаме! — послышался крик. — А если они и подойдут к нашим границам, то смерть им! — Смерть! — Аристоник, веди нас за собой, иначе твой брат откроет наши границы римлянам! — Веди, Аристоник!.. Видя, как вскакивают со всех мест купцы и воины, рабы и крестьяне, Аристоник торопливо дал знак Постуму продолжать свой доклад о Риме. — После того как сенату не удалось провалить Тиберия на выборах, он пошел на новую хитрость. Патриции уговорили выступить против Гракха самого близкого его друга, тоже народного трибуна этого года Марка Октавия. По указке сената он наложил вето на предлагаемый закон Тиберия, поставив тем самым его в трудное положение. Ведь, согласно римским законам, тот не мог выступить против этого запрета. Тогда Гракх решил действовать тем же оружием, что и сенат. Он сам наложил свое трибунское вето на должностных деятелей Рима до того дня, пока его законопроект не будет поставлен на голосование в народном собрании. Однако, этого ему показалось недостаточно, и тогда он запечатал своей печатью храм Сатурна, в котором находится часть государственной казны. Таким образом, он приостановил всю государственную деятельность Рима. — Ай да Тиберий Гракх! — восторженно толкнул локтем увлеченного рассказом Демарха Кабир. — Вот так и нам бы действовать. Тогда никакие римляне… Он поспешно замолчал, потому что Постум, переведя дыхание, уже продолжал свой доклад. — Эти решительные меры вызвали сильное раздражение в стане противников Тиберия, — сказал он. — Одни в знак протеста стали появляться на улицах Рима в траурных одеждах, другие тайно готовили покушение на жизнь неугодного трибуна. Но прямо выступить против запретов Гракха или поставить вопрос о лишении его полномочий народного трибуна никто не решался, боясь быть раздавленным, разорванным на куски разъяренной толпой народа. Постум говорил, не повышая голоса, лишь лицо его бледнело все сильнее и сильнее. — Тогда Тиберий сам перешел в наступление. Он собрал народное собрание и поставил вокруг себя большой отряд стражи с той целью, чтобы силой заставить Марка Октавия согласиться отменить свое вето и разрешить голосование за проект о переделе земли. Затем, угрожая секретарю, Тиберий приказал огласить свой законопроект. Секретарь начал было читать его, но Октавий торопливо выкрикнул: «Вето», и тот, испугавшись запрещения, замолчал. Между трибами началась перебранка. Тогда я увидел, как Тиберий поднялся на трибуну и сказал: «Сограждане! Трибуны, которых вы облекли такой большой властью, что одно лишь слово каждого из них может остановить жизнь государства, не могут прийти к соглашению. Поэтому я предлагаю: пусть волей народа один из них будет отстранен от должности. Октавий! — обратился он к своему бывшему другу. — Спроси мнение граждан, и если римский народ лишит меня звания трибуна, я тотчас отправлюсь в свой дом и буду жить, как простой гражданин. Клянусь тебе, Марк, что ты не увидишь меня в числе твоих недругов, если народ отметит тебя своим доверием». Что было ответить Марку Октавию? — Да, что? — невольно вырвалось у Кабира. Постум взглянул на него и ответил: — Понимая, что весь народ против него и поддержки он может ждать лишь от небольшой горстки патрициев, Октавий молчал. И тогда Тиберий сказал: «Народный трибун — есть лицо священное и неприкосновенное, ибо деятельность его посвящена народу и защите его интересов. Но если трибун, отвратившись от народа, причиняет ему вред, умаляет его власть, препятствует ему голосовать, то он сам отрешает себя от должности, так как не исполняет своего долга. Пусть он разрушил бы Капитолий, поджег Арсенал — и такого трибуна можно было бы в крайности терпеть. Поступая так, он был бы дурным трибуном, но тот, кто ниспровергает власть народа, уже не трибун. Терпимо ли, что трибун может изгнать даже консула, а народ не имеет права лишить власти трибуна, который злоупотребляет народу же во вред? Ведь народ выбирает одинаково и консула, и трибуна. Итак, недопустимо и то, чтобы трибун, погрешивший против народа, сохранил неприкосновенность, полученную от того же народа, ибо он подрывает ту самую силу, которая его возвысила. Если за трибуна подали голоса большинство триб, то это значит, что он получил трибунат по всей справедливости. Так не будет ли еще более справедливым отнять у него трибунат, если против него проголосуют трибы?» Постум на мгновение замолчал и виновато пожал плечами: — Тут я вынужден пропустить несколько фраз… — Как? — изумился Аристоник. — Неужели ты забыл их? — Нет, просто не расслышал! — улыбнулся Постум. — Поднялся такой шум, что нельзя было различить ни слова. И я уловил лишь самый конец речи Тиберия. Вот что он сказал: «Если трибун, отвернувшись от народа, причиняет ему вред, препятствует свободе, — такой трибун сам отстраняет себя от должности, ибо не исполняет своего долга. Тот, кто ниспровергает демократию, — уже не трибун. И я предлагаю решить, может ли занимать должность народного трибуна Марк Октавий, раз он препятствует принятию закона, который даст римскому народу кров, хлеб и работу!» Большинство решило немедленно приступить к голосованию, но оказалось, что, воспользовавшись волнениями, оптиматы похитили избирательные урны. Я уже был уверен, что народ тут же расправится с ними, как принесли новые урны, началось голосование, и первая же триба высказалась за предложение Тиберия отстранить Октавия. Ее поддержали следующие шестнадцать. Проголосуй против Октавия еще хоть одна триба — и по римским законам он был бы отстранен от своей должности. И тогда я увидел, как Тиберий взял за руку бледного трибуна и дружески обратился к нему: «Октавий! Откажись от своего „вето“! Этого жаждет народ, терпящий лишения и горе. Взгляни, с какой надеждой смотрят на тебя сейчас сограждане, и подумай, с каким презрением и ненавистью будут смотреть они, если ты обманешь доверие тех, кто тебя избрал. Не покрывай позором свое честное имя!» Постум обвел взглядом притихших заговорщиков и тихо сказал: — Я думаю, что Марк Октавий и согласился бы со своим бывшим другом, но тут из толпы нобилей кто-то громко крикнул: «Марк, так ты с нами или с чернью?» Голос этот тут же потонул в возмущенном гуле, но дело было сделано. Марк Октавий высвободился из объятий Тиберия и тихо проговорил: «Нет». «Октавий, опомнись!» — в последний раз попытался образумить его Гракх. — Если мой законопроект ущемит твои интересы, я готов из собственных средств возместить твой ущерб!» Наступила такая тишина, что я услышал, как за Форумом проезжает в повозке какая-то знатная дама. И все услышали, как Октавий еще тише сказал: «Вето…» «О боги! — услышал я возглас Тиберия и увидел, как он поднял к небу лицо. — Вы свидетели, что я против своей воли подвергаю своего бывшего друга бесчестью. Но иначе я не могу поступить! Продолжайте голосование!» — приказал он, обращаясь к семнадцатой трибе. Надо ли вам говорить, что и она лишила Октавия последней надежды? Да и остальные проголосовали против него. Тиберий приказал своим ликторам свести Марка с трибуны. Народ заволновался. Если бы не подоспевшие сторонники сената, которые вывели Октавия из толпы, я думаю, он был бы растерзан прямо на Форуме. А дальше пошло все так, как хотел Гракх и народ. Предложения Тиберия были поставлены на голосование и, когда их поддержали все трибы, стали законом. Тут же для их проведения в жизнь была избрана комиссия, в которую вошли сам Тиберий, его тесть Аппий Клавдий и младший брат Тиберия — Гай. Сейчас эта комиссия уже проводит свою нелегкую работу — ведь границы между собственными и общественными землями давно уже стерлись, владельцы за свой счет возводили постройки, осушали болота, разводили виноградники. К тому же, как я слышал, сенат постоянно ставит палки в колеса: отказывается предоставить подходящее помещение для работы, задерживает необходимые средства. Сам же Тиберий, опасаясь за свою жизнь, попросил народ охранять его от врагов. Я сам видел его на улицах Рима, идущим в сопровождении вооруженных людей из народа. Особенно помогает ему в этом Гай Биллий, который уже предотвратил несколько покушений. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать вам о Риме, который только и живет сейчас тем, что разбивается на две партии вокруг комиссии Тиберия Гракха. — Все, да не все! — неожиданно послышался веселый голос Артемидора. — Радуя нас сообщениями о распрях внутри страны нашего врага, ты забыл сказать самое главное! — Что именно? Что? — заволновался Постум. — А то, за кого ты сам голосовал — за Тиберия или этого беднягу Марка Октавия! Постум махнул рукой на купца, и все вокруг зашевелились, сбросили оцепенение и засмеялись тем дружным смехом, который объединяет и роднит самых разных людей, делая их единомышленниками. Демарх тоже смеялся вместе со всеми и вдруг, вспомнив, что до встречи с Эвдемом осталось еще на один час меньше, снова опустил голову и предался своим тяжелым думам. 5. Диодор?.. Никодор?! Не будь повозки, ходить бы Ладу с Эвбулидом по Пергаму в поисках нужного купца среди всех этих Афинодоров и Аполлодоров до самого вечера. Но мулы бойко несли их по широким, чистым улицам города, и уже через час Эвбулид, выйдя из лавки последнего такого Аполлодора виновато развел руками: — Опять не он! — Может, объехать всех остальных? — предложил Лад. — Нет! Тот купец ясно сказал, что занимаются ваянием и ездили в Афины только эти… — Тогда нам остается только одно! — Что именно? — Зайти в приличную харчевню и проесть этот золотой! — показал Лад новенький статер, ярко блеснувший на солнце. — Может, кубок настоящего, доброго вина прочистит тебе мозги, и ты наконец вспомнишь, как зовут твоего загадочного знакомого! — Конечно, Лад — обрадовался Эвбулид. — У нас в Афинах недаром говорят: «Пьющий воду ничего умного не сотворит!» Хозяин ближайшей харчевни с броской вывеской «Здесь обед, а не кормежка» велел своему слуге гнать двух непривычных для его одной из лучших в Пергаме харчевен посетителей. Но, увидев золотую монету, осекся, замахал на слугу руками и вытаращил глаза на богатеев с короткими прическами рабов и со следами недавних побоев на лицах. Первой его мыслью было немедленно вызвать астиномов, но желание получить целый статер оказалось сильнее страха заплатить штраф, если эти рабы — беглые, а золото — ворованное. По знаку хозяина слуга, кланяясь Ладу с Эвбулидом, провел их к столику в уютном месте зала. Не прошло пяти минут, как перед голодными друзьями уже стояло несколько блюд с дымящейся бараниной, мясом оленя, поджаренным на вертеле, козьи желудки, начиненные кровью и жиром, сводящие с ума своими запахами подливы, приправы, салаты… Сам хозяин поднес гостям кувшин самого лучшего, по его словам, хиосского вина и, пожелав приятного обеда достойным посетителям, на цыпочках удалился. Услышав упоминание об острове, где их продали в рабство, Эвбулид с Ладом переглянулись, но тут же забыли о былых огорчениях, потому что, судя по запаху, ударившему в ноздри, вино действительно было на славу. — Ну? — наполнив кубки до краев, провозгласил Лад. — За твоего знакомого! — И за наш побег! — шепнул в ответ Эвбулид. — За Домицию! Чтобы она скорее встала на ноги! Выпив, Лад крякнул и потянулся пальцами к жирному куску баранины. Эвбулид начал пир с козьего желудка. — Никогда не ел таких вкусных вещей! — давясь, сообщил сколот, и Эвбулид, не переставая жевать, усмехнулся: — После того, чем нас с тобой кормили в имении, и жареный камень вкусным покажется! — Если только его полить такой подливкой! — поддакнул Лад, обливая оленину чесночным соусом. — И засыпать зеленью! — согласился Эвбулид, посыпая куриную ножку мелко нарезанными травами. — Заесть этим салатом! — Запить вином! Эвбулид потянулся к кувшину, но Лад решительно накрыл его пальцы своей широкой ладонью. — Пить больше не будем! — сказал он. — Нам еще дело надо сделать. — Но, Лад, такое вино!.. — Все! — отрезал сколот, отставляя кувшин в дальний от грека конец стола. — Кто с нами пьяными разговаривать будет? И так все косятся, что мы рабы… Вспоминай лучше, кому подарен этот твой купец… — Сейчас, — кивнул Эвбулид. — Значит, так! Афинодор и Аполлодор отпадают? — Отпадают! — Тогда им может быть Гермодор… Нет, не Гермодор! Пандор… Палладор… — Это уже было! — напомнил Лад. — Мы искали Аполлодора — подаренного Аполлону, а это — дар Палладе! — пояснил Эвбулид. — Еще одна богиня? — Нет — прозвище Афины, значит «воительница»! — О, боги! — совсем по-эллински ужаснулся Лад. — Еще и прозвища… — Нимфодор… Асклепиодор… Афродитодор… — не слушая его, бормотал Эвбулид, и вдруг лицо его страдальчески сморщилось. — Нет, не могу! Ну прямо вертится на языке, и только вроде вспомню, как ускользает. Слушай, а может Диодор? — Это ты меня спрашиваешь? — поднял глаза на грека Лад. — Или Никодор… — угасающим голосом добавил Эвбулид. — Дар богине победы… — Ну хорошо! — успокаивающе сказал сколот. — Вот только доедим, и отправимся искать этих твоих Диодоров и победителей! Он вытер о полу одежды запачканные в жире пальцы. — Лад! — укоризненно остановил его Эвбулид. — Мы же здесь с золотым статером, а не с горстью медяков! Показывая пример, он аккуратно вытер пальцы о мякиш хлеба и положил его в пустую миску. — Чудно! — удивился Лад, но тоже помял хлеб пальцами и, покосившись на занятого своими мыслями Эвбулида, отправил его себе в рот. Через полчаса, выйдя из харчевни, они уложили в повозку кувшин с недопитым вином, миски с оставшимися кусками мяса и салатами, расспросили прохожих и поехали на поиски нужного купца среди полутора десятков Диодоров и семи Никодоров. — Как там Домиция? — вздохнув, спросил Лад у Эвбулида, вышедшего с разочарованным лицом из первой же лавки. — Уже заскучал? — устраиваясь поудобнее, так как путь теперь лежал в другой конец города, усмехнулся грек. — Понимаешь… — не принимая его иронии, задумчиво сказал Лад. — Она такая гордая, добрая и цену себе знает, совсем как девушки моей тверди. Как по такой не скучать? — Так и женился бы на девушке из своей тверди! — мягко посоветовал Эвбулид, вспоминая Фемистокла. — Нет, — покачал головой сколот. — Они хорошие, но такой, как Домиция, у нас нет. Сколько я не видел эллинок и здешних девушек, все они какие-то ветреные, легкомысленные, поверишь, некоторые готовы броситься в объятия любому мужчине! — Эх, Лад, Лад! — с улыбкой глядя на сколота, заметил Эвбулид. — Ты не видел наших гетер! — А кто это? — О, это образованные женщины, они умеют петь, играть на арфе и кифаре, умно поддерживать любую беседу. Ими восхищаются, о них пишут драмы, им воздвигаются золотые статуи. Но… — Эвбулид хитро посмотрел на внимательно слушавшего его сколота. — Они имеют один маленький недостаток. — Понимаю, у них вздорный характер? — Да нет, как раз мягким норовом боги их не обделили! — Значит, они неверны своим мужьям? — В некотором роде! — кивнул Эвбулид. — И хотя мужей у них не бывает, верностью они никогда не отличались. Они продают себя, — объяснил он и, поймав недоуменный взгляд сколота, добавил: — Ну, торгуют своим телом за деньги! — И после этого им воздвигают золотые статуи? — изумленно воскликнул Лад. — Увы! — развел руками Эвбулид и, в свою очередь, с удивлением взглянул на сколота: — А разве у тебя на родине таких нет? — Конечно, нет! — Разве у вас нет девушек, которые живут в полной нищете и умирают от голода? — Есть, особенно в ненастный год, — хмуро отозвался Лад. — Но чтобы выжить таким позорным способом… Да они скорее убьют себя, чем пойдут на это! Я знаю, у некоторых племен скифов есть древний обычай, когда хозяин из гостеприимства укладывает с гостем свою жену или дочь, смотря какой у него возраст. Или здешние рабыни отдаются мужчинам, потому что этого требует природа. Но торговать своим телом женщине, которая поет, играет на кифаре, которая может поддержать разговор мужей… — Ну, у нас есть и продажные девицы, которые не умеют ничего этого! — сказал Эвбулид, пораженный чистотой и непорочностью племени Лада. — В Афинах их называют «пешими телочками». — Телочки, да еще пешие? — качая головой, переспросил сколот. — Так их зовут в честь пехотинцев, которые, в отличие от конницы, сопровождаемой музыкантами, выступают в поход без музыки! — объяснил Эвбулид. Лад с минуту молчал, вдумываясь в смысл сказанного, а потом вдруг захохотал, запрокинув голову, и повозка принялась дергаться из стороны в сторону, пугая встречных прохожих. Эвбулид хотел было вырвать вожжи из рук друга, но тот хохотал с такой заразительностью, что и сам он невольно сначала усмехался, а потом засмеялся громко, во весь голос, чего не было с ним за все время, проведенное в рабстве. Успокоившись, они вытерли выступившие на глазах слезы и поехали дальше, думая каждый о своем. Лад долго молча правил мулами, шевеля губами, словно решая важный для себя вопрос, и перед тем, как остановить повозку около нужной лавки, весомо сказал успевшему задремать Эвбулиду: — Конечно, во многом нам еще далеко до вас, эллинов. Но и вам, эллинам, тоже далеко до нас! 6. «Сюда бы твои миллионы!» «О боги, вразумите хоть вы меня, подскажите, что делать? — взывал к богам Демарх, не видя и не слыша, как обступившие Постума заговорщики засыпают его вопросами о Риме. — Я знаю, что Эвдем негодяй, знаю с того самого дня, как побывал в его подвалах. И все мои сегодняшние мысли о благодарности к нему за спасение порождены лишь одним: страхом!» Он даже не заметил, как улеглись страсти вокруг Постума и на середину мастерской вышел Прот. — Да что это с тобой действительно сегодня? — зашипел Кабир, выводя Демарха из оцепенения. — Нет-нет, ничего! — поспешно ответил тот, видя, что взоры всех заговорщиков устремлены на смуглого человека, приехавшего из Сицилии. — Может, сходим после собрания в харчевню, развеемся? Как раз вчера один чудак эллин дал мне целую горсть монет за то, что я подвез его вещи к алтарю Зевса! Демарх отрицательно покачал головой и, забывая про Эвдема, во все глаза стал смотреть на человека, жившего в царстве рабов, о котором вот уже несколько лет только и разговоров было среди бедноты Пергама. Какими только слухами и невероятными подробностями не обрастали события в Сицилии! Говорили, что Евн огромного роста, чуть ли не в десять локтей, с тремя глазами, один из которых он постоянно держит закрытым, потому что может прожечь им человека насквозь. Что его полководцы, едва освободившись от рабства, наголову разбили опытных, испытанных в боях с испанцами, эллинами, сирийцами римских преторов. Что сам Евн держит в своей спальне живую Астарту, с которой советуется, прежде чем приступить к важному делу. Кого слушать? Кому верить? И вот теперь появилась редкостная возможность узнать всю правду из первых уст. Сам же Прот, почувствовав себя в центре внимания, обратился ко всем с приветствием ленивым, не терпящим возражений тоном, приобретенным им в то счастливое время, когда он был одним из богатейших жителей Тавромения. — Да хранят вас, уважаемые, все подземные и небесные боги! — важно сказал он, кланяясь одному лишь Аристонику. — Я пришел сюда, чтобы поведать вам, какая опасность нависла над Пергамом. — Да это мы и сами знаем! — зашумели вокруг. — Ты нам про Сицилию давай! Как там Тавромений — держится? — Не знаю! — ответил Прот. — Я был последним человеком, который вышел живым из этого города. Но я… — Про Евна! Про Евна теперь!.. — снова опередили его. — Это правда, что он из жалкого раба превратился в настоящего базилевса? — Правда! — усмехаясь одними губами, кивнул Прот. — Но я пришел, чтобы сказать, что мой господин Луций Пропорций… — Что нам твой Пропорций? — еще громче зашумели заговорщики. — Хватит с нас всех тех Сульпициев, Маниев и всяких Гаев, чем наводнили Пергам! — Ты нам про Евна, про Евна давай! Окончательно сбитый с толку Прот оглянулся на Артемидора, ища поддержки, и тот, ободряюще улыбнувшись ему, посоветовал: — Расскажи им все по порядку! — Ну, хорошо… — пожал плечами Прот, обвел глазами скульптурную мастерскую, повсюду ловя на себе жадные взгляды, и начал свою бесхитростную историю. Притихшие заговорщики, затаив дыхание, слушали, как он попал на остров восставших рабов и отправился на поиски несметных сокровищ Тита Максима. — И нашел?! — вскочил со своего места Кабир, поедая глазами рассказчика. — Нашел… — с горечью усмехнулся Прот, вспоминая, как слуги Серапиона вносили во дворец и ставили перед троном обитые бронзой ящики, в которых было золото, серебро, драгоценные камни. — Нам бы сюда эти миллионы! — воскликнул Кабир. На него зашикали, но он горячо воскликнул: — Представляете, сколько на них можно было бы купить оружия?! Дождавшись тишины, Прот стал говорить, как по совету эллина Фемистокла он перехитрил Евна, взяв с него царское слово и клятву Астарте, и Демарх даже вздрогнул — так были созвучны эти слова с его мыслями об Эвдеме. «Конечно же, его тоже надо перехитрить! — осенило его — Но как? До сих пор заговорщики живы моим молчанием. Дважды мне удавалось обмануть Эвдема, рассказывая о разных мелочах, касающихся торговцев этой лавки. Эвдем верил… А может, делал вид, что верит? — задумался Демарх. И страх снова сковал все его тело. — Надо подробно вспомнить последний разговор с Эвдемом. Значит, так, он сказал мне о том, что здесь должно состояться собрание. Кто же мог выдать это место? Возможно, что кто-то из тех несчастных в его подвалах. А может, здесь помимо меня сидят его люди? И Эвдем проверяет меня? — Демарх обвел настороженным взглядом увлеченных рассказом Прота людей, но тут же отогнал от себя эту мысль. — Нет, этого не может быть. Иначе Эвдем точно знал бы день этой встречи. Но все равно, сегодня он потребует от меня ответа. И что я ему скажу на этот раз? Ах да, перехитрить… Может, сказать, что здесь собираются купцы, чтобы обсудить цены на хлеб нового урожая или на оливковое масло?.. Не поверит. Тогда… что смотрели и обсуждали новую статую Артемидора? — Он покосился на статую Селены в углу мастерской, которой не видел раньше, но тут же отогнал и эту мысль. — Нет, он только посмеется в ответ, и после этого смеха мне придется горько плакать. Тут надо что-то другое. Такое, чтобы он поверил мне. Но что? Что?!» 7. Артемидор! Тем временем Эвбулид выходил из лавки очередного Диодора. — Все! — объявил Лад, едва только взглянул на его лицо. — На сегодня хватит! — А может, еще в одну лавку? — предложил грек. — Вот она, прямо через дорогу! И он показал рукой на яркую вывеску: «Здесь Никодор предлагает хозяевам и гостям Пергама лучшие вазы столицы!» — Ну, если только через дорогу… — соглашаясь, проворчал сколот, и Эвбулид, сделав несколько шагов, оказался в просторной лавке. Все прилавки были уставлены действительно прекрасными вазами и амфорами, каких он еще не видел в Пергаме. Лучшие из них были покрыты красочными рисунками, изображающими жизнь богов и героев. Все эти Гераклы, Гермесы, Нимфы и амазонки потускнели, едва он увидел хозяина лавки. Маленький, сгорбленный человечек, высоко задрав на него голову, оскалил крошечные неровные зубы: — Твой господин послал тебя за подарком для своей жены? Правильно сделал, ведь самые лучшие вазы в Пергаме — у меня. — Нет, я… — замялся Эвбулид. — Понимаю, — перебил его хозяин. — Ты разбил господскую вазу и теперь, опасаясь наказания, хочешь купить взамен на свой пекулий недорогую? Тогда тебе повезло — один из моих мастеров не углядел, и вот пожалуйста: две вазы соприкоснулись в средней части печи, и на лице эфеба, как видишь, отпечаталась нога лошади. Мастера я, конечно, наказал, теперь он будет выполнять у меня самую тяжелую работу… Эвбулид вышел из лавки с тяжелым сердцем и несколько кварталов ехал молча. Лад, покосившись на него, с удивлением спросил: — Что с тобой? — Да так… — пробормотал Эвбулид. — Ничего! — Подумаешь — не та лавка! — попытался успокоить его сколот. — Главное, что мы знаем теперь, что он не Афинодор, Диодор и этот, как его — Аполлодор! — У нас, кроме богов, случается еще дарят младенцев людям! — глухо проронил Эвбулид, сидя с низко опущенной головой. Лад метнул на него сердитый взгляд, но, пересилив себя, по-прежнему мягко сказал: — Ну и что? Значит, будем искать еще месяц, даже год, но обязательно найдем! — Да-да, найдем… — бесцветным голосом отозвался Эвбулид. — Да что это с тобой, Перун тебя порази! — взорвался, не выдержав, сколот. — Ты же сам на себя не похож! Может, отхлебнешь вина? — Не хочу! — оттолкнув рукой кувшин, протянутый Ладом, покачал головой грек, и сколот не на шутку встревожился: — Может, ты заболел? — Нет, сейчас пройдет! — отмахнулся он от расспросов. Как он мог сказать Ладу, своему бывшему рабу, которого когда-то приказал бить истрихидой и подвешивать за руки к крючьям, что этот владелец лавки с прекрасными вазами напомнил ему, каким он сам был в Афинах. Армен — не в счет. Он был хоть и бесправным, но все-таки членом его семьи. А вот о пытках чужих рабов, казнях, жестоких наказаниях за их малейшие провинности он слушал ежедневно от своих приятелей, как о само собой разумеющемся. И еще, глупец, раздуваясь от важности, как тот павлин, которого он принес в прощальный вечер в дом, доказывал Фемистоклу, что прав афинский закон, запрещающий кормить раба, если тот не работает, и что каждое обращение к рабу должно быть приказанием! Не ведая этих мыслей, но стараясь отвлечь Эвбулида, Лад воскликнул: — Смотри! Вон еще одна лавка с вазами, может, зайдем? Эвбулид бегло взглянул на вывеску и угрюмо заметил, что ее хозяина зовут Леонид. — А вон девчушка! Да какая странная — словно ее только что вытащили из печки! — не унимался сколот. — Я видел темных египтянок, сириек, но эта — эта же совсем черная! Ты только посмотри! — Обычная нумидийка! — скользнув глазами по идущей с корзиной девочке, отмахнулся Эвбулид. — У них всегда такая кожа, курчавые волосы и толстые губы… — Чудно! — покачал головой Лад. — Ничего чудного! — желчно возразил грек. — Нашел, чем меня удивлять. У нас в Афинах знаешь сколько таких? А некоторые ремесленники даже на вазах… — Стой! — внезапно закричал он, хватаясь за вожжи. Если бы не быстрая реакция Лада, мулы вынесли бы их на пешеходную часть улицы. — Чего это ты? — изумился сколот. — То сидишь, как будто пришибленный, а то, как оглашенный… Эвбулид не дал ему договорить, соскочил с повозки и бросился вслед за девочкой, которая уже успела скрыться за поворотом. — Эвбулид! Куда?! — только и успел крикнуть ему вдогонку ошеломленный Лад. Не видя и не слыша ничего, налетая на прохожих, грек добежал до поворота, огляделся и, увидев в толпе черные руки и шею, бросился дальше. Догнав африканку, он ухватил ее за корзину и, задыхаясь, спросил: — Скажи… твой хозяин торгует вазами? — Да, — удивленно ответила африканка, не понимая, зачем она понадобилась незнакомому рабу. — А он ваяет статуи? — Да! — А тебя ваял? — Да. Однажды! — охотно ответила девочка и с гордостью добавила: — И чаши, которые копируют с той статуи, самые дорогие в нашей лавке! — Имя! — только и смог выговорить, не веря в неслыханную удачу, Эвбулид. — Как его имя?! — Его зовут Господин! — О святая простота! Я спрашиваю, как называют его жена и друзья! — У него нет жены, — пожала плечами африканка. — А господа, что бывают у нас, называют его Артемидором! — Артемидор!.. — прошептал, ударяя себя по лбу Эвбулид. — Конечно же, Артемидор! И как же я это не вспомнил?.. Девочка с удивлением посмотрела на странного раба и робко спросила: — Я могу идти? — Идти? Куда? — испугавшись, что она вдруг исчезнет, схватил ее за руку Эвбулид. — На рынок… — попятилась африканка. — Мне велено купить беленького поросенка. Сегодня у нас начинается обжиг новых ваз, и его принесут в жертву. Пусти, а то я закричу! — А далеко ли еще до рынка? — ослабляя пальцы, спросил Эвбулид. — Да, — вздохнула девочка. — Жертвенные поросята бывают только на Нижнем рынке! — И тебе потом придется еще нести его наверх? — посочувствовал Эвбулид. — Да… А что же делать? — Как что? У нас есть повозка, и мы отвезем тебя на рынок. Там ты быстренько купишь поросенка и с ним поедешь назад, к лавке Артемидора! — А вы не грабители? — испуганно спросила девочка, переводя глаза с Эвбулида на могучего Лада, восседающего в подъезжающей повозке. — А то учтите, у меня всего лишь две драхмы! — Ну что ты, какие же мы грабители? — с трудом сдерживая нетерпение, улыбнулся Эвбулид. — Я давний приятель твоего господина, а это, — он оглянулся на Лада, — мой друг! — Тогда едем! — решилась девочка. — Я еще никогда не ездила в повозке! — Едем! Лад, гони на Нижний рынок! — Это до конца квартала, а потом прямо и прямо! — объяснила девочка, забираясь с ногами в повозку и восхищенно оглядываясь вокруг. — Что ты задумал? — проворчал сколот, косясь на нее. — Зачем нам она? — А затем, — растягивая удовольствие, не сразу открыл всю правду Эвбулид, — что это рабыня купца, который торгует вазами… — Ну и что? — пожал плечами Лад. — И ваяет скульптуры… — Ну… — Бывает в Афинах! — Ну! — заторопил Эвбулида Лад, почувствовав, что сейчас услышит что-то важное. — А еще его зовут Артемидор, и это тот самый купец, который нам нужен! — Ну?! — Вот тебе и ну, Лад! — радостно обнял сколота Эвбулид. — Мы спасены! 8. Хитрость Демарха В самый разгар рассказа Прота потайная дверь громко заскрипела, и взоры всех заговорщиков устремились к ней. На пороге, явно кого-то сдерживая, стоял начальник охраны Пифон. Из-за плеча его выглядывал грек Лимней, в обязанности которого входило охранять вход в лавку и сразу же сообщать обо всем подозрительном. — Артемидор! — взмолился Пифон, не выдерживая натиска и впуская в мастерскую сердитого Лада, а следом за ним и Эвбулида. — Эти сумасшедшие грозились разнести лавку, если я срочно не пропущу их к тебе! — Мы испугались шума и пропустили их, господин, — добавил Лимней и показал рукой на Эвбулида: — Тем более этот эллин утверждает, что он твой друг и что ты приглашал его к себе в гости! — Я? — удивленно вскинул бровь Артемидор, оглядывая непрошеных гостей и строго спросил их: — Кто вы такие и что вам от меня надо? — Артемидор! — бросаясь вперед, вскричал Эвбулид. — Ты не узнаешь меня?! — Нет! — покачал головой купец. — Меня зовут Эвбулид, но ты этого, конечно, не знаешь. Я тот, что покупал у тебя на афинской сомате чашу и колбу, а ты еще советовал мне купить сколотов и приглашал в гости посмотреть твои статуи! Вот он я, пришел… Брови Артемидора узнавающе дрогнули, хотя разум отказывался признать в этом поседевшем, изможденном, по-рабски сложившем руки на груди человеке того счастливого, полнолицего афинянина, который расспрашивал его о привозе рабов на сомату и, кажется, действительно купил что-то из товаров. Он перевел глаза на продолжавшего стоять у двери рослого раба и, признав в нем пленника из той самой партии, что он предложил купить греку, горестно покачал головой: — Ай-ай, что судьба может сотворить с нами! Так, выходит, ты сам теперь раб? — Да, Артемидор! — воскликнул грек. — И у кого же? — У Эвдема… — Ай-ай, к кому тебя угораздило попасть! — снова покачал головой купец. — А этот твой… бывший раб тоже теперь у этого вельможи, преданного царем и проклятого нами? — Да, он управляющий его загородным имением… — Загородным? — встревоженно включился в разговор Аристоник. — И он что же, в разгар страды отпустил тебя в гости?! — Да нет… — замялся Эвбулид, смущенный властным взглядом одетого в бедный хитон человека. — Мы сами… — Значит, сбежали? — с облегчением вздохнул Артемидор, обмениваясь с Аристоником взглядом. — Вроде того… — развел руками Эвбулид. — Что же мне теперь с вами делать? — задумался купец. Артемидор замолчал. Демарх тем временем ошеломленно глядел то на Лада, то на Эвбулида. «Здесь рабы Эвдема! — быстро соображал он. — Беглые рабы! Но ведь Эвдем приказал мне выдать преступников — подозрительных людей или… беглых рабов! О боги, неужели вы решили помочь мне и спасти и моих друзей, и семью? Я теперь могу выдать Эвдему этих двоих, а про остальных скажу, что все они — любители скульптур, которые ваяет Артемидор! И все — Мелитина, Дасий, Саранта, Аристоник, Кабир, Анаксарх будут спасены, а эти… — Демарх, сощурившись, посмотрел на рабов. — Эти получат по заслугам. И поделом: один из них управляющий, а это звери, что хуже своих господ! Да и эллин, раз так запросто с ним, скорее всего, тоже из надсмотрщиков! Хватит мучить других в угоду Эвдему, пускай теперь сами от него помучаются!..» Он встал и, воспользовавшись тем, что Артемидор был занят с беглыми рабами, а все остальные смотрели на Прота, рассказывающего о том, какая роскошь и рабы окружали его, когда он был одним из самых богатых людей Тавромения, незаметно выскользнул из мастерской. Выйдя из лавки, Демарх бегом направился ко дворцу Эвдема и застал вельможу в своем кабинете, беседующим с Протасием о хозяйственных делах в имениях. — Господин! — задыхаясь, сообщил он. — Я нашел преступников! — Так-так, — бросая на стол испещренные цифрами листки, воскликнул Эвдем. — Говори! — Как ты и приказал мне, я внимательно следил за каждым человеком, приходящим в лавку Артемидора! — начал обдумавший по дороге все, что надо ему говорить, Демарх. — Хорошо! — одобрил Эвдем. — Сегодня среди них были и купцы, и ремесленники. — И все они сейчас в лавке Артемидора? Прекрасно, Демарх! Я подумаю, как наградить тебя за то, что ты предоставил в мое распоряжение всех преступников! — Но преступники не они, господин! — побледнел Демарх, никак не ожидавший такого поворота дел. — Что? — не понял Эвдем. — А кто же?! — Твои беглые рабы! — Мои рабы! В стане заговорщиков?! — Да какие там заговорщики! — через силу улыбнулся Демарх. — Они собрались для того, чтобы обсудить Селену… — Какую еще Селену, что ты мелешь?! — Селену — богиню Луны. — Это новая статуя Артемидора! — И рабы все еще там? — Да, господин… — поклонился Демарх. — В таком случае, мы немедленно пойдем туда, и ты покажешь их нам! — решил Эвдем. — Господин, пощади! — в страхе попятился Демарх. — Ведь меня убьют за это! — Убьют? — с усмешкой переспросил Эвдем. — За то, что ты помешаешь обсуждать статую? И кто — любители высокого искусства?! Демарх молчал. — Подожди за дверью! — коротко бросил Эвдем и, как только они остались наедине с Протасием, убежденно сказал: — Это заговор! Их надо немедленно накрыть всех вместе, перевязать и выдать Атталу! — Но ты нарушишь закон, и тот же Аттал может казнить тебя за это! — предупредил Протасий. — Что, если они действительно все как один станут на следствии говорить, что обсуждали статую? — У меня есть повод — в лавке Артемидора мои беглые рабы! — отрезал Эвдем. — И довольно разговоров, я слишком долго ждал этого дня! Вызывай всю мою охрану! …В ту минуту, когда Эвдем с вооруженной охраной и Демархом, подгоняемым Протасием, вышли из дворца, Прот закончил свой рассказ, и Артемидор приказал ему: — А теперь давай самое главное! — Как? — удивился Анаксарх. — Разве он не все нам сказал? — Вы перебили меня! — напомнил Прот. — А ведь я три месяца добирался сюда. Мой корабль разбился в бурю о скалы, немногие счастливчики высадились в Сирии, и чтобы снова не стать рабами, мы шли по ночам, голодные, замерзшие. И вот я здесь… Обращаясь больше к Аристонику, чем к остальным, он рассказал все, что знал о своем бывшем господине, Луции Пропорцие, который год назад отправился в Пергам, чтобы заставить Аттала завещать царство Риму, а затем отравить его. — Год назад? — удивленно переспросил Аристоник. — Не может такого быть, ведь Аттал жив, да и Пергам по-прежнему остался пергамским! — Ты живешь в Левках и потому не знаешь новых порядков, которые ввел во дворце твой брат! — заметил Артемидор. — Теперь простому смертному к нему и не пробраться! Так что не удивительно, что римский посланец пока ничего не добился. Но меня настораживает другое. — Что именно? — нахмурился Аристоник. — Мне докладывают о каждом прибывшем к нам римлянине, но я не помню такого имени. Анаксарх, а тебе оно о чем-нибудь говорит? — Нет! — отозвался дородный купец. — Не было такого! — Значит, он приехал в Пергам под чужим именем… — задумался Аристоник. — И наверняка за год успел втереться в доверие к брату, и как знать, может, это завещание уже написано и брат пребывает в смертельной опасности! — Пергам пребывает в этой опасности! — вскакивая с места, воскликнул Кабир. — И пока мы не найдем этого Пропорция… — Постой! — услышав знакомое имя, привстал с лавки Эвбулид и обратился к Проту: — Ты сказал — Квинт Пропорций? — Нет, Луций… — пожал плечами Прот. — Так это же брат Квинта! — громко воскликнул Эвбулид. — Погоди! Ты знаешь Пропорциев? — удивленно спросил Артемидор. — Еще бы! — в свою очередь, удивился грек. — Эти братья похожи как две капли воды. — Они близнецы! — подтвердил Прот. Артемидор поднялся со своего места, подошел к греку и обнял его за плечи: — Эвбулид, сами боги послали тебя нам! У нас есть подкупленные люди во дворце, я договорюсь с ними, мы выкупим тебя у Эвдема и продадим Атталу. Так надо, Эвбулид! — Надо? Кому?! — Мне! Аристонику! — показал глазами на побочного брата царя купец. — Тебе, Пергаму, всем нам! Во дворце ты опознаешь этого Луция Пропорция, или кто он там теперь — Марк, Гай, Публий, и немедленно сообщишь нам об этом! — Хорошо… — разочарованно пожал плечами Эвбулид. — Хотя я думал, ты поможешь мне, и я стану свободным, а не опять рабом, хоть и у самого царя… — Ты будешь свободным, Эвбулид! — поднялся со своего кресла Аристоник. — И я? — подал голос Лад. — И ты! — И Домиция?! — Все будете — и купцы, и ремесленники, и рабы! — пообещал Аристоник. — И если только нам удастся отстоять Пергам от Рима, то, клянусь Гелиосом, я превращу это царство в такой же остров Тапробана, какой описан в старинной книге Ямбула. — Расскажи нам о ней, Аристоник! — попросил Кабир, и все как один стали просить его: — Расскажи! — Что это за остров? — Неужели там все свободны?! — Там более чем свободны! — охотно ответил Аристоник. — Жители острова Тапробана поклоняются богу Солнца и потому они самые счастливые на земле! — Мы тоже будем поклоняться ему! — воскликнул Кабир. — Правда, правда, — подтвердил Артемидор. — И это поможет нам объединить сирийцев и тавров, понтийцев и египтян, ведь у каждого народа бог Солнца в особом почете! Аристоник благодарно кивнул Артемидору и продолжил: — Законом на этом острове положено жить до ста пятидесяти лет. — А кто не желает жить так долго? — спросил изможденный ремесленник, сидящий поблизости от Эвбулида. — Тот ложится на траву и засыпает навеки приятным сном! — объяснил Аристоник. — Люди там не знают болезней, хотя и слышали, что они существуют. Живут они мирно, ни с кем не ссорятся и ни с кем не воюют, хотя знают, что на земле бывают войны. А им воевать незачем: почва у них плодородная… — Как у нас в Пергаме! — снова встрял Кабир. — …плодов родится больше, чем нужно для пропитания, — кивнув ему, продолжил Аристоник. — Вода сладкая, всего вдоволь. Питаются они умеренно, работают по силам. Есть у них и азбука из двадцати двух букв. Но свои книги они пишут сверху вниз. Вот так! — жестом показал он и с улыбкой закончил: — Таких островов на свете семь. Все они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, и везде люди боготворят Солнце! — Наш Пергам будет восьмым таким островом! — послышался чей-то восторженный крик, и в мастерской воцарилось шумное веселье. — И мы тоже будем жить до ста пятидесяти лет! — кричал Кабир, обнимая натянуто улыбавшегося ему Артемидора. — И тоже поклоняться Гелиосу! — вторил ему долговязый крестьянин. — А колесницу его поведет перед нами Аристоник! — И все мы будем зваться гражданами государства Солнца — гелиополитами! — Ге-ли-о-по-ли-ты! Ге-ли-о-по-ли-ты!! — закричали бедняки, недружно поддерживаемые купцами и зажиточными ремесленниками. Аристоник вместе со всеми с серьезным и счастливым лицом, поднятым кверху, как бы призывая в свидетели Гелиоса, громко восклицал: — Гелиополиты! — …Он похож на Фаэтона! — вдруг услышал Эвбулид голос наклонившегося к самому его уху Лада. — Что? — переспросил тот. — Я говорю, как бы он не стал похож на того Фаэтона, о котором ты мне рассказывал! — прокричал сколот, показывая глазами на обнимавшегося с Анаксархом и Кабиром Аристоника. — Ведь такое царство даже не колесница Гелиоса! И соседи сразу будут страшнее скорпионов и тельцов! Ему придется крепко держать вожжи в своих руках, а он какой-то мягкий и добрый, хоть и брат царя! — Он теперь брат всем обездоленным, потому что живет в их кварталах, увидел все их беды, — возразил Эвбулид. — И сделает все, чтобы они были счастливы и… Он не договорил. Дверь неожиданно распахнулась, и в мастерскую ворвалась группа вооруженных людей в блестящих кованых доспехах. Остриями мечей и пик они принялись оттеснять опешивших заговорщиков в глубь мастерской. Несколько мгновений длилась растерянность собравшихся. Вдруг кто-то негромко воскликнул: «Аристоник!» — и тотчас же все они образовали вокруг своего кумира плотное кольцо, готовые до последнего защищать его от непрошеных гостей. Последними в мастерскую вошли Эвдем с Протасием и едва передвигающий ноги Демарх. — Что это значит, Эвдем? — увидев вельможу, гневно закричал Артемидор. — По какому праву ты врываешься в мою лавку и направляешь оружие на моих друзей?! — По праву начальника следствия! — властным голосом отозвался Эвдем, тщетно выглядывая в разношерстной толпе своих рабов. — И по праву человека, которому небезразлична судьба нынешнего правителя Пергама! — Бывшего начальника! — с усмешкой поправил Артемидор и успокаивающе подмигнул своим друзьям: — А насчет права человека, кстати, тоже бывшего, расскажешь Харону дня через два после того, как я напишу жалобу Атталу. Да-да! — повысил он голос. — Я напишу царю о том, как ты помешал нашей беседе, какую новую статую изваять, чтобы усладить его взор! Эвдем метнул на Артемидора яростный взгляд, и этим только раззадорил его. — А, кстати, Эвдем, — улыбаясь, спросил купец, — как тебе нравится моя Селена, может, именно ее мне подарить царю? Мне очень интересно знать твое мнение, ведь когда-то ты был очень близок к Атталу! — Меня больше интересует, — справившись с собой, спокойно возразил Эвдем, — что делают в твоей мастерской мои беглые рабы? — Твои рабы? — деланно удивился Артемидор. — Демарх! — вместо ответа приказал Эвдем. — Иди ко мне. Демарх, ощущая на себе прожигающие взгляды своих друзей, покорно сделал несколько шагов. Остановился. — Где они? — резко спросил вельможа. — Вон, господин… — упавшим голосом ответил Демарх, показывая рукой на стоящих в углу Лада и Эвбулида. — Но все остальные, господин, только обсуждали статую… Но Эвдем уже не слушал своего агента. Увидев своих рабов среди враждебных ему людей, он побагровел от ярости и закричал, обращаясь к Ладу: — Неблагодарная тварь! Я сделал тебя управляющим, дал подобающее имя, а ты… Взять его! И этого тоже! — кивнул он на Эвбулида. Кабир, ошеломленно глядевший до этого на Демарха, кинулся на выручку рабам. Следом за ним — ремесленники, крестьяне, но Артемидор властным голосом остановил их: — Стойте! Разве вы не видите, что они только и ждут от нас этого! Нет! — крикнул он Эвдему. — Мы не будем нарушать закон и защищать твоих рабов. Забирай их. — Артемидор! — в отчаянии вскричал Эвбулид, видя, как в грудь его уперлось сразу несколько остриев мечей. — Молчи! — шепнул купец. — Надо смириться. Пока… Ты понял меня? Эвбулид понял, опустил руки. И только собрался сказать Ладу, что еще не все потеряно, как сколот по своему распорядился своей судьбой. Он вырвал из рук одного из воинов меч и бросился с ним на Эвдема, крича: — Сейчас ты узнаешь, пес, как отнимать имя у человека! Но убить Эвдема Ладу не удалось. Расторопные охранники вельможи навалились на него, повалили на пол и принялись избивать ногами. — Протасий! — невозмутимым голосом позвал Эвдем. — Здесь я, господин! — подскочил к нему евнух. — Достаточно пока с него. — Слушаюсь, господин, — поклонился Протасий и закричал: — Эй, вы! Оставьте его… — Сегодня же выжечь у обоих беглецов по клейму на лбу, — тихо сказал евнуху Эвдем. — Этого, — указал он на Эвбулида, — отправить на рудники. А этого, — палец, украшенный перстнями, уперся в поднявшегося Лада, — ко мне в подвалы. Там мы продолжим нашу беседу. Вельможа ненавидящим взглядом обвел заговорщиков и остановил глаза на хозяине лавки: — Ты же, Артемидор, готовься ответить главному судье, почему именно в твою мастерскую зашли, в поисках убежища, беглые рабы! — А куда же им еще было идти, Эвдем? — притворно удивился купец и, явно обращаясь к Ладу, чтобы тот запомнил каждое его слово, пояснил: — Ведь твой управляющий — прекрасная натура для моей новой статуи Геракла, которой я собрался порадовать нашего обожаемого царя! Вот я и пообещал заплатить пару драхм за то, чтобы он попозировал мне. И все остальные, — он обвел рукой заговорщиков, — готовы поклясться, что все было именно так, и мы восторгались новой натурой и любовались Селеной. — Ну что ж, любуйтесь! — процедил сквозь зубы Эвдем и мрачно посоветовал: — Только спешите, потому что скоро каждый из вас станет прекрасной натурой для царского палача! И тогда уже я, в свою очередь, с удовольствием посмотрю на групповую статую безголовых заговорщиков! — Дались тебе заговорщики, Эвдем, что с тобой? — изумился Артемидор. — О чем ты?! — Пойдем, господин, — шепнул вельможе Протасий. — Все равно на этот раз мы ничего с ними не сделаем… Эвдем махнул рукой и, сопровождаемый угрюмыми охранниками, вышел из мастерской. Демарх замешкался, не зная, как ему поступить. Шагнул было вперед, потом одумавшись — назад… Он не сделал даже попытки защититься, когда Кабир, поднял выроненный Ладом меч и по самую рукоять вонзил острое лезвие в его грудь. — Вот тебе, жалкий изменник! — прокричал носильщик. — Получай свое! Демарх пошатнулся, прислонился спиной к стене и, не переставая глядеть на Кабира, стал медленно сползать на пол. Дотронувшись ладонью до груди, он ощутил липкое тепло и развязал слабеющими пальцами пояс, чтобы легче было дышать. Мешочек с золотыми монетами Луция, звякнув, упал к его ногам. — А вот и деньги, которые он получил за свое предательство! — развязав мешочек, показал всем его содержимое Кабир. — Нет… — деревенеющими губами возразил Демарх. — Это золото мне дали, чтобы я нанял убийц… и они убили Аристоника… Но я отдаю его на оружие… которое поможет вам… Я не… Голова Демарха упала на грудь, и он медленно повалился на усеянный мраморной крошкой пол. Взяв из рук Кабира мешочек, Аристоник несколько секунд разглядывал его, наконец, глухо проронил: — Быть может, мы лишили жизни того, кто только что спас наше государство Солнца. — Он поднял глаза на притихших заговорщиков, нашел Артемидора: — Узнай, где жил этот несчастный, и немедленно вывези его семью в безопасное место. И используй все свои связи, чтобы вызволить Эвбулида и перевести его во дворец. — А может, мне пойти на службу к царю? — предложил Прот. Аристоник бросил на него уничтожающий взгляд и сказал: — А ты, раб, державший у себя после собственного освобождения рабов, слишком долго ехал к нам, чтобы предупредить об опасности. Иначе бы тебе давно стало известно, что мой брат не допускает к себе пергамцев. И знай, если его завещание уйдет в Рим, тебе не будет места в нашем государстве Солнца! ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  1. Дорога в Аид Получив приказ от Эвдема, Протасий без промедления принялся исполнять его. Он погнал пленников в ближайшую кузницу и там, показав кузнецу — пожилому вольноотпущеннику — драхму, попросил срочно поставить на лоб каждому по клейму. — Срочно не получится! — узнав, чьи это рабы, покачал головой кузнец. — У меня нет готового клейма с именем твоего господина, который так любит римлян! — Тогда ставь любое! — пропуская мимо ушей угрозу, зазвучавшую в голосе кузнеца, разрешил евнух и, по своему обыкновению хихикнув, подмигнул: — Все равно им отсюда прямая дорога в Аид! — Куда? — не понял вольноотпущенник. — В Аид! — охотно повторил Протасий. — Одного я погоню из твоей кузницы на пытку, а другого — в серебряный рудник! — За что он вас так? — не обращая внимания на евнуха, Сочувственно обратился к пленникам кузнец. — За встречу с Аристоником! — через силу усмехнулся Эвбулид. Лад своим невозмутимым голосом подтвердил: — И за то, что нам по душе пришелся бог, который ездит на конях по небу и дарит людям свет. Как там его, Эвбулид? — Гелиос! — подсказал грек. Кузнец сразу изменился в лице и дал знак своему подручному как следует раздуть пламя в горне. Когда оно загудело так, что стоящий у входа евнух и охранники не могли расслышать ни слова, спросил: — Неужели они захватили и Аристоника?! — Нет! — быстро ответил Эвбулид. — Пока только нас. Но Пергам в опасности. Иди скорее к купцу Артемидору и скажи ему, куда гонят меня и Лада! — Эй! — заволновался Протасий, прикрываясь пухлой рукой от доходившего до него жара. — О чем вы там шепчетесь? Я же сказал, ставь им первое попавшееся клеймо, да поживее — мне некогда! — Шел бы ты лучше отсюда! — доставая из горна щипцы, посоветовал вольноотпущенник. — Нет у меня такого клейма! — Что? — не понял Протасий. — А то, что я не стану клеймить этих рабов! — закричал кузнец. — Тебя могу! — пообещал он, размахивая добела раскаленными щипцами перед лицом отпрянувшего евнуха. — И господина твоего, эту римскую подстилку, тоже! Бесплатно! — Да я тебя за такие слова… — продолжая пятиться, пропищал Протасий и закричал, оказавшись на пороге: — Охрана, взять этого негодяя! Но наемные воины, всегда преданные и исполнительные, на этот раз не изъявили ни малейшего желания выполнять приказ евнуха. Ставшие свидетелями разговора Эвдема с купцом Артемидором и этой перебранки кузнеца с Протасием, они стояли, переминаясь с ноги на ногу. Наконец, их командир примирительно заметил евнуху: — Да будет тебе, Протасий, пойдем отсюда! Не видишь разве — устал человек, вот и сболтнул сгоряча… — Устал? Сгоряча?! — возмутился управляющий. — Это же бунт! Я б его раньше за такие слова… — Это тебе не раньше! Теперь Пергам совсем иной! — запальчиво выкрикнул молодой воин с бойкими глазами. Командир оттеснил его рукой в сторону и сказал: — Не обижайся на Зоила, Протасий. Он недавно в моем отряде. Мастерскую его отца за долги римскому ростовщику описали астиномы, и таких у меня не меньше половины. — Лучше бы я стал простым носильщиком, чем попал в твой отряд! — не унимался молодой воин. — Что толку теперь служить в наемном войске, когда нас перестали считать за людей! Раньше каждому воину давали поместье — по сто плетров необработанной земли и по десять плетров виноградников! А тем, кто пролил свою кровь, даровалась ателия[102]! Теперь же отбирают последнее и наказывают, словно раба, плетьми! За что ж нам тогда проливать свою кровь и кровь наших братьев?! — Зоил! — прикрикнул на воина командир и развел руками перед ошеломленным Протасием. — Ну что мне прикажешь делать, если это действительно так? Никогда в Пергаме так не унижали и не обделяли наемников, как сейчас, да и сам Пергам за последний год действительно не узнать. Раньше хоть одна чернь поднимала голову, а сейчас уже и купечество с ремесленниками готовы к открытому бунту. Волнуется даже армия! С каждым днем мне все больше кажется, что наше царство переворачивается кверх ногами. И я вместе со всеми… Пойдем лучше в другую кузницу! — предложил он. — А то мы сейчас и не такое услышим… Но и в другой, и третьей кузнице пергамцы, словно сговорившись, отказывались клеймить беглых рабов Эвдема. Тогда Протасий разделил отряд на две части и, приказав командиру доставить под охраной Лада во дворец вельможи, сам — с большей половиной повел Эвбулида на рудник. Место, где добывали серебро для звонких пергамских монет, женских украшений и прекрасной дворцовой посуды, оказалось огромным подземным городом. Темные штольни, словно следы оспы, избороздили бескрайнее — насколько хватало взгляда у Эвбулида — пространство. На многие десятки стадиев уходил этот рудник в стороны и наверх, в горы. И из каждой такой штольни то и дело выползали рабы с корзинами и плетенными из кожи мешками. Эвбулид вздрогнул, увидев, что вместо одной такой корзины с кусками руды наверх вытащили мертвое тело. У дальней штольни началось какое-то движение. Прищурившись, чтобы лучше видеть, Эвбулид различил выползшего из-под земли раба, к которому бежали надсмотрщики. Что стало дальше с несчастным, он так и не узнал. Протасий, проведя его по узкой тропинке между острых глыб, остановился у небольшого домика на самом краю обрыва. Дверь открылась. Из домика, потягиваясь со сна, вышел неприветливый перс с черной неряшливой бородой. — Еще одного привел? — зевая, спросил он. — Да, Эвдем велел мне сдать его тебе в аренду! — подтолкнул грека вперед Протасий. Перс подошел к Эвбулиду, вяло потрогал его руки, потрепал за шею и снова зевнул: — За такого дам в день полобола! — Полобола?! — возмутился евнух. — Да он же проживет у тебя не больше полумесяца. Что мне, прикажешь нести своему господину жалкую драхму?! — Полдрахмы, — возразил перс, заглядывая в рот Эвбулиду. — Он не протянет у меня и недели! — Тем более! Уж лучше бы я убил его по дороге, чем тащиться сюда!.. — Ну, хорошо! — махнул рукой перс и протянул Протасию родосскую драхму. — Больше разговоров… Деньги можешь взять вперед. Эвбулид взглянул на перса, на Протасия, потом на мелкую серебряную монету, в которую только что оценили его жизнь и вздрогнул, услышав вежливый отказ евнуха. — Оставь эту драхму себе! — предложил Протасий персу. — Пусть кузнец, который будет заковывать этого Афинея, поставит ему на лоб клеймо. — А это еще зачем? — удивился перс. — С клеймом ему подыхать под землей или без — какая разница? — Он — беглый раб, и таков приказ моего господина! — убежденно ответил Протасий. Перс недоуменно хмыкнул и повел Эвбулида к домику с дымящейся трубой. Евнух засеменил следом за ними. В кузнице знакомо гудел горн, обнаженные рабы выковывали на наковальне грубые, тяжелые оковы. Перс что-то сказал на ухо кузнецу. Тот удивленно оглянулся на Протасия, на Эвбулида. Затем взял из кучи готовых оков колодки, соединенные цепью так, что в них можно идти только шагом, и закрепил их на ногах Эвбулида. Потом сковал его руки наручниками. И наконец, приступил к тому, чего больше всего боялся грек. Кузнец, отчаянно ругаясь, достал со дна корзины с железным хламом толстую пластинку, захватил ее клещами и, сунув в огонь горна, стал дожидаться, когда она как следует раскалится. Эвбулид расширенными от ужаса глазами следил за каждым его движением. — Ну, ну! — словно норовистую лошадь, стал успокаивать его кузнец, вынув пластинку и делая шаг к Эвбулиду. — Нет! — закричал он, пытаясь бежать. — Не хочу! Не надо!! Но крепкие руки подмастерьев обхватили его и удержали на месте. Кто-то, взяв его за волосы, запрокинул голову. Кузнец приблизил дохнувшую в глаза огнем пластинку к лицу грека. — Хорошо держите? — спросил он, и в тот же миг страшная боль пронзила Эвбулида. Он закричал, забился. Но подмастерья все так же крепко держали его. — Еще немного, еще, — затуманившимся сознанием слышал он голос кузнеца. — Ну вот и все! Кто-то из рабов подбадривающе похлопал его по плечу. Кто-то засыпал место ожога золой. Боль была нестерпимой, казалось, на воздухе, где было немного прохладней, она утихнет. Эвбулид рванулся к выходу, но перс придержал его. — Ишь, как не терпится ему работать! — усмехнулся он и повернул грека обезображенным лицом к Протасию. — Покажись лучше сначала своему господину, пусть он оценит работу. Все-таки за нее заплачена целая драхма! С любопытством наблюдавший до этого за всем происходящим евнух, склоняя голову то на один бок, то на другой, словно любуясь статуей или картиной, удовлетворенно прочитал, разглядывая лоб Эвбулида: — «Эхей: феуго» — держи меня, я убегаю! — ловко придумано! — Как будто он может сбежать отсюда! — усмехнулся перс и укоризненно посмотрел на кузнеца: — Что, не мог другой, более подходящей отыскать? — Хорошо, хоть такая отыскалась! — огрызнулся кузнец и, прежде чем застучать молотком по подставленной подмастерьями заготовке будущей колодки, добавил: — Надеялся, хоть на руднике не придется людям лбы жечь… — Но-но! — прикрикнул перс. — Поговори еще! Мигом самому такое клеймо поставлю и загоню в штольню! Протасий, выйдя из кузницы, со вздохом пожаловался персу: — Пергам сходит с ума! Я думал, что хоть у тебя на руднике поспокойнее… — Что у меня! — в сердцах махнул рукой перс. — Каждый день сюда гонят тех, кто заподозрен в бунте. Эти мерзавцы, не в пример прежним, так и норовят высунуть свои головы из-под земли, и моим надсмотрщикам становится все труднее заталкивать их обратно! Твой, надеюсь, не из таких? — оглянулся он на Эвбулида. — Нет! — поспешил заверить Протасий. — К тому же теперь он не протянет и трех дней! — Протянет! — Перс приказал подбежавшему надсмотрщику немедленно спустить нового раба в штольню и, положив руку на плечо евнуха, сказал: — А не протянет, так не беда. Теперь что ни день, ко мне ведут по несколько десятков, а то и сотен рабов. Что у вас там в Пергаме, действительно, все посходили с ума? И он кивнул на дорогу, по которой вооруженные воины вели длинную вереницу рабов, судя по одежде, вчера еще свободных пергамцев — обитателей бедняцких кварталов. 2. «Кто из нас начальник кинжала?!» Узнав от прибежавшего кузнеца, что эллина отправили на серебряный рудник, а его могучего товарища повели на пытку к Эвдему, Артемидор немедленно закрыл лавку и задумался. «Значит, Эвбулид на руднике! — прищурился он, не утруждая себя мыслями о сколоте. — Место не самое подходящее, чтобы его легко было вызволить. Но все же более податливое, чем подвалы Эвдема! Хоть эти серебряные рудники и похожи на подземное царство без выхода, но, подобно Зевсу, который составил исключение некоторым смертным, сделает исключение для Эвбулида и Аттал. Стоит мне намекнуть начальнику кинжала Никодиму, что царю угрожает опасность, а единственный человек, который знает, от кого она исходит, заживо гниет в штольне рудника, и…» Артемидор вскочил и взволнованно заходил по лавке. «Нет, — покачал он головой. — Прежде чем идти к Атталу за разрешением освободить раба, Никодим потребует доказательств, и мне придется показать ему Прота. А это ненадежный человек! За золото римлянина он уже предал однажды Пергам, почему бы ему не сделать этого снова, выдав меня, всех нас, Аристоника… Аристоника!! — вдруг осенило купца. — Вот кто должен поведать царю об опасности! Кому как не брату больше всех поверит Аттал? Аристоник скажет ему про Эвбулида и завещание. Грек опознает Пропорция. Тогда Аттал, опасаясь новых шпионов, безусловно вышлет из Пергама всех римлян, помирится с братом и в знак благодарности снова разрешит ему жить во дворце. А это значит, что мои друзья купцы и ремесленники смогут больше не опасаться конкуренции Рима и, как знать, может, еще более страшного для нас государства Солнца!» Артемидор не сомневался в добрых намерениях Аристоника и был уверен, что он выпросит у брата всяких поблажек для народа: уменьшения налогов, бесплатной выдачи хлеба, быть может, даже освободит одну или две тысячи рабов. Но он знал, что последнее слово будет за ними: при живом царе рабы и беднота никогда полностью не сравняются с богатыми, и Пергам не станет Тапробаной, на которую они вынуждены были скрепя сердце соглашаться, чтобы вместе с чернью избавиться от общего врага. Но пока речь шла об освобождении одного-единственного раба — Эвбулида и встрече Аттала с Аристоником. «Для этого мне надо только упросить Никодима изменить маршрут царя, которым тот всегда возвращается во дворец после своих посещений мавзолея матери. Дело не столь и безнадежное: ровно через неделю день поминовения несчастной Стратоники, а начальник кинжала уже должен мне целых два таланта!» Остановившись на этом, Артемидор вышел из лавки и быстрым шагом направился ко дворцу Аттала. — Мне начальника кинжала! — задыхаясь, потребовал он у рослого охранника, неохотно открывшего тяжелую, обитую бронзой дверь. — Его нет и сегодня не будет! — послышалось в ответ. — А завтра? — успел крикнуть Артемидор, видя, что дверь закрывается прямо перед его носом. — И завтра, и послезавтра! Купец бросил охраннику статер, тот ловко поймал его на лету и уже дружелюбней сказал: — Если он срочно нужен тебе, то поищи его на обычном маршруте базилевса от дворца к мавзолею. Следуя совету, Артемидор нанял носильщиков и направился за город. У одной из богатых харчевен он увидел царских охранников, велел носильщикам опустить его на землю и, едва вошел в наполненное сладостными звуками арфы помещение, как сразу увидел Никодима. Начальник кинжала сидел перед столиком с большим кувшином вина и о чем-то сосредоточенно думал. — Не помешаю? — спросил купец, подсаживаясь рядом с ним. — Артемидор! — обрадовался Никодим. — Какими судьбами? Давненько тебя не было видно. Надеюсь, ты нашел меня здесь не для того, чтобы напомнить о долге? — неожиданно нахмурился он. — Конечно же, нет! — засмеялся Артемидор и, наклонившись к самому уху начальника кинжала, многозначительно добавил: — А о тех двух талантах, что ты задолжал мне, я с удовольствием забуду, если… — Если? — недоверчиво покосился Никодим. — Если ты выполнишь одну мою просьбу. — Просьбу? Одну? — уточнил начальник кинжала. — Да, и совсем пустячную! Для тебя конечно… — Слушаю! — приосанился Никодим. — Через неделю — день поминовения матери нашего царя, — начал издалека Артемидор. — Так. — Наш обожаемый Аттал, конечно же, отправится почтить горестным молчанием великолепный мавзолей, построенный по его гениальному проекту… — Так! — И будет возвращаться во дворец своей обычной дорогой… — Та-ак!.. — А нельзя ли сделать, чтобы он слегка изменил свой маршрут и ненадолго остановился в моей лавке? — Что?! — вскричал Никодим, но, увидев, что на него с удивлением уставились привлеченные шумом посетители, зашипел на ухо Артемидору: — Ты с ума сошел… Пергам беременен бунтом! Повсюду чернь открыто выражает недовольство, убивает вельмож, римских ростовщиков, даже моих воинов! Я тут ломаю голову, чтобы сделать эту поездку безопасной для царя, показываю его личной охране, где ей стоять в засаде, а где, в случае надобности, применять оружие без предупреждения, а ты… Зачем тебе это надо? За два таланта я готов организовать встречу с Атталом прямо во дворце! — Понимаешь, дорогой Никодим, — быстро смекнув, как поступать дальше, умоляюще заглянул в глаза начальнику кинжала купец. — Дела в моей лавке идут все хуже и хуже! — В твоей лавке?! — Представь себе, именно в моей! Пергамцы обнищали до того, что в состоянии покупать лишь глиняные горшки и кувшины, а ты ведь знаешь какой дорогой у меня товар! Те, у кого есть деньги, зарыли их поглубже, опасаясь Рима. — Но при чем здесь Аттал? — недоуменно спросил начальник кинжала. — А при том, — многозначительно поднял палец Артемидор. — Что, если у меня в лавке погостит сам царь, мои дела сразу пойдут в гору. Ты знаешь, до чего богобоязненны пергамцы и как они любят и чтут своих царей. Весть о том, что они смогут стать обладателями вазы или чаши, которую видел, а может, даже держал в руках сам базилевс, мигом облетит весь Пергам! Не то что купцы и ремесленники — последние бедняки, собрав все, что имеют, помчатся ко мне. Ну, а у меня полны запасники непроданных ваз и чаш! — хитро подмигнул Никодиму Артемидор. — Ловко придумано! — похвалил начальник кинжала. — Но какая мне с того будет выгода? — Два таланта… — напомнил купец. — И все? «Да пропади оно пропадом!» — ругнулся про себя Артемидор, думая о том, что если римляне завладеют Пергамом, то ему и этого не достанется, и вслух сказал: — И двадцать пять процентов от всей моей выручки. — Что ты сказал? — сделал вид, что не расслышал купца, Никодим. — Тридцать пять? — Да, грабитель! — кивнув, чуть слышно прошептал Артемидор. — Ну вот, так-то оно лучше… — вальяжно откинувшись, заметил начальник кинжала и наморщил лоб: — Но что я скажу базилевсу и его лекарю? — Лекарю? — удивленно приподнял брови Артемидор. — При чем тут лекарь? — О-о, — протянул Никодим. — Сразу видно, что ты давно не был во дворце! Этот лекарь, вылечив Аттала, приобрел над ним такую власть, что стал и его другом, и советником, и правой рукой. Даже меня он оттеснил на второй план! — Даже тебя? — притворно возмутился купец. — Аттал и до этого не особенно церемонился со своими начальниками кинжала! — приняв сочувствие Артемидора за чистую монету, пожаловался Никодим. — За пять лет своего правления он сменил пятерых, и лишь одному удалось ускользнуть от услуг его палача! — Да, Эвдем чудом избежал смерти на пиру, когда царь разом расправился со всеми советниками прежнего Аттала, — подтвердил Артемидор. — А ведь Эвдем свой род ведет от прямых потомков Дария, и, говорят, в его жилах царской крови не меньше, чем в жилах нашего Филометора, и она более высокой пробы… — И тем не менее, Аттал с позором прогнал даже его! — стукнул кулаком по столу Никодим. — Что же тогда остается ожидать мне за изменение маршрута, на которое ты толкаешь меня из-за каких-то пятидесяти процентов прибыли? — Но мне нужно будет поделиться и с этим лекарем! — торопливо перебил его Артемидор, опасаясь, что так тот дойдет и до ста процентов. — Сколько ему предложить? Мину? Две? Пять? Начальник кинжала отрицательно покачал головой. — Талант?! — Этот лекарь не берет денег! — отрезал Никодим. — Значит, золото? Драгоценные камни? Начальник кинжала вновь покачал головой: — Его интересуют только старинные рецепты и неизвестные ему рукописи и папирусы по медицине. Но, между нами говоря, — приблизился он вплотную к Артемидору, — мне сдается, что для него нет ни одной неведомой рукописи в мире! — Что же тогда делать? — огорчился купец. — Старинных рецептов и папирусов у меня нет. Можно, конечно, достать такие, каких он и в глаза не видел, но на это нужно время, а у нас с тобой нет ни одного лишнего дня. — Еще бы ты мог заинтересовать его, если б прожил лет сто пятьдесят или, на худой конец, хотя бы сто! — усмехнулся начальник кинжала. — Сто лет? — переспросил купец и, увидев в ответ кивок, ошеломленно пробормотал: — А он случайно не сумасшедший? — Он более чем сумасшедший! — убежденно проговорил Никодим. — Представь себе: он пытается убедить всех, что каждый человек может прожить столько. И теперь во дворце все только и делают вид, что колют дрова и улыбаются друг другу! — Колют дрова?! — Так называется его любимое упражнение! Веришь, мне от этого лекаря просто житья не стало! Он дал слово, что я тоже проживу до ста лет, и заставляет меня сдерживать его! Каково, а? Мне сдерживать его слово! Лучше бы он сказал об этом палачу, когда тот по приказу Аттала поведет меня когда-нибудь на плаху. Или сам приказал казнить, вместо того чтоб так мучить! — И что же он заставляет тебя делать? — поинтересовался Артемидор. — А вот что! — начальник кинжала с трудом надул живот, потом медленно приподнял плечи, затем также медленно опустил их и с трудом втянул в себя немалый живот. — Это называется — правильно дышать. Думаешь, так просто? Ты только попробуй! Артемидор попытался повторить то, что делал только что Никодим, — не получилось. — А еще эта проклятая зарядка, душ, когда раб льет на тебя сначала ледяную воду, а потом почти кипяток, — пожаловался Никодим. — Идиотские улыбки вокруг, словно это не дворец царя, где надо выслеживать, пытать и казнить, а театр, в котором показывают комедию! — в сердцах махнул он рукой. — Вино и то приходится пить только тогда, когда бываешь в городе. До чего дожили! И такой жизнью жить сто лет?! — Что же мне делать с таким лекарем? — задумался Артемидор. — Слушай! — вдруг ухватил он за руку донельзя огорченного Никодима. — А у меня ведь в лавке есть колбы, в которых можно хранить лекарства и яды. Я могу подарить их ему! — Колбы? — Ну да, самые надежные в мире! — Колбы подойдут! — согласился Никодим. — Он будет рад им больше, чем даже десяти талантам! — Вот и скажи ему об этом! — Сам скажешь! Мне что-то не хочется лишний раз видеться с ним, да и потом, если он учует, что я пил вино… Начальник кинжала залпом осушил большую чашу и горестно покачал головой: — Эх, Артемидор, на что ты меня толкаешь? Ну как я скажу царю, что надо изменить годами выверенный маршрут?! — Очень просто! — принялся втолковывать захмелевшему Никодиму купец. — Скажешь, что готовой к бунту черни проще всего подкараулить его на старой дороге. И, чтобы перехитрить ее, ты решил поехать от мавзолея другим путем! И еще добавишь, что неплохо было бы заехать в одну лавку. Мол, купец Артемидор, статуи которого он удостоил в свое время похвалы, изваял прекрасную Селену и нижайше просит, чтобы он посмотрел на нее, оценил и, если она придется ему по вкусу, принял в дар! Своих воинов ты можешь разместить в ближайших харчевнях и в моем подвале. — Что ты меня все учишь? — возмутился Никодим. — Кто из нас, в конце концов, начальник кинжала, ты или я?! — Конечно же ты! — мягко улыбнулся Артемидор. — Но я стараюсь, чтобы ты оставался им и год, и два, и даже сто лет! — Ну что ж, — тяжело поднимаясь с клине, примирительно заметил Никодим. — Твое, то есть мое объяснение вполне устроит Аттала. Сейчас мы отправимся во дворец, и мой человек проводит тебя к лекарю. Учти — одно его слово, и Аттал даже не станет слушать меня. Запомни: его зовут Аристарх! 3. Царь и лекарь — Аристарх, — нарочито сердитый голос царя смягчила плохо скрываемая радость. — Тебя не было целых три часа! Где ты был? — В библиотеке Асклепия! — охотно ответил лекарь, входя б большую залу, заставленную кадушками с диковинными кустами, которые привозили во дворец со всех концов земли, лекарствами, ядами и противоядиями в колбах на стеллажах вдоль стен. Аттал приветливым жестом разрешил Аристарху сесть рядом с собой на клине из слоновой кости и нетерпеливо спросил: — Надеюсь, ты получил от управляющего этой библиотекой все, что хотел? Я отдал ему приказ, чтобы тебе ни в чем не было отказа! — Да, он старается изо всех сил! — благодарно улыбнулся Аристарх. — Еще бы! — проворчал Аттал. — Иначе ему придется иметь дело с моим палачом. А ведь это, пожалуй, единственный человек во дворце, которого ты так и не научил улыбаться. Он, да еще начальник кинжала, — припомнил царь и вопросительно взглянул на Аристарха: — Ну и что ты нашел там сегодня? Говори, меня интересует все. — О, я перечитал почти все папирусы и рукописи, что находятся в вашей библиотеке! — снова оживился лекарь. — Но вот сегодня заглянул в запасники и, помогая рабу разбирать древние рукописи, нашел немало любопытного, например, как наши предки лечили застарелые мозоли… — Как? — недовольно перебил его царь. — Ты, мой личный лекарь, помогал какому-то рабу?! — Но ведь я и сам раб! — напомнил Аристарх и, чтобы переменить тему разговора, взял со столика пергамент с бисерным почерком Аттала: — «Трактат о ели из Адроматии»? — пробежал он глазами по заглавию. — Любопытно, и чем же знаменита эта ель? — Я помню свое обещание дать тебе свободу, если ты вылечишь меня! — вместо ответа задумчиво сказал Аттал. Ни один человек в мире, кроме его близких родственников, да однажды, помнится, Эвдема, не вел себя так непочтительно и не позволял себе таких вольностей, как этот лекарь. Любого другого за куда менее дерзкий, да что там дерзкий — не восхищенный взгляд, за сокращение его титула или недостаточно низкий поклон ждали плети, а то и плаха палача. А этому он прощал все. И не только за то, что он избавил его от невыносимых мук ожидания приступа. Умом аналитика Аттал понимал, что перед ним — великий ученый, который, возможно, прославит его имя в веках больше, чем все его трактаты, лекарства и статуи. Единственное, за что еще потомки могли бы восхвалять его, Аттала Филометора, так это за противоядия от всех известных в природе ядов. Царь был убежден, что и через сто, и через тысячу лет люди все также будут травить друг друга, оспаривая троны, наследство, женщин, и его наука будет всегда в ходу. Но сколько людей воспользуется ею — сто? Тысяча? Полмиллиона? А этому лекарю будут благодарны все — и цари, и рабы. И в том, что это будет именно так, Аттал нисколько не сомневался. Его раздражало то, что во дворце люди стали улыбаться друг другу, но он не мешал Аристарху и, удивляясь самому себе, безоговорочно признавал за ним первенство. И вот теперь этот человек, получив свободу, мог навсегда оставить его. С кем тогда останется он: с выжившим из ума Верховным жрецом? С Никодимом? С этими вечно соглашающимися с каждым его словом советниками, которых давно пора послать на плаху, да все руки не доходят. И он, после долгого раздумья, сказал: — Теперь пришла пора мне держать свое слово. Приступы не повторяются вот уже год, я почти забыл о них и готов сделать тебя свободным… Но неужели тебе плохо у меня? Ты живешь во дворце и ни в чем не нуждаешься… — Мне многого и не нужно! — улыбнулся Аристарх. — …быть может, ты скучаешь по своим родителям? — не слушая его, продолжал царь. — Так я прикажу немедленно снарядить военную триеру и доставить их сюда, во дворец! Аттал вопросительно посмотрел на Аристарха, но тот сделал вид, что не заметил этого взгляда, и еще ниже склонил голову над трактатом царя. — Я выделю из своей сокровищницы пять талантов на содержание твоих родителей! — чувствуя, как все в нем закипает, воскликнул Аттал. — Мало? Десять! Такой роскоши не могут позволить себе мой Верховный жрец, начальник кинжала и все советники вместе взятые! А ты еще думаешь? Аристарх продолжал притворяться читающим. — Брось ты этот трактат! — закричал царь, вырывая из его рук пергамент и швыряя его на пол. — Ты так мечтал работать в библиотеке Асклепия. Вот она — под боком! Что — и этого мало? Смотри, если откажешь сейчас мне, то ноги твоей больше в ней не будет! — окончательно потеряв терпение, процедил он сквозь зубы. — И вообще, какая тебе разница, кого лечить: эллинов, египтян или пергамцев? Ведь для тебя главное — вылечить! Мой же Пергам изобилует больными, на твой век хватит! А нет, так я прикажу палачу ломать моим подданым ноги, отбивать печень — лечи их себе на здоровье! Мало — так я еще и чуму велю привезти! Услышав последние слова царя, Аристарх сразу стал серьезным. — Конечно, мне все равно, где лечить людей. Только не все равно, что их специально для меня будут калечить! — Ну ладно, ладно! — остывая, прикрикнул Аттал. — Это так, к слову пришлось. — И ваша библиотека манит меня в свои залы и запасники днем и ночью! — добавил Аристарх. — Но пойми, что я стану делать в Пергаме, когда в ней не останется ни одного непрочитанного мной свитка? Ты же знаешь цель моей жизни. — Знаю! И поэтому разошлю своих купцов во все концы света, дам им золота, как давали мой дед и отец, скупившие лучшие картины и статуи мира, прикажу не торговаться! Сюда свезут все редкие рукописи! Не выходя из библиотеки Асклепия, ты сможешь познакомиться с рецептами и папирусами всего мира! Ну, что молчишь? Или прикажешь царю Пергама упрашивать тебя? Смотри, мое терпение не железное! — Да я теперь сам готов упрашивать тебя оставить меня здесь и прожить в Пергаме до ста двадцати пяти лет! — приложил руку к груди Аристарх. — А уж свободным или рабом быть при такой библиотеке, мне все равно! — Ах, да! — вспомнил довольный согласием лекаря Аттал и дважды дернул за шнурок колокольчика. Низко кланяясь, в кабинет вошел скриба. — Пиши! — приказал царь. — Я, Аттал Филометор, дарую свободу на вечные времена Аристарху, сыну… — Артимаха! — подсказал лекарь, заглядывая через плечо скрибе. — …Артимаха из Афин и даю ему десять талантов на содержание семьи! Написал? — Да, о, бессмертный! — поклонился скриба, касаясь лбом персидского ковра. Аттал, не торопясь, приложил перстень к услужливо поданному пергаменту. Оторвав печатку от воска, придирчиво осмотрел четкое изображение своей матери, вытер перстень о поданную тряпицу. После того как скриба благоговейно подышал на печать, подал пергамент Аристарху. — Но жить — во дворце! — Конечно! — вчитываясь в каждую строку бесценного для себя документа, рассеянно ответил Аристарх. — Ведь от твоего дворца до библиотеки — рукой подать! Скриба едва не выронил из рук поднос с принадлежностями для письма: так разговаривать с самим царем! И это вместо того, чтобы броситься к ногам базилевса, целуя самый краешек халата, благодарить, благодарить, называя его величайшим, бессмертным, наимудрейшим за неслыханную милость… Он даже втянул голову в плечи, ожидая, что часть гнева царя, возможно, обрушится и на него, написавшего этот документ. Поплатился же предшественник своей головой за то, что базилевс неправильно продиктовал в одном из указов какое-то имя! Но Аттал, вопреки его ожиданиям, и не собирался гневаться на непочтительного лекаря. Совершенно незнакомым скрибе голосом он сказал: — Я рад. Ты даже не можешь представить себе, как я одинок среди всех этих… — Он махнул рукой на поджавшегося скрибу и добавил: — И я хочу продиктовать еще один указ, чтобы выполнить любое твое желание. Ну, есть у тебя ко мне какая-нибудь просьба? — Да! — кивнул Аристарх. — И очень большая! — Говори! — разрешил Аттал, делая знак скрибе быть наготове. — Но в ее выполнении не понадобятся услуги скрибы! — улыбнулся Аристарх и после того, как царь едва заметным движением мизинца приказал рабу удалиться, докончил: — Раз уж я действительно снова стал свободным человеком, отпусти меня на часок-другой в библиотеку помочь рабу разбирать рукописи! Выйдя из кабинета, он едва не натолкнулся на стоявшего в коридоре охранника. — Господин! — низко поклонился тот, уже прослышав от скрибы, что лекарь получил свободу. — Тебя очень просит о встрече один человек. — Больной? — приостановился Аристарх. — Да, то есть нет… — замялся охранник, получивший строжайший приказ начальника кинжала обеспечить встречу Артемидора с лекарем и целую горсть золотых монет от самого торговца. — Он купец! Аристарх снова прибавил шагу. — Мне некогда, передай ему, что я очень спешу! — бросил он не отстающему охраннику. — Но он так жаждет показать тебе свои колбы! И даже подарить их… — Колбы? — с интересом переспросил Аристарх. — Да, для хранения лекарств и ядов! Это самые лучшие колбы во всем Пергаме и даже мире! — слово в слово повторил охранник то, что велел передать лекарю Артемидор. — Для проверки новых рецептов мне понадобится очень много колб, и предложение этого купца как нельзя кстати! — рассуждая на ходу, проговорил Аристарх и остановился. — Ну хорошо, зови его! 4. Царство Аида Надсмотрщик долго вел ковыляющего в тесных колодках Эвбулида по выбитой прямо в скале дороге, и теперь он как следует мог разглядеть, что представляют из себя эти серебряные рудники. Все штольни вблизи оказались темными норами, неширокими и узкими, не выше половины человеческого роста. Перед каждым входом стоял вооруженный копьем надсмотрщик, поторапливающий раба, который выставлял наверх корзину или мешок, наполненный кусками руды. Раб тут же скрывался в норе, и подбегающие к штольне невольники перегружали руду в носилки, тележки и так же бегом направлялись обратно, на самый верх горы, где ее дробили железными пестами в каменных ступах и несли к печам. Возле штольни, где Эвбулид недавно видел попытки раба выбраться наружу, было уже немноголюдно. Лишь два раба волокли к обрыву безжизненное тело. Раскачав его, они сбросили вниз, на радость поднявшейся в небо стае ворон, то, что некогда было крестьянином, купцом или путешественником… Следующая штольня была доверху залита водой, все пространство на два стадия перед ней отливало темным, с коричневым оттенком глянцем. Эвбулид невольно содрогнулся от мысли, что внутри во время затопления могли находиться живые люди. Надсмотрщик свернул с широкой дороги на узкую, вымощенную в долине из каменных плит до очередной штольни, где было особенно оживленно. Теперь рабы текли им навстречу нескончаемым потоком. Одни толкали перед собой одноколесные тележки, другие попарно несли тяжелые носилки, третьи просто прижимали к груди крупные куски руды. Один из рабов, высохший, с выпирающими ключицами старик, шатаясь от усталости, перешел на шаг. Надсмотрщик, заметив это, гневно окликнул его: — Под землю у меня захотел?! — О, господин! — пролепетал раб, изо всех сил стараясь не выпустить из рук продолговатый камень величиной с полугодовалого ребенка. — Пощади… Не отправляй в штольню! — Гляди мне! Еще раз увижу, что лодырничаешь, и… — Надсмотрщик не договорил и, широко размахнувшись, хлестнул старика плетью прямо по лицу. — Благодарю тебя, господин! — униженно закивал раб и, оглядываясь, засеменил подальше от тяжелого взгляда надсмотрщика. — А ты чего встал? — неожиданно услышал Эвбулид над самым ухом, и плеть обожгла его шею. — А ну, пошевеливайся! Марш в свою штольню! Надсмотрщик больно подтолкнул его концом рукоятки плети и крикнул своему помощнику, охранявшему с копьем выход из норы: — Тавр, принимай пополнение! Скучающий Тавр неожиданно оказался словоохотливым. — Что, плохо жилось у прежнего хозяина? — с усмешкой встретил он Эвбулида. — Не переживай, здесь будет получше: ни тебе зноя, ни мух, солнце и то не мешает! Одно неудобство — много приходится лежать. Ну да ты беглый, тебе в самую пору отдохнуть! — Какой я беглый… — пробормотал Эвбулид. — Ну да, конечно, — глядя на его лоб, кивнул Тавр. — Это тебя так, по ошибке отметили! Хорошо хоть, еще имя не поставили, чтоб зря не мучить! — Это еще почему? — устало поинтересовался Эвбулид. — А потому, что тут безразлично, кто ты — Ахей, Спарт или Беот! Те, кто спускаются вниз, навсегда лишаются имени. Даже если оно — рабская кличка! В штольне послышалось натужное кряхтение. На поверхности показалась корзина, наполненная осколками руды. Следом за ней — дрожащие от напряжения руки и седая голова задыхающегося раба. — Вот! — указал на него Тавр. — Это старший носильщик. И хотя в его подчинении находятся пять младших, он тоже не имеет имени. Эй, ты! — набросился он на старика, который, выставив корзину наверх, жадно хватал широко раскрытым, беззубым ртом свежий воздух. — Марш назад! Загулялся тут у меня. И этого с собой прихвати! Старик слезящимися глазами тоскливо посмотрел на свет, поманил за собой Эвбулида и исчез в темноте. Грек тоже невольно оглянулся на солнце, а потом опустился на колени и так — на четвереньках — вполз в штольню, дохнувшую в лицо холодом и сыростью. — Сегодня уже четверых вынесли, на место какого бы тебя поставить? — задумался старший носильщик. — Ладно, пойдем туда, где померли сразу трое. Это совсем рядом. Под землей он неожиданно проявил такую прыть, что Эвбулид с трудом успевал за ним, подслеповато оглядываясь и постоянно ощущая то левым, то правым плечом твердость шероховатой стены. Они свернули вправо, в еще более узкий проход и ползли по нему пять минут, десять, полчаса… Все труднее становилось дышать. Путь едва заметно освещали тусклые огоньки маленьких глиняных светильников, расставленных кое-где прямо в выбитых в стене нишах. От нехватки воздуха они мигали и гасли. Около каждого такого светильника справа или слева открывался лаз, в который можно было протиснуться только лежа на животе, в лучшем случае — на боку. И из каждого слышались мерные удары железа о камень. — Здесь всегда работают, не то что в других коридорах! — пробормотал старик. — Одна беда… — Слишком много приходится лежать? — через силу усмехнулся Эвбулид, повторяя слова, сказанные ему наверху Тавром. — Нет — мрут быстро, — объяснил старший носильщик, неожиданно приваливаясь плечом к стене и хрипло дыша. — Иногда мне чаще приходится тащить отсюда мертвецов, чем руду. Но и руды много… очень много… Скоро, пожалуй, и меня… — не договорив, он махнул рукой и пополз дальше, резко замедляя ход. Когда навстречу им показался еще один старик, тащивший за собой кожаный мешок с рудой, у Эвбулида уже не было сил продолжать путь. Голова кружилась, нестерпимо жгло лоб, саднило разбитые в кровь колени и локти. Но самое страшное было то, что ему совсем нечем стало дышать. Уже не закрывая рот, он глотал несытный воздух и никак не мог надышаться. Стены и низкий потолок начали тяготить его. Казалось, еще немного, и они сомкнутся над ним, раздавят своей многотонной тяжестью. Эвбулид хотел было лечь, но старший надсмотрщик не дал ему сделать этого. Он подтолкнул Эвбулида, плотно прижался спиной к стене, пропуская его вперед себя, и крикнул своему помощнику: — Эй, возьми еще одного! Новый старик, как догадался Эвбулид, был младшим носильщиком. Он передал своему начальнику мешок и, с ненавистью посмотрев ему вслед, неожиданно подтолкнул Эвбулида острым локтем. — А правда, он выглядит совсем изможденным? — Да, — провожая тоскливым взглядом человека, который уже возвращается к свежему воздуху, тогда как ему еще быть здесь до конца смены, кивнул Эвбулид. — И больным! — добавил старик, в голосе которого прозвучала надежда. — Да, — подтвердил грек, удивляясь этому. — В конце пути ему стало так плохо, что он дал мне понять, что скоро и его вынесут отсюда. — Так и сказал?! — захлебываясь от восторга, воскликнул носильщик и, пообещав Эвбулиду давать только небольшие мешки, мечтательно прошептал: — Тогда мне осталось совсем немного ждать! — Чего?.. — Неужели ты не понимаешь? — Старик повернулся к греку, и тот невольно отпрянул, увидев перед собой лицо явно ненормального человека, его блестящие, глубоко запавшие глаза и оскаленный в счастливой улыбке рот. — Я жду, когда он наконец подохнет, чтобы занять его место! — А если он проживет годы? — недоумевая, спросил Эвбулид. — Годы? — захохотал старик и, не в силах остановиться, захлебываясь смехом, переспросил: — Ты… сказал… годы?! Ох, уж мне эти… новички! Эвбулид недоуменно пожал плечами и вздрогнул оттого, что старик рывком подался к нему. — Запомни! — внезапно оборвав смех, зашептал он. — Здесь никто никогда не жил больше года! Я единственный, кому удалось протянуть девять месяцев! И все потому, что каждую минуту мечтал стать надсмотрщиком. Ничего, недолго осталось… — Но он полз поначалу гораздо быстрее нас! — заступился Эвбулид. — Еще бы! — усмехнулся старик. — Ведь совсем недавно он был победителем Олимпийских игр! — Совсем недавно?! — переспросил грек, решив, что ослышался. — Да, на последней Олимпиаде. — Три года назад? Так сколько ж ему тогда лет?! — Не больше тридцати. — Трид-цати?!! — Да, — оглянулся, чтобы насладиться произведенным эффектом, старик. — А правда, он выглядит уже на все девяносто? — Он неожиданно нахмурился и заворчал, продолжая путь: — Когда я первый раз увидел его, молодого, сильного, с крепкими зубами, то чуть было не бросился на него с лопатой от отчаяния. Ведь старшим носильщиком уже должны были поставить меня. А поставили из уважения к прошлому его — все-таки олимпийский чемпион, хоть и проданный в рабство пиратами. Но потом решил — нет… Я и тебя переживу! Я ведь младше его… — Младше?! — вскричал ошеломленный Эвбулид, отказываясь верить своим глазам. — Ты хочешь сказать, что тебе… — Двадцать пять!.. — горько усмехнулся «старик» и, считая, что он выглядит моложе своего врага, продолжил: — Ты привык к сытой пище, думал я, всегда тренировался на природе. Здесь же твои могучие легкие будут требовать свежего воздуха, а мышцы — мяса и сыра, и твоя сила обернется против тебя! А мне к худому не привыкать. Я и раньше жил впроголодь, в духоте гончарной мастерской… А вот ты… — он снова оглянулся, и Эвбулид даже приостановился, поймав на себе взгляд, предназначенный старшему носильщику, — помучайся, поноси слабеющими руками руды в пять раз больше, чем я! Ведь у него пять таких коридоров!.. — Зачем же ты так стремишься к должности, на которой надо больше работать? — изумленно спросил Эвбулид. — А затем, чтобы… — начал младший носильщик, но, прислушавшись к чему-то, вдруг вынул из-за пояса железный прут и втиснулся в ближайшую нору. Тотчас оттуда послышались глухие удары, стоны и его яростный крик: — Будешь еще спать без моего приказа? Будешь?! Почему корзина еще пуста?! Последовало еще несколько ударов, жалобный стон, и попутчик вылез из норы, откуда донесся уже знакомый Эвбулиду звон железа о камень. — Выходит, ты здесь еще и за надсмотрщика? — с неприязнью уточнил он. — И за надсмотрщика, и за кормилицу, а под конец — и за Харона! — похвастал носильщик. — И успеваю лучше всех. Ведь только отличившегося младшего носильщика могут поставить старшим. И я добьюсь этого! А этот больше не уснет! — убежденно добавил он. — Теперь пока не выполнит мою норму — не отвалится! — А какая здесь норма? — Мешок или корзина руды! — отрезал носильщик. — То, что у меня окажется под рукой. Ах, негодяй! — вдруг воскликнул он и неожиданно пополз назад. — Кого вздумал перехитрить! Меня?! Эвбулид, вынужденный уступать дорогу, с трудом уворачивался от его колодок, так и норовивших угодить ему в искалеченный клеймом лоб. Так они добрались до предыдущей норы. Носильщик втиснулся в нее и вскоре вытащил вслед за собой мертвое тело с запрокинутыми назад руками. — Готов! — объявил он и сердито взглянул на растерянного грека. — Ну, что уставился? Лезь в его нору. Норму знаешь, инструмент там, корзина тоже. Работай! Он ловко перехватил ноги умершего веревкой и, перекинув ее через плечо, поволок его к выходу, проклиная тех господ, которые отправляют на рудники таких слабых рабов. Вдалеке что-то грохнуло. Своды коридора содрогнулись, словно Аид принял в свое царство нового подданного. Слабые звуки работы, доносившиеся со всех сторон, снова ожили. «Ничего, — подумал Эвбулид. — До вечера как-нибудь выдержу». Он лег на живот и вполз в нору, еще более низкую и узкую, чем коридор. Взял в руки кайло, деревянная рукоятка которого еще хранила тепло пальцев уже мертвого человека. Прикинул, как можно им работать в такой темноте. Оказалось, что только лежа на боку. От первых же ударов по твердому камню на лицо посыпалась слепящая крошка. Мигом ожила притупившаяся было боль в обожженном лбу. Эвбулид отбросив кайло, взял лежащий тут же молот. Бронзовый клин был уже вбит его предшественником в небольшую трещину в камне, и ему осталось только несколько раз с силой ударить по нему, чтобы от стены откололся небольшой кусочек. «Да… — с тоской подумал Эвбулид, снова прикладывая клин к трещине. — Так много не наработаешь!» Через час в корзине лежало всего несколько кусков руды величиной с кулак, а правая рука разламывалась от напряжения, словно в нее саму вбили этот клин. Эвбулид, помня о том, что должен успеть наполнить корзину до вечера, продолжал приставлять клин к трещинам и ударять по ним тяжелым молотом. Молот соскальзывал, больно ударял по пальцам, клин падал, и ему приходилось все начинать сначала. Наконец удалось выворотить от стены огромный камень, который занял в корзине столько же места, сколько все прежние. Но эта удача оказалась последней. Напрасно он вглядывался в стену, ища новых трещин, приставлял клин и бил по нему то в одном, то в другом месте. Стена словно мстила ему, не уступая даже каменистой крошки. Захлебнулся и погас в коридоре светильник. Задыхаясь, Эвбулид отбросил ставшие бесполезными в кромешной мгле молот и клин, нащупал кайло. Острая жажда оказаться сегодня наверху, где, по его убеждению, должен быть какой-нибудь сарай для отдыха рабов, справившихся с нормой, не давала ему покоя. Но для того, чтобы он мог вновь дышать полной грудью и хоть на несколько часов уйти из норы, все больше напоминавшей ему могилу, нужно было доверху наполнить корзину. И он, едва не крича от нестерпимой рези в руках и боли в саднящих буквах «Эхей: феуго», на которые вновь посыпалась крошка, с остервенением долбил и долбил ненавистную стену. Наконец в коридоре снова зажегся светильник. В проеме норы, заслоняя и без того тусклый свет, показалась голова знакомого носильщика. — Ну-ка, посмотрим, что ты тут наработал! — устало проворчал он и удивленно воскликнул: — Ай да новенький! Да тут же на полную корзину наберется! Эвбулид огляделся и увидел, что весь пол, его грудь и ноги усеяны мелкими камнями. — Успел… — зашептал он, собирая камни в пригоршни и торопливо бросая их в корзину. Носильщик принял из его рук корзину, вытащил ее из лаза и уперся ладонью в грудь рванувшемуся за ним Эвбулида. — А ты куда? — Как куда? — радостно улыбаясь, не понял грек. — Наверх, отдыхать! — Куда?! — изумленно протянул носильщик, насильно вкладывая в руки Эвбулида миску с дурно пахнущей жидкостью. — Об этом теперь и не мечтай! — Как это? — растерялся Эвбулид. — А вот так! Даже я не могу пока туда подняться… Думаешь, для чего я так стараюсь получить место старшего носильщика? Для того чтобы вдохнуть хоть глоток свежего воздуха, увидеть солнце… — Но у нас в имении было принято отпускать всех, кто хорошо поработал, ночевать в сарай!.. И даже из кузницы выпускали, если сделал норму. — Забудь о своем имении! — отрезал носильщик. — Здесь рудник. Каждая такая корзина — это горсть серебряных монет для наших господ, которым невыгодно, чтобы ты расслаблялся хоть на час. Попробуй потом затащить тебя обратно. Уж лучше они заменят нас новыми рабами, которых приведут им в аренду. И потому эта нора, — кивнул он за спину Эвбулида, — будет отныне для тебя и рабочим местом, и спальней, и столовой, и… Вдалеке снова послышался какой-то грохот. — …быть может, могилой! — обернувшись на шум, докончил носильщик и с опаской покосился на задрожавший в нише светильник. — Что это? — испуганно спросил Эвбулид. — Я слышу такое уже второй раз. — Обвал! — коротко ответил носильщик. — Но ведь так может обвалиться и здесь! — в ужасе обвел взглядом стены Эвбулид. — Конечно, — согласился носильщик, берясь за корзину. — Каждый день где-нибудь обваливается… — Постой! — закричал ему вслед Эвбулид. — Неужели я так и останусь здесь… навсегда?! — Конечно! — донеслось в ответ. — Но я не хочу! Нет!! Выпусти меня отсюда! — закричал, выбираясь из лаза, грек. — Мысли его путались, он никак не мог найти убедительных слов, чтобы носильщик поверил ему, что он ни минуты не может больше оставаться в этом страшном месте. — Выпусти… Хоть на минутку… Понимаешь? Ну, не могу я здесь, не мо-гу!! — А ну назад! — отставляя корзину, выхватил железный прут носильщик. — Назад, кому говорю! Но Эвбулид уже не хотел назад. И только посыпавшиеся на него удары по лицу, наконец, прямо по ране на лбу остановили его и опрокинули на землю. Точно так же, как несколькими часами раньше мертвеца, носильщик деловито связал ноги обмягшего грека и, ругая новичков, которых только таким способом можно образумить в первый день, потащил его по коридору к норе и втолкнул на покрытый каменистой крошкой пол. 5. Кто есть кто Через неделю лавку Артемидора было не узнать. Хитрый купец продумал каждую мелочь, чтобы развеять мысли царя после посещения мраморной могилы матери и придать им нужное направление. Часть стеллажей рабы вынесли прочь. Их места заняли удобные клине, застланные пурпурными одеялами с орнаментами из золотых нитей, низкие столики с вином и фруктами, серебряные тазы для умывания, высокие мраморные канделябры, клепсидра и краснофигурная амфора для сбрасывания в нее объедков. Помня о давнем увлечении царя исследованием рыб и птиц, Артемидор приказал рабам повесить под потолком скелетик небольшой, особенно любимой пергамцами рыбешки, а прямо над входом прикрепить чучело диковинного орла, размах крыльев которого был вдвое больше человеческого роста. Следуя указаниям хозяина, рабы придали птице самый воинственный вид, будто орел сошел с древка знамени римского легиона, и повернули голову так, чтобы он «смотрел» золотыми бусинками глаз прямо на рыбешку. Не забыл Артемидор и лекарств, изобретенных царем. На самых видных местах он разложил колбы и ликифчики с его знаменитым «Атталовым белилом», порошками и мазями от водянки, воспалений и болях в печени и селезенке. И здесь желая напомнить царю о главном, он расставил вазы, на которых его художники за несколько бессонных дней и ночей изобразили взятие римскими воинами Карфагена, Коринфа, Сиракуз. В самом центре стеллажа он поставил особенно яркую вазу с сюжетами, рассказывающими об унижении сирийского базилевса Антиоха Эпифана римским сенатором Гаем Попилием Ленатом. Чтобы Аттал из первых уст смог услышать о страданиях пергамской бедноты и купцов от притеснений римских ростовщиков и торговцев, Артемидор распорядился поставить в дальнем углу скромные стулья для «случайных» посетителей. Затем приказал убрать над входом снаружи старую вывеску и повесить новую — «Улыбка Селены». Оставались свободными два угла. Один из них Артемидор велел ничем не заставлять, чтобы туда выбежали танцовщицы и кифаристки, если вдруг Атталу захочется развлечься после серьезного разговора с братом. Для этого в одной из подсобок уже разместились полтора десятка юных гречанок, умеющих лучше всех в Пергаме петь, танцевать и играть на кифаре. В другой угол рабы поставили вынесенную из подвала статую Селены. Артемидор придирчиво осмотрел ее и, не найдя ни одной пылинки на складках мраморной одежды, велел задернуть богиню луны легким покрывалом так, чтобы его можно было сорвать одним движением, дождавшись подходящего момента. Словом, к тому часу, когда Аттал в сопровождении немногочисленной свиты вельмож, Аристарха и тысячи воинов в золоченых доспехах выехал в карете из дворца и направился по Священной дороге к мавзолею своей матери, в лавке Артемидора все было готово к приему высочайшего гостя. «Случайные» посетители уже дожидались знака купца в расположенных напротив харчевнях. Рядом с ними в надетых под одеждой ремесленников и крестьян доспехах, со спрятанными под столами мечами и кинжалами попивали вино, мирно беседуя, переодетые воины Никодима. Они были готовы по первому зову броситься на врагов царя. Еще один отряд коротал время за игрой в кости в подвале, где раньше собирались заговорщики. Сам Артемидор, то и дело поглядывая на клепсидру, ходил по лавке, лихорадочно прикидывая, не забыл ли он еще чего. Нет, не забыл… Каждый крестьянин и ремесленник, который войдет в его лавку, не говоря уже о купцах и командирах наемников, знает, о чем ему говорить и как вести себя в присутствии царя. Он сделал так, чтобы ни один рассказ о жестокости и наглости римлян не повторял другого. Каждому бедняку он дал из своего кошелька по несколько медных монет, дабы тот сам смог расплатиться за вино и еду, не вызывая подозрения Аттала. Так, по плану Артемидора, должно было продолжаться до приезда Аристоника. Отправляя за ним своего гонца, купец рассчитал все так, чтобы побочный брат царя прибыл в то время, когда на Аттала, потрясенного услышанным, наибольшее впечатление произведут слова о подосланном сенатом римлянине. А что Аристоник не будет знать, с кем ему предстоит встретиться, — не беда! Указывая в послании о необходимости его срочного присутствия в Пергаме, он, Артемидор, специально умолчал об этом — тем неожиданнее и естественней будет встреча братьев! И еще, зная Аристоника, он опасался, как бы тот, прослышав обо всем наперед, не решил заручиться поддержкой собрания своих гелиополитов, прежде чем пойти на встречу с царем. А так ему надо только успеть шепнуть Аристонику, чтоб тот рассказал брату про римлянина и Эвбулида. И он это сделает в тот момент, когда внимание царя будет отвлечено звоном разбитой вазы с Антиохом и Попилеем и воплями совершившего это «преступление» ремесленника, чью дочь за долги забрал себе в наложницы римский ростовщик. Словом, все предусмотрел Артемидор. Не предвидел он лишь одного. Аттал неожиданно задержался у гробницы своей матери, решив слегка изменить одну из внешних стен мавзолея. Он увлекся, отдавая указания скульпторам, и Артемидор уже решил, что начальник кинжала обманул его, убоявшись чего-то в последнюю минуту. Дважды отсвистели часы после назначенного срока, когда, по заверению Никодима, царь должен был появиться в лавке, а его все не было. Наконец, за дверью послышались голоса. — Хвала богам! — обрадованно воскликнул Артемидор, бросаясь к выходу… и остановился в растерянности, увидев входящего в лавку брата царя. — Что случилось? — с порога спросил Аристоник. — Я едва не загнал лошадей, получив твое послание! — Понимаешь… — не зная, как теперь быть, не сразу ответил купец. — Сегодня ты должен встретиться здесь с человеком… от которого зависит будущее Пергама. — Кто он? — Ты это скоро увидишь сам, — справился с минутной растерянностью Артемидор и невольно покосился на готовую засвистеть в третий раз клепсидру. — Если, конечно, он еще придет… — Любишь ты таинственность, Артемидор! — усмехнулся Аристоник. — Ну да ладно, подождем твоего всемогущего гостя! Все равно мне нужно отдохнуть с дороги! Он сел на один из скромных стульев и с удивлением огляделся вокруг. — Артемидор? Что все это значит? Ты решил открыть гостиницу для приезжающих в Пергам базилевсов? — Да нет, я… — Не скромничай, Артемидор! Эти вазы, явства, клине из слоновой кости! Таких покрывал я не видел даже когда жил во дворце! И еще этот орел… Постой-постой! — прищурился Аристоник, переводя взгляд с орла на скелет рыбешки, а затем на вазы. — Римляне, римляне — сплошные римляне! Клянусь Гелиосом, мне предстоит сегодня встреча с самим послом Рима в Пергаме! И мне нужно дать ему понять… — Нет, Аристоник! — покачал головой Артемидор. — Это будет не римский посол. — Тогда базилевс Вифинии или сам Митридат Эвергет? — продолжал надсмехаться над купцом Аристоник. — Что ж, и для них у меня найдется, что сказать! — Его взгляд неожиданно упал на прикрытую статую, в очертаниях которой угадывалась знакомая ему Селена, несущая в руке факел, с двурогим месяцем в прическе. — О! И она уже здесь! Кого же ты ваяешь в подвале на этот раз? Идем, покажешь!.. — В подвал нам сейчас нельзя, — остановил его Артемидор. — Почему? — Там прячется охрана. — К чему такая предосторожность? Если понадобится, меня есть кому защитить. — Это не твоя охрана, Аристоник. — Не моя?! А чья же? — Твоего брата. — Ты хочешь сказать, что все эти вазы, клине, орел, статуя предназначены… — Да, — кивнул Артемидор. — И я должен сейчас встретиться… — С Атталом Филометором, твоим побочным братом. — Здесь?! — Но ты же сам назвал это место достойным того, чтобы принимать базилевсов! Почему бы одному из них не быть царем Пергама? — усмехнулся Артемидор. — Сумасшедший! — сбрасывая руку купца с плеча, рывком поднялся Аристоник и быстрыми шагами заходил по лавке. — Ты хоть понимаешь, что делаешь?! — Понимаю! Ты должен сказать брату о цели того коварного римлянина, попросить доставить сюда Эвбулида, чтобы он указал нам на него, и этим спасти Пергам от владычества Рима и бунта черни! — Что? — вскричал Аристоник. — Что ты сказал?! — Не надо, Аристоник, давай хоть друг перед другом не будем ломать комедию! Разве мы, состоятельные люди Пергама, не понимаем, что все царство Гелиоса, — презрительно повел плечом Артемидор, — необходимо тебе только для того, чтобы овладеть троном или, по крайней мере, встать вровень с братом. Так же как и нам, чтобы избавиться от римлян, которые не дают ни свободно дышать, ни торговать… — Артемидор, опомнись, что ты говоришь?! — А то, что сегодня это может решиться само собой. Я уверен, твой брат в благодарность за спасение предложит тебе прямо отсюда отправиться во дворец, и не нужно будет никакого царства Гелиоса! — Не нужно царства Гелиоса?! — переспросил пораженный Аристоник. — Я не отрицаю, что ты сдержишь слово, данное черни, — торопливо возразил Артемидор. — Ты добрый, сам хлебнул немало горя и облегчишь жизнь пергамской бедноте. Поверь, живя во дворце, ты сможешь сделать для них гораздо больше, чем где-то в трущобах Пергама или крошечных Левках! Ты убедишь царя дать многим из них ателию, снизишь налоги, а тех рабов, что особенно близки тебе, отпустишь на свободу. — Так вот ты какой, Артемидор… — медленно произнес Аристоник, словно впервые увидев купца. — Да, такой! — не в силах остановиться, воскликнул Артемидор. — Ты не можешь не понимать, что Тапробана — это вымысел мечтателя Ямбула! Что Пергам никогда не станет государством Солнца, а его рабы и беднота гелиополитами, потому что этого не позволит Рим! Да что там Рим — те же Вифиния, Каппадокия, Понт, все государства, где существуют рабы и господа, а значит, весь мир, боясь, что пергамская зараза перекинется на их чернь, сразу же ополчатся против тебя, Аристоник! И ты, желая дать людям добро, обречешь их на новые муки. Не римские легионы, а ты зальешь кровью Пергам! — Так вот ты какой, Артемидор, — хмурясь, повторил Аристоник. — Да! — крикнул купец. — И не только я! Еще неизвестно, как поведешь себя ты, оказавшись во дворце, не верю я, что ты успел отвыкнуть от старых привычек. До панибратства ли тебе тогда будет с чернью? — Жаль! — сухо заметил Аристоник. — Чего? — невесело усмехнулся Артемидор, досадуя на себя, что не сумел сдержаться и наговорил много лишнего, как знать, может, уже завтрашнему базилевсу. — Того, что не можешь казнить меня прямо сейчас? Или не знаешь, каким способом? — Нет, — покачал головой Аристоник. — Мне жаль, что так думаешь не один ты. А насчет казни… Ты сам казнил в себе то, что могло бы сделать тебя счастливым — чистую душу и сострадание. Но если когда-нибудь в войске Митридата или Никодима, а может, и Рима, чему я уже нисколько не удивлюсь, ты выступишь против меня с мечом… — глаза его сузились, и он вплотную приблизился к Артемидору, — то тогда я отвечу тебе на оба твои вопроса. — Значит, ты не будешь говорить с братом? — упавшим голосом спросил Артемидор, чувствуя себя неуютно под взглядом Аристоника. — Ну почему же? — усмехнулся тот, удобно устраиваясь на стуле. — В кои-то века не виделись! Тем более, что уже как-то и неудобно уходить, — добавил он, кивая на дверь, за которой послышался нарастающий шум многочисленных копыт. 6. Братья Не прошло и минуты, как дверь распахнулась и в лавку вбежал начальник кинжала. Подслеповато щурясь с яркого солнечного света, он закричал: — Артемидор, у тебя все готово? Можно заводить базилевса? — У него все более чем готово! — выделяя каждое слово, ответил за купца Аристоник. — А у тебя, Никодим? — Кто это? — услышав знакомый голос, вскричал начальник кинжала. Аристоник вместо ответа взял со стола канделябр и осветил им свое лицо. — И теперь не узнаешь? — усмехнулся он. — А ведь помнится, всего год назад ты гонялся за мной по всему царству со своими головорезами! — Аристоник! — вздрогнул Никодим и в ярости оглянулся на пожавшего плечами Артемидора. — Наконец-то признал! — одобрительно заметил Аристоник и нарочито любезным тоном заторопил окончательно растерявшегося начальника кинжала. — Веди же скорее сюда моего брата! Я так соскучился по нему, пока жил вдалеке от дворца… Никодим озадаченно повертел головой, прикидывая, что ему теперь делать. Понимая, что отказ царю, которого он всю дорогу уговаривал посетить лавку, может принести ему еще большие неприятности, он обреченно махнул рукой и направился к выходу. — Учти, Артемидор, — на ходу предупредил он купца, который догнал его и шепотом пытался убедить, что Аттал останется доволен встречей с братом, — если нам обоим за это придется расплачиваться головой, то твоя отлетит первая! Через минуту за дверью послышалось бряцанье оружия берущей «на караул» личной охраны базилевса. В лавку в сопровождении Никодима и Аристарха вошел Аттал. В длинной, почти до пят траурной одежде, нечесаный, со спадающим на глаза лавровым венком, он небрежным движением руки ответил на приветствие бросившегося ему в ноги Артемидора и с удивлением посмотрел на продолжавшего сидеть Аристоника. Наконец, глаза его, привыкнув к полусумраку лавки, расширились, дрогнули: Аттал узнал брата. — Ты? — удивился царь. — Я, — невозмутимо ответил Аристоник. — Здесь? В Пергаме?! — Как видишь. Аттал с минуту помолчал и вдруг неожиданно для всех присутствующих направился к поднявшемуся навстречу Аристонику, обнял его за плечи и притянул к себе. — Это хорошо, что ты здесь! — порывисто произнес он, и его голос надломленно зазвенел. — Ведь ты помнишь Стратонику? Какая беда… какая беда… я только что был у нее. Ты понимаешь — она там совсем одна! Сходил бы, поклонился, ведь она была тебе второй матерью… А эти, — злобно сверкнул он глазами, вспоминая строителей, — даже мавзолея для нее как следует сделать не могут! Аттал оттолкнул от себя Аристоника, не успевшего произнести слова сочувствия, и обернулся к лекарю, которому Артемидор показывал свои многочисленные колбы: — Аристарх, подойди! Это мой брат! Я тебе рассказывал о нем… Аристарх приветливо улыбнулся Аристонику, с интересом вглядываясь в его открытое, мужественное лицо, Тот, слегка удивленный тем, что брат представил его, а не своего лекаря, сдержанно кивнул в ответ, досадуя на себя, что в нем после рабских спален, сомнительных постоялых дворов, действительно, до сих пор живы дворцовые привычки. — А это — мой лекарь, спасший меня от всех болезней и одиночества! — нахмурился, заметив холодный кивок Аристоника, Аттал и стал срывать зло на хозяине лавки, который не знал, в какую сторону броситься, чтобы угодить базилевсу: — Света мало! Душно! И вообще, чем ты собрался меня удивлять? — Статуей, о, бессмертный! — собственноручно зажигая внесенные рабами светильники и канделябры, низко поклонился Артемидор. — Своей недостойной для твоих божественных глаз работой… Он кинулся в угол, собираясь откинуть покрывало с Селены, но Аттал жестом остановил его. — Постой, — заметно успокаиваясь, сказал он. — Статуи так не смотрят. Ведь это не живые люди — посмотрел и сразу забыл! А я устал с дороги, голоден. Надеюсь, в твоей лавке найдется достойная пища, чтобы угостить меня? — Конечно, — обрадовался Артемидор, радушным жестом приглашая братьев пройти к двум клине. Аттал забрался на покрывало при помощи скамеечки, которую услужливо подсунул ему под ноги купец, отщипнул с золотого блюда несколько вяленых виноградин и вопросительно взглянул на удобно устроившегося на соседнем клине брата. — И ты будешь утверждать, что оказался в этой лавке случайно? — после долгого молчания хмуро спросил он. — Конечно, нет! — покачал головой Аристоник и тоже отщипнул пару ягод. Артемидор торопливо разлил по золотым кубкам вино. Царь отпил несколько глотков и спросил, не сводя глаз с брата: — И чего же тебе надо? Рабов? Денег? О чем хочешь просить меня? Аристоник последовал его примеру, выпил вино. Выдержав взгляд царя, спокойно ответил: — Брат… Аттал недовольно подернул плечом. — Базилевс… — пересилив себя, поправился Аристоник, — я пришел сюда, чтобы просить тебя быть осторожным… — Меня? — удивился царь. — Разве тебе не известно, что теперь у меня во дворце больше нет врагов? — И тем не менее, тебе угрожает опасность. Я должен предупредить о ней. — Ты? О котором все мои начальники кинжала говорили как о самой большой для меня опасности? — насмешливо спросил Аттал. — И где же они теперь? — тоже усмехнулся Аристоник и кивнул в сторону насторожившегося Никодима: — О твоем нынешнем я пока не говорю. — Хорошо, продолжай! — помолчав, разрешил царь. Но продолжить Аристонику не удалось. Заждавшиеся крестьяне и ремесленники, все те «случайные» посетители, которым Артемидор наказал заходить ровно через четверть часа после того, как в лавку войдет царь, один за другим стали появляться на пороге и рассаживаться в дальнем углу, словно в настоящей харчевне. — Это еще что?! — схватился за рукоять меча начальник кинжала. — А ну, марш отсюда! Но Аттал неожиданно остановил его: — Пусть остаются. Могу я хоть раз в году посидеть со своим народом? Надеюсь, не от этих жалких и грязных людей исходит для меня опасность? — спросил Аристоник. — Наоборот, базилевс! Это честнейшие и преданные тебе люди! — искренне воскликнул тот. — Они… Договорить он не успел. Услышав слово «базилевс» ремесленники и крестьяне наконец сообразили, что царь находится среди них, одетый в скромную траурную одежду, и, перекрикивая друг друга, а заодно и Аристоника, стали громко ругать римлян и перечислять, сколько бед и несчастий принесли они им. Аттал слушал сначала с удивлением. Потом — с интересом. Наконец, словно только что вошел в лавку, обвел взглядом вазы, задержавшись глазами на рыбешке. И после того, как один из ремесленников, косясь на Артемидора, с криком: «Да будь они прокляты, эти римляне!» хватанул посохом прекрасную вазу, захохотал, ударяя себя ладонью по ляжке: — Ай да Артемидор! Ай, насмешил! — и, уже обращаясь к побледневшему Аристонику, спросил: — Значит, разговор у нас пойдет о Риме? — Да, — ответил тот, делая незаметный жест купцу прекратить комедию, и, глядя как пятятся к выходу, униженно кланяясь его брату, гелиополиты, добавил: — И о Риме, и об одном негодяе, которого подослал в Пергам сенат. — И что же хочет от меня этот негодяй? — поднимая кубок, поинтересовался Аттал. — Совсем немного, — без улыбки сказал Аристоник. — Чтобы ты написал завещание, в котором бы передал свое царство Риму. — Недурно придумано! — покачал головой Аттал. — И это все? — Все! За исключением того, что после этого он должен отравить тебя! — Отравить? Меня?! — откинувшись на персидские подушки, засмеялся царь. — Аристарх, слышишь? Это уже совсем интересно! Как будто римскому сенату неведомо, что мне известны противоядия от всех существующих в мире ядов! — Но тем не менее, это так! — настойчиво проговорил Аристоник. — Я даже могу представить тебе человека, который знает этого римлянина в лицо! — И где же он? — На серебряном руднике. Это Эвбулид, раб твоего бывшего начальника кинжала Эвдема! Аттал глазами показал Никодиму на дверь. Тот, мгновенно поняв приказ, рванулся к двери, чтобы послать своего человека за рабом. Следом за ним из лавки выбежал взволнованный Аристарх. Проводив рассеянным взглядом обоих, царь задумчиво произнес: — Конечно, я верю тебе, Аристоник, и в доказательство этого разрешаю вернуться во дворец. Однако, ты, как всегда, слишком горяч и доверчив. По просьбе римского посла Сервилия Приска, этого честного и открытого человека, я принял дня три назад во дворце одного римлянина, но, как видишь, до сих пор жив! — Кто он? — подался вперед Аристоник. — Так, — пожал плечами Аттал. — Торговец, который скоро станет сенатором. — И о чем же он говорил с тобой? Уговаривал написать такое завещание?! — Вовсе нет! — удивился Аттал. — Я лепил его бюст из воска, а он рассыпался в благодарностях и говорил, что этот бюст будет самым знаменитым в Риме, потому что его ваял я! — И это все? — Еще он, кажется, молол какую-то чушь о том, что если поднимутся рабы и пергамская чернь, то мне без помощи Рима не устоять, что многие государства мира теперь сохраняют призрачность независимости, потому что все делают по воле сената. Называл Вифинию, Сирию, Понт. Нет, он вовсе не похож на самоубийцу! Да, он не глуп, хитер, азартен, но — труслив, я отчетливо читал это на его лице, а трусу сенат вряд ли доверил бы такое дело! — Где он теперь? — быстро спросил Аристоник. — Наверное, уже у меня во дворце! — взглянул на водяные часы Аттал и отставил кубок. — С первого раза портрет мне не удался, я никак не мог уловить истинного выражения его лица и поэтому назначил второй сеанс. — Базилевс, откажись от этого сеанса! — воскликнул Аристоник, видя, что Аттал поднимается с клине. — Да ты что? — удивился царь. — Я так увлекся этой работой, что даже сейчас не хочу терять ни минуты! — Я прошу тебя, не ходи во дворец, пока туда не приведут Эвбулида! — попросил Аристоник. — Эх, Аристоник, Аристоник! — укоризненно покачал головой Аттал, ища глазами лекаря. — Ты неисправим и, как всегда, называешь рабов достойными именами. А ведь Эвбулидом когда-то звался великий скульптор Эллады. Пора тебе забывать эти привычки, раз собираешься жить во дворце. Где же в конце концов Аристарх? — воскликнул он. — Он ушел с моим посыльным на серебряный рудник, сказав, что рабу, возможно, понадобится его помощь! — поклонился начальник кинжала. — Ну и вельможи пошли! — вздохнул Аттал и заторопил брата. — А ты чего медлишь? Идем! — Прости, базилевс, — негромко отозвался Аристоник. — Я остаюсь здесь. — Ладно, жду тебя вечером. Нам есть о чем поговорить! — Не о чем, базилевс, — слегка побледнев, твердо сказал Аристоник. — Я не приду. — Что? — вскинул голову царь и в сердцах махнул рукой: — Ну как знаешь! Живи в своих трущобах, если они тебе приятнее моих залов и спален! Дверь громко захлопнулась. Снаружи послышалось бряцанье оружия и удаляющийся цокот копыт. — Это он! — уверенно сказал Аристоник, думая о римлянине. — Он… — кивнул Артемидор, думая о том же. — И если он добьется своего и завещание уйдет в Рим… — И завещание уйдет в Рим… — эхом отозвался купец и вздрогнул: — Нет! Мы не должны допустить этого! Раз твой брат отказался слушать тебя, нам следует хотя бы перекрыть все дороги этому римлянину в Элею! — Я немедленно предупрежу об этом моих людей! — воскликнул Аристоник, не только словом, но и тоном как бы отделяя Артемидора от государства Гелиоса, и вышел из лавки. — А я — своих! — соглашаясь с этим, крикнул ему вслед купец. Оставшись один, он оглядел лавку, подумал, что неплохо было бы оставить все как есть, чтобы посетители могли и отдохнуть, и купить вазы — как-никак двойная выручка. Впрочем, усмехнулся он про себя, какая там выручка, если Пергам станет римской провинцией… На глаза ему попалась статуя, в спешке позабытая царем. Подойдя к ней, он сдернул покрывало и долго смотрел на Селену, прикидывая, что же теперь принесет ему эта сестра Гелиоса, богиня луны, покровительница всего неизменного, мрачного, мертвого… 1. Возвращение из Аида За неделю, проведенную Эвбулидом в руднике, он испытал столько, сколько ему не доводилось испытывать за все время, прожитое в рабстве. Каждый час в норе, где он, хрипя от натуги и удушья, долбил то кайлом, то молотком каменную стену, подгоняемый железным прутом носильщика, казался ему равным целому дню, а день — году минувшей жизни. Он перестал думать про время, не знал, что наверху — утро или вечер, — все было едино и неизменно в гулкой, мрачной штольне, где отсчет дней для несчастных шел на мешки и корзины, наполненные кусками руды. Два или три раза носильщик уводил за собой в глубь коридора новеньких, и тогда Эвбулид догадывался, что сейчас день, ибо какой интерес управляющему тащить провинившихся рабов на рудник ночью. Тогда он отваливался навзничь и, закрывая глаза, силился представить яркое солнце, буйную траву начавшегося наверху лета, суетящихся людей. Это ему не удавалось. Мешал тусклый светильник, напоминающий о его участи, отвлекали, возвращая в явь, мерные удары инструментов, доносившиеся со всех сторон. «Безумные существа! — думая о людях, оставшихся на земле, поражался он. — Воюют, проливают кровь, радуются, набивая золотом и серебром кошели, ссорятся друг с другом… И все это вместо того, чтобы просто жить и наслаждаться свежим воздухом, солнцем, небом, травою! Они даже не подозревают, сколь достаточно это для счастья!..» Издалека доносилось шуршанье кожаного мешка или корзины, которую волок по коридору носильщик. Эвбулид, морщась от боли во всем теле, торопливо поворачивался на бок и бил молотом по вставленному в трещину клину или просто кайлом по глыбе, выпирающей из стены. Несмотря на такую предосторожность, ему ни разу не удавалось провести носильщика, обладавшего удивительно чутким слухом. Оставив в коридоре корзину, тот протискивался наполовину в нору и срывал свое зло на Эвбулиде, в кровь избивая его своим железным прутом и яростно крича: — Будешь отдыхать без моего приказа? Будешь подводить меня? Будешь? В первый же день, едва поставив Эвбулида в эту нору, он сразу позабыл о своем обещании приносить для него маленькие мешки. Видимо, знал и помнил он только то, что должен опередить старшего носильщика. Эвбулид не раз слышал его сбивчивый шепот, когда он вновь брался за ношу: — Ничего, теперь мне совсем недолго осталось ждать… Завтрашнего дня он не переживет!.. Но где-то наверху наступало завтра, и даже послезавтра, а старший носильщик жил, и младший от этого лютовал все сильнее и сильнее. Он задумал извести своего злейшего врага, стоящего между ним и глотком воздуха, загнав его беспрерывным потоком корзин и мешков из своего коридора. Теперь, даже заставая Эвбулида работающим, он все равно бил его и требовал пошевеливаться живее. И, забирая полную доверху корзину, не разрешал больше спать. — Долби дальше! — приказывал он, ударяя для острастки грека, и, выбираясь из норы, с блаженством шептал невидимому старшему носильщику: — Посмотрю я, как ты отнесешь у меня наверх эту корзину! Нет, я теперь не дам тебе отдыхать ни минуты, и уж завтрашнего дня ты у меня точно не переживешь! А ты работай, работай! — кричал он грозно в нору. Эвбулид, проклиная озверевшего носильщика и того человека, который первым додумался строить серебряные рудники, всех тех, кто отнимает у людей свободу, мешкающего почему-то Артемидора, снова брался за работу. Нехватка воздуха, чудовищное перенапряжение, питание, которое вряд ли бы насытило и воробья, почти полное отсутствие отдыха быстро делали свое дело. Силы все ощутимее покидали Эвбулида. На небольшой осколок руды, требовавший раньше трех-четырех ударов, теперь приходилось тратить по несколько минут, а после, выронив молот из обессиленных рук, долго лежать, чтобы можно было снова поднять его. Наконец пришел день, когда он не сумел больше сделать этого. Напрасно ворвавшийся в нору носильщик стегал его прутом и забрасывал камнями из полупустой корзины. У Эвбулида не осталось даже сил, чтобы заслониться рукой от ударов. — Ну ладно, отдохни немного! — поняв всю тщетность заставить трудиться обессиленного раба, в конце концов, сдался носильщик, выполз из норы и где-то вдали Эвбулид услышал его срывающиеся вопли: — Будешь подводить меня? Будешь? Будешь? Тут голова его закружилась. Он перестал ощущать реальность и покатился куда-то в бездонную пропасть… Очнулся он оттого, что кто-то настойчиво дергал его за ногу. — Сейчас… — прошептал он, шаря рукой вокруг себя и находя молот. — Я сейчас… Не открывая глаз, Эвбулид слышал, как протискивается в нору носильщик. «Сейчас ударит… — понял он и неожиданно обрадовался этому: — Вот и хорошо! Пусть лучше убьет, чем так мучиться…» Но вместо удара прутом он вдруг услышал незнакомый голос: — Эй, послушай! Эвбулид открыл глаза и удивился, увидев вместо носильщика юношу лет семнадцати. — Послушай! — повторил тот. — Ты можешь идти? — Нет… — покачал головой Эвбулид. — Кто ты? — А ползти? — вместо ответа спросил незнакомец. Эвбулид сделал попытку приподняться на локте и обессиленно ткнулся щекой в пол. — Тоже нет… — чуть слышно прошептал он. — Да что же это делается?! — в отчаянии воскликнул юноша. — Я обошел почти все норы, пока этот носильщик относит мою корзину, — и всюду такие же, как ты! А мне бы десять, ну хотя бы пять человек, и мы бы ночью выползли отсюда, прибили носильщика и охранника, что стоит наверху, — и дали бы деру!.. — Зачем? — слабо удивился Эвбулид. — Затем, чтобы не сгнить здесь заживо! — шептал юноша. — Я тут уже второй день и чувствую, что добром это не кончится! Уж на что мне не сладко жилось у прежнего хозяина, но тут вообще нет жизни! Ну нет, отсюда я и один сбегу! — сжав кулаки, пообещал он. — Зачем? — повторил Эвбулид. — Чтобы снова стать рабом? Он вспомнил «камень продажи», на который его выводили нагим, с выбеленными ногами, мышь, которую подносил к его губам Публий, ключницу, Филагра, Кара, Протасия и, несмотря на слабость, убежденно добавил: — Нет. Я так больше не смогу. Даже на трижды прекрасном воздухе там, наверху… — Ты — да! — согласился юноша. — Тебе со стариками-носильщиками уже нечего терять. Вы свое прожили, и вам все равно, где доживать век. И здесь даже лучше — не так далеко добираться до Аида. А я молод! Я жить хочу! — Не такой уж я и старик — мне только тридцать восемь лет! — слегка обиженно заметил Эвбулид и, прочитав в глазах юноши, что теперь и он мало чем отличается от носильщиков, тихо добавил, словно вынося себе смертный приговор: — Было… — Нет! — прошептал юноша, попятившись от него. — Нет!! Я так не хочу! Не хочу!! Он исчез в коридоре, подавшись вправо, к выходу из штольни. Эвбулид долго еще слышал его отчаянные вопли, удаляющиеся в коридоре. Потом до него донесся шум борьбы и крик младшего носильщика: — Стой, безумец! Сто-о-ой… Не прошло и получаса, как носильщик вернулся. Жалуясь на свою несчастную судьбу, он коротко рассказал Эвбулиду о случившемся. Юноша все же ухитрился добежать до выхода из штольни, но заподозривший неладное охранник спустился вниз и насквозь пронзил его своим длинным копьем. — И как это я не доглядел за этим негодяем, не перебил ему сразу ноги? — сокрушался носильщик. — Теперь старший во всем обвинит меня, и даже если он умрет сегодня, на его место поставят другого. Разве доверят всю штольню человеку, который не сумел навести порядок даже в своем коридоре?! Тут он заметил, что Эвбулид лежит, не работая, а корзина нисколько не заполнилась со времени его ухода и потянулся за прутом. — Это еще что такое? — задрожавшим от ярости голосом спросил он и закричал: — И ты тоже подводить меня?! А ну, принимайся за дело! Но грек не сделал даже попытки поднять молот. Озверевший носильщик принялся бить его своим страшным прутом, потом — кулаками. Эвбулид только глухо стонал и обессиленно ронял голову из стороны в сторону. — Ну и подыхай! — неожиданно оставил его в покое носильщик, дохнув напоследок в лицо гнилостным запахом неживого человека. — Через пару часов зайду за тобой. Жаль, но, видно, сегодня старшему носильщику придется чаще носить наверх трупы, чем мешки и корзины. А это куда легче… Носильщик уполз, моля на ходу богов, чтобы случай с безумным юношей остался для него без последствий. Ожили молоты в дальних забоях. Прошуршала мимо норы тяжелая корзина, потом — мешок… А смерть все не спешила к Эвбулиду. Он лежал на спине и, почти не мигая, глядел на беспомощный, готовый вот-вот захлебнуться огонек светильника. «Вместе и умрем!» — вдруг с облегчением подумал он и тихо улыбнулся. Но светильник угас, а он продолжал жить, мучаясь от того, что до сих пор живет, не в силах больше терпеть тяжесть давившей на него со всех сторон каменной горы, внутрь которой даже смерть не особенно торопилась идти… Где-то вдалеке произошел очередной обвал, глухо содрогнулась земля. Эвбулид с надеждой прислушался — не тряхнет ли где еще рядом? «Одно мгновение — и оборваны все эти муки! — с завистью думал он о тех рабах, которые находились в своих норах в момент обвала. — А тут даже крюка нет, чтобы повеситься. Да и на чем?» Он дернул край изорванного в лохмотья хитона и грустно улыбнулся, услышав треск легко разрываемой даже его слабыми руками материи. «Попрошу носильщика добить меня!» — неожиданно пришла в голову спасительная мысль, и Эвбулид, дрожа от нетерпения, стал дожидаться возвращения своего недавнего мучителя. Наконец в отдалении послышался шум, ясно стали различаться людские голоса. Они приближались. Вскоре совсем рядом раздался долгожданный голос младшего носильщика: — Может, этот? — Нет! — просунулась в нору чья-то голова. Яркое пламя факела заставило Эвбулида крепко зажмурить глаза. Он успел увидеть лицо, поразившее его удивительно знакомыми, близкими чертами. — А-Аристарх?.. — ошеломленно пробормотал он. Факел выпал из руки рванувшегося вперед лекаря, зашипел на мокром от сочившейся сверху воды полу. Но тут же услужливые руки протянулись в лаз и осветили нору новыми факелами. — Эвбулид!.. — прошептал Аристарх, вглядываясь в лежащего грека. — Что они с тобой сделали?! Что вы с ним сделали, негодяи?! — закричал он на невидимых охранников и носильщика и снова повернулся к Эвбулиду: — Сейчас я помогу тебе! Вот, выпей, это придаст тебе сил… — Не буду! — оттолкнул Эвбулид протянутый ему алабастр. — Я не хочу жить! — Хочешь! Ты хочешь и будешь жить! — настойчиво сказал Аристарх, приподнимая голову грека и почти насильно вливая ему в рот лекарство со знакомым Эвбулиду еще по трюму «Горгоны» запахом. — Нет! — захлебываясь, возражал Эвбулид. — Не надо мне твоих сил… Уходи! Я лучше умру, чем еще хоть день пробуду рабом!.. — И все-таки ты будешь жить! — Нет… — Будешь, потому что сегодня же царь Пергама даст тебе свободу! — Царь? — неверяще взглянул на лекаря Эвбулид. — Да! — мягко улыбнулся ему Аристарх. — Я служу у него личным лекарем, и поверь, он будет очень рад удовлетворить мою просьбу. Но для того чтобы выйти отсюда и стать свободным, тебе надо выпить хотя бы половину этого алабастра! Эвбулид покорно, словно ребенок, последовал приказу лекаря, но первый же глоток дался ему мучительно трудно. Он снова отвел руку Аристарха, но уже не для того, чтобы отказаться от спасения. Весь ужас минувшей недели, этих нескольких дней его пребывания в царстве Аида, нахлынул на него. Он ткнулся головой в грудь обнявшего его лекаря, и плечи его затряслись от беззвучных рыданий. Успокоившись, Эвбулид выпил до дна весь алабастр и почувствовал, что силы, действительно, вернулись к нему. Он пополз следом за подбадривающим его Аристархом сначала робко, а потом все быстрее и быстрее. Коридор, в первый раз показавшийся ему бесконечным, закончился неожиданно быстро. Путь круто пошел наверх, и Эвбулид невольно прикрыл глаза локтем от яркого света, ударившего в глаза. — Правильно, привыкай к солнцу постепенно, чтобы не ослепнуть! — похвалил Аристарх. — А воздух вдыхай полной грудью, он теперь для тебя — лучшее лекарство! Пей его, глотай, и тогда… Он не договорил, услышав позади себя дикие вопли бросившегося наверх младшего носильщика, которому в суете удалось незамеченным добраться почти до самого выхода: — Вот он, вот! Я уже вижу его! — А ну назад! — закричали охранники, но носильщик, не дойдя до выхода из штольни каких-нибудь десяти шагов, неожиданно вскрикнул и рухнул, как подкошенный, протянув руки вперед, словно желая обнять солнечные лучи. — Готов! — заметил один из воинов, поддевая копьем безжизненное тело. — Разрыв сердца! — подтвердил Аристарх, осмотрев несчастного и без своей обычной улыбки положил руку на плечо грека: — Хвала богам, Эвбулид, теперь мне все окончательно ясно! — Что? — счастливо прищурившись, спросил Эвбулид. — А то, что, кажется, напрасно я заподозрил тебя в помешательстве после того, как ты хотел отказаться от моей помощи. Действительно, лучше сразу умереть, чем прожить здесь хотя бы минуту! 2. Вызов Риму Аттал Филометор возвращался в свой дворец по одной из центральных пергамских улиц, застроенной по обеим сторонам многочисленными лавками и харчевнями. Недавний разговор с братом не выходил у него из головы. Был ли он напуган нависшей над ним опасностью? Пожалуй, нет. Поражен — да. Огорчен — тоже немного. Но только не напуган. Ведь ехал он, несмотря на все предостережения Аристоника, лепить для потомков бюст этого будущего сенатора. А в том, что это тот самый римлянин, о котором рассказывал брат, он не сомневался с той самой минуты, когда Аристоник упомянул о яде. Бегающие глаза купца, ерзающий подбородок, капля пота на кончике носа — да, с такими лицами люди рождены, чтобы изворачиваться, лицемерить, травить. И он, гордящийся тем, что без особого труда может вылепить из воска в точности схожий с оригиналом портрет любого человека, еще досадовал на себя, что никак не мог поймать истинного выражения лица натурщика. А можно ли его было поймать, если тот, как теперь ясно, все время искал случая, чтобы подбросить в царский кубок свой жалкий яд! «Ну, ничего, — мстительно подумал Аттал. — Сейчас ты у меня его получишь…» Углубленный в свои мысли, он почти не замечал, как привлеченный сияющими доспехами личной тысячи воинов царя народ выбегает из всех дверей и устремляется к его повозке, восторженно крича: — Базилевс! Смотрите — сам базилевс!! — Где? Где?! — Да вон же, в повозке! — С опущенным лицом? — В траурной одежде?! — Ну да, ведь сегодня — день поминовения его матери Стратоники! — Человек, который так чтит свою мать даже после ее смерти, не может желать дурного своему народу! — воздевая руки, срывающимся голосом орал тучный купец. — Слава базилевсу, слава величайшему! — Недаром мы прозвали его Филометором! — вторил кто-то с другой стороны улицы, и казалось, что весь Пергам сотрясается от криков тысяч людей, пытающихся пробиться к повозке: — Слава Филометору! Слава! Слава!! Ремесленников, купцов и крестьян, приехавших в столицу, чтобы продать зерно и овощи на агоре, воины оттесняли позолоченными остриями копий к стенам домов. Но люди, отбиваясь, продолжали рваться к своему царю, восторженно крича: — Слава! Слава!! — Он поехал здесь, а не по Священной дороге, чтобы посмотреть на свой народ! Это редкостная удача — увидеть его! — Значит, этот день будет самым счастливым для нас! Нескольким самым настойчивым пергамцам удалось миновать охранников и добежать почти до самой повозки, которую сопровождали телохранители царя. — О, величайший, прикажи прогнать из Пергама проклятых римлян! — падая на колени перед Атталом и протягивая к нему руки, завопили они. — Спаси нас, бессмертный! — Не дай нашим женам и детям превратиться в рабов! Рослые угрюмые фракийцы, не раздумывая, пускали в ход тяжелые македонские махайры и грозно шипели: — А ну прочь отсюда! Прочь!.. Упал на колени, зажав окровавленное лицо руками, купец, чьи отрезы на хитоны были самыми любимыми у пергамских женщин. Дико закричал, оставшись без кисти, бородатый крестьянин. Молча, без единого звука повалился на мощеную плоскими камнями дорогу пронзенный мечом в грудь горшечник. Стоны, проклятия и мольбы слились за спиной Аттала в сплошной дикий вопль — вопль его народа. — Никодим! — сморщившись, поднял лицо царь. — Да, величайший? — подскакал к повозке возбужденный начальник кинжала. — Вели ехать быстрее! — Слушаюсь, величайший! Повозка стремительно рванулась вперед, несколько раз подпрыгнула на чем-то мягком, очевидно, кто-то из запрудивших проход людей, не успев отпрянуть в сторону, оказался под золочеными колесами. Восторженные лица с широко разинутыми в крике ртами стали быстро отставать. «Народ взбудоражен. Но как он любит меня! — скашивая на толпу глаза, думал Аттал. — И как ненавидит римлян! Да и за что любить их? Сколько властвую над Пергамом, столько и слышу: тот разорился, того продали за долги в рабство, этого нашли на дне реки с камнем на шее, а вместе с ним и его семью, задолжавшую римскому ростовщику. Знаю, все знаю! Но что я могу поделать? Аристоник боится, что меня могут вынудить завещать царство Риму. А что толку его завещать, когда оно и так фактически давно уже принадлежит сенату, под указку которого я диктую эдикты, выгодные римским торговцам и смертельные для своих подданных?.. Другое дело, что они решили ускорить события и в „благодарность“ за мою верность подослали этого купчишку-сенатора, чтобы убить меня и без всяких помех овладеть Пергамом. И Сервилий Приск тоже хорош! Уж если он, единственный римлянин, которого я считал порядочным человеком и кому действительно доверял, пошел на такое, то чего тогда ожидать от остальных?..» Повозка снова остановилась, увязнув в огромном скоплении народа, уже прослышавшего о проезде базилевса по городу. Глядя на окружавшие его лица, Аттал вдруг усмехнулся от неожиданной мысли: «А что б, интересно, они кричали, если бы я взял, да и завещал их всех Риму? С женами, детьми, мастерскими, харчевнями, со всеми домами, алтарями, храмами! — Он обвел глазами священный округ на юге с храмом Афины, считавшимся самым сердцем Пергама, свои дворцы, уже видневшиеся наверху, примыкающие к ним крепостные сооружения, напоминавшие гостям столицы, что Атталиды создавали свое царство не только умением ладить с соседями, но и с помощью меча. — Они бы тогда прокляли меня и по камешку разобрали мавзолей матери, родившей человека, отдавшего их в кабалу римлянам. А если бы я повел их за собой на Рим?..» Никодиму кое-как удалось немного расчистить дорогу, и повозка, то и дело останавливаясь, двинулась дальше. «О, тогда начальнику кинжала пришлось бы уступить, и мою повозку понесли б на руках! — покачал головой Аттал. — А может, так оно и будет? Ведь не зря же я еду на встречу с этим купцом и правильно сделал, что не дал Аристонику уговорить себя остаться!» Он невольно улыбнулся, вспомнив, как наивно выглядели в лавке ругавшие римлян посетители, как настороженно переглядывались Артемидор с Аристоником, не решаясь прямо сказать о том, что именно этот купец и есть подосланный убийца. Как будто он и сам не понял этого! «Или они принимают меня за глупца? — неожиданно нахмурился он. — О, тогда они совсем не знают Аттала Филометора! Прежде чем принять решение, я должен сам убедиться, есть ли предел коварству и жестокости римлян. И если нет, если сенат решил поднять руку на государство, которое первым в Азии стало „другом и союзником римского народа“, то я остановлю их. Я, я — плоть от плоти всех Атталов и Эвменов, которые помогли Риму возвыситься, положу конец его могуществу! Для начала, если римлянин все же решится отравить меня, а в том, что у него ничего из этого не выйдет, я уверен, я …отпущу его обратно! — неожиданно решил Аттал. — Да, я отпущу его и этим брошу свой первый вызов Риму! Еще бы — остаться в живых после того, как всемогущий сенат приговорил тебя к смерти! А потом я подниму свой народ, найму фракийцев и гетов, объединюсь со всеми государствами, в которых хоть немного осталось истинно эллинского: Понтом, Македонией, Сирией, Парфией, Египтом, Элладой… И этот вызов будет куда страшнее для сената! Я двинусь на Рим и проверю, действительно ли уж он такой вечный, как хвастают римляне! Война будет не простой, но Пергам победит, ведь разбили же мы казавшихся непобедимыми галатов, собравшихся покорить весь образованный мир. А нет — так я прикажу заколоть себя своему телохранителю и лучше погибну, чем унижусь, как Антиох Эпифан или Прусий, который, будучи царем Вифинии, ходил по улицам Рима в платье римского вольноотпущенника! Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним! — стукнул кулаком по мягкому сиденью Аттал, для которого весь миллионный Рим воплотился теперь в облике римского купца. — Жаль, даже поговорить об этом не с кем. И Аристарха как назло нет. Опять, наверное, в библиотеке! Впрочем, что Аристарх — ему только вынь да положь, чтобы люди жили до ста пятидесяти лет в мире и радости. А что мир этот сейчас возможен только через войну — ему не понять!» И он закричал, обращаясь к вознице: — Скорее! Скорее!! 3. Второй сеанс Спешил на встречу с царем и Луций Пропорций. Он ехал в скромной повозке, на которую Эвдем заменил свою прежнюю, с роскошным верхом. На месте извозчика сидел Протасий. Щепетильный во всем, что касалось дворцовых порядков, Эвдем, несмотря на мольбы римлянина ехать быстрее, все время сдерживал евнуха, и они подъехали ко дворцу всего за несколько минут до назначенного Атталом срока. — Жду тебя за поворотом, как в прошлый раз! — кивнул Эвдем на угол крепостной стены. — Хорошо, — с трудом разлепил задеревеневшие губы Пропорций, вылезая из повозки по услужливо откинутой Протасием лесенке. Эвдем прикоснулся к его руке. — Завещание? — коротко спросил он. — Здесь! — похлопал по груди Луций. — Разрешение царя на выход из дворца и беспрепятственное отплытие из Элеи? — Тоже… — Ну иди! Да помогут тебе боги! Эвдем дал знак Протасию, и повозка, тронувшись с места, скрылась за углом. Луций остался один. Ноги его словно приросли к земле, в висках стучали быстрые молоточки. Даже в первый раз, идя вслед за Сервилием Приском по дворцовым коридорам, он так не волновался, как теперь. Он знал, что эта встреча с царем будет для них последней и он должен сделать свое дело сегодня до конца. Должен, даже если ему будут мешать зоркие охранники, собаки царя, если сбежится весь Пергам, чтобы не дать ему отравить своего базилевса. Словно во сне Луций назвал свое имя охраннику, дождался, пока выйдет дежурный офицер, натянуто улыбнулся ему, объясняя цель своего прихода. И, с трудом переставляя ставшие чужими ноги, пошел за ним вверх по лестнице в уже знакомую залу, где Аттал после государственных дел обычно занимался лепкой. Ровно в назначенный час — золотая фигурка человечка на водяных часах успела только поднять молоток, чтобы ударить им по серебряной наковальне, дверь распахнулась, и вошел базилевс. — Сегодня я очень устал и хотел бы побыстрей закончить сеанс! — прямо с порога сказал он и, пройдя к столику с незавершенным бюстом Пропорция, пояснил: — Я говорю это для того, чтобы ты так не вертелся во время сеанса, как в прошлый раз. А ты, — махнул он рукой на дежурного офицера, — выйди вон и прикажи охране никого не допускать ко мне! — Даже лекаря? — А его тем более! Аттал отопнул ногой ластившуюся к нему собаку и добавил: — И убери псов, того и гляди, столик перевернут, начинай тогда все сначала… — Слушаюсь, величайший! Дежурный офицер поманил за собой собак и вышел, старательно прикрывая за собой дверь. Слыша в коридоре его громкий голос, запрещающий охранникам впускать в зал хотя бы одну живую душу, Луций с тревогой покосился на Аттала. Но лицо царя, действительно, было таким усталым, а движения рук быстрыми, словно он и впрямь торопился разделаться с работой, что он успокоился и поправил перстень на большом пальце правой руки. Кубок царя и кувшин с вином, как и прошлый раз, стояли в углу, на столике из слоновой кости — но что, если он вдруг забудет о них? Не вливать же ему тогда насильно яд в глотку? — Опять вертишься! — с неожиданной неприязнью заметил Аттал, и Луций покорно застыл, отнеся и эту немилость к усталости царя. Вскоре его шея затекла, но он не смел и шелохнуться под быстрыми, цепкими взглядами, которые бросал на него базилевс. — Ну вот твой бюст и закончен! — наконец, сказал Аттал и, придирчиво осмотрев свою работу, спросил: — Так говоришь, он будет храниться у твоих потомков вечно? — Да! — с готовностью воскликнул Луций, моля богов, чтобы они подсказали царю отметить кубком вина окончание работы. — На самом видном месте? — Н-нет… — Почему? — Потому, что у нас, римлян, принято хранить почетные изображения предков, принадлежащих к высшему сословию, в особых шкафах… — Даже если такое изображение ваял сам базилевс? — удивленно приподнял голову Аттал. — Да, базилевс, ведь у нас в Риме принято так, — в свою очередь, удивился Луций. — А у нас принято, чтобы, обращаясь ко мне, все говорили «величайший» и «бессмертный», — нахмурился царь. — Но я не «все»… — робко заметил Луций. — Да? — переспросил царь. — А я думал, перед моим палачом все равны. А ты? — Да, величайший… — растерянно пробормотал Луций. — И «бессмертный» — повысил голос Аттал. — Да, бессмертный!.. — И чтобы при этом не сидели развалясь, как у себя в сенате, а падали передо мной ниц! — Но… величайший… бессмертный… — Ниц!! — окончательно теряя терпение, закричал Аттал. Луций растерянно взглянул на него и, встретив бешеный взгляд царя, покорно спустился со стула, встал на колени, поднял голову. — Ниц! — требовательней повторил Аттал. Луций, проклиная в душе сумасбродного царя, весь Пергам, помня только о той цели, ради которой он пришел сюда и о той, что уже брезжила на горизонте, манила белой туникой с сенаторской полосой, консульским званием, миллионами Тита, опустился на пол, прижав запылавшее лицо к мягкому ковру. — Вот так! — удовлетворенно заметил Аттал и, налюбовавшись распростершимся перед ним римлянином, прошел к бронзовому сосуду с водой для мытья рук, начищенному рабами так, что в нем отражалась вся комната: — А теперь налей-ка мне в кубок вина и не забудь, что у нас принято подавать его царю с поклоном! Унижение, злоба, стыд — все было забыто Луцием. Торопливо вскочив на ноги, он бросился в угол и, то и дело оглядываясь на стоящего к нему спиной Аттала, быстрыми движениями стал сколупывать рубин с перстня. Камень неожиданно выскользнул из его дрожащих пальцев, упал на пол и застыл в мягких ворсинках бесценного персидского ковра, словно крошечная капля крови. «Ай! — закусил губу Пропорций, досадуя на свою неосторожность, но тут же мысленно махнул рукой на рубин: — Пускай лежит — все равно больше не понадобится!» Он быстро отвел глаза от камня, самого дорогого в этот миг самоцвета на земле, потому что на него покупались миллионы Тита, сенаторская туника и целая римская провинция «Азия». Еще раз оглянулся на Аттала. И мгновенно, словно перед его рукой пылал огонь, стряхнул весь яд, оставшийся в перстне, в золотой кубок старинной работы и отдернул пальцы. «Все!..» — с облегчением выдохнул он про себя, не подозревая, что Аттал следит за каждым его движением. Прищурившись, царь видел, как карикатурно раздувшаяся в выпуклой стенке сосуда фигура римлянина, беспрестанно оглядываясь, колдует над кубком, разбрызгивая, наливает из кувшина вино, а затем, склонившись в низком поклоне, несет его, словно жалкий раб, на подносе через всю комнату. — Поставь туда! — с трудом подавляя в себе брезгливость, обернулся он к римлянину, кивая на столик с законченной работой. Потом посмотрел на Луция, на бюст, сравнивая их. Оставшись доволен сходством, приказал: — И себе тоже налей! Луций снова бросился в угол. Пока римлянин наливал себе в серебряный кубок вино, Аттал быстро достал из потайного кармана халата флакончик и отхлебнул из него изобретенное им противоядие. «Сколько же подданных — советников, жрецов, начальников кинжала, на которых испытывалось действие этого универсального снадобья, заплатили своими жизнями за одну единственную — своего базилевса!» — подумал он и, поднимая кубок, обратился к застывшему на полпути к нему римлянину: — Ну, за окончание работы? — Да! — поспешно ответил Луций, видя, как Аттал медленными глотками пьет отравленное вино. Прошла минута, другая. Но ничего не менялось в лице царя. Только мелкая судорога пробежала по скулам. — Крепкое вино! — наконец сказал он, ставя пустой кубок на столик. — Но вполне терпимое! А ты что не пьешь? — с усмешкой спросил он у Луция. И когда тот, смертельно побледнев, прикоснулся губами к кубку, добавил, отчеканивая каждое слово: — Что так смотришь на меня? Поражен, что я жив? Как видишь, жив. И еще буду долго жить, потому что нет в мире ядов, которые бы подействовали на меня. И такого наследника, как твой Рим, — мне не надо. А с тобой я сделаю вот что… — Величайший, пощади! — роняя кубок, вскричал Пропорций, бросаясь в ноги Атталу. — Не губи, бессмертный! — Нет, я не велю убивать тебя и не стану платить той же монетой, хотя у меня достаточно ядов, от которых умирают люди мгновенно или живут в страшных муках целый год! — брезгливо убирая полу халата, которую пытался поцеловать римлянин, продолжал Аттал. — Я отпущу тебя. Да, живым! В Рим… — Он вдруг пошатнулся и ухватился рукой за столик с бюстом. — Чтобы все там знали… что не так уж уязвим Пергам во главе со своим… базилевсом… Ноги Аттала подкосились, и он упал, увлекая за собой столик с пустым бокалом. Услышав шум, Луций поднял глаза и вскрикнул от радости, заметив лежащего на полу базилевса. Пальцы Аттала судорожно цеплялись за ковер. Голова клонилась набок. «Кончено! — понял Пропорций. — Ай да претор, не обманул!!» Он стремительно вскочил на ноги, достал из-за пазухи два пергамента, написанных искусным скрибой, подскочил к канделябру, нагрел воск, капая им на ковер. Вернувшись к Атталу, вдавил в воск перстень, не снимая его с безвольного пальца, и приложил сначала к завещанию, а затем — указу, дающему ему право беспрепятственного выхода из дворца и отплытия в Рим из порта Элеи. Царь следил за каждым движением римлянина остывающим взглядом, не в силах вмешаться. — Все, бессмертный! — наклонился к нему Пропорций. — Не обессудь, не кланяюсь тебе на прощанье — некогда! Он, с трудом удерживая себя, чтобы не побежать, ровными шагами вышел из зала. Тщательно притворил за собой дверь. — Вот указ базилевса! — показал он пергамент охраннику. — Величайший и бессмертный, отпуская меня, приказал передать вам, чтобы его не беспокоили, пока не выйдет сам. Да, и не пускать к нему никого, особенно этого… лекаря! Почтительно поклонившись указу с царской печатью, а затем римлянину, охранники-фракийцы снова скрестили копья перед дверью и застыли с самым решительным видом, готовые до конца выполнить распоряжение любимого базилевса. «Охраняйте, охраняйте!» — усмехнулся про себя Луций, поднимая руку в знак прощания, и вдруг съежился, услышав голоса поднимающихся по лестнице людей. Ему показалось, что в разговоре прозвучало его настоящее имя. Да-да, сомнений не было — кто-то внизу удивленно воскликнул: — Не может быть, чтобы на это пошел один из Пропорциев! Луций оглянулся на невозмутимых охранников, кинул отчаянный взгляд на лестницу, на ближайшую дверь в коридоре, метнулся к ней. — Я на минутку… Поглядеть напоследок! — пробормотал он. Нырнув в какую-то комнату, он закрыл за собой дверь и обессиленно прислонился к ней спиной. «Все пропало! Я погиб… И когда — с готовым завещанием! Когда Эвдем ждет меня в нескольких десятках шагов от дворца! Как глупо… как глупо…» Голоса приблизились, и один, на чистом эллинском, мягко сказал: — Мы к базилевсу! — Не велено! — с грубым фракийским акцентом ответил охранник. — Как это? — Не велено, и все! — Даже мне? — Особенно тебе! — Странно… Ну что ж, Эвбулид, пока базилевс занят делами государственной важности, давай продолжим осмотр дворца. Хочешь посмотреть знаменитый зал с полами Гефестиона? — Я устал, Аристарх… — возразил, как догадался Пропорций, лекарю тот самый голос, который назвал его имя. — С меня достаточно всех этих скульптур и особенно замусоренной комнаты. — Но это совсем рядом! — настаивал невидимый римлянину Аристарх, и чья-то рука тронула ручку двери с внешней стороны. — Ты убедишься, что птицы, насекомые, люди, изображенные Гефестионом, словно живые! Пропорций невольно поглядел под ноги и увидел на полу саранчу, грызущую листья, нарисованную так искусно, что, казалось, махни рукой — и она взлетит; дятла, соловьев, малиновку, клюющую мотылька, детей, бегущих за бабочкой… — Нет, Аристарх… Не хочу, — возразил вдруг прежний голос, и Луций почувствовал, что у него подкосились ноги от радости. — Я устал… Прости, но после рудника у меня нет сил смотреть на такую роскошь… Уж слишком велика разница, чтобы ее можно было понять умом. Я боюсь, что у меня снова помрачится в голове. Это — как попасть сразу на Олимп после Аида!.. — Пожалуй, ты прав, — отнял пальцы от ручки двери Аристарх и, судя по его шагам, снова прошел к охранникам. — Послушайте, — донесся оттуда его голос, и Луций вновь напрягся. — Может, вы хоть доложите базилевсу, что я пришел к нему? — Не велено! — рявкнул охранник. — Чем же он так занят, если не секрет? — Не секрет. Он лепил римлянина. А теперь отдыхает. — Что?! У него был римлянин?! А ну-ка пропусти меня! — Не велено. Отойди. — Ну хорошо, а где этот римлянин? — Только что вышел. Вот в ту комнату. К счастью Пропорция, Аристарх даже не обратил внимания на последние слова фракийца. — Так это он передал приказ базилевса никого не пускать к нему? — воскликнул он. — Да, — подтвердил один из охранников. — И показал нам указ с его печатью! — Эвбулид, кажется, мы опоздали! — донесся до Луция отчаянный возглас Аристарха. — А ну, пропустите, да пустите же меня к царю! Затравленно озираясь, римлянин услышал шум борьбы и крик лекаря: — Аттал, ты жив?! Эй, все, кто там, на помощь! Пропорций робко приоткрыл дверь. Увидев, что в коридоре никого нет, выскользнул из зала, торопливо спустился по лестнице и, затаив дыхание, показал дежурному офицеру указ царя. Тот, торопясь наверх, махнул рукой охраннику, стоявшему у входной двери, чтобы выпускал римлянина. Охранник долго возился с тяжелым засовом. Луций весь взмок, дожидаясь его. Наконец, дверь медленно отворилась, и он, задыхаясь, выскочил на улицу. Последнее, что он услышал, — крик дежурного офицера: — Никого не выпускать из дворца! Вернуть римлянина!! Продолжая лихорадочно прикидывать, кто же выдал его и действительно ли он слышал свое имя, Луций со всех ног бросился к углу крепостной стены, где дожидалась его повозка. 4. Олимп после Аида Луций не ошибался, что услышал на лестнице свое имя, поразившее его словно неожиданный удар грома. В тот самый момент, когда он, боясь пошевелиться, позировал лепившему его бюст Атталу, перед дворцом остановилась карета начальника кинжала. Из нее вышли трое: декурион, посланный Никодимом на серебряный рудник с приказом во что бы то ни стало отыскать сданного Эвдемом в аренду эллина, и Аристарх с Эвбулидом. Начальник первой охранной сотни царя сразу же бросился к дверям, требуя немедленно открыть их. Эвбулид, заботливо поддерживаемый лекарем, медленно поднялся по ступеням. Увидев перед собой едва державшегося на ногах раба в грязных лохмотьях, с огромным кроваво-красным клеймом по всему лбу, охранник загородил было вход копьем. Но декурион, властно бросив: — По приказу начальника кинжала! — кивком головы велел эллину следовать за собой. Эвбулид покорно вошел в двери и застыл на пороге, пораженный роскошью, открывшейся его глазам. — Иди же! — подсказал Аристарх. Но грек стоял, не в силах отвести взгляда от золотых статуй и красочных картин на стенах. Он даже не смел ступить на роскошный — в огромных алых цветах — ковер. — Аристарх… — беспомощно пробормотал он. — У меня что-то с головой. Я не помню, как все это называется… — Пойдем, пойдем! — успокоил его лекарь, озадаченный состоянием грека, и, взяв его под руку, чуть ли не силой повел по коридору. — Аристарх… — ошеломленно озираясь по сторонам, шептал Эвбулид. — Неужели здесь живут люди? Ведь тут стало бы не по себе даже самому… самому… Я не помню, кому… Аристарх! — Ничего, вспомнишь! Ты хотел сказать, Зевсу! — подсказал лекарь и негромко добавил: — Говорят, при прежних правителях здесь было просто и скромно, и тот, кто хоть раз бывал в этом дворце, по всему миру разносил слух о его абсолютной гармонии. Но, видимо, в нынешнем Аттале взыграла восточная кровь, и он, по примеру своих персидских предков, заставил все коридоры и залы вот этим! — небрежно кивнул он на золотую статую оленя с глазами из крупных изумрудов. Эвбулид с уважением посмотрел на Аристарха — видать, он действительно здесь свой человек и сможет сдержать свое обещание сделать его свободным. Свобода — вот единственное, о чем он помнил! И, с трудом сдерживая нетерпение, спросил: — А когда же я получу свободу? — Как только мы увидимся с Атталом! — охотно ответил лекарь. — Так идем же! — подался вперед Эвбулид, но тут же, покачнувшись, оперся рукой о стену. — Ну, и куда я тебя такого поведу? — улыбнулся Аристарх, снова приходя к нему на помощь. — Ты ведь на ногах не стоишь! И выглядишь, как бы это тебе сказать — не совсем подобающе для царских очей. А ведь мы пойдем к самому образованному и воспитанному правителю мира… — Что же мне тогда делать? — растерянно спросил Эвбулид, оглядывая свои грязные руки и лохмотья хитона. Ответ на этот вопрос вместо лекаря дал начальник кинжала. Выйдя из-за угла, он спросил у выросшего него за спиной словно из под земли декуриона: — Этот? Услышав утвердительный ответ, ткнул в Эвбулида пальцем: — Помыть, постричь, переодеть и вообще придать надлежащий вид! Никодим круто развернулся и ушел, оставив Эвбулида в полном смятении. — Он говорил обо мне, как о бездомной собаке, вещи! — растерянно взглянул на Аристарха грек. — Ты правду говоришь, что мне здесь дадут свободу? — Конечно, — улыбнулся лекарь. — Потому что, к счастью, не он хозяин этого дворца, хотя кое в чем он прав… Тебя действительно нужно привести в порядок! Он провел Эвбулида в дальнюю комнату, где их встретил юркий придворный, и сказал: — Этого человека я должен сегодня представить базилевсу! — Все ясно, господин! — закивал тот и несколько раз хлопнул в ладоши: — Эй вы, лодыри, живо за работу! И чтоб этот раб… — Человек! — поправил Аристарх. — Да-да, я говорю, чтоб этот человек через полчаса сиял, как новенькая драхма! Тотчас появившиеся рабы в набедренных повязках повели Эвбулида в пестро разукрашенное мозаикой помещение с бассейном, сорвали с него остатки одежды и жестами пригласили проследовать по мраморным ступенькам в изумрудную воду. Забывая обо всем на свете, Эвбулид погрузился в нежное, приятно ласкающее тело тепло и замер, блаженно сощурившись на разноцветное окно, также сложенное из яркой мозаики. Он окунулся в воду с головой и, вынырнув, увидел, что ему уже машут руками банщики. — Скорее, скорее! — торопили они неохотно выходящего из бассейна Эвбулида и, заводя его в небольшую, жарко натопленную комнатку, принялись ловко очищать его тело от многомесячной грязи костяными скребками. Потом он снова плавал в бассейне, парился и, в довершение всего, его, окончательно размягшего и почувствовавшего себя заново родившимся, банщики натерли дорогими благовониями и передали цирюльнику. Тот сразу захлопотал над ним, опустил пальцы с отросшими ногтями в мисочки и, пока они отмякали, защелкал ножницами. Услышав знакомые звуки, Эвбулид заволновался, вспоминая афинские цирюльни, длинные очереди в них, разговоры о новостях на агоре, разных государствах и правителях, в том числе и об этом самом Пергаме, где он и не думал-не гадал когда-нибудь очутиться. Приведя в порядок волосы Эвбулиду, сделав маникюр на руках и ногах, цирюльник передал его повару, тот, накормив изголодавшегося раба куриным бульоном с хлебом, отвел его к юркому придворному. Облачив грека в белоснежную тунику, последний возвратил Эвбулида Аристарху. — Ну вот, теперь совсем другое дело! — с удовольствием осмотрев грека с головы до ног, заметил лекарь и остановил свой взгляд на распаренном клейме: — Остался пустяк! Он достал из своих многочисленных карманов чистый лоскут и осторожно обвязал его вокруг головы Эвбулида. — Теперь можно и к базилевсу! — И он даст мне свободу? — воскликнул грек. — Конечно, как только ты опознаешь нужного нам человека, — предупредил Аристарх и протянул склянку с темной жидкостью. — Вот, выпей, рецепт этого снадобья я вычитал в одном старинном папирусе! — Но я не хочу! — возразил Эвбулид. — Я хочу скорее видеть царя, хочу скорее стать свободным! — Выпей, прошу, — настойчиво повторил Аристарх. — Оно успокоит тебя! — Да разве я могу сейчас быть спокойным? — вскричал грек. — Тогда мне придется прибегнуть к другому способу, — пряча склянку, строго заметил лекарь. — Чтобы ты окончательно успокоился и у тебя прошел шок, в котором ты до сих пор пребываешь, я проведу тебя по залам этого дворца. Озадаченный словами лекаря, Эвбулид покорно пошел следом за ним и в первой же зале, куда они вошли, застыл у порога, ошеломленный обилием прекрасных картин и статуй. — Это коллекция Аттала Сотера, деда нынешнего базилевса, — объяснил Аристарх. — Он собирал ее всю свою жизнь. Вон, в углу всадник работы Главка, это — статуи Мирона, это, как ты сам видишь, Пракситель. Дальше — Онат, Полимнестр, Ферон, портретные гермы Силания… — Сколько же все это стоило? — удивленно обвел глазами Эвбулид бронзового Апполона, одиночные и многофигурные статуи. — Немалой части его казны! Вот за это полотно, — подошел Аристарх к картине Никия, — он заплатил сто талантов. — Сто талантов?! — А для того чтобы приблизить к себе центр любителей и знатоков искусства, который расположился на Эгине, он купил и присоединил к Пергаму весь этот остров. Ну как тебе зал? — Он прекрасен, ничего более прекрасного я не видел в жизни, — ответил Эвбулид и пробормотал, разглядывая бронзовую статую работы Мирона: — Но такое расточительство, Аристарх, когда вокруг голод, смерть… — Аттал успевал помочь и тем, кто попадал в беду, — возразил Аристарх. — Он посылал хлеб и деньги во время голода нашему Сикиону, помогал из своей казны Делосу, Дельфам, Косу. А когда случилось страшное землетрясение на Родосе, первым отправил оставшимся без еды и крова людям несколько триер с зерном и строительным лесом. И потом, не забывай, что он собрал воедино все эти сокровища, и они теперь достанутся потомкам. Если, конечно, римляне не захватят Пергам и не переплавят эти статуи в свои монеты, удовлетворившись, по обычаю, копиями из мрамора и глины! — Да-да, я слышал об этом от Квинта! — вспомнил Эвбулид. — И я обязательно расскажу базилевсу о Пропорции, который приехал сюда, чтобы отравить его! — Конечно расскажешь! — согласился Аристарх. — Ты точно вспомнил его? — Я? Разве я могу забыть Пропорция? — Вот теперь я вижу, мы действительно можем смело идти к Атталу, — обрадовался Аристарх. — Но прежде я хочу показать тебе еще один зал! Хитро улыбаясь, он провел Эвбулида по коридору и распахнул перед ним малоприметную дверь: — Заходи! — Куда? — отшатнулся грек, видя перед собой разбросанные на полу кости, осколки стекла, грязные ложки, увядшие лепестки цветов. — Ты, наверное, ошибся дверью — здесь был пир, и рабы еще не успели навести порядок! — А ты зайди! — продолжал улыбаться Аристарх. — Пожалуйста! — пожал плечами Эвбулид и, старательно обходя мусор, заметил: — Кувшин и то не удосужились поднять, ведь так из него все вино выльется! Он наклонился над «разбитым» кувшином, из которого вытекло все вино, наткнулся рукой на ровный, с небольшими щербинками пол и изумленно воскликнул: — О боги! Что это?.. Он стал оглядываться, всматриваться внимательней в кости, ложки, кубки и только теперь понял, что все это искуснейший обман зрения, изображенный выложенными на полу цветными камушками мусор. — Во дворце Аттала не принято, чтобы гости бросали обглоданные кости на пол, — довольный произведенным эффектом, засмеялся Аристарх. — Это всего-навсего — «азаротон ойкон» — замусоренная комната! — А я уж решил, что это взаправду… — пробормотал Эвбулид, сконфуженно пожав плечами. — Не только ты! — успокоил его лекарь. — Все, кто впервые входит сюда — сенатор, вельможа или базилевс, гость Пергама, торопятся поскорее поднять полу тоги, халата или хитона и обходить эту «грязь»! И я не был исключением! Я горячо убеждал Аттала, начальника кинжала и всех слуг немедленно навести здесь порядок, доказывал, что отсюда во дворец проникает множество заразных болезней, и никак не мог понять, почему они так весело хохочут. Вот и ты повеселел. Идем же к базилевсу! Аристарх повел Эвбулида по коридору. Они ступили на покрытую пурпурным ковром лестницу. Грек, качая головой, сказал: — Конечно, Квинт Пропорций явился для меня исчадием всего того, что я испытал. Но я видел его в бою — он честен, неспособен на коварство! Брата его я знал, конечно, меньше, но, по словам Квинта, он хоть и купец, но тоже истинный римлянин. Может, тот раб из Сицилии что-то напутал? Не может быть, чтобы на это пошел один из Пропорциев. Они поднялись по лестнице. Аристарх обратился к скрестившим копья перед дверью рослым охранникам: — Мы к базилевсу! — Не велено! — ответил один из них. — Как это? — удивился лекарь. — Не велено, и все! — недвусмысленно накреняя копье, отозвался другой. — Даже мне? — отступил на шаг Аристарх. — Особенно тебе! — почти в один голос ответили охранники. — Странно, — задумался лекарь и, пожав плечами, решил, пока царь занят, продолжить осмотр дворца. Он подвел Эвбулида к ближайшей двери и предложил осмотреть знаменитый зал с полами Гефестиона. Грек отказался, сославшись на усталость. Тогда лекарь снова пошел к охранникам и спросил, чем же занят царь. Узнав, что у него был римлянин, он оттащил за древко одного из охранников в сторону, оттолкнул другого и ворвался в комнату. Проследовавший за ним Эвбулид увидел распростертого на полу человека. — Аттал, ты жив?! — бросился к нему Аристарх и закричал, приподнимая беспомощную голову царя: — Эй, все, кто там — на помощь! Эвбулид с охранниками подбежал к нему, но было уже поздно. Аттал, с трудом разлепляя побелевшие губы, чуть слышно прошептал: — Аристарх… от него нет… противоядия… — и уронил голову на колени лекаря. Один за другим в комнату вбегали воины, слуги, вельможи. — Ну, сделай же что-нибудь! — молил Аристарха начальник кинжала. Тот бережно опустил голову мертвого базилевса на пол, и, прикрыв ее полой халата, тихо проговорил: — Я бессилен перед такой смертью. — Что?! — взревел Никодим. — Ты хочешь сказать, что величайший и бессмертный… — запнулся он. — Да, — кивнул Аристарх. — Он уже беседует с небожителями. — Проклятье! — прошептал начальник кинжала. — Где римлянин, который ему позировал?! — Только что был во дворце! — отозвался один из охранников-фракийцев. — Да, — подтвердил другой. — Мы видели, как он входил в зал с полами Гефестиона! — Так тащите его сюда! — пиная их, закричал Никодим. Охранники со всех ног бросились из зала и через несколько мгновений вернулись. — Его там уже нет! — доложил один, и второй добавил: — Он, наверное, уже вышел, ведь у него был указ! — С царской печатью! — Что?! — закричал начальник кинжала и, бросившись к мертвому Атталу, приподнял его правую руку с перстнем. — Все ясно! — выдавил он из себя, увидев на ковре капли воска. — Этот мерзавец ускользнул из дворца. И завещание наверняка с ним! Если его не остановить, все пропало — Пергам станет римской провинцией, а все мы — жалкими подданными сената… — Это Пропорций! — вдруг закричал Эвбулид, показывая пальцем на восковой бюст. — Не знаю, Квинт или Луций, но это Пропорций! — Вот оно что, а Приск назвал его Гнеем Лицинием… И этот Лициний, насколько мне известно, остановился в доме Эвдема! — пробормотал Никодим и закричал, подталкивая по очереди воинов к бюсту: — Смотрите и запоминайте! Этого человека вы должны привести мне сегодня живым или мертвым! Ищите его во дворце Эвдема, на дороге к Элее, где угодно, но если его к вечеру не будет здесь, то палач оставит от ваших тел точно такие же бюсты! А римляне через месяц не оставят от меня с палачом даже этого… — чуть слышно добавил он. — Аристарх! Что же теперь будет?! — схватил за руку лекаря Эвбулид. — Я так и не стану свободным? — Подожди! — отмахнулся от него Аристарх. — Сейчас речь идет о свободе миллионов людей, а заодно и твоей жизни! Только бы этот негодяй оказался сейчас во дворце Эвдема… — Эвдема?! — вскричал Эвбулид. — Но ведь там же Лад! Аристарх, скажи им, чтобы они освободили и его! Ведь он, может быть, на дыбе или уже убит! — Найдут и Лада! — уверенно сказал лекарь. — Обыщут весь дворец и подвалы, разбросают все по кирпичику и отыщут. 5. По ложному следу Добежав до угла, Луций, не дожидаясь, пока Протасий отбросит вожжи и спустит ступеньки, через борт ввалился в повозку и закричал: — Гони! — Ну? — нетерпеливо спросил Эвдем, едва только повозка сорвалась с места. — Все в порядке! — откидываясь на спинку сиденья, ответил Луций, красноречиво похлопывая себя по груди. — Здесь. Тепленькое… — Что Аттал? — Готов. — А почему ты так бежал? Луций оглянулся на убегающие назад дома и деревья и махнул рукой: — Да что вспоминать — дело сделано! — И все-таки? — настойчиво посмотрел ему в лицо Эвдем. — Да двое каких-то эллинов чуть было не спутали мои планы, — улыбаясь тому, что все страхи уже позади, объяснил Пропорций и задумчиво добавил, косясь на Протасия: — Мне кажется, один из них даже назвал мое имя. Настоящее имя! — Так кажется или назвал? — схватил его за локоть Эвдем. — Ну назвал, назвал! — с трудом высвободил руку Пропорций. — Какая теперь разница — через полтора часа будем в Элее! — Или на дыбе у палача! — Что ты хочешь этим сказать? — насторожился Пропорций. — А то, что Никодим не глупее нас с тобой и его кони — самые резвые в Пергаме! — отрезал Эвдем. — Но у меня указ… — забормотал Луций. — Разве кто посмеет меня задержать с ним?! — Выбрось его! — мрачно посоветовал Эвдем. — Твой указ теперь и лепты не стоит! — Что же тогда делать?! — Спасать завещание! — Вельможа протянул руку к груди Луция. — Давай его сюда! — Нет! — отшатнулся римлянин. — Давай завещание и быстро беги к моему дворцу! — накинулся на него Эвдем. — Ну нет, слишком дорого оно мне досталось, чтобы его отвез в Рим кто-то другой! — Так достанется еще дороже! — закричал Эвдем. — Расплатишься за него своей головой, и моя полетит тоже! Спеши в мой дворец, палач надежно спрячет тебя в подвале. — Идти в твой подвал?! Чтобы меня там замуровали?!! — Не глупи, Луций, ты ведь знаешь мое отношение к тебе! В подвале не только дыба и замурованные кельи. Там есть потайная комната, где тебе хватит вина и еды, чтобы дождаться прихода легионов Рима. Ну, давай завещание! И пойми, сейчас вся охрана Никодима поставлена на ноги, и только я теперь могу выскользнуть из Пергама. Решайся: еще минута — и тебе не удастся даже добежать до дворца… — Но, Эвдем… — Ну? Опережая повозку, вперед проскакали несколько всадников. Прохожие, чтобы не попасть под копыта лошадей, в испуге прижались к заборам и стенам домов. — Видишь! — кивнул на них Эвдем. — Один отряд уже помчался к Элее! — Хорошо, хорошо! — сдался Пропорций и, доставая завещание, предупредил: — Но поклянись небом и землей, что, когда ты будешь отдавать его в руки городского претора, ты скажешь, что это я, я подделал его и отравил Аттала! — Клянусь! — выхватывая пергамент, вскричал вельможа и приказал Протасию притормозить лошадей. Повозка остановилась. Луций выскочил из нее, бросаясь в сторону дворца Эвдема. — Это хорошо, — провожая его взглядом, задумчиво сказал Эвдем, делая знак евнуху трогаться с места. — Они будут искать его и пойдут по ложному следу. — Он, конечно, не доберется до дворца, его схватят люди Никодима, господин… И все лавры в Риме достанутся тебе! Неплохо придумано! — подхватил Протасий. — Да, я знаю Никодима, он не выпустит его из Пергама, — кивнул Эвдем. — А нас выпустит! У него почти все воины новые, они не знают тебя в лицо, и потом эта повозка… Евнух осекся, поймав на себе пристальный взгляд Эвдема. — Все верно, Протасий, — с нехорошей усмешкой одобрил тот, нащупывая в складках одежды кинжал. — Они действительно не станут искать меня в этой жалкой повозке, и почти никто из них не знает меня. Но зато они хорошо знают тебя. Прости, Протасий, но ты слишком популярная личность в Пергаме… Еще бы — евнух скупает всех молоденьких рабынь… — Нет! — зажмурился, прикрываясь руками, Протасий и выпустил вожжи. Лошади было понесли, почуяв свободу, но Эвдем, подхватив вожжи одной рукой, властно удержал их, а другой всадил кинжал по самую рукоять в левый бок евнуху и вытолкнул его на полном ходу из повозки. Тем временем Луций, прячась, как только вдали показывались вооруженные всадники, наконец добежал до дворца Эвдема. Добежал и тут же нырнул обратно за угол. Перед знакомыми воротами стояло несколько охранников в золоченых доспехах. «Проклятый Эвдем!» — подумал он и, увидев проезжавшую мимо телегу с сидящим в ней крестьянином, закричал: — Эй ты, стой! Стой, да погоди же! Удивленный крестьянин притормозил мулов, и Луций, протянув ему золотой, попросил: — Увези меня скорее отсюда! — Куда? — оглянулся крестьянин, впервые в жизни держа в руках золотую монету. — Куда угодно! — вскричал Пропорций и, упав на дно телеги, торопливо принялся засыпать себя соломой. — Дам тебе еще два, три, десять статеров, только увези меня из этого проклятого города! — Видать, ты здорово досадил кому-то! — заметил крестьянин. — И хоть ты римлянин, так уж и быть, я спасу тебя за десять золотых! А ну пошли! — замахнулся он вожжами на мулов. — Живее, живее, дохлятины! Будет вам скоро и ячмень, и теплая лепешка! Словно поняв слова своего хозяина, мулы резво побежали по пергамской дороге. Выглядывая в щель, Луций видел бегущих воинов, дергавших за руки и поворачивавших к себе прохожих, внимательно всматриваясь в их лица. Метались по сторонам, явно ища кого-то, бедняки и рабы. Луций решил, что сходит с ума, потому что в одном из них он узнал своего раба Прота, выброшенного им подыхать на остров Эскулапа. Телега неожиданно остановилась. — Что случилось? — сбрасывая с лица сено, встревоженно спросил Луций спрыгивающего на землю крестьянина. — Мне тут нужно зайти по одному делу! — Проклятье! — пробормотал Луций и, услышав вдалеке цокот копыт, упал на дно телеги. В щель было видно, как крестьянин вошел в дверь богатой лавки. Всадники промчались дальше. Луций осторожно приподнял голову. — Все ясно, — пробормотал он. — «Улыбка Селены»… Какая-то харчевня. И надо же мне было сразу дать ему деньги! Теперь дожидайся, пока он пропьет их! Целый золотой — это неделю можно пить! Но крестьянин вышел неожиданно быстро. — Поехали? — обрадовался ему Пропорций. Вместо ответа хозяин телеги засопел и протянул ему золотой. — Что это значит?! — растерялся Луций. — А то, что дальше я поеду один, — мрачно ответил крестьянин. — В Пергаме беда. Убили базилевса. И я не хочу везти человека, который, возможно, причастен к этому, раз прячется от царской охраны! В голосе крестьянина прозвучала такая решимость, что Луций понял — этот не повезет его дальше даже за все золото Пергама. Он нехотя вылез из телеги. Как назло, больше на улице не было ни одной повозки. Зато вдалеке показался новый отряд воинов. Луций метнулся в одну сторону, в другую. Не видя иного укрытия, бросился в распахнутые двери лавки, из которой только что вышел крестьянин. Артемидор, уже знавший обо всем, едва взглянув на посетителя, понял, что судьба привела к нему в лавку того самого римлянина, которого искал весь Пергам. «Вот случай, который может примирить меня с Аристоником и спасти царство от Рима!» — мгновенно принял он решение и, не давая раскрыть рта нежданному гостю, протянул к нему руку: — Завещание! — Что?! — испуганно попятился назад Луций, но, услышав загрохотавшие на улице подковы, бросился в угол, где стояла статуя Селены. — Завещание! — повторил Артемидор. — Ну? Или мне крикнуть воинов? — Нет, только не это!.. — вскричал римлянин. — Тогда завещание! — Но у меня его нет… — Я зову воинов! — сделал шаг к двери Артемидор. — Нет! — закричал Луций. — Только не их… Я говорю правду! Клянусь Юпитером… — Где же оно?! — Уже полчаса, как на пути в Рим. — Проклятье! — закусил губу Артемидор. Сообразив, что никакая сила теперь не сможет спасти Пергам от вторжения римских легионов, которые скоро придут, чтобы забрать согласно завещанию все, что им положено, а положено им все, начиная от дворца царя и кончая рабским эргастулом, он принял неожиданное для себя решение. — Ты говоришь, тебе угрожает опасность? — уже приветливо обратился он к римлянину. — Да! — А что ты сделаешь для человека, который спасет тебя? — Все, что бы он не попросил! — клятвенно приложил обе руки к груди Пропорций, не веря еще в свое спасение. — А если он попросит, чтобы римские воины, войдя в Пергам, не трогали его лавку, все ценности и разрешили торговать, как прежде? — То так оно и будет! — воскликнул Луций. — Если ты укроешь меня, то спасешь Риму будущего сенатора, и поверь, этот сенатор сделает все, чтобы ты торговал не только в этой лавке, но и лавками всей этой улицы! — Поклянись Юпитером! — потребовал Артемидор. — А впрочем, не надо! У нас обоих другого выхода теперь нет. И когда станешь сенатором, помни, что сами римские боги привели тебя ко мне, а я — единственный человек, который может вывезти тебя из Пергама и довезти до Эфеса, богатого города, где у меня немало хороших друзей! 1. Народный трибун Рим, как этого и следовало ожидать от столицы самого могущественного и воинственного государства мира, встретил поначалу Эвдема неприветливо, с холодной надменностью. Причалив к берегу Италии, он сразу же почувствовал себя одним из многих тысяч варваров, на которых римские чиновники смотрят как на очередной источник обогащения Рима или своих будущих рабов. Не предложивший ему присесть таможенный начальник Тарента, всем своим видом давая понять, что перед ним человек низшего сорта, на чудовищном эллинском спросил Эвдема: — Какой товар везешь? — Нет у меня никакого товара! — на прекрасной латыни ответил вельможа, глядя в окно на гордую осанку своей триеры, дождавшейся его в Элее. — Так и запишем, — кивнул таможенник сидевшему в углу скрибе. — Путешественник. — Я привез в Рим более ценную вещь, нежели египетское стекло или скифское золото! — одними губами усмехнулся Эвдем. Римлянин знаком приказал скрибе подождать и, глядя в окно на еще один причаливающий корабль, заученной скороговоркой произнес: — Согласно действующим на территории Рима и его провинций законам… Из всего того, что, беспрестанно зевая, говорил чиновник, Эвдем понял, что его триера сейчас будет обыскана от палубы до киля, и если путешественник, то есть он, что-либо утаил, дабы избежать налога в пользу римской казны, то… — Я понял! — остановил чиновника Эвдем, когда речь зашла о том, что обыску будет подвергнут и сам хозяин триеры. Придавая каждому слову особенное значение, заявил: — Я везу в Рим завещание царя Пергама Аттала Филометора! — Так и запишем! — зевнул чиновник, не особо вникая в суть сказанного. — Завещание. Кого и кому? — снова обратился он к Эвдему. — Если ты везешь наследство в золоте, серебре и драгоценных камнях — это один налог, а если выморочное имущество, уже другой. — Можешь записать как выморочное! — одними губами усмехнулся Эвдем. — Разве ваш Аттал уже умер? — равнодушно спросил чиновник. — Да! — теряя терпение, воскликнул Эвдем. — И я привез сенату документ, в котором весь Пергам завещается Риму! Таможенник подавился зевком. Скриба испуганно покосился на него: можно ли записывать такое? — Так что ж ты здесь время теряешь?! — возмутился чиновник. — Скорей в путь! Скриба, немедленно покажи ему, где можно нанять лучших лошадей! Ну, народ — полчаса с ним беседую, а о самом главном узнаю в последнюю очередь. Одно слово — варвар! Доехав до столицы, Эвдем сразу направился на Форум, где, по словам Луция, можно было увидеть городского претора или Сципиона Эмилиана, которым он должен был передать завещание. Он шел по грязным улочкам Рима, разительно отличавшимся от чистых широких дорог Пергама, видел повсюду непривычные его взору туники, тоги, женские столы. Деловито шагали по улицам отряды римских легионеров. Завидев сенатора в белоснежной тоге, из-под которой просвечивала туника с широкой пурпурной полосой, почтительно сторонились прохожие. Бежали, выполняя поручения господ, рабы. Столица жила своей привычной, размеренной жизнью, следуя порядкам, заведенным еще первыми царями. Ко вместе с тем по обрывкам разговоров, долетавших до него, по встревоженным лицам беседующих людей Эвдем чувствовал, что над Римом витает какая-то напряженность. И несмотря на различия двух столиц, на какое-то мгновение ему вдруг показалось, что он так и не выезжал из Пергама и вокруг него по-прежнему продолжает назревать бунт. Изредка расспрашивая у прохожих дорогу, он шел мимо цирюлен, терм, харчевень, нарядных лавок, зазывающих умастить тело египетскими благовониями, отведать критского вина или африканских улиток, подкормленных смесью сусла и меда, купить нумидийскую слоновую кость, аттические вазы, сирийские кубки и даже пергамское оливковое масло. После поворота налево показался круглый храм Весты, в котором день и ночь поддерживали огонь на алтаре весталки. Обычно на специальном помосте — трибунале около храма, говорил ему Луций, преторы публично разбирают дела. На этот раз здесь никого не было, кроме редких зевак, и Эвдем направился дальше по неширокому проходу, который отделялся от площади невысокими лавками и статуями героев Рима. Проход вывел его на Форум — большую, величественную площадь с маленьким, невзрачным на вид зданием в центре, состоявшим из двух соединенных между собой каменных ворот. Ворота были обращены на восток и на запад. Эвдем догадался, что это — знаменитый на весь мир храм Януса Квирина, тот самый, двери которого открывались жрецами, когда Рим вел войну. Как и следовало ожидать, двери его были широко распахнуты. На Форуме было многолюдно. Эвдем миновал росшие за узорчатыми решетками священные для Рима растения — фикус, под тенью которого укрывались основатели города Ромул и Рэм, оливу, виноградную лозу, египетский лотос, который, по преданию, был древнее самого Рима, и когда подошел к храму Согласия, то увидел, что поспел как раз к окончанию собрания сената. Степенные, важные сенаторы уже сходили по лестнице, обсуждая на ходу его итоги. Повсюду, собравшись группами, спорили вооруженные всадники, торговцы и простой люд. Чаще других до слуха Эвдема долетало имя Тиберия Гракха. Одни говорили о нем с нескрываемым восторгом, другие — с озлоблением, третьи вообще предлагали сравнять его дом с землей и предать место, где он живет, проклятью. Эвдем знал от своих римских агентов о смелых реформах этого народного трибуна, но не подозревал, что его имя столь популярно в Риме. — Если бы у Гракха было достаточно средств завершить реформу, то Рим бы стал в десять раз сильнее, чем сейчас! — говорили в одной стороне. — Этого выскочку Тиберия давно надо было остановить! — доказывал в другой старый сенатор. — Еще тогда, когда он заключил свой позорный договор с Нуманцией! — Весь мир был бы у нас под ногами, если б сенат согласился с Тиберием! — переговаривались всадники. — Нам отдали бы на откуп все новые провинции! — А пока у его комиссии нет даже угла, где она могла бы проводить свою работу! — Сенат на каждом шагу ставит ей палки в колеса, и Тиберию самому приходится ездить с Аппием Клавдием по виллам и делить землю между крестьянами. — Нашу землю! — закричал старый сенатор, грозя тростью всадникам. — Вот видите! — с горечью воскликнул один из них. — Как Тиберию совладать с такими?.. — Послушай, могу я увидеть здесь городского претора? — дождавшись паузы в перебранке, обратился к нему Эвдем. Всадник бесцеремонно оглядел его с ног до головы и показал рукой на молодого мужчину, окруженного патрициями: — Да вон же он! — Нет! — спохватился Эвдем. — Мне нужен тот, который был претором в прошлом году. — Так его теперь надо искать не здесь! — насмешливо взглянул на него всадник. — А где же? — За Аппиевыми воротами, стадиев двести по Царице дорог! — Благодарю тебя! — сдержанно кивнул Эвдем, собираясь уйти. — Там его надгробие! — усмехнулся всадник. — Что? — приостановился пораженный услышанным Эвдем. — А где мне тогда найти Сципиона Эмилиана? — В Испании! Решив, что уж если отдавать завещание новому человеку, то пусть это будет высшее должностное лицо, Эвдем спросил: — Ну хотя бы консул ваш где? — А вон он, Муций Сцевола! — показывая на сорокалетнего римлянина, перед которым стояли двенадцать ликторов, с уважением ответил всадник. Благодарно кивнув, Эвдем прошел к стоящему на ступеньках консулу. Не доходя до него нескольких шагов, торжественно протянул пергамент с царской печатью. — Что это? — нахмурился Муций Сцевола. — Тебя обидели мои сограждане? Так передай прошение городскому претору. Я не занимаюсь подобными делами. — Мне говорили о тебе как о великом законоведе! — заметил Эвдем. — Разве ты не видишь, что на моем документе печать царя? И разве не знаешь, что такие вещи первому подобает читать высшему должностному лицу государства? — Как смеешь ты, чужестранец, так разговаривать с консулом? — зашипел на Эвдема ближайший к нему ликтор. Но вельможу уже нельзя было остановить: — И чтобы не назвали опять мою предосторожность варварством, я сразу скажу, что это — завещание умершего царя Пергама Аттала Филометора! — Он снова протянул пергамент и устало выдохнул, видя, как консул делает знак ликтору принять документ: — Пергам ваш… Весть эта мгновенно облетела весь Форум. Все, кто был на нем, забывая о своих распрях, подались к ступенькам храма Согласия. Муций Сцевола взял из рук ликтора пергамент, внимательно осмотрел печать и стал читать завещание, бросая на Эвдема сначала недоверчивые, а затем — доброжелательные взгляды. — Этим указом, — наконец громко провозгласил он, поднимая руку с пергаментом, — царь Пергама, верный друг и союзник Рима, объявляет своим наследником римский народ! А так как он скончался, то завтра на своем собрании сенат должен решить, как нам распорядиться таким богатым наследством! Восторженные крики поднялись над Форумом. Но едва они смолкли, как перебранка между враждебными группами возобновилась с новой силой. Патриции требовали возместить им из сокровищницы пергамского царя ущерб, который они понесли при переделе общественной земли. Сенаторы напоминали, что только они имеют право распоряжаться без всякого контроля финансами Рима. Беднота пыталась доказать, что деньги должны быть по справедливости разделены между гражданами, получающими земельные участки по новому закону Тиберия Гракха. — Теперь не угомонятся до вечера! — с усмешкой заметил Муций Сцевола Эвдему, с удивлением глядящему на римлян, которые напоминали ему в этот момент стаю воронов, набросившихся на труп павшего коня. — Пойдем со мной, ты наверняка устал и нуждаешься в хорошем отдыхе и глотке вина! — предложил он. — Все это ты сможешь найти сегодня в моем доме! Ликторы выстроились попарно и торжественно двинулись перед консулом, который знаком приказал Эвдему не отставать от него. Так они прошли через весь Форум. Отовсюду то и дело сыпались вопросы: — Муций, неужели это правда? — Правда, правда! — с улыбкой кивал консул. — И Пергам теперь — наша новая провинция? — И царская печать — не поддельная? — Завещание написано по всем законам! — коротко отвечал Сцевола. — Раз так говорит сам Муций, то так оно и есть! — Ведь лучший законовед в мире — он! Так, в окружении ликующей толпы, они добрались до богатого дома на Палатинском холме. Один из ликторов услужливо открыл двери. Эвдем, следуя за консулом через узкий вестибюль, вошел в просторный зал, украшенный колоннами. Миновав атрий, где римляне обычно принимали гостей, Муций Сцевола повел Эвдема дальше по коридору. Сквозь приоткрытые двери комнат вельможа увидел великое множество свитков папирусов. — Здесь я изучаю труды законоведов прошлого и прорабатываю новые законы, — объяснял на ходу консул. — А здесь мы сегодня будем отдыхать! — наконец остановился он перед отделанной слоновой костью дверью. Раб торопливо распахнул ее, и Эвдем увидел перед собой прекрасный перистиль, вполне достойный дома главы государства, даже такого, как Рим. Глазам вельможи предстал огромный внутренний двор, окруженный крытой галереей. Солнечные лучи заливали его через отверстие в потолке. Занимающий всю ширину дома, он был украшен колоннами, между которыми были сделаны перила с решеткой. В середине перистиля находился небольшой садик с фонтаном. Все это дополняли прекрасные мраморные статуи, судя по всему, вывезенные из Греции, драгоценные кедровые столы и многочисленная золотая и серебряная посуда. — Как твое имя? — приветливо спросил консул, удобно устраиваясь за одним из столов и жестом приглашая гостя занять место на соседнем ложе, отделанном черепаховыми панцирями. — Эвдем! — коротко ответил вельможа, забираясь на подушки, набитые мягкой шерстью и покрытые дорогой пурпуровой тканью. — Судя по всему, ты занимаешь видное положение при дворе пергамских правителей? — Да, я был начальником кинжала Аттала Филадельфа и его сына Филометора, — не зная, стоит ли ему откровенничать с римским консулом, кивнул Эвдем и, подумав, со вздохом добавил: — Когда-то… Муций Сцевола удивленно приподнял бровь: — Что ты хочешь этим сказать? — Всего лишь то, что я однажды крепко не угодил Филометору… — Чем же, если это, конечно, не секрет? — Какой там секрет… — усмехнулся Эвдем. — Всему Пергаму известно, что основателем династии Атталидов был евнух Филетер — безродный комендант крошечной крепости, завладевший небольшой частью казны Александра Великого. А я — хоть и от побочной ветви, но все же потомок великих Ахеменидов! И все мы, мой прадед, дед, отец, а затем и я, служили Атталидам и терпели их лишь потому, что они знали свое место и не строили из себя чистокровных потомственных владык. Нас устраивало то, что Пергам не знал царского культа, а все Эвмены и Атталы не обожествляли себя и цариц, и даже в своих указах именовали себя просто жителями Пергама. Но когда в начале своего правления последний Аттал повел себя как настоящий восточный базилевс, возомнив, что в нем собралась вся кровь нынешних правителей, бывших при моих предках конюхами или в лучшем случае офицерами… когда он повелел именовать себя величайшим, божественным и бессмертным, я однажды не выдержал и напомнил ему, кем был Филетер. Некоторые советники прежнего царя тоже пытались остановить Филометора. Но он собрал их на пир и приказал своей страже перебить всех до единого. Я уцелел лишь благодаря случайности и тому, что мои деньги и знания понадобились новому начальнику кинжала. Потом Аттал ушел от государственных дел, занявшись учеными трактатами и лепкой из воска, затем заболел и, казалось, совсем забыл о моем существовании, благо, ему об этом почти и не напоминали. Но я помнил о нанесенном мне оскорблении каждый день, каждую минуту. И когда случайно встретился один из твоих сограждан, я вдруг понял, что судьба посылает мне того самого человека, который поможет мне отомстить Атталу. И я не ошибся. Луций Пропорций — так его имя, как потом оказалось, — прибыл в Пергам под видом торговца, чтобы подделать это завещание и, отравив базилевса… — Погоди! — предостерегающе поднял руку консул, останавливая Эвдема на полуслове. — А вот об этом не надо говорить даже здесь. Не следует всем знать того, о чем известно в Риме лишь единицам. Пусть все считают, что Аттал умер от солнечного удара или от сердечного приступа. Лучше скажи, чего ты хочешь от Рима за свою услугу? Великую услугу! — подчеркнул он. Поняв, что настал тот миг, о котором он мечтал все эти годы, Эвдем плеснул в кубок вина и, отпив немного, чтобы успокоиться, сказал: — Атталу и боготворившему его народу я отомстил сам. А от Рима прошу одного: сделать меня вашим наместником в Пергаме, всецело покорным и преданным вам. Муций Сцевола отрицательно покачал головой. — Что? — побледнел вельможа. — Но почему?! — Потому, что римской провинцией не может управлять неримлянин! — твердо ответил консул. — Это точно? — ошеломленно пробормотал Эвдем. — Да. Это я тебе говорю не как консул, а как законовед. Эвдем с минуту смотрел на человека, отобравшего у него единственную надежду, которой он жил. — Ну что ж, — с трудом справившись с собой, наконец заметил он, — значит, с меня будет достаточно и мести. — Может, я все-таки могу помочь тебе в чем-то другом? — участливо спросил Муций Сцевола. — В чем? — усмехнулся Эвдем и, подумав, добавил: — Разве что только прикажешь своим легионам превратить Пергам снова в ту же крепость, какой он был во времена великой державы Ахеменидов! — И куда же ты подашься теперь? — задумчиво спросил консул, размышляя уже не о судьбе Эвдема, а о том, что хорошо, что в Риме вот уже несколько веков нет царей. И всем противникам республики вот оно — живое возражение в облике этого потомка Дария или Артаксеркса. Двести лет прошло со времени их гибели, а этому все неймется, все играет, бурлит царская кровь… В ответ Эвдем неопределенно пожал плечами и вздохнул: — Кто знает?.. Может, в Парфию. А может, и в Понт или Бактрию, туда, где когда-то правили мои предки… Вежливо поблагодарив хозяина за отдых и беседу, он сделал попытку подняться с ложа, но консул остановил его: — Куда же ты на ночь? Останься! И потом, гости, за которыми я разослал всех своих ликторов, не простят мне, если не увидят такого редкостного посланника! Словно в подтверждение его слов, дверь распахнулась, и раб-привратник пропустил в перистиль первого гостя, стройного римлянина в белоснежной тоге. — Сцевола! — с порога вскричал тот, бросаясь к консулу. — Это правда?! — Правда, Тиберий! — кивнул Муций Сцевола. — Тебе это может подтвердить посланник из Пергама, привезший завещание. А это — Тиберий Гракх! — представил он римлянина Эвдему. Эвдем с интересом посмотрел на совсем еще молодого человека с мягкими чертами лица и большими выразительными глазами. Народный трибун порывисто пожал ему руку и снова обратился к Сцеволе: — Мой аграрный закон спасен! Теперь я знаю, что мне делать. Завтра же я внесу на рассмотрение сената новый законопроект, по которому все сокровища пергамского царя будут распределены между гражданами, получающими новые участки! — И этим дашь новый повод недовольным тобой, и особенно твоему родственнику Назике, для нападок на тебя! — возразил консул. — Нападок? — переспросил Тиберий. — Да я посмотрю на их лица, когда скажу им, что раз Аттал завещал свое царство римскому народу, то и казной его должен распоряжаться римский народ! — Опомнись! — воскликнул Сцевола. — Или тебе мало печальной участи Муция, которого ты выдвинул народным трибуном на место Марка Октавия? Весь Рим знает, что он был отравлен по приказу Сципиона Назики! Да, я всегда поддерживал и буду поддерживать тебя и твои начинания. Но я не хочу стать очевидцем твоей гибели! — А я не хочу останавливаться на полпути! — уже спокойно заметил Гракх. — И поверь мне, доведу до конца не только это дело с наследством Аттала. Я проведу в жизнь новые законы о выдаче денег получившим землю крестьянам; сокращении срока военной службы, чтобы они вновь, как прежде, не возвращались к разоренным участкам; обжаловании судебных решений перед народным собранием… — Да это же настоящая война сенату! — привстал с ложа Сцевола. — Да, — кивнул Тиберий. — Пожалуй, это можно назвать войною. И я объявлю ее завтра. Он устроился на свободном ложе, привычно подставил голову рабу, надевшему ему венок из свежего сельдерея, и задумчиво добавил: — Только бы мне завтра хватило на это сил, а после — времени… Один за другим подходили новые гости. — Аппий Клавдий — сенатор и член комиссии по переделу земли! — называл консул, и Эвдем, видя перед собой пожилого человека с насмешливым, слегка чудаковатым лицом, вспоминал сообщения своих агентов: «Аппий Клавдий, жрец авгур и принцепс сената, один из опытнейших политиков нашего времени». — А еще тесть нашего любимого Тиберия, дед его великолепного сына и не менее прекрасной дочери и триумфатор! — сделал добавление к словам Сцеволы Аппий Клавдий, приветливо кивая пергамскому посланнику. «Ах, да! — вспомнил Эвдем. — Однажды после победы, которую отказался праздновать сенат, этот чудак сам устроил себе триумф и в гордом одиночестве проехал по Риму в триумфальной колеснице!» — Публий Лициний Красс, наш будущий консул и верховный жрец! — И тесть Гая Гракха! — с улыбкой поддержал Аппия Клавдия стройный мужчина лет сорока пяти с легкой сединой на висках. — Жаль, что Гая опять нет с нами, то-то обрадовался бы такой новости! — вспомнил Сцевола о брате Тиберия, а Аппий Клавдий недовольно пробурчал: — Он там воюет, а мы должны мерять землю и ругаться с патрициями! Неизвестно, кому еще легче! Там враг перед тобой, знай — руби его да коли, а тут, того и гляди, получишь удар в спину! — Гай Биллий! — продолжал представлять Сцевола, и Эвдем увидел, как вбежавший юноша лет двадцати бросился к Тиберию и обнял его с восторженным криком: — Тиберий, мы спасены! — Почему ты оставил охранников моего дома одних? — отталкивая юношу, спросил Гракх. — Или ты хочешь, чтобы с моей Клавдией и детьми расправились так же, как с несчастным Муцием? — Прости, не смог удержаться, чтобы не поздравить тебя и всех нас! — снова обнял Гракха Гай Биллий и поспешно выбежал из перистиля. — Блоссий! Фульвий Флакк! Диофан! — продолжал консул и вдруг проворно поднялся с ложа и, разведя руки для объятий, двинулся к двери: — Полибий! Ты ли?! Какими судьбами, старина?! — Вот, опять в Риме! Не дает мне покоя эта тридцать девятая книга, никак не могу писать о Риме в Афинах! — улыбаясь, прошел к Сцеволе знаменитый историк и занял место на одной еще ложе, внесенной рабами. — Лучше о розах писать в розарии? — приветливо спросил у него Блоссий. — Да! — охотно ответил старик. — А о пчелах — в улье? — подмигнул Аппий Клавдий. — Смотри! — с усмешкой погрозил ему пальцем Полибий. — Хоть ты и первый по списку в сенате, а такого напишу о тебе в своем труде, что не возрадуешься! Или хочешь предстать перед потомками в неприглядном виде? Сенатор, пробурчав себе под нос, что последнее дело связываться с писателями, судьями и врачами, даже если они шутят, отошел в сторону, и Полибий обратился ко всем: — Знаю, знаю, какая у вас сегодня радость, ведь это всего второй случай, когда завещают царство Риму. Первой была Кирена, которую двадцать три года назад завещал вам Птолемей. И вот теперь — Пергам, и как нельзя кстати! Как же вы намерены распорядиться таким щедрым подарком Аттала? — Спроси об этом лучше Тиберия! — мрачно махнул рукой Муций Сцевола. — Хоть ты образумь его — подставляет свою грудь прямо под мечи отцам-сенаторам! — Не дается даром победа над тем, кто готов подставить свою грудь под удар! — начал было заступаться за Гракха Блоссий, но Полибий жестом остановил его и взглянул на Тиберия: — Расскажи старику… Тиберий повторил все, что уже слышал Эвдем. Полибий задумчиво сказал: — Как сказал бы любящий латинские поговорки твой друг и учитель Блоссий, ты ступаешь по огню, прикрытому обманчивым пеплом! Я же скажу как историк: немало писал я о людях, пытавшихся взвалить на свои плечи такую тяжесть, какую осмелился поднять и ты. И уже благодаря этому имя твое переживет тебя, и истина, как самая верная и терпеливая дочь времени, поставит его в один ряд с Муцием Сцеволой, великим предком нашего уважаемого хозяина, Горацием Коклесом, Брутом, Сципионом Африканским. Но остерегись, мало кто из этих людей умер в свое время собственной смертью. Я стар, ты — молод, и поэтому мне очень не хотелось бы в своем труде, упоминая о тебе, написать слово «был»… — Как бы он и правда не накаркал беды! — обеспокоенно шепнул хозяину Аппий Клавдий, и встревоженный не меньше принцепса сената консул торопливым жестом приказал рабам вносить столики с яствами и винами. Но Полибий, не обращая внимания на возникшую суету, с грустной улыбкой положил свою старческую руку на плечо Тиберия: — Завтра тебе предстоит очень важный шаг. Задумайся над ним. И пусть дела в трагические судьбы лучших сыновей Рима помогут тебе сделать правильный выбор. 2. Наследники Прошло несколько месяцев. Странной жизнью жил Пергам все эти бесконечные, полные томительного ожидания дни и ночи. После того как город облетела весть, что Аттал завещал царство Риму, обезумевший народ, проклиная еще вчера боготворимого базилевса, бросился громить лавки римских торговцев. Горели вывески с изображением латинских богов, корчились в пламени Юпитеры, Меркурии и Минервы. На площадях и улицах крошилась римская керамика, разбивался на куски знаменитый мрамор из каррарских каменоломен, плющились под ударами молотов, изготовленные в мастерских Рима бронзовые статуэтки. Горе было тем римлянам, которых застигали за прилавками или в спальнях своих домов и гостиниц: обезумевшие от страха и ярости ремесленники и простолюдины срывали с них ненавистные туники. Если потерявших свою надменность квиритов не отбивали воины Никодима, то многих толпа разрывала на куски. Уцелевших римлян под немалой охраной начальник кинжала отправлял под надежные пока своды царского дворца. Туда же ночью в крытой повозке Эвбулид с Аристархом перевезли и Домицию, опасаясь, что, услышав ее латинский акцент, пергамцы не пощадят даже рабыни. Напрасно Лад умолял Аристарха дать ему возможность увидеть ее. Выходивший сколота после пятидневного заточения в каменном мешке, откуда его полуживого достали искавшие Луция воины Никодима, лекарь объяснил, что все входы и выходы из дворца перекрыты для чужих людей. Начальник кинжала делает все, чтобы римляне не обвинили его, что он не спас их сограждан. И теперь туда не то что человеку — мыши проскочить невозможно! После первого порыва, когда на разнесенных по камешку лавках и ростовщических домах римлян и растерзанных телах их владельцев была утолена многолетняя злоба к «Вечному городу», Пергам захлестнула волна отчаяния. Жизнь казалась бесполезной и смешной, как продырявленная глупой модницей монета. Какой смысл жить, если ты уже ничего не стоишь, и вообще скоро будешь болтаться на суровой нитке судьбы вместе с эллинскими оболами, македонскими статерами, ахейскими гемидрахмами и коринфскими лептами, составляющими безжалостное ожерелье на гордой шее какого-нибудь квирита! Напрасно торговцы зазывали в свои лавки горожан, предлагая за полцены уступить им свои товары. — Что нам теперь ваши амфоры, когда в них скоро нечего станет хранить? — уныло отвечали пергамцы. — И зачем забивать полки отрезами на халаты, если их скоро некому будет носить! Купцы хватались за свои бороды и жаловались друг другу, что при такой торговле им грозит полное разорение, и еще до прихода римлян они сами будут вынуждены надеть рабские хитоны. Пустели улицы. Закрывались дома. Все с ужасом ждали прихода римлян. Но проходили дни, сменялись недели, лето уступило место осени, осень — зиме, а тех все не было. И когда ожидание стало невыносимым, народ снова стал поднимать голову. Открылись двери домов. Ожили улицы. Возбужденными стайками повсюду стали собираться периэки, рабы, ремесленники. Наемники подговаривали своих декурионов повести их на штурм дворца. В нескольких богатых домах рабы перебили своих господ. Все настойчивее стали раздаваться голоса, напоминающие, что у Пергама есть законный наследник, требующие, чтобы Аристоник надел царскую диадему. И тогда слухи, один невероятней другого, словно струи воды на разгорающийся костер, стали проникать во все концы взбудораженного Пергама. — Слыхали? — кричали в одном квартале города. — Отныне господам запрещено убивать своих рабов! — А вы слышали? — вопрошали в другом. — Наемникам даны гражданские права, и наиболее отличившимся дарована ателия! — И периэки теперь станут жить как полноправные жители Пергама! Люди верили и не верили: слишком неправдоподобными казались эти слухи. Но самым ошеломляющим было то, что почти все из них оказались правдой. Глашатаи на площадях читали указ за указом, Никодим и советники умершего Аттала сумели успокоить народ своими уступками. Бунт был остановлен в самом зародыше, тем более что новые, обнадеживающие слухи поползли по городу. Говорили, что Сципион Эмилиан наконец взял Нуманцию, но победа так дорого обошлась римским легионам, что Рим еще долго будет отходить от нее, что другая консульская армия накрепко увязла под Тавромением, а главное — в самой столице вспыхнул бунт. Его организатора Тиберия Гракха убили прямо на Форуме, тела его убитых сторонников сбросили в Тибр, вот-вот начнется судебная расправа над оставшимися в живых. Так что Риму не до Пергама. В слух поверили, как верит в скорое исцеление безнадежно больной человек. Впервые за долгие месяцы народ вздохнул с облегчением. Смех и шутки послышались из распахнувшихся дверей харчевен, вино полилось рекой, словно люди решили отметить все пропущенные праздники в один день. Повеселевшие купцы в считанные часы продали за полную цену залежавшиеся товары и, осмелев, выставили на прилавки припрятанные в своих подвалах римские канделябры и изделия из каррарского мрамора. Узнав, что люди охотно раскупают их, Никодим уже собрался выпустить из дворца римлян, как вдруг по Пергаму судорогой пронеслась весть: в Эллею прибыла комиссия сената для принятия царства по завещанию Аттала. За те два с половиной часа, что необходимы для пути из порта в столицу, народ запрудил все улицы города. И когда на главной площади появилась повозка с пятью сидящими в ней римлянами с широкими пурпурными полосами на туниках, раздались негодующие крики: — Вон из нашего Пергама! — Мотайте обратно в свой Рим! — Все равно Пергам никогда не станет вашей провинцией! Сенаторы ехали молча, с гордо вскинутыми головами, никак не реагируя на проклятья и возгласы. Даже когда в них полетели гнилые яблоки, яйца, камни, ни один не отвернул лица, глядя перед собой, словно вокруг было все что угодно — море, степь, лес, но только не живые люди с перекошенными от отчаяния и злобы лицами. — Да что вы на них смотрите! — удивился рослый ремесленник и, поднимая над головой кузнечные клещи, закричал: — Бей их! Но Никодим тоже не бездействовал, получив известие о прибытии римской триремы с комиссией. За два с половиной часа он вызвал из окрестностей Пергама все войска и расставил на пути следования сенаторов заслон из тридцати тысяч вооруженных воинов. Это уже были не готовые в любой момент повернуть мечи против него самого наемники-пергамцы, а испытанные в боях фракийцы, умеющие ценить хозяина, который платит им за пролитую кровь полновесными золотыми монетами. Еще двадцать тысяч воинов и конницу начальник кинжала поставил в засады, приказав им пустить в ход оружие, едва только повозка с сенаторами минует их. …Упал, пораженный в грудь, кузнец. Его клещи поднял юноша-подмастерье, но тут же выпустил их, судорожно хватаясь пальцами за оперение впившейся ему в горло стрелы. Остановились, тщетно пытаясь защититься голыми руками от мечей и копий бросившиеся было вслед сенаторам ремесленники и крестьяне. И так было на всем протяжении главной улицы Пергама. Повозка проезжала, и тут же из ближайших переулков, давя людей конями, рубя длинными мечами, вылетали конные отряды. Выбегали, засыпая народ градом свинцовых снарядов и стрелами, пращники и лучники. Тесными шеренгами, с копьями наперевес, выходили гоплиты. Купцы, рабы, ремесленники, выкрикивая проклятья, метались из одной стороны в другую и падали, обливаясь кровью, нигде не находя спасения. Сам Никодим, чуть свешиваясь с седла своей любимой лошади, с размаху наносил удары по шеям и головам пергамцев кривым мечом. Эвбулид с Ладом, прибежавшие сюда вместе со всеми, дергали двери закрытых лавок, пытались влезть на ровные, без единой выщербинки, высокие заборы, но все было бесполезно. Люди вокруг них падали все чаще, и кольцо, ощетинившееся копьями, постепенно сужалось. — Я сейчас! — неожиданно крикнул Лад и бросился на Никодима. Увидев новую жертву, начальник кинжала вскинул меч, но сколот уклонился от удара. Он ухватил Никодима за руку и сильным движением выбросил из седла. — Эвбулид! — призывно закричал он, запрыгивая на лошадь. — Нет, Лад! — в отчаянии вскричал остановившийся на полпути грек и показал рукой на успевших заслонить все проходы гоплитов. — Не уйти… — Уйдем! — с какой-то буйной радостью в голосе крикнул сколот, направляя лошадь к стене. — Что ты задумал? — недоверчиво покосился на него Эвбулид. Вместо ответа Лад вскочил ногами на седло, вытянулся во весь рост и, дотронувшись до верхнего края забора, легко подтянулся на своих могучих руках. Несколько стрел впились под ним в камень и бессильно упали к ногам Эвбулида. — Ну?! — закричал Лад, свешивая вниз руку. Эвбулид понял, проворно вскочил на лошадь и, слыша отчаянный крик начальника кинжала: «Не стреляйте, иначе вы погубите мою Пальмиру!», — ухватился за пальцы Лада, и тот рывком поднял его на забор. Спрыгнув, они долго бежали по проходным дворам, переулкам и остановились лишь на окраине Пергама. — Как же теперь Домиция? — обеспокоенно спросил Лад, оглядываясь на город с его домами, храмами и дворцами. — Не беспокойся… — загнанно дыша, ответил Эвбулид. — Теперь уж ее точно не дадут в обиду… да и обижать, пожалуй, будет некому… — Думаешь, они перережут весь Пергам? — Ну, весь — не весь, рабы и слуги им еще будут нужны. Но из тех, кто был на площади, быть может, уцелели мы, да еще вон те трое! — кивнул Эвбулид на вышедших из проулка людей. Один из них был ранен, а двое других — ремесленник и раб — поддерживали его с двух сторон. Поравнявшись с друзьями, они опустили раненого на землю, и тот застонал, силясь разорвать на груди окровавленный хитон. Эвбулид увидел обломанный конец выглядывающей из тела стрелы. — Кончается… — вздохнул ремесленник и с горестной усмешкой оглянулся на Эвбулида: — Что, тоже решили посмотреть на «наследников»? — Да уж насмотрелись! — покачал головой грек. — Век бы их теперь не видать! — Скоро увидишь! — хмуро пообещал бородатый раб и, склонившись над притихшим товарищем, провел ладонью по его лицу, закрывая остановившиеся глаза. — Следом за этими их столько навалит — только успевай кланяться… Я уже видел такое в своей Македонии! — Не буду я больше ни перед кем ломать шеи! — с неожиданным озлоблением выкрикнул Эвбулид, и Лад, злобно прищурившись, добавил: — Хватит, накланялись! — Тогда вам одна дорога — с нами! — заметил ремесленник. — А куда вы? — устало поинтересовался Эвбулид. — К Аристонику! Он сейчас в Левках, это всего два дня пути отсюда! 3. Знакомые и незнакомые Похоронив убитого, они двинулись в путь. Время от времени их догоняли небольшие группы людей, которым также удалось спастись от резни в центре Пергама. Уже через час-другой следом за размашисто шагающим Ладом, с трудом поспевающим за ним Эвбулидом и бородатым рабом из Македонии, назвавшимся Пелом, шло не менее полусотни человек. И число это продолжало расти. То и дело к ним подбегали рабы и крестьяне пригородных имений. Узнав о прибытии сенатской комиссии и кровавой расправе над теми, кто пытался остановить ее, они бросали сады, где только что окапывали деревья, и возвращались с лопатами, серпами, вилами. Все чаще из усадеб доносились вопли истязаемых рабами хозяев. — Лад, останови их! — просил Эвбулид. — Или ты хочешь, чтобы мы были похожи на начальника кинжала? — Око за око! — коротко ответил сколот, приветливо кивая по сторонам. Так они шли час, другой. Когда солнце начало клониться к горизонту, Лад неожиданно подтолкнул Эвбулида локтем. — Признаешь? — тихо спросил он, показывая глазами на богатый дом в глубине сада, и Эвбулид вздрогнул, узнав имение Эвдема. Ничто не изменилось здесь за время их отсутствия. Все так же стирали белье у баньки рабыни, копошились в саду рабы, держал кого-то, судя по задвинутому засову, за своими крепкими стенами зргастул… — Лад, — задумчиво сказал Эвбулид. — А ведь в кузнице могли остаться мечи и наконечники Сосия… Сколот понял его с полуслова и, сходя с дороги, закричал растянувшимся на десяток метров спутникам: — Эй вы, я управляющий этим имением и хочу угостить вас на славу! Повеселевшие люди, приняв слова Лада за удачную шутку, в предвкушении сытной еды и отдыха, бросились к дому и в растерянности остановились. Выбежавший из его дверей надсмотрщик действительно встретил их вожака низким поклоном. — Так ты и правда управляющий? — неприязненно покосился на Лада Пел. — Да! — усмехнулся сколот, поворачивая свою щеку так, чтобы всем было видно клеймо «Верните беглого Эвдему». — И вот как мой господин отблагодарил меня за то, что я сбежал от этой должности! — А этот? — указал пальцем на ничего не понимающего Кара бородатый раб. — А это самый настоящий пес Эвдема! — нахмурился Лад. — Он вырезал веки у Сосия и тем самым ослепил его! — добавил Эвбулид, с ненавистью глядя на Кара. — Тогда и у меня он сейчас увидит солнышко в последний раз! — усмехнулся в бороду Пел и взял из рук крестьянина услужливо протянутый серп. — Нет! — закричал Кар, подползая на коленях к Ладу, и, когда тот брезгливо оттолкнул его ногой, метнулся к Эвбулиду: — Ты же эллин, неужели ты позволишь в своем присутствии такое варварство?! — Эвбулид отвернулся. Кар, не вставая с колен, подполз к нему с другой стороны: — Афиней… Эвбулид! Умоляю тебя, останови их! — Лад! — нерешительно сказал грек. — Может, не надо? — А это ты скажи им! — посоветовал сколот, показывая рукой на рабов с клеймами на лицах, изможденных, с многочисленными рубцами на шеях и руках. — Или Сосию! Молчишь? Давай! — кивнул он склонившемуся над Каром Пелу. Дикий вопль надсмотрщика вызвал подобие улыбок на лицах рабов, давно отвыкших от веселья. Ослепленный Кар, смаргивая на землю кровь, стоял на коленях и протягивал вперед руку, словно ища человека, который помог бы ему подняться. — Кончай его! — посоветовал бородачу Лад и, обращаясь к остальным, закричал: — В подвалах этого дома — еда и вино, в кузнице должно быть оружие! Разбирай все, что нам может понадобиться! Люди бросились к дому, кузнице. Одни принялись разводить костры и резать на куски туши овец. Другие рубили длинные ровные ветви деревьев и насаживали на них наконечники копий. Третьи размахивали мечами Сосия перед воображаемыми фигурами римлян. — Куда его? — спросил Пел, кивнув на распластанное тело надсмотрщика. — Идем, покажу! — стараясь не смотреть на Кара, сказал Эвбулид и повел рабов, потащивших за ноги надсмотрщика, к яме, в которую могильщики стаскивали умерших людей. Сразу за зеленью сада в лицо дохнуло жутким запахом непогребенной смерти. С трудом борясь с тошнотой, Эвбулид дошел до края обрыва и показал, куда сбрасывать Кара. Затем, вместо того чтобы поспешно уйти, застыл на месте, узнавая в уже тронутых тлением фигурах — Сосия, Филагра, незадачливых друзей могильщиков. Ему даже показалось, что он узнал ключницу, Сира, Сарда, старика-привратника. А может, это были другие рабы, умершие еще до того, как он появился в этом имении. Сколько их здесь лежало — сто? Двести? Тысяча?.. Тело Кара мягко ударилось о трупы и замерло. С трудом стряхивая с себя оцепенение, Эвбулид бросил последний взгляд на то, что осталось от знакомых и незнакомых людей, мучивших его и, наоборот, приходивших когда-то на помощь, и уже понимая, что это жуткое зрелище будет преследовать его всюду, напоминая, где бы он ни находился, о днях, проведенных им в рабстве, круто развернулся и бегом бросился догонять далеко ушедших к дому рабов. К вечеру следующего дня они с Ладом, возглавившим к концу пути пять тысяч человек, вошли в Левки и, смешиваясь с другими такими же отрядами, двинулись по улице к центру города. Аристоника Эвбулид увидел сразу, едва они ступили на площадь, до отказа забитую простым людом. Он стоял на высоком помосте, где городские судьи еще вчера вершили скорый суд над рабами и бедняками Левков, и разговаривал, — Эвбулид даже вздрогнул от неожиданности, — с Аристархом. Чуть ниже, на ступеньках, толпились пергамцы, которых он видел в мастерской Артемидора. Рядом с ними стояла — теперь уже Ладу пришел черед вскрикнуть от радости — Домиция! — Эвбулид! — призывно закричал сколот и, отчаянно работая локтями, двинулся к центру площади. Эвбулид почти без помех шел за ним по освобожденному проходу и лишь виновато улыбался в ответ на обрушивающиеся на них со всех сторон гневные окрики. Изредка его недружелюбно хлопали по спине, дергали за локти. Но что все это было по сравнению с тем, что он наконец-то был свободен и уже зримо видел тот счастливый день, когда станет рассказывать ахающей от ужаса Гедите и притихшим детям обо всем, чем жил, мечтал и надеялся эти бесконечные два года, проведенные им вдалеке от семьи. 4. Гелиополиты Лад и Домиция стояли, плотно прижатые друг к другу, на самой верхней ступеньке помоста. — Все эти дни я думал только о тебе, Домиция! — не слушая, о чем говорит Аристоник запрудившему площадь народу, шептал Лад. — Когда меня замуровывали каменными глыбами в подвале Эвдема, я думал только об одном: неужели я больше никогда не увижу тебя? Домиция не ответила и только слегка виновато пожала плечами. — Понимаю, ты никак не можешь забыть своего Афинея! — хмуро заметил Лад. — Ну, а если его давно уже нет в живых? Римлянка метнула на него разгневанный взгляд. — Да нет, нет — может, он и жив!.. — пробормотал, сникая, сколот. — Но ведь я тоже живой… и я не могу без тебя! Зачем мне такая свобода, чтобы я ехал на родину один? Ну скажи — зачем? Вместо ответа Домиция глубоко вздохнула. — Не хочешь даже говорить со мной! — покачал головой Лад и повернулся к вставшему рядом с ним Аристарху: — Слушай, ты великий балий! Дай же мне такое снадобье, чтобы она полюбила меня! — Не могу! — улыбнулся в ответ Аристарх. — Ну тогда такое… чтобы я разлюбил ее. — Да нет на свете таких снадобий! — объяснил лекарь. — Я перечитал множество папирусов и ни в одном из них не видел ничего подобного. — Значит, все эти папирусы писали люди без сердца! — воскликнул Лад. — Домиция вон уже и разговаривать не хочет со мной. — Не сердись на нее! — улыбнулся Аристарх. — Она не может этого сделать… Она, как бы тебе это сказать, — онемела. На время! — У нее после всего этого… отнялся язык?! — в ужасе спросил сколот. — Да, что-то вроде этого, — понимая, что здесь не место для подробных объяснений, кивнул Аристарх. — Домиция! — порывисто повернулся к римлянке Лад. — Я все знаю… Но я буду любить тебя и такой! Девушка удивленно взглянула на него, наклонилась было к Ладу, но, увидев предостерегающий жест Аристарха, выпрямилась и сделала вид, что все ее внимание поглощено речью Аристоника, каждое слово которого рабы встречали восторженными криками. — Я говорю правду, Домиция! — твердо говорил Лад. — Твое молчание будет для меня дороже слов всех женщин на свете! Ты веришь мне? — Да верю, верю! — не выдержав, шепнула ему на ухо римлянка, когда поднялся такой шум, что она могла не опасаться, что ее латинский акцент будет кем-нибудь замечен. — А теперь давай послушаем Аристоника! Лад сначала ошеломленно, потом — с недоверием, наконец, разом все поняв, с буйной радостью посмотрел на Домицию и, послушно кивнув ей, стал внимательно прислушиваться к тому, что говорил Аристоник. — Да, я бросил вызов римской комиссии, заявив сенату свое законное право на престол Пергама! — говорил тот. — Но, клянусь Гелиосом, что получив диадему Атталидов, я не стану Эвменом Третьим, а лишь первым гражданином государства Солнца, где все будут счастливы, равны и свободны! — Так, значит, мы свободны? — закричали в толпе. — Конечно! — И можем называть друг друга гелиополитами? — Да, да! — подтвердил Аристоник и, останавливая царившее внизу ликованье, высоко поднял руку. — Но если мы с оружием в руках не сумеем отстоять право на существование такого государства и не защитим Пергам от Рима, то каждому из нас уготована жалкая участь снова превратиться в рабов! Лица только что обнимавших друг друга, плачущих от счастья людей стали серьезными. Восторженные возгласы стихли даже в самых отдаленных уголках площади; ремесленники, крестьяне и освобожденные рабы повернулись в ту сторону, куда указывал Аристоник, и стали смотреть на окрашенное в багровые краски закатного солнца море, словно по нему уже плыли тяжелые римские триремы.  Примечания 1 Провинция — досл. «Побежденная страна» — территория за пределами Италии, управляемая римским наместником. 2 134-й год до нашей эры. 3 Филоромей — досл. «любящий римлян», титул, который носили некоторые раболепствующие перед Римом монархи. 4 Мина — денежная счетная единица в Древней Греции, состоявшая из 100 драхм; 60 мин составляли один талант. Покупательная способность этих денег была очень высока — на одну драхму семья из пяти человек могла прожить целый день. 5 Тетрадрахма — серебряная монета в 4 драхмы. 6 Обол Харона — медная монета, которую клали свободнорожденным афинянам в рот в качестве платы Харону — перевозчику душ в подземное царство. 7 Древние греки вели отсчет времени по Олимпиадам. Третий год 161-й Олимпиады соответствовал 134-му году до н. э. 8 Антестерион — аттический месяц, примерно с 15 февраля по 14 марта. 9 Центурион — начальник центурии, т. е. сотни; сотник в римском войске. 10 Консул — высшая государственная должность в Римской республике, избираемая сроком на один год. Консулов было два, в мирное время оба управляли государством в Риме, в военное — командовали войсками. 11 Пракситель — древнегреческий скульптор; Тимомах — античный живописец. 12 Нумений — первое число каждого месяца, когда в Афины привозили на продажу рабов. 13 Э р а н о с — дружеский беспроцентный заем. 14 Л у т е р и й — большой глиняный таз для умывания. 15 А г о р а — рыночная площадь в Афинах. 16 Черное море. 17 К и к е о н — смесь вина с ячменной мукой и тертым сыром, любимейший напиток греков. 18 С о м а т а — часть афинского рынка, где торговали рабами. 19 П е р и к л — афинский государственный деятель V века до нашей эры, периода высшего расцвета Афин. 20 В н у т р е н н и м — древние греки называли Средиземное море. 21 Венки на головах предназначенных к продаже рабов означали, что они взяты в плен на поле боя с оружием в руках. 22 Войлочная шляпа на голове раба означала, что торговец не ручался за его поведение. 23 С а р м а т ы — кочевые племена, жившие в районе Азовского моря. 24 Г о р о д с к о й п р е т о р — должностное лицо, ведавшее судебными делами и следившее за порядком в городе. В случае отсутствия обоих консулов считался главой Рима. 25 Парафраза известной римской пословицы «То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». 26 Закон запрещал брать в армию неимущих граждан Рима. 27 Птолемей VIII был женат на своей сестре Клеопатре II и ее дочери Клеопатре III. 28 Римская поговорка, т. е. попал в точку. 29 К а т о н — римский цензор, инициатор разрушения Карфагена. 30 С е с т е р ц и й — древнеримская серебряная монета времен республики, ходившая наряду с серебряными денариями и медными ассами. 31 Л и к т о р ы — почетная охрана высших должностных лиц, исполнявшая все их распоряжения. У претора она состояла из шести человек, державших на плече пучок прутьев, связанных красным ремешком, как символ государственной власти, у консула — из двенадцати. В провинциях в фасции втыкался топор. 32 К л и е н т — бедный или незнатный человек, отдававшийся под защиту богатому или родовитому патрону, обязываясь, в свою очередь, хранить верность и послушание, помогать в случае надобности и отдавать ему свой голос на выборах. 33 Один из видов наказания у древних римлян за особо тяжкие преступления, означавший лишение гражданских прав и изгнание, т. е. лишение священного огня и люстральной воды, употребляемой при жертвоприношениях. 34 Л у п е р к а л и и — праздник в честь бога Фавна-Луперка, во время которого приносились очистительные жертвы в пещере Луперкаль у подножия Палатинского холма, где, по преданию, жила волчица (по латыни — «лупа»), вскормившая Ромула и его брата Рэма. 35 У Сципиона Эмилиана и Семпронии не было детей. 36 Вето — досл. «запрещаю!»: право народного трибуна отменить уже принятое постановление, приговор или закон, если, по их мнению, они идут вразрез с интересами народа. 37 В письме Корнелии упоминается Птолемей VI, который лично ездил в Рим просить сенат защитить его от нападок Антиоха IV. 38 Авгуры — жрецы, предсказывающие будущее государства по полету и поведению священных птиц. 39 Блоссий — философ-стоик из Кум, воспитатель и друг Тиберия Гракха. 40 П р о к у р а т о р — главный управляющий и надсмотрщик за рабами в доме. 41 «Венерой» римляне называли выигрышный бросок, когда каждая из четырех костей падала с разною цифрой; наиболее неудачный бросок, когда выпадали четыре единицы, назывался «Собакой». 42 Закон IV в. до н. э. Лициния и Секстия запрещал отдельному лицу иметь больше 500 югеров государственных земель. 1 югер равнялся приблизительно 1 / 4 га. 43 Заимствовано из подлинных источников. 44 Эргастерий — тюрьма для рабов в доме римлянина. 45 Метеки — вольноотпущенники из рабов или чужестранцы, переселившиеся в Афины из других земель и городов; они находились в неравноправном, униженном положении. 46 Триера — древнегреческое судно с тремя рядами весел. 47 Параситы — люди, жившие в Афинах подачками и ходившие в гости без приглашения. 48 Квирит — так с гордостью называли себя граждане Рима. 49 В Афинах не было принято пить вино в первой части ужина. 50 Ойнохойя — сосуд для вина; кратер — сосуд для смешивания вина с водою. 51 18 процентов годовых. 52 Рудники, где добывалось серебро для афинских монет. 53 Истрихида — длинный сыромятный бич с вплетенными в него колючками, оставляющими в теле занозы. 54 Келевст — начальник гребцов на греческих суднах. 55 Акростолий — оконечность корабельного носа, украшенная головами богов, животных или рыб. 56 Пентера — судно, на котором гребцы в отличие от трехъярусной триеры, располагаются не в три, а в пять рядов. 57 Стадий — 184,97 м. 58 Долон — малый передний парус корабля. 59 Митра — малоазийское божество, голова которого нередко изображалась на монетах. 60 Декурия — отряд из десяти человек. 61 Так называли самую оживленную дорогу Италии — Виа Аппия, построенную цензором Аппием Клавдием в IV веке до н. э. 62 Миллиарий — столб или камень, установленный через каждую тысячу шагов. 63 Календы — первый день каждого месяца в римском календаре. 64 Т. е. 141 год до нашей эры — за семь лет до описываемых событий; древние римляне вели счет годам по именам консулов. 65 Ольвия — «Счастливая», античный город на берегу Днепро-Бугского лимана, расположенный к югу от нынешнего села Парутино близ Николаева. 66 Струками древние армяне называли обращенных в рабов пленников. 67 Гномон — солнечные часы. 68 Клепсидра — водяные часы. 69 Это означало, что лечение не поможет, и смерть — неотвратима. 70 Г и г и е я — богиня здоровья; П а н а к е я (Панацея) — «всецелительница». 71 Античная эпоха не знала обезболивающих средств. 72 Мойры — богини судьбы. 73 «Пуп» — палка с выступающими или загнутыми концами, вокруг которой наматывался готовый папирус. 74 Фасос — остров во Фракийском море, населенный греками. 75 Борисфен — так во времена античности назывался Днепр. 76 Село — досл. «поле, нива» (старосл.) . 77 «Друг царя» — одна из высших должностей при дворе восточных монархов. 78 Астарта — богиня, культ которой почитался в Малой Азии. 79 Дромос — самая оживленная торговая улица Афин. 80 Т. е. обойти кругом (старославянск.) . 81 Т. е. — по левую руку, слева (старославянск.) . 82 Т. е. — по правую руку, справа (старославянск.) . 83 Работа — рабство (старославянск.) . 84 Балий — врач (старославянск.) . 85 Бальство — лекарство. 86 Пято — оковы на ногах, цепи (старославянск.) . 87 Филометор — досл. «любящий мать» (греч.) . 88 Мать Аттала Филометора Стратоника и жена Митридата Эвергета были дочерьми Антиоха IV. 89 Тихе — богиня судьбы и случая, символизирующая неустойчивость и изменчивость мира, случайность любого факта жизни. 90 Филагр — досл. «любящий деревню, сельскую жизнь» (греч.) . 91 Данаиды — в греч. мифологии — дочери царя Даная, за убийство по приказанию отца своих мужей в брачную ночь должны были в Аиде наполнять бездонный сосуд. 92 Космет — главный начальник эфебов. 93 Аконист обучал эфебов метанию копья, токсот — стрельбе из лука, афет — обращению с катапультой. 94 Коттаб — привезенная в Грецию из Сицилии игра, суть которой заключалась в том, что играющий, задумывая или произнося в слух имя любимой особы, выплескивал из бокала остатки вина на стену или весы. Точность попадания или чистота звука означали, пользуется ли он взаимностью. 95 Диокл — с древнегреч. — «Зевсов». 96 Клейса — «славная, прославляющая». 97 15 мая. 98 Каллист — с древнегреч. — «прекрасный», Асинкрит — «несравненный», Викторин — с лат. — «победный». 99 Особым способом сложенные три копья, под которыми должны проходить побежденные воины, чтобы сохранить себе жизнь. 100 Дасий — с древнегреч. «косматый». 101 Саранта — с древнегреч. «сорок». Древние греки верили, что такое имя поможет слабому новорожденному прожить сорок дней и окрепнуть. 102 Ателия — освобождение от налогов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
|||||||