 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: БСЭ :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: The Boarding House :: Сон Колриджа :: Старик-годовик :: Охота на невесту :: Бек и щедроты шведов :: Атлантида под водой :: Сделка с дьяволом :: Разрушь преисподнюю! :: Кавалер Макабка :: Висенна |
Салтыков Михаил Евграфович Пошехонская старина.ModernLib.Net / Отечественная проза / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович / Салтыков Михаил Евграфович Пошехонская старина. - Чтение (стр. 28)
– Ну-ну, ешь-ка, ешь! Мопс да мопс, заладила одно! Нынче мопсы-то в моде, втридорога за них дают!.. А котлетка-то, кажется, пригорела… Эй! кто там! позвать сюда Сысойку-повара!
Этим инцидент и заканчивался. Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться. Вообще обладал тем ординарным смыслом, который не удивляет громкими делами, но совершенно достаточен для обеспечения личной безопасности. Не чувствуя ни малейшей потребности устремляться в неизведанные сферы и даже не имея понятия о подобных сферах, он легко избегал ошибок, свойственных выспренним умам, и всегда имел под руками готовый афоризм, под сению которого и укрывался, в полной уверенности, что никто его там не найдет. Он мог даже вести разговор в обществе – разумеется, не трудный, – но говорил столь своеобразно, так сказать, очертя голову, что многие его изречений вместить не могли. – Есть когда мне разговоры обдумывать! – оправдывался он перед теми, которые оскорблялись неожиданными оборотами его речей, – у меня дела по горло, а тут еще разговоры обдумывать изволь! Сказал, что нужно – и будет! Несмотря на несомненное простодушие, он, как я уже упомянул, был великий дока заключать займы, и остряки-помещики не без основания говаривали о нем: «Вот бы кого министром финансов назначить!» Прежде всего к нему располагало его безграничное гостеприимство: совестно было отказать человеку, у которого во всякое время попить и поесть можно. Но, кроме того, так как он ни о чем другом серьезно не думал, то, вследствие долговременной практики, в нем образовалась своего рода прозорливость на этот счет. Верхним чутьем угадывал он заимодавца и опытной рукой накидывал на него петлю. На одних действовал посулом значительных процентов, на других – ласкою и мелкими одолжениями. Или назовется окрестить новорожденного, или на свадьбе, в качестве посаженого отца, фигурирует. Приедет в мундире, в белых перчатках – картина! – как тут отказать! Неудач не бывало, всем окрестным помещикам он был должен, даже таким, которые сами были по уши в долгах. Но не брезговал и богатенькими мужичками, и ежели где крупной суммы не дадут, то удовольствуется и малой, а остальное в другом месте выпросит. Заслышит, что у какого-нибудь мужика-крепыша кубышка завелась, заедет и начнет петлю закидывать. – Ехал мимо, – скажет, – думаю, дай заеду на кума посмотреть. Здорово, куманек! Чайку-то дашь, что ли? – Помилуйте, сударь! чего другого… Эй, вы! поворачивайтесь проворнее! – Что, как дела? – Дела как сажа бела! Похвалить нельзя. – Ну, это ты врешь, кум. Кубышка-то в подполье непочатая лежит. – Какая у нас, сударь, кубышка! – Известно, какие кубышки бывают. Ну что, как крестный сынок? дочка посаженая как? – Всё слава богу. – Слава богу – лучше всего. Я, брат, простыня человек, старых приятелей не забываю. Вот ты так спесив стал; и не заглянешь, даром что кум! – Помилуйте! смею ли я! – Чего «смею ли»! Всякого, кто ни придет – всех милости просим! а для благоприятеля и подавно кусок найдется! Выпьет чашку, выпьет другую, а потом шуточкой да смешком и поведет настоящую речь: – Ну, так как же, друг, нам с кубышкой твоей быть! Так без пользы у тебя деньги лежат, а я бы тебе хороший процент дал. При этом вступлении кум начинает беспокойно шевелить лопатками. – Право! мне, брат, немного и нужно. Рубликов двести – триста на недельку перехватить. – Что вы, сударь! где же мне эко место денег взять! – А много, так три полсотни дай. Я тебе их через неделю возвращу, да беленькую за благодарность прибавлю… пользуйся! – Что вы! беленькую! словно уж много! – Нет, я таков. Всякое дело по справедливости люблю делать. Ты меня одолжишь, а я тебя за это благодарить буду. И будет сидеть и шутить до тех пор, пока кум хоть две полсотни не выложит на стол. Словом сказать, уж на что была туга на деньги матушка, но и она не могла устоять против льстивых речей Струнникова, и хоть изредка, но ссужала-таки его небольшими суммами. Разумеется, всякий раз после подобной выдачи следовало раскаяние и клятвы никогда вперед не попадать впросак; но это не помогало делу, и то, что уж однажды попадало в карман добрейшего Федора Васильича, исчезало там, как в бездонной пропасти. Зато Струнников не получал жалованья и вел себя «благородно», то есть взяток не брал; зато он кормил и поил весь уезд. Надобно, впрочем, отдать справедливость Струнникову; обращение его с крестьянами и дворовыми было очень миролюбивое. Все выработанные крепостной легальностью ограничения, дававшие подневольному люду возможность вздохнуть, соблюдались им безусловно. Мужики жили исправно и через меру барщиной не отягощались; дворовые смотрели весело, несмотря на то, что в доме царствовала вечная сутолока по случаю беспрерывно сменявших друг друга гостей. Одно в нем было скверно: ни одного лакея не звал по имени, но для каждого имел свой свист. С утра начинали раздаваться по дому разнообразнейшие свисты, то короткие, то протяжные, то тихие, то резкие, то напоминавшие какой-нибудь песенный мотив. И беда «хаму», который опрометью не прибегал на присвоенный ему свист: Федор Васильич все готов был простить, кроме этого преступления. Но этим, так сказать, домашним мягкосердечием и исчерпывались добродетели Струнникова. Как предводитель, обязанный наблюдать за своими собратиями, он просто никуда не годился. И это было совершенно понятно, потому что кругом жили всё заимодавцы, на действия которых поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы. Впрочем, для того чтобы еще яснее обрисовать личность нашего предводителя, я считаю нелишним описать его будничный день. – Летнее утро; девятый час в начале. Федор Васильич в синем шелковом халате появляется из общей спальни и через целую анфиладу комнат проходит в кабинет. Лицо у него покрыто маслянистым глянцем; Глаза влажны, слипаются; в углах губ запеклась слюна. Он останавливается по дороге перед каждым зеркалом и припоминает, что вчера с вечера у него чесался нос. – Так и есть! – ворчит он, – вскочил-таки прыщ… анафема! Из уст его вылетает короткий свист, на который опрометью вбегает камердинер Прокофий. – Умываться готово! – докладывает он. – Без тебя знаю. Погода какова? – С утра дождичек шел небольшой, а теперь повеселело. – Повеселело, так тем лучше. Сено сушить будем. Староста пришел? – В лакейской дожидается. – Умываться! живо! В одну минуту Струнников уж умыт. Раздается новый свист, другого фасона, на который вбегает буфетчик Тимофей и докладывает, что в столовой накрыт чай. – Без тебя знаю. Скажи старосте, чтоб дожидался. Как отопью чай, позову. В столовой, на круглом столе, кипит самовар; на подносе лежит целая груда домашнего печенья; сбоку стоит нарезанный ломтями холодный ростбиф. Александра Гавриловна разливает чай. Она в утреннем белом капоте и в кружевной головной накидке, придерживающей косу. Лицо у нее чистое, свежее, точно вымытое росой и только что обсохшее под лучами утреннего солнца; сквозь тонкий батист капота отчетливо обрисовываются контуры наливных плечей и груди. Но Федор Васильич не засматривается на нее и кратко произносит: – Сахару больше клади. – Пей-ка, пей, нечего учить! Струнников выпивает вместительную чашку чая с густыми сливками и съедает, одну за другой, несколько булок. Утоливши первый голод, он протягивает жене чашку за новым чаем и взглядывает на нее. – Всем бы ты хороша, – начинает он шутки шутить, – и лицом взяла, и плечи у тебя… только вот детей не родишь! – Слышала. Надоел. Еще бабушка надвое сказала, кто виноват, что у меня детей нет. – Уж не я ли? Да в здешней во всей округе ни одной деревни нет, в которой бы у меня детей не было. Это хоть у кого хочешь спроси. – Говорят тебе: надоел. Молчи, коли другого разговора нет. – У меня-то нет разговора! Да я о чем угодно, что угодно… сейчас! Федор Васильич пьет другую чашку и каждый глоток заедает куском ростбифа, который жадно разрывает зубами. Александра Гавриловна тоже кушает аппетитно. – Вот мы утром чай пьем, – начинает он «разговор», – а немцы, те кофей пьют. И Петербург от них заразился, тоже кофей пьет. Александра Гавриловна молчит. – Что ж ты молчишь? Сама же другого разговора просила, а теперь молчишь! Я говорю: мы по утрам чай пьем, а немцы кофей. Чай-то, сказывают, в ихней стороне в аптеках продается, все равно как у нас шалфей. А все оттого, что мы не даем… – Чего не даем? – Чаю… Какая ты бестолковая! К нам чай прямо из Китая идет, а, кроме нас, китайцы никому не дают. Такой уж уговор: вы нам чай давайте, а мы вам ситцы, да миткали, да сукна… да всё гнилые! – Ишь врет! Свисти-ка да зови старосту. Только понапрасну человека задерживаешь. – Не велик барин – подождет! – Да ведь для тебя же… – Знаю, что для меня. А то для кого же? Ну-ну, не хорохорься! сейчас позову. Раздается свист. – Зови старосту! что он там торчит! Входит староста Терентий, здоровый и коренастый мужик с смышленою физиономией. Он знает барина как свои пять пальцев, умеет угадывать малейшие его думы и взял себе за правило никогда не прекословить. Смотрит не робко. – Как дела? – Дела середние, Федор Васильич; похвалить нельзя. Дожди почесть каждый день льют. Две недели с сеном хороводимся – совсем потемнело. – Ничего, съедят. – Съесть – отчего не съесть; даже в охотку съедят. – А коли съедят, стало быть, и разговаривать не об чем. Нам не продавать. – Зачем продавать! у нас своей скотины довольно. – А ты говоришь: потемнело! Коли съедят, так чего ж тут! Не люблю я, когда пустяки говорят. В полях каково? – Слава богу. Рожь налила, подсыхать скоро начнет. И овес выкидывается. – Ладно. У меня чтобы всего, и ржи и овса – всего чтобы сам-сём было. Как хочешь, так и распоряжайся, я знать ничего не хочу. – Чтой-то, Федор Васильич, овса-то будто уж и многонько. По здешнему месту и слыхом о таких урожаях не слыхивали. – Ну не сам-сём, так сам-пят. С богом; ступай! – Счастливо! Староста удаляется. Во время хозяйственного совещания Александра Гавриловна тоже снялась с места и удалилась восвояси. Раздается короткий свист. – Одеваться готово! – провозглашает Прокофий. – И без тебя знаю. Пошли на конный двор сказать, чтоб ждали меня. Буду сегодня выводку смотреть. А оттуда на псарный двор пройду. Иван Фомич здесь? – В кабинете дожидается. Иван Фомич Синегубов – письмоводитель Струнникова. Это старый подьячий, которого даже в то лихоимное время нашли неудобным держать на коронной службе. Но Федор Васильич именно за это и возлюбил его. – Уж коли тебя из уездного суда за кляузы выгнали, значит, ты дока! – сказал он. – Переходи на службу ко мне, в убытке не будешь. Синегубов последовал приглашению, но, по временам, роптал, что предводитель жалованья ему не платит, а ежели и отдаст разом порядочный куш, то сейчас же его взаймы выпросит. Таким образом долг рос и, вопреки здравому смыслу, запутывал не должника, а невольного кредитора. Неоднократно Иван Фомич сбирался бежать от своего патрона, но всякий раз его удерживала мысль, что в таком случае долг, доросший до значительной цифры, пожалуй, пропадет безвозвратно. Напротив, Струнников, воздерживаясь от уплат, разом достигал двух целей: и от лишних денежных трат освобождался, и «доку» на привязи держал. Федор Васильич приходит в кабинет и начинает без церемонии одеваться перед письмоводителем. – Много делов? – спрашивает он. – Бумажка от губернатора пришла. Мудреная. Спрашивает, какой у нас дух в уезде, – Какой такой дух? – Я и сам, признаться… Мыслей, что ли, каких ищут. – А я почем знаю! Не жареное – не пахнет. Мыслей! Отроду не бывало, и вдруг вздумалось! – По поводу, говорит, недавних событий… француз, стало быть… Да вот извольте сами прочесть. – Эк их! Француз бунтует, а у нас – дух! Не стану я читать; пиши прямо: никакого у нас духу нет. – Слушаю-с. – А теперь с богом. У меня своего дела по горло. На конный иду, да и на псарню давно не заглядывал. Скажите на милость… «дух» нашли! Но Синегубов переминается с ноги на ногу и не спешит уйти. – Должку бы мне, Федор Васильич… хоть часточку! – произносит он нерешительно. – На что тебе? – Помилуйте! как же на что! своих денег прошу, не чужих! – Я тебя спрашиваю, на что тебе деньги понадобились, а ты чепуху городишь. Русским языком тебе говорят; зачем тебе деньги? – Все-таки… как же возможно! – Один ты, как перст, ни жены, ни детей нет; квартира готовая, стол готовый; одет, обут… Жаден ты – вот что! – Федор Васильич! – На табак ежели, так я давно тебе говорю: перестань проклятым зельем нос набивать. А если и нужно на табак, так вот тебе, двугривенный – и будет. Это уж я от себя, вроде как подарок… Нюхай! Струнников отпирает бюро, достает из кошелька двугривенный и подает его письмоводителю. – С богом. А на бумагу так и отвечай: никакого, мол, духу у нас в уезде нет и не бывало. Живем тихо, французу не подражаем… А насчет долга не опасайся: деньги твои у меня словно в ломбарте лежат. Ступай. Покончивши с письмоводителем, Федор Васильич отправляется на конный двор, но, пришедши туда, взглядывает на часы… Скоро одиннадцать, а ровно в полдень его ждет завтрак. – Сегодня я недолго у вас буду: дела задержали, – объявляет он, – выведите «Модницу»! «Модница» – молодая кобылка, на которую Струнников возлагает большие надежды. Конюха знают это и зараньше ее настегали, чтоб она взвивалась на дыбы и «шалила» перед барином. – Зачем на дыбы становиться даете? – командует барин, видимо, однако, довольный, что любимица его «шалит». – Отпустите поводья, пусть смирно идет… вот так! Арапник дайте! Старший конюх становится посредине площадки с длинной кордой в руках; рядом с ним помещается барин с арапником. «Модницу» заставляют делать круги всевозможными аллюрами: и тихим шагом, и рысью, и в галоп, и во весь карьер. Струнников весело попугивает кобылу, и сердце в нем начинает играть. – Ишь селезенкой хлопает… да, из этой кобылы будет прок! – восклицает он, натешившись минут двадцать. – Какого еще коня нужно! – раздаются кругом льстивые голоса. – Вывести «Илью Муромца»! Выводят статного жеребца, который считается главным производителем небольшого струнниковекого завода. Почуяв кобылу, он тоже взвивается на дыбы и громко ржет. – Ишь гогочет, подлец! знает, чем пахнет! – восторгается барин и ни с того, ни с сего, вспомнивши недавний доклад Синегубова, прибавляет: – А тут еще духов каких-то разыскивают! вот это так дух! «Илью Муромца» тоже заставляют всякие аллюры выделывать; но Струнников уже не с прежним вниманием следит за его работой. Он то и дело вынимает из кармана часы и наконец убеждается, что стрелка уже переходит за половину двенадцатого. – Будет; устал. Скажите на псарной, что зайду позавтракавши, а если дела задержат, так завтра в это же время. А ты у меня, Артемий, смотри! пуще глаза «Модницу» береги! Ежели что случится – ты в ответе! – Чему случиться... оборони бог! – То-то. С богом; ведите жеребца назад. Струнников, не торопясь, возвращается домой и для возбуждения аппетита заглядывает в встречающиеся по пути хозяйственные постройки. Зайдет на погреб – там девчонки под навесом сидят, горшки со сметаной между коленами держат, чухонское масло мутовками бьют. – Это вы чухонское масло для стола бьете? – молвит он, – бейте! Повару много масла нужно. Или в мучной лабаз завернет; там ключник муку пекарю отпускает. – Муку, что ли, для стола выдаешь? – выдавай. Только смотри: выдавай весом и записывай, что отпустил. А то ведь я вас знаю! – Мы, кажется, Федор Васильич… – Ладно. Знаю я, что я Федор Васильич, а не Сидор Карпыч… Стрелка показывает без пяти минут двенадцать; Струнников начинает спешить. Он почти бегом бежит домой и как раз поспевает в ту минуту, когда на столе уж дымится полное блюдо горячих телячьих котлет. – Корнеич не приходил? – спрашивает он, усаживаясь в кресле за стол, против Александры Гавриловны, и завешивая грудь салфеткой. – Не приходил-с. – Через час послать за ним. Сказать, что к спеху. Федор Васильич съедает котлету за котлетой. Он рвет мясо зубами, и когда жует, то смотрит вдаль, словно о чем-то думает. От наслаждения лицо его принимает почти страдальческое выражение. Съевши три котлеты и запивши их квасом (вина он совсем никакого не пьет), он в недоумении смотрит на жареного цыпленка, как будто не может дать себе отчета, сыт он или не сыт. Наконец решает вопрос в отрицательном смысле, захватывает добычу вилкой и тащит на тарелку. Покончивши с цыпленком, приступает к суфле из грецких орехов и столь же исправно действует ложкой, как действовал вилкой и ножом. Наконец наелся и утомился, словно пять верст пробежал. По комнате раздается тяжкий и продолжительный вздох. – О, господи Иисусе Христе! – стонет Струнников, закрывая глаза, и тут же за столом впадает в забытье. Во сне он видит целую эпопею. Снится ему тот самый бычок, котлеты из которого он только что ел. Бычок родился ровно шесть недель тому назад от коровы Красавки и, подобно родительнице своей, имел пеструю одежду. С первых же шагов своего вступления в свет он обнаружил недюжинные телячьи способности, обещая со временем сделаться умным и степенным быком, надежным руководителем вверенного ему стада. Но еще в то время, когда он был в утробе матери, в сердце Струнникова созрел уже умысел, решивший его участь совсем по-иному. Решено было дать теленку солидное домашнее воспитание, тo есть отпаивать. Сначала поили его молоком матери, потом стали поить от двух коров. Федор Васильич ежедневно заходил на скотный двор и радовался, видя, как он постепенно глупеет. Глупел-глупел, наконец лег и стал приходить в дремотное состояние. Это был признак, что домашнее воспитание кончилось и что отныне предстояло лишь пользоваться плодами его. Одним утром Струнников пришел в хлев, в котором неподвижно был распростерт обреченный бычок, приказал поднять его, собственными руками прощупал тушу и сделал ребром ладони промер частей, приговаривая; «задняя нога, другая нога, котлеты, грудина, печенка» и т. д. А в заключение пришел в такое восхищение, что поцеловал теленка в слюнявую морду, так сказать, «простился» с ним. – Будет! завтра же колоть! а то, оборони бог, еще подохнет! – слетел с его языка жестокий приговор. Теленок вышел на славу. Четвертый уж день подают его, в разнообразнейших видах, за стол, а все ему конца не видать. Покуда есть еще в охотку, но ведь и здесь, как и во всех человеческих желаниях и стремлениях, предел положен. То-то вот горе, что жена детей не рожает, а кажется, если б у него, подобно Иакову, двенадцать сынов было, он всех бы телятиной накормил, да еще осталось бы! А кроме того, как на грех, с наступлением рабочей страды и гости перемежились. Неминучее дело, придется с соседями делиться. Корнеичу уж снесли переднюю ногу, – не послать ли другую Псу Васильичу? Да, ему, именно ему, больше некому. Пускай старый пес жрет! «А печенку сами съедим! – мелькает в его голове, – велю я ее в сливочном масле зажарить, да за завтраком и подать. Жирная должна быть печенка… аграмадная!» Многие печенку в сметане жарят, но он этой манеры не придерживается. Сметана все-таки сметана, как ее ни прожаривай. А ежели она чуточку сыра, так хоть совсем не ешь. Печенка да в сливочном масле – вот это так именно царская еда! Жевать не нужно; стоит языком присосаться – она и проскочила! 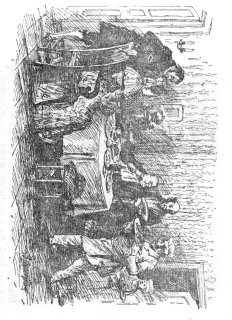 Струнников делает губами движение, словно присасывается. Он сладко вздыхает и хочет повернуться на бок, чтобы ловчее уснуть, но в эту минуту в передней происходит движение, которое пробуждает его. – Степан Корнеич пришел, – докладывает Прокофий. – Пришел? а? кто посылал? – спрашивает барин, с трудом приходя в себя. – Сами изволили посылать. – Без тебя знаю. Зови. Степан Корнеич Пеструшкин – мелкопоместный дворянин, владеющий в одном селе с предводителем пятнадцатью душами крестьян. Это пьяненький и совсем согнутый старик, плешивый, с красным, обросшим окладистой бородой лицом, над которым господствует сизый, громадных размеров нос. Дома он почти не живет; с утра бродит по соседям; в одном месте пообедает, в другом поужинает, а к ночи, ежели ноги таскают, возвращается домой. В особенности часто бывает он у Струнникова, при котором состоит в качестве домашнего шута. Хозяйством у него заправляет старуха жена да пожилая дочь, у которой один глаз вытек. Четверо сыновей находятся в разброде и не только не помогают родителям, но очень редко шлют известия о себе. Бедность, как говорится, непокрытая, так что даже Струнникову никогда не приходило на мысль занять у Корнеича денег. – А! Корнеич! как поживаешь? каково прижимаешь? – шутливо приветствует старика Федор Васильич, – зачем пожаловал? – Присылали, значит! – Кто присылал? сроду не присылал! Эй! водки, да вчерашней телятины на закуску нарежьте. Садись, гость будешь. Как дела? – Дела как следует. Вот теперь лето, запасаемся всякого нета, а зимой будем жить богато, со двора покато. – Ври больше. У самого сусеки от зерна ломятся, а он аллилуйю поет! А я, брат, распорядился: приказал старосте, чтоб было у меня всего сам-сём – и шабаш! – Что вам беспокоиться, благодетель! Ежели бы вы и сам-деся заказали, так и то как раз в самую пору было бы! Что захотите, то и будет. – А что ты думаешь! и то дурак, что не заказал. Ну, да еще успеется. Как Прасковья Ивановна? У Аринушки новый глаз не вырос ли вместо старого? – Всё-то вы, сударь, шутите! – Нисколько не шучу, Намеднись в городе судья мне рассказывал: проявился в Париже фокусник, который новые глаза делает. Не понравились, например, тебе твои глаза, сейчас к нему: пожалуйста, мусье, севуплей! Живым манером он тебе старые глаза выковыряет, а новые вставит! – И видят? – За сто верст видят. Хочешь голубые, хочешь черные – какие вздумаешь. Ну, да тебе в Париж пешком далеко ходить; сказывай, где был, побывал! – Ах, благодетель! бедняк, что муха: где забор, там и двор, где щель, там и постель. Брожу, покуда ноги носят; у Затрапезных побывал. – Эк тебя нелегкая за семь верст киселя есть носила! – И то сказать… Анна Павловна с тем и встретила, – без тебя, говорит, как без рук, и плюнуть не на что! Людям, говорит, дыхнуть некогда, а он по гостям шляется! А мне, признаться, одолжиться хотелось. Думал, не даст ли богатая барыня хоть четвертачок на бедность. Куда тебе! рассердилась, ногами затопала! – Сиди, говорит, один, коли пришел! – заниматься с тобой некому. А четвертаков про тебя у меня не припасено. – Обедать-то дала ли? – Покормили. Супцу третьеводнишнего дала да полоточка солененького с душком… Поел, отдохнул часок, другой, да и побрел в обратную. – Ишь ведь! по горло в деньгах зарылась, а четвертака пожалела! Да разве тебе очень нужно? – Уж так нужно, так нужно… – Делать нечего, придется, видно, для милого дружка раскошеливаться. Приходи на днях – дам. – По-намеднишнему, небось, сделаете! Мне бы теперь… – Теперь – не могу: за деньгами ходить далеко. А разве я намеднись обещал? Ну, позабыл, братец, извини! Зато разом полтинничек дам. Я, брат, не Анна Павловна, я… Да ты что ж на водку-то смотришь – пей! Корнеич выпивает одну рюмку, потом другую; хочет третью налить, но Струнников останавливает его. – Будет. Сразу ошалеть, видно, хочешь! пьет рюмку за рюмкой, словно нутро у него просмоленное! Пеструшкин выпил и начинает есть. Он голоден и сразу уничтожает всю принесенную телятину; но все-таки видно, что еще не сыт. – Тебе икры не хочется ли? – Кабы… – Ладно. Приходи через неделю – дам. А теперь выпей еще рюмку и давай «комедии» разыгрывать. «Комедии» – любимое развлечение Струнникова, ради которого, собственно говоря, он и прикармливает Корнеича. Собеседники удаляются в кабинет; Федор Васильич усаживается в покойное кресло; Корнеич становится против него в позитуру. Обязанность его заключается в том, чтоб отвечать на вопросы, предлагаемые гостеприимным хозяином. Собеседования эти повторяются изо дня в день в одних и тех же формах, с одним и тем же содержанием, но незаметно, чтобы частое их повторение прискучило участникам. – Сказывай, каков ты есь человек? – вопрошает Струнников. – Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей. Издали ни то, ни се, а что ближе, то гаже. – Правду сказал. Отчего у тебя такой нос, что смотреть тошно? – Мой нос для двух рос, – одному достался. А равным образом и от пьянства. – И это правда. Зачем ты бороду отрастил? – Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза – плюнет в бороду. – Хорошо. Сказал ты, что человек есь; а кроме того еще что? – Кроме сего, государя моего пошехонский дворянин. Имею в селе Словущенском пятнадцать душ крестьян, из коих две находятся в бегах, а прочие в поте лица снискивают для господина своего скудное пропитание. – Что такое есть русский дворянин? – Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином называется всякий потомственный слуга Престол-Отечества, начиная с Федора Васильевича Струнникова и кончая Степаном Корнеевым Пеструшкиным и Марьей Маревной Золотухиной. – Какая главная привилегия дворянина? – Главная и единственная: не бей меня в рыло. Затем прочие подразумеваются сами собой. – Что скажешь об обязанностях дворянина? – Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходителен к низшим. Отсутствие гордости, забвение обид и великодушие к врагам составляют лучшее украшение, которым гордится русский дворянин. Следует еще несколько вопросов и ответов непечатного свойства, и собеседники переходят уже к настоящим «комедиям». Корнеич представляет разнообразные эпизоды из житейской практики соседних помещиков. Как Анна Павловна Затрепезная повару обед заказывает; как Пес (Петр) Васильич крестьянские огороды по ночам грабит; как овсецовская барыня мужа по щекам бьет и т. д. Все это Корнеич проделывает так живо и образно, что Струнников захлебывается от наслаждения. Наконец репертуар истощился. Федор Васильич начинает потирать живот и посматривает на часы. Половина второго, а обедать подают в три. – Хоть бы ты новенькое что-нибудь придумал, а то все одно да одно, – обращается он к Корнеичу, – еще полтора часа до обеда остается – пропадешь со скуки. Пляши. – Рад бы, да не могу, благодетель: ноги не служат. Было время, плясывал я. Плясал, плясал, да и доплясался. – Чего «доплясался»! все-то ты, старый пес, клянчишь! какого еще тебе рожна нужно! – Оно конечно… Чужую беду руками разведу… Да ведь и другая пословица на этот предмет есть: беда не дуда; станешь дуть – слезы идуть. Вот оно, сударь, что! – А ты привыкай! Дуй себе да дуй! На меня смотри: слыхал разве когда-нибудь, чтоб я на беду пожаловался? А у меня одних делов столько, что в сутки не переделаешь. Вот это так беда! – Какая это беда! плюнуть да растереть… – Попробуй! Давеча губернатор с бумагой взошел; спрашивает, какой у нас в уезде дух? А я почем знаю! – Тсс… – Ему-то с полагоря: бросил камень в воду, а я его вытаскивай оттоле! Чу! никак кто-то приехал? Струнников прислушивается и ждет. Через минуту в передней слышится движение. – Федул Ермолаев приехал! – докладывает лакей. Струнникова слегка передергивает. Федул Ермолаев – капитальный экономический мужичок, которому Федор Васильич должен изрядный куш. Наверное, ои денег просить приехал; будет разговаривать, надоедать. Кабы заранее предвидеть его визит, можно было бы к соседям уйти или дома не сказаться. Но теперь уж поздно; хочешь не хочешь, а приходится принимать гостя… нелегкая его принесла! – Дожидайся! так я и отдал! – свирепо ворчит он сквозь зубы, – Зови! Входит высокий и статный мужик в синем суконном армяке, подпоясанном краевым кушаком. Это, в полном смысле слова, русский молодец, с веселыми глазами, румяным лицом, обрамленным русыми волосами и шелковистой бородой. От него так и пышет здоровьем и бодростью. – Федул Ермолаич! сколько лет, сколько зим! Садись, брат, гость будешь! – приветствует его Струнников. – Эй, кто там! водки и закуски! – Не извольте беспокоиться – не стану, – отказывается гость, присаживаясь, – на минуточку я… дела в вашей стороне нашлись… – Не успел взойти, а уж «на минуточку»! Куда путь-дорогу держишь? – Раидина Надежда Савельевна звала. Пустошоночка у нее залишняя оказалась, продать охотится. А мы от добрых делов не прочь. – Когда же ты от добрых делов отказываешься! скоро все пустоша по округе скупишь; столько земли наберешь, что всех помещиков перещеголяешь. – Где нам! Оно точно, что валошами по малости торгуем, так скотинку в пустошах нагуливаем. Ну, а около скотины и хлебопашеством тоже по малости занимаемся. – Сказывай: «по малости»! Куры денег не клюют, а он смиренником прикидывается! – Зачем прикидываться! Мы свое дело в открытую ведем; слава богу, довольны, не жалуемся. А я вот о чем вас хотел, Федор Васильич, просить: не пожалуете ли мне сколько-нибудь должку? – А я разве тебе должен? – шутит Струнников. – Да тысячек с семь побольше будет. – А я думал, только три. И когда вы, черт вас знает, накапливаете! – Помилуйте! я и записочки ваши захватил. Половинку бы мне… С Раидиной рассчитался бы. – Половинку! чудак, братец, ты! зачем же третьего дня не приезжал? Я бы тебе в ту пору хоть все с удовольствием отдал! – Как же это, сударь, так? – Да так вот; третьего дня были деньги, а теперь их нет… ау! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
|||||||