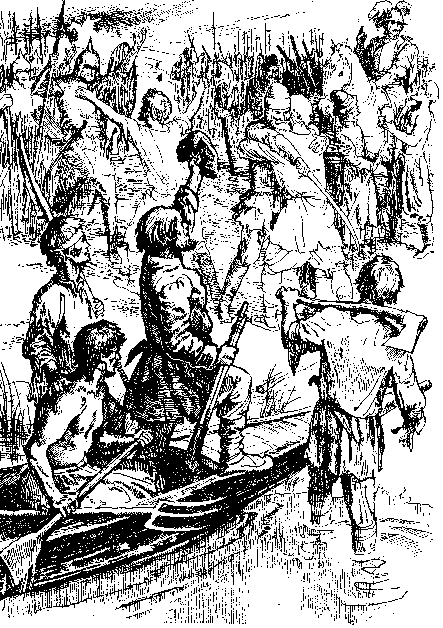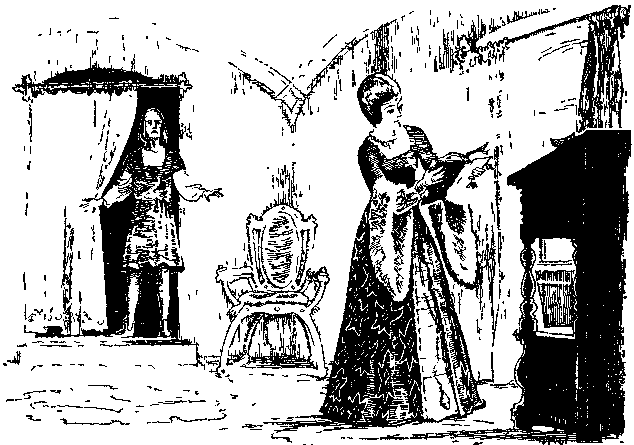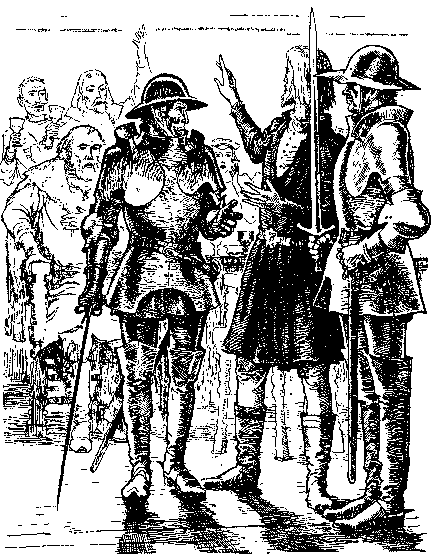Георгий Скорина
ModernLib.Net / Садкович Николай / Георгий Скорина - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Садкович Николай |
|
Жанр:
|
|
|
-
Читать книгу полностью (833 Кб)
- Скачать в формате fb2
(645 Кб)
- Скачать в формате doc
(358 Кб)
- Скачать в формате txt
(341 Кб)
- Скачать в формате html
(642 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|
|
Н.Садкович, Е. Львов
Георгий Скорина
КАК БЫЛ НАПИСАН ЭТОТ РОМАН
(Вместо предисловия)
Еще длилась война. Еще не развеяли ветры горький дым пожарищ над землей Белоруссии, а со стен Московского Кремля уже взлетали зарницы победных салютов. Никогда не забыть мне те вечера в притемненном, затихшем городе. Вдруг к небу, еще недавно пугавшему матерей рокотом чужих самолетов, поднялись разноцветные звезды, щедро освещая дома, улицы, людей. Казалось, это сияние не прекращалось всю ночь, лишая сна и покоя. Освобождались села и города Белоруссии. Для многих людей великое горе войны уступало желанию скорее, как можно скорее, завтра, с рассветом нового дня вернуться домой! Возвращались жители, и надо было в полной мере восстановить их право на жизнь. Работы было много. Мы шли вслед за наступающей армией, гнавшей полчища оккупантов. Вот в такую-то пору меня вызвали в Москву к одному из партийных руководителей Белорусской Республики. Беседа затянулась. Мой собеседник посмотрел на часы и выключил свет. В просторной комнате стало темно и тихо. Мы подняли тяжелые маскировочные шторы, и за окном сейчас же, будто нас ждали, взметнулись, рассыпались драгоценные камни фейерверка. – Освободили Полоцк – родину Скорины. Вы, конечно, слыхали о нашем первопечатнике и просветителе? – Да, конечно, – ответил я, не понимая, какая может быть связь между тем, о чем мы беседовали, и столь далекой историей. – Советские люди поставят ему новый памятник… В центре города, рядом с монументом в честь героев-освободителей! – Рядом? Четыре столетия отделяют их… – Нет, не отделяют, – возразил мой собеседник, опускаясь в кресло. – Послушайте, разве четыреста лет назад Скорина не боролся за свою родину? Разве не такой же коварный враг был у него? Мы не должны забывать, какой путь прошел наш народ, прежде чем достиг победы Великого Братства. Те, кто родился и вырос в Союзе Республик, часто не знают, сколько крови пролито белорусами ради того, чтобы стать «вместе с братьями Русь». Скорина всю свою жизнь этому отдал. Его далекое время было началом… А что мы знаем о нем? Памятник – дело скульпторов, но не хуже гранита и бронзы хранит память живое слово, воссозданный образ в книге или на экране… Неужели вас никогда не привлекала эта тема для фильма или романа? – Время ли сейчас думать об этом? Столько дел кругом… – Самое время! У нашего народа хотели отнять гордость и славу. Зачеркнуть его прошлое, а оно только ярче освещает сегодняшний подвиг… Подумайте. Мы поможем собрать первоисточники. Освободим вас от лишних трудов. …Не знаю, быть может, кому-либо покажется странным, но я до сих пор уверен, что война, особенно радости побед, и тот памятный вечер крепко-накрепко привязали меня к исторической теме. Она захватила меня не врасплох. Где-то еще в юности я готовился к этой встрече. Теперь она неотступно следовала за мной. В тылу и на фронте. Я искал хоть что-нибудь, что рассказало бы мне о жизни героя, словно можно было на изрытой окопами, перепаханной снарядами белорусской земле найти свидетельства битв шестнадцатого столетия. Музеи и библиотеки разграблены. Увезены гитлеровцами и редчайшие произведения Скорины, его первоиздания, переводы. Несколько выписок из исследований П. Владимирова, В. Ластовского и других авторов давали слишком мало. Где взять «материал», из которого можно начать строить? Нет «окружения» Скорины, нет картин быта, без которых могли обойтись ученые-исследователи, но не обойтись романисту. Я помнил слова: «Мы поможем собрать первоисточники…» Можно ли было тогда требовать выполнения брошенного вскользь обещания? В освобожденной Белоруссии люди выходили из лесов, шли в свои колхозы, деревни, а деревень не было… Не было жилищ, не было школ, больниц, хлебопекарен. Началась грандиозная страда восстановления. Она властно требовала всех сил и времени. Не хватало рабочих рук… Какой тут еще шестнадцатый век! Я уже готов был отказаться или отложить работу над задуманным произведением, как вдруг получил самую дорогую поддержку и помощь. В отчаянии, как о чем-то потерянном, я рассказал о замысле исторического романа своему другу, ныне умершему профессору Е. Штейнбергу (Львову). Поистине, тот друг, кто становится частью тебя! Мысль познакомить наше поколение со славным борцом и просветителем славянских народов Георгием Скориной теперь владела нами обоими. Мы стали соавторами. Теперь поиски необходимых источников опирались на знания и опыт двух человек. – Вспомним, – предложил мой друг, – что отличало лучших представителей эпохи Скорины? Мы раскрыли книгу Энгельса «Диалектика природы» и прочитали: «…Они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках… Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключением; это или люди второго и третьего ранга, или благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцы». – Прекрасно. Нет сомнения, что Скорина жил в гуще интересов своего времени. Но что же за время тогда было на белорусской земле? Известно, что с тех пор, как литовские князья, воспользовавшись тяжелым положением Руси (междоусобица, татарское нашествие), захватили соседние с Литвой русские земли, Белоруссия стала входить в состав Великого княжества Литовского. Об этом периоде сохранилось немало памятных документов. Разбирая их, мы обнаружили свидетельства жестокой борьбы белорусского народа за свои обычаи и свой язык. Видимо, борьба была успешной. Иначе чем объяснить, что даже государственные указы и грамоты того времени изложены на белорусском языке. Князья-завоеватели не могли не считаться с тем, что белорусская речь тогда звучала не только в верховьях Днепра, на Соже и Припяти, но и на Немане, на Жмуди и Виленщине. Если литовские князья вынуждены были прибегать к белорусскому языку, значит, он был понятен большинству населения, а если большинство составляли люди Белой Руси, стало быть, и сила на их стороне? Нет, к такому выводу мы не могли прийти. Писатель-историк не должен радоваться, найдя лишь первые свидетельства, как бы соблазнительны они ни казались. Иной раз одно неожиданно встреченное слово, маленький факт опрокидывают прежнее представление и тянут за собой цепь новых открытий. Как археолог, сбивая осторожным молотком пласты вековых наслоений, ничего не отбрасывая, по крупице исследует горы изрытой земли, стараясь определить время, место, условия, окружавшие найденный памятник, так и писатель… Тут лучший помощник – терпение. Запасемся терпением и постараемся разобраться, в каких условиях жил наш герой и его народ. На чьей же стороне была сила? Конечно, сумев захватить русские земли, литовские князья воспользовались военной силой, но, подчинив себе простой, посполитый люд, тянувшийся к Москве, они скоро почувствовали слабость своей власти над ним и стали искать поддержку у польских панов и Ватикана. Литва вступила в унию (союз) с Королевством Польским. Литовский князь Ягайло стал одновременно и польским королем. Что принес этот союз простому народу? В Литве вводились польские порядки, насаждалась католическая вера. Паны польские и литовские прибирали к рукам белорусские земли, получали право патроната над православными храмами. А с 1480 года и вовсе запретили строить православные церкви в Вильне, Витебске и некоторых других городах. Народ польский был кровными узами связан со своими братьями славянами на востоке. Еще не остыла память о великой победе воинов польских, белорусских, русских, одержанной под Грюнвальдом (1410), когда, объединив свои силы, они разгромили тевтонские полчища. Еще пели песни об этом в деревнях и на городских ярмарках, а краковские и виленские магнаты устремляли взоры на запад, заискивая перед Веной и Римом и даже перед захиревшим Тевтонским орденом. Свой народ они презирали. Читаем пожелтевшие листы, письма воевод того времени, жалобы и доносы державцев и через каждую строчку встречаем слова: «быдло», «черная кость», «хлопство поганое». О чем эти письма и жалобы? О «разбойных ватагах» беглых крестьян, о бунтах и непослушании. «Смотри, – говорил кто-либо из нас, радуясь найденному яркому эпизоду, – кажется, этому воеводе крепко попало от „поганых хлопов“». Перед нами вставали картины горящих поместий, осады замков или разгона сборщиков подати. Народ сопротивлялся как мог. Борьба против католического насилия сливалась с борьбой против польско-литовской шляхты, воевод и русских бояр. Сельские да и городские жители плохо разбирались в религиозных догматах. Но католичество в народном представлении связывалось прежде всего с наступлением на Русь враждебных сил Запада. Разве не благословлял римский первосвященник знамена немецких «псов-рыцарей»? Разве не помогали католические епископы, монахи и ксендзы порабощать славян и литовцев? Народ сопротивлялся. Борьба велась упорная, отчаянная и все же не могла привести к победе. Человеку, вооруженному знаниями, современной наукой, владеющему марксистским методом анализа исторических событии, нетрудно понять, почему стихийные, разрозненные восстания крестьян были обречены на поражение. А что же города? Городские жители были более просвещенны, теснее связаны между собой. Неужели они стояли в стороне от борьбы? Нет, они боролись по-своему. Прикрываясь церковными делами, горожане объединялись в «братства», собирая вокруг церквей посполитый люд. Ведя торговые дела с Москвой, с людьми, близкими по языку и вере, купцы и ремесленники с надеждой взирали на восток… Там росло и крепло молодое Московское государство. Пленительной красотой сиял новый город, украшенный руками искусных мастеров. Далеко разнеслась его слава, и уже прозвучало гордое пророчество: «Быть Москве третьим Римом, а четвертому не быть!» Так говорили русские. А что думали о Москве в Кракове, Вильне и Кенигсберге? Перед нами письма, посольские донесения. Вот что писал командор Кенигсберга магистру Тевтонского ордена Вальтеру фон Плеттенбергу о великом князе московском Иване Третьем: «Старый государь со внуком своим управляет один всеми землями, а сыновей не допускает до правления, не дает им уделов. Это для магистра ливонского и ордена очень вредно: они не могут устоять против такой силы, сосредоточенной в одних руках». Австрийский посол говорил князю Ивану: «Поляки очень боятся, что вся русская земля, которая теперь под королем польским, отступится от него и тебе подчинится». Опасения были не напрасны. Нет-нет да и вспыхнет ссора между каким-либо живущим у границы боярином и воеводой. Покинет боярин литовскую службу, отъедет в Москву и бьет челом московскому государю. Просит принять его вместе с вотчиной: «Животы защитить и землицу, что от отцов дадена, причислить к нашему, русскому боку». Великий князь не отказывал. Пределы Московского государства расширялись, а границы Литовского княжества отодвигались все дальше на запад. Литовский властелин Александр боялся Москвы, искал мира с ней. Засылал к Ивану послов, хитрил, разведывал. Среди многих литовских послов нас заинтересовали два имени: Станислава Глебовича и Яна Забржзинского. Оба они были связаны с Полоцком и, как потом выяснилось, прямо или косвенно повлияли на судьбу молодого Скорины. Сначала встретилось имя Станислава Глебовича. Мы уже знали, что в дни юности Скорины он был полоцким воеводой. Но в списке послов, прибывших в Москву в ноябре 1492 года, первым значится он же. Почему посольское дело поручено воеводе «крайних», а не «коронных» земель? Вроде никогда так не делали при великокняжеском дворе… Стали выяснять. Оказалось, в 1492 году полоцким воеводой был не Глебович, а Ян Забржзинский. Глебович же, служа в то время при дворе великого князя Литовского – Александра, – возглавил не совсем обычное посольство. Ему поручено было поосторожней разузнать, не выдаст ли московский государь свою дочь Елену за Александра Литовского? Тут-то и приключился с придворным вельможей конфуз. Поддавшись хитрым ласкам московских бояр, Глебович спьяна наболтал лишнего о своем секретном поручении и дело сорвал. Вот и пришлось ему поменяться местами с Яном Забржзинским – сесть воеводой в «дальнем» Полоцке. А пан Ян, умело воспользовавшись промахом друга, приблизился ко двору великого князя Литовского и вскоре отправился в Москву исправлять ошибку Глебовича. Теперь литовского посла сопровождали важные паны: наместник брацлавский и воевода виленский. 13 января 1495 года посольство прибыло в Москву и, приняв условия московского царя, дело сладило. Александр Литовский женился на Елене Ивановне. Но ни женитьба, ни подписанный договор не принесли спокойствия Александру. Братья его – Казимировичи, – сидевшие на престолах Польского, Венгерского и Богемского королевств, прислушивались к злейшему врагу славян и литовцев – ливонскому магистру фон Плеттенбергу. Они тайно готовили войну против Москвы и старались вовлечь в заговор Александра. Литовский князь видел, как неспокоен народ Западной Руси, и понимал, что, прежде чем начать войну, надобно обеспечить тылы: расположить к себе города, пойти на уступки городской белорусской знати – купцам и цеховым старшинам. В 1499 году городу Полоцку были дарованы привилегии по образцу немецких городов и потому названные «магдебургским» или «майборским» правом. Вслед за Полоцком «майборское» право дано было Минску, Витебску, Могилеву. Казалось бы, теперь горожане должны были быть довольны. По великокняжеской грамоте им разрешалось «устраивать братства», выбирать войтов (старост) и радцев (советников), половина которых должна избираться из приверженцев римской веры, половина из православных. Радцы выбирали двух бурмистров, и уже не воевода мог судить горожан, а выборные заседатели – «лавники». Но то было в грамоте… Не найди мы других свидетельств, и картина полоцкой ярмарки, которой начат роман, была бы не полной, ложной. В том-то и дело, что грамота оставалась грамотой, а воевода – воеводой. Он по-прежнему распоряжался, как ему было угодно. Люди искали справедливости и милосердия, писали жалобы великому князю в Вильно, но Вильно – далеко, а воеводские темницы рядом. * * * Итак, мы выяснили положение русских людей на родине Скорины, а что мы узнали о жизни самого героя? Увы, до нас дошли самые скудные сведения. В бережно собранной нами папке всего несколько страниц с записями на русском языке, белорусском и латыни. Из них мы узнали, что происходит Скорина из семьи «именитого купца в славном граде Полоцке Луки сына Скорины…», имевшего торговые дела в Белоруссии, Литве, Польше и «в немцех». Что учился Георгий в Краковском университете… Почему в списки студентов (как тогда их называли – «схоларов») Скорина занесен под именем Франциска? (Franciscus Lucae de Polotsko – Франциск, сын Луки из Полоцка.) Будем надеяться, что найдем объяснение и этому. Что знаем еще? «…Держал экзамен при падуанской медицинской коллегии в Италии. К экзамену был допущен экстерном и бесплатно. Выдержал его блестяще и – первый из восточных славян – получил высокое звание Доктора в науках Медицинских… В 1517–1519 годах в Праге чешской перевел на русский язык и напечатал около двадцати книг „Библии русской“ с предисловиями и послесловиями…» Почему в Праге, а не на своей родине? Почему, став «доктором в науках медицинских», занялся книгопечатанием? Даже самые малые сведения рисуют нам жизнь необычную, полную борьбы и приключений. Здесь и столкновение с Мартином Лютером и с прусским герцогом Альбрехтом, от которого Скорина тайно увез «иудея-типографа и врача». Здесь и судебные тяжбы, и подложные обвинения, и тюрьма. И большая любовь… Жизнь Георгия Скорины не ограничивалась интересами только своей семьи и даже своего города. Видно, чтобы понять ее, надо окинуть мысленным взором время и страны… Заря шестнадцатого века. Еще окутывает мир свинцовая мгла средневековья. На городских площадях пылают костры инквизиции. Алхимики, склонившись над тиглями в мрачных лабораториях, ищут философский камень, способный превращать простое вещество в драгоценный металл. Астрологи по звездам предрекают течение человеческой жизни. На ученых диспутах идут ожесточенные споры о том, сколько чертей может уместиться на острие иглы. В университетах еще властвует схоластическая наука, смиренно именующая себя служанкой богословия. Но светлеет далекое небо. Тверской купец Афанасий Никитин уже «ходил за три моря». Уже испанец Христофор Колумб ступил на землю Америки и португальские «искатели жемчуга» пристали к берегам сказочной Индии. Пытливый человеческий ум стремится постигнуть законы механики и движения планет. Гениальные самоучки мастерят наивно-дерзкие модели летательных машин. Врачи тайно вырывают из могил трупы, чтобы познать анатомию. Живописцы, ваятели, зодчие создают бессмертные творения. Над миром звучит новое слово – Гуманизм! Закипает великая битва, которой суждено длиться века. Поединок разума и глупости, науки и изуверского аскетизма. Новые идеи объединяют людей, говорящих на разных языках, носящих разную одежду. Папские проповедники, извергая проклятия отступникам и еретикам, бессильны сдержать стремительный натиск животворной мысли. Она проникает в монашескую келью, на церковную кафедру, в университет – эту доселе незыблемую твердыню средневековой схоластики… Вот в какое время начал свой путь великий скиталец – Георгий, сын Скорины из славного города Полоцка. Прошло много дней, пока мы смогли сказать друг другу: «Мы собрали все, что могли, узнали все, что было доступно. Начнем рассказ…» Я вспоминаю долгие часы работы над рукописью, наши споры, поиски лучшего, радость находок и новых открытий… Вспоминаю первые отзывы людей, оценивших наш труд. Письма читателей из городов и колхозов, школ, библиотек. Письма были разные, но все сходились в одном – в желании знать своих далеких предков, борцов за свободу и счастье на нашей земле. Я храню эти письма как свидетельство того, что трудились мы не напрасно, что среди миллионов советских читателей есть люди, которым наш скромный труд помог открыть еще одну страницу истории великих славянских народов… Храню светлую память о друге моем, Евгении Львове, кому произведение это всегда было дорого, как и мне.
Микола Садкович.
Москва, 1961 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В СЛАВНОМ ГРАДЕ ПОЛОЦКЕ
Вечно будешь с нами
Жить ты в мире этом,
Речью миллионов
Говорить со светом.
Из золы былого,
Дней слепых, кровавых
Вырастать посевом
Самой светлой славы!
Янка Купала
Глава I
Нежданный и небывалый в это время года туман принесло с далекого Балтийского моря. Над Великим озером нависла серая мглистая дымка и, всколыхнувшись, лениво поплыла через болотные земли Спасской обители. В тот же час, точно по сговору, задымилось озеро Березвече, потянулась белая муть и от Усть-Дисны у Конца-городка, распространяясь на восток.
На рассвете июльского дня 1504 года туман окутал город Полоцк и, как бы задержанный высокими шпилями двух его замков и крепостными стенами, остановился. Город скрылся в тумане. С круглой башни Верхнего замка караульные видели только кресты храмов, которые, как мачты затонувшего корабля, возвышались над белыми колеблющимися волнами.
Снизу, словно со дна сказочного моря, доносился печальный звон одинокого колокола, призывавшего полочан к заутрене.
Люди оставались в домах, весь день жгли светильники. Старики качали головами, предвещая дурную зиму. Не слышно было птиц. Выли собаки. Туман густел и, как бы отяжелев, спускался на землю. К вечеру уже обнажились крыши домов, стоявших на взгорье, но улицы по-прежнему оставались пустыми. Только один Аникей-юродивый бродил по затихшему городу, колотил в висевшую на шее железину и плаксиво выкрикивал:
– Белая хмара!.. Всех задушит белая хмара: и пана, и хлопа… пришел Аникейкин час…
Бабы щедро одаривали юродивого и с опаской провожали от ворот. Аникей, не благодарствуя, брал милостыню и брел дальше, зыбким видением растворяясь в тумане. Его монотонное причитание слышалось то там, то здесь по всему городу, пока на закате два дюжих стражника из воеводского патруля не схватили юродивого. Стражники потащили его к караульной башне, однако бросить в яму не решились и, пригрозив, вытолкнули за городские ворота.
За стенами города было людно и шумно. Огни костров и смоляных факелов, пробиваясь сквозь туманную мглу, слабо озаряли фигуры людей, вздыбленные оглобли телег, а лучники на носах лодок освещали тяжело груженные суда, плотно обступившие причал у слияния Полоты и Западной Двины.
Говор людей, прерываемый бранными выкриками, ржание коней, плеск весел и редкий стук топоров сливались в сплошной гул. Огромный табор раскинулся вокруг Полоцка, и можно было подумать, что вражеские полчища готовятся к штурму притаившегося за деревянными стенами города. Но из просмоленных трюмов выгружались не пушки и порох, а бочки с медом и пивом, груды мехов, пеньковых канатов, кипы кож и восковые глыбы. От пристани, вверх по крутому песчаному съезду, до самых южных ворот тянулись в беспорядке сложенные бочки, ящики и тюки привезенных товаров.
Выше, у земляного вала, выросла непроходимая чаща телег, арб, коновязей, загородивших Невельский шлях. Медленно передвигались люди. Небольшими группами они собирались у костров, беседовали, поглядывая на город со злобой и нетерпением.
Полоцк был отгорожен от них крепостным валом и стенами. Все ворота были на запоре. Никто не мог ни проникнуть в город, ни выйти из него.
– Не слыхать ли чего, Петрок? – обратился степенный человек, одетый в дорогую, расшитую чугу,
к сидевшему у костра молодому белокурому гончару, глядевшему острым, чуть прищуренным взглядом. – Ваши мастеровые разом с нами тут всенощную будут править?
– Приходил человек от городского старшины, – нехотя ответил Петр, – сказывал: потерпеть просят. К воеводе с поклоном отправились…
– Я бы терпел, – отозвался третий, кутаясь в подбитый мехом кафтан, – да товару урон… Поди, и так не управишься.
– Не пристало пану воеводе о твоих убытках заботиться, – усмехнулся пожилой человек, – ему прежде свои барыши подсчитать надобно. А раз хозяин счет ведет, ворота на запор. Это всяк знает…
– Так ведь по княжьей грамоте начало торгу с сего дня! Первый-то день дороже всего! – возмутился Петр. – На него и расчет был, а выходит…
– Выходит, сынок, – спокойно заметил пожилой, – что не всяка грамота воеводе закон. Сам посуди: туман, темень. Тут вашего брата купца да мастеровых пусти в город, так и мыты
не соберешь, и глазу за вами не будет. Вот и приказал пан воевода: по причине тьмы и тумана не было бы злодейства в городе, в день субботний ярмарке не быть, а торговать с полдня воскресенья. – И, понизив голос, добавил: – Не писали бы великому князю челобитную на воеводу, хоть худой, да мир был бы… Туман не туман, с хлебом-солью встречали.
– Да голышом провожали, – вставил купец в меховом кафтане.
– Это кто как ухитрит, – закончил беседу пожилой и отошел от костра.
Люди, толпившиеся под стенами города, были иногородние купцы, торговые артельщики, цеховые мастера и подмастерья, крестьяне, приехавшие на ярмарку, трижды в год происходившую в городе Полоцке.
Ярмарка должна была открыться в субботу с восходом солнца, но городские ворота оставались закрытыми, и купцам с надворных башен прочитали приказ воеводы Станислава Глебовича об отмене первого дня торга по случаю тумана. Многие понимали, что туман для воеводы только предлог, что воевода мстил полочанам за челобитную, о которой упоминал пожилой купец у костра. Долгое время Глебович безнаказанно нарушал право вольного торга, полученное полочанами еще от покойного великого князя Литовского. Всячески притесняя торговых людей, воевода нередко задевал даже именитых купцов, силу и цвет города.
«…А слуги наместниковы во дворах и амбарах наших замки сбивают и силой берут на воеводу товары всякие и денег не дают, – жаловались полочане в своей челобитной великому князю Александру Литовскому. – А еще бьем челом тебе, великий князь, на того наместника твоего, ясновельможного пана Станислава Глебовича, что когда ладим мы струги в Ригу, то незаконно берет он по десять грошей с нас да свою золу кладет, а мы ту золу воеводскую повинны в Риге на соль менять и ему, воеводе, соль привозить на продажу. А кто ослушается, с того пени берет. По десять рублей грошей. А что издавна ведется у нас, в Полоцке, самим мещанам мостовые мостить, по пять топорищ со двора, так мы сие исправно блюдем. А воеводские люди ходят ночью по улицам и мостницы новые сдирают и потом берут с каждого двора по грошу пени. Построил воевода новую колоду, бросает туда мещан полоцких вольных и, хотя бы и неправильно было, требует от них выкупа и тогда выпускает…»
К челобитной приложили руку именитые купцы города Полоцка да старшины цехов, и великий князь осерчал на воеводу.
Станислав Глебович затаил на полочан глухую злобу. Приезжие купцы знали об этом и видели в действиях воеводы вред не только городу Полоцку, но и тем, кто уже много лет вел с Полоцком честный торг. Сократив ярмарку, Глебович как бы отгонял от Полоцка иногородних торговцев.
Проведя в праздности весь субботний день под стенами города, ночью люди шепотом поверяли друг другу свои жалобы. Говорить громко боялись. Между возами и палатками то и дело шныряли податные в сопровождении вооруженных латников. Едва пожилой купец отошел от костра, как перед беседующими выросли фигуры двух стражников, сопровождавших тщедушного писаря со свитком в руках.
– Добрый вечер, люди торговые! – молвил писарь насмешливо. – Что же, хватило вам времени, дабы товарец свой подсчитать да прибытки прикинуть?
– Неча бога гневить, времени хватило, – ответил купец в меховом кафтане. – А не слыхал ли, пан писарь: завтра в Полоцке заутреню аль обедню служить собираются?
Писарь понял шутку и, хихикнув, ответил:
– Которые быстро управятся, поспеют и к заутрене. А которые могут и ко всенощной опоздать… Дел будто немного. Ясновельможный пан воевода только и спрос чинит, что самую малость… По рекам новая мыта. Не ты ли староста будешь от новогородцев приезжих?
– Нет, – ответил купец. – Мы нынче из Торопца. По Двине пришли. Читай, что за мыты с нас…
Писарь поднял свиток и, косо взглянув из-за него, ответил с улыбкой:
– Самая малость… Дани грошовой чуть-чуть… Да бобров, куни
немного, да восковых грошей, да медовой дани, как и летось было.
От костра поднялся Петр и, подойдя к писарю, гневно спросил:
– Стало быть, покуда эту мыту не соберут, ворота на запоре?..
– Милый ты человек, – с улыбкой посмотрел на него писарь, – а пошто запорами бряцать впустую?.. Чай, не твои горшки-черепки пересчитывать, а воеводское дело править…
Петр сжал кулаки, но его опередил купец в меховом кафтане.
– За нами, пан писарь, задержки не станет, – сказал он ласковым голосом. – Надо так надо. Другая забота у нас. Товарец на подъем тяжел, а сложили от ворот в стороне. Гляди, утром мимо нас купцы не прошли бы.
Писарь хмыкнул и, оглянувшись на стражников, отошел с купцом в темень.
Всю ночь собирали воеводские люди свою жатву. Где прижимали на податях, где полюбовными взятками: за место к воротам поближе или за обмер товара без выгрузки. Мелким ремесленникам и крестьянам нечего было и думать о сделках со сборщиками. Вся их предстоящая выручка не могла равняться тому, что брал воеводский сборщик.
Зато высокомерные шляхтичи, окруженные слугами, пробивавшими им путь через табор, подводили свои обозы прямо к воротам. Ворота раскрывались, и шляхта безданно, беспошлинно мимо сотен завистливых глаз въезжала в город, разрезая тьму улиц колеблющейся змейкой факелов и нарушая тишину громким говором и смехом.
Купцы и крестьяне, тая обиду, шепотом сообщали друг другу:
– Опять бумагу великому князю Александру Литовскому… не то пишут, не то написали уже.
– Есть, есть та бумага, – уверял кто-то. – Всем миром подписана. Нынче на ярмарке появится верный человек, отвезет ее великому князю.
Говорили, что человека этого уже видели, но просили никому про то не сказывать.
– Гибнет, гибнет славный град Полоцк! – вздыхали в третьем месте. – Видано ли! Уже и купец воеводе не в счет. А на чем земля сия держится, как не на ярмарках…
Слух о новой челобитной дошел и до воеводы. Оттого на ярмарке и по всему городу шныряли его соглядатаи.
Смутно было на душе у людей. В тихом ропоте да тревожных беседах проводили они ночь под стенами города.
Но как ни томительна и как ни длинна была туманная ночь, утро наступило в положенный час. Первыми почувствовали приближение дня горластые петухи, привезенные в корзинах; едва возвестили они о рассвете, как замычала, заблеяла, закудахтала остальная живность. Люди смотрели на восток, и перед ними, как по знаку волшебника, раздвигалась и уплывала поредевшая кисея тумана. Над заблестевшими водами Западной Двины поднималось чистое солнце. С высоких городских башен прозвучали трубные сигналы. Сторожа распахнули ворота.
Освещенный утренним солнцем, город был прекрасен. Башни замков и купола храмов казались обновленными свежей позолотой. Даже деревянные стены, влажные от ночного тумана, сверкали на солнце дорогим металлом. Вокруг города шумело и волновалось разноцветное море повозок, телег, мачт и вымпелов.
Полочане вышли из своих домов встречать гостей. Хозяева лавок и складов спешили к городским воротам, торопясь перехватить купцов с нужным товаром. Сынки зажиточных мещан и купцов, еще не приставленные родителями к делу, наряжались в свои лучшие платья, подвязывались пестрыми поясами и отправлялись на поиски ярмарочных развлечений. От одной из таких веселых компаний отделился юноша. Высокий, ладный, широкоплечий, он свободным, немного торопливым шагом поднялся на гребень земляного вала. На юноше был легкий кафтан, из-под которого виднелась белая полотняная рубаха с расшитым воротничком. Домотканые штаны заправлены в мягкие сапоги татарского образца. Голову покрывала сдвинутая к левому уху аккуратная магерка, из-под которой выбивались русые пряди волос.
Стоя на валу, Георгий – так звали юношу – смотрел в сторону реки. Сотни байдаков, стругов и малых долбленых лодок-душегубок приступом брали причалы. Особенно оживленно было у Двинского перевоза и возле невельской брамы.
Сюда устремлялись с Заречья, со стороны Кабака (так называлось предместье, что над рвом у дороги), с Ильинской улицы и от Паркана. Река, делившая город надвое, скрылась под множеством перевозных плотов и лодок. Трудно было понять, где кончается река и где начинается берег. Торопливо выкатывались бочонки, выгружались тюки и корзины, поднимались садки свежей рыбы. Юноша посмотрел в другую сторону.
На Замковой горе, выступавшей между Полотой и Двиной, возле старых княжеских хором и Софийского собора, шляхтичи уже разбили свои шатры, заняв почти весь плац. Оттуда доносились звуки музыки и пьяные выкрики. Справа за Нижним замком, там, где на берегу Полоты белела новая мельница одноглазого Петра Корсака, сбились в пеструю крикливую толпу крестьяне. Стражники теснили их к пустырю, на Вознесенскую улицу, пропуская вперед купцов и богатых гостей. Со стороны видневшегося за лесом старинного монастыря княгини Ефросиньи тянулись на ярмарку монахи. Их обгоняли всадники, крестьянские телеги, скороходы. Казалось, город не сможет вместить всех этих людей, повозки, тюки, корзины, а они все прибывали и прибывали. Шли с воды, шли с суши. Полоцк встречал гостей со всех четырех сторон.
Серая площадь возле городской ратуши наполнилась неумолчным гулом. Прилавки торговых рядов покрылись яркими пятнами ковров и материй. Возле гостиного дома приезжие купцы разложили образцы своих драгоценных товаров.
Распахнулись двери кабаков, и всем известный пьяница Якубка принял первую даровую чарку от кабатчика на удачный почин.
Ярмарка началась.
Георгий любил дни полоцких ярмарок. Трижды в год приходил он сюда любоваться красотой и силой своего города. Трижды в год видел, как встречались здесь люди из разных земель. Приплывали по Двине рижане. Приезжали важные московские гости. Прибывали купцы польские и немецкие. Привозили разноцветные сукна, пряности. Снабжали полочан железом, медью. Взамен получали изделия хитрых умельцев.
Полоцкие ремесленники славились резьбой по дереву, тканями, выделкой мехов и тончайшей ювелирной работой. Кузнецы, кожевники вывозили на ярмарку свои рукоделия, гордясь тем, что крепче и острее, чем у заморских мастеров, их топоры, легче и узорней стремена, красивей уздечки и прочнее сбруя.
Гончары выставляли хрупкие пирамиды разноцветной посуды, расписанной красками, сваренными из тайной болотной травы и кореньев, такими стойкими, что не стирались и не тускнели они долгие годы.
Полоцкие купцы сбывали лен, пеньку, смолу, воск, мед и золу, сплавляли стройный хоромный лес, продавали хлеб и крупу. Торговля шла живая, веселая. Расцветал тогда Полоцк.
Георгий жадно слушал рассказы приезжих, многое узнавал о чужих землях и обычаях и не раз в мечтах побывал за далекими морями. Видел Георгий, как текли в Полоцк богатства и город рос из года в год. Не было ему ровни в ту пору чуть ли не на всей белорусской и литовской земле. Беднее была Вильна, бедней Минск. Тянулся Полоцк к самому господину Великому Новгороду. Торговля шла крупная. Полочане сбывали воск штуками, не меньше как полуберковцами,
закупали меха большим счетом – сороками. Торговать в розницу в эти дни было запрещено. Розничная торговля разрешалась только владельцам лавок в самом городе. Приезжий купец товар свой должен был сбывать оптом и тем не чинить урона в торговых делах полоцким мещанам.
В дни ярмарок купцы прибегали к разным хитростям и уловкам, не брезгуя и обманом. Не раз слыхал Георгий, как его отец, уважаемый и именитый купец Лука Скорина, хвалил старшего сына Ивана за ловкий обман. «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», – весело говаривал отец. Но, держась старых обычаев, угощал обманутого и одаривал, не видя в том для себя урона.
Вспомнив о покойном отце, Георгий невольно повернулся в сторону Батечковой улицы. Там, возле самого рынка, возвышался его дом, крытый новым гонтом, с резными ставнями и широким рубленым крыльцом. Георгий увидел, как на крыльцо вышел брат Иван и, размахивая руками, что-то говорил покрученику,
вероятно ругал его за нерасторопность. Покрученик стоял, низко опустив голову, теребя в руках свою засаленную магерку.
Все здесь было знакомым и привычным. Не раз Георгий видел, как по ступенькам этого крыльца сходил отец, садился на коня и надолго уезжал по торговым делам. За отцом тянулись обозы кисло пахнущих шкур и дубленых кож. Потом отца сменил брат, а дом продолжал свою привычную жизнь: богател, наполнялся свидетельствами купеческой удачи, обрастал новыми пристройками амбаров и кладовых. Дом был центром и смыслом жизни семьи.
– День добрый, купецкий сын.
Георгий обернулся. Перед ним стоял, вытянув шею, низенький человек в линялом потертом подряснике. Безбровое, обезображенное оспой лицо его улыбалось.
Георгий неохотно ответил: «Добрый день»… – и начал было спускаться по земляным ступенькам вала, но человек, подпрыгнув, пошел рядом.
– Дивлюсь я, – заговорил человек, словно продолжая прерванный разговор. – Кругом такое веселье, а панич один, как бусел,
стоит… Что бы то значило? Может, у него горе какое или печаль по ком?..
– Ни печали, ни горя нет у меня, – сухо ответил Георгий, ускоряя шаг.
– И то бывает, – не отставал человек. – Бывает, что совесть нечиста, неспокойная душа грех таит… Боязно тогда среди людей находиться…
Георгий остановился и посмотрел прямо в безбровое лицо допытчика.
– Совесть моя чиста, и греха на мне нет… Зачем спрашиваешь?
– А бумага челобитная? – рывком приблизившись к Георгию, тихо спросил человек.
Георгий не понял:
– Какая бумага?..
Человек, не мигая, смотрел в лицо Георгию.
– Кому же бумаги писать, как не грамотею известному, купца Луки сынку? В славянских литерах всех превзошел, да и латинские, бают, осмыслил. А какая польза от грамоты, коли бумаг не писать? По указке старших писал, нам то известно, стало-ть, грех не велик. Да тайна, тайна грех умножает! Вот то и мучает. Так, что ли, панич?
Георгий все еще не мог понять, чего хочет от него этот человек, но разговор казался ему оскорбительным. С трудом удержал он желание ударить безбрового. Он мог бы легко поднять на воздух этого плюгавенького человека и швырнуть его вниз, в крепостной ров.
Безбровый, вероятно, почувствовал это и попятился, не отрывая пристального взгляда от смуглого лица широкоплечего, рослого хлопца. Но Георгий сдержал себя.
– Не пойму, к чему речь клонишь. Никаких челобитных мной не писано…
– А на валу для чего стоял? – в упор спросил безбровый, снова осмелев. – Кого высматривал? Можешь ответить?..
– Нет, – машинально ответил Георгий. – Этого сказать не могу…
– Не можешь! – обрадовался безбровый. – Сказано – связано. Нам известно, какого человека высматривал, какие бумаги писал…
Георгий вдруг понял, что перед ним был один из воеводских соглядатаев. Лукавая мысль мелькнула у юноши. Наклонившись к безбровому и взяв его за плечо, он сказал таинственным шепотом:
– Сказано – связано, да язык у тебя без костей. Челобитную ту, поди, уже сам пан воевода читает, а мне повелел на валу стоять да счет вести…
– Какой счет?.. – растерянно спросил безбровый.
– Таких, как ты, дурней считать, что челобитную не могут найти. – И, засмеявшись, Георгий круто повернулся на каблуках, быстро зашагал прочь и скоро смешался с ярмарочной толпой.
Безбровый с досадой плюнул ему вслед.
Проходя мимо торговых рядов, Георгий заметил, что торговля шла не так, как обычно. Не было слышно веселых прибауток и азартного спора между продавцами и покупателями. Купцы не зазывали друг друга в гости, а торопливо старались сбыть товар и запастись необходимым.
Сокращенная волей наместника, ярмарка лишилась праздничной торжественности и степенности. Сборщики податей шныряли меж возов и прилавков. Без счета и меры отнимали они воеводскую долю, особенно свирепствуя возле мелких купцов и крестьян. Иногда это походило на грабеж. То там, то здесь слышны были жалобные голоса:
– Подивитесь же, люди добрые! Я со всего товару того не выручу, что с меня спрашивают.
– Еще и брешет, лайдак поганый!
Грубая ругань воеводских людей слышна была в разных местах ярмарочной площади. И только возле гостиного двора, в рядах иностранных купцов, по-прежнему кричали толмачи-зазывалы, приглашая полочан полюбоваться на невиданные заморские товары.
Штабели разноцветных сукон и цветистые поляны ковров сменялись галереей плетеных коробов и открытых мешков, наполненных ослепительно белой солью. Горела на солнце медь, сверкали цинк, олово; звенели пилы, топоры, гремело железо. Порой этот участок ярмарки напоминал огромную и веселую кузницу. Из шатров и полотняных палаток струились острые запахи миндаля, терпких вин, мускуса.
На чистых, украшенных цветами и ветвями прилавках лежали груды пряных кореньев, стояли высокие жбаны, наполненные лущеными орехами.
На торгу было шумно, и казалось, что отсюда, как прежде, разольется по всему городу ярмарочное веселье и всю ночь, до зари, будут раздаваться на широких площадях и в глухих переулках хмельные песни и буйные раскаты молодого хохота.
Но Георгий видел, как неодобрительно качали головами купцы, шептались с полочанами и с опаской косились на воеводских служителей.
Возле рыбных рядов Георгия обдало знакомым запахом речной тины. Дорогу преградила толпа, следовавшая за телегой, запряженной парой крестьянских коней.
Тяжко дыша, кони остановились. Георгий, пробившись через толпу, увидел сначала рыбака Ефима, потом его добычу.
На небольшой телеге лежал сом, от хвоста до головы которого было более сажени. Сом был покрыт слизистой тиной, и на его огромной шее черными пузырями шевелились раздувшиеся пиявки. Тупорылая голова опутана водорослями, а открытая пасть показывала мелкие, густо посаженные зубы.
– Чудище, прости господи… Такого ни дед, ни отец мой не видывали, – говорили люди вокруг.
– А умеет эта рыба-кит людей, например, заглатывать?..
– Людей!.. У него глотка с кулак, не более.
– Это же в какую такую сеть заполонили?..
– Да не в сеть. Такого разве сеть удержит… Отравленный он.
Рыбак Ефим, до сих пор молча слушавший, вдруг оживился:
– Какая отрава? Кажу, в тине запутался, на мелководье. А мы острогой подсобили.
– Мы за ним еще летось следить начали, – добавил Ефимов сын, чернобородый богатырь, стоявший возле коней. – Выжидали, покуда в эти места выйдет.
– Ай да дед, ну и ловок!.. – восторгались зрители. – Сколько ж теперь за него спросишь?
Старый рыбак растерянно посмотрел на сына и ничего не ответил.
– Такого зараз не продашь, на пуды рубить надо, – заметил кто-то из толпы.
– Зачем рубить? – выкрикнул прибежавший Якуб, который был с утра уже навеселе. – Тут надо советников собрать. Пускай всем миром откупят, хребтину из него вынут и на подпорках на высоком месте поставят. Чтобы каждый мог подивиться, какой зверь в наших реках бывает. А из его мяса уху сварить. На весь город уху!
Веселое оживление всколыхнуло толпу. Мысль об ухе показалась вполне осуществимой. Но обсуждение предстоящего пиршества прервал голос молчаливого и мрачного Ефимова сына.
– Десятый он у нас, – сказал богатырь чуть охрипшим басом.
– Десятый?.. – переспросил Якуб.
Все замолчали, глядя на деда Ефима, лениво смахивающего мух, облепивших рыбу.
– Его у нас кнехты
за десятину взяли, – объяснил старик.
Теперь к ловцам уже относились не с завистью, а с сочувствием. Все хорошо знали право полоцкого наместника взимать в свою пользу с рыбака или торговца каждую десятую рыбу и все не раз видели, как при подсчете в умелых руках сборщиков десятой всегда оказывалась самая крупная, самая дорогая добыча.
– Ни рубить, ни варить вам не придется, – с горькой обидой произнес младший рыбак. – Пану воеводе к столу везем.
И ударил вожжами по лошадям.
Сом мотнул головой, брызнув зелеными каплями. Колеса заскрипели по песку. Хвост рыбы волочился за телегой, оставляя широкий след.
– Вот тебе и уха на весь город… – тихо заметил пожилой мещанин.
– Ан тут как раз одному достанется… И не подавится! – добавил другой.
– Снится тризница, а как проснется, все минется. Вот так у нас…
Толпа медленно расходилась, сразу потеряв интерес к небывалой добыче. Только один пьяный Якуб продолжал идти рядом с рыбаками, разгоняя мальчишек грозным криком:
– Грибок, набок! Боровик едет!
Георгий медленно повернул к дому.
«Как богата и щедра земля, – думал юноша, пересекая площадь. – Какие удачи ждут ловца в реках и озерах ее!.. Сколько зверя и птицы таится в лесах!.. Иди, человек, собирай дары земли своей и живи в труде и радости!.. Но что посеяло кривду в сердцах людей? Почему не могут они защищать добро от зла и жить законами праведными? Нет, видно, еще не до конца создан мир, и недаром говорил поп Матвей, что вот уже идет седьмая тысяча лет, а мы все еще находимся в хаосе. Еще длится час творения мира, и земля не отделена от воды вполне…»
На краю площади, окруженный почтительной толпой, сидел известный всему Полоцку слепец Андрон. Рядом с ним стоял босой поводырь, мальчик лет двенадцати. Оба – старик и мальчик – пели, подняв лица к высокому июльскому небу. Песня была серьезная, немного печальная, как все, что пережило века.
Ужаснися, человече,
И слезися своим сердцем,
Что душою помрачился,
Потерял себя ты ныне,
Во гресях своих
Отложи свои забавы
И утехи сего мира,
Не отдайся в рабство вечно,
Не теряй своей свободы.
Голос певца обрывался в гневном речитативе и снова поднимался высокой, дребезжащей нотой. Песня плыла над толпой.
Глава II
Не было в далекие лета на белорусской земле ярмарки или другого какого народного сборища, чтобы не пели там песни старцы-слепцы. Приходили они издалека. Щупая посохом пыльный шлях, держась за плечо мальчика-поводыря, входили в многолюдный торговый город и, выбрав тихое место, садились где-нибудь возле забора, в тени дерева. Старческие пальцы касались струн лиры
или цимбал, и на голос их собирался народ… Слушали жадно, неотрывно, в грустных местах плакали, переживали вместе с героями песни их поражения и победы. Слова песни просты, знакомы всем. Неторопливо ведет свой сказ певец, и песня его легко и быстро прокладывает путь к сердцам людей.
Слушают песню, как горячую проповедь. Умолкнет певец, а песня еще живет. Люди примеряют жизнь свою к старческим сказам. Верят им. Певца берегут не за красоту голоса, а за чистоту сердца, за мудрость и бесстрашие. Пели старцы о горе народном, о воле. – Где ж она ныне, воля наша? – заговорили в толпе, едва умолк Андрон. – Кажи, старче. Певец глядел поверх толпы белыми, незрячими глазами. – Вот вы стоите передо мною, а я не вижу вас… – Слепой… – тихо сказал кто-то в толпе. – И вы слепы! – вдруг ответил старик. – Правда стоит рядом, воля у порога, а вы не ведаете, как добыть ее. Жизни своей не видите… Старик замолчал, словно всматриваясь в даль. Мальчик-поводырь встал на ноги, и его юное лицо приняло задумчивое, печально-торжественное выражение. Люди притихли, ожидая слова старика с уважением и трепетом. – Расскажи нам про жизнь нашу… Скажи притчу, старик… Андрон медленно, как бы вспоминая, провел рукой по струнам лиры. – Чую, чую… – заговорил он тихо, нараспев. – Бежит конь, как на крыльях летит. Сидят на том коне хлопчик малый и батька старый. Минуют они города и села, долины и реки, озера, боры и пущи. Прилетели аж на самый край света. Нигде живой души не видать. Поле и поле, а как поглядит хлопчик по сторонам, очи закроет, до батьки тулится. Батька его утешает: «Тихо, тихо, сынок. Гляди, не зажмуривайся. Гляди вправо, гляди влево… А по правую руку болота без конца, без края. А по левую руку смоляные реки и озера. Смола огнем горит, кипит…» Стало хлопчику невмоготу. Просит батьку вернуться. А конь все бежит и бежит. Дорога в гору пошла, и, покуда глазом охватить, стоят люди в тех смоляных озерах, мучаются. А вот на бугре люди на себе землю пашут, каменья выворачивают. Отворотят пласт, а он снова на свое место ложится. Камни, как грибы, растут на их пашне… – Господи! – вздохнул кто-то в толпе. – А стоят обок пахарей столы. На столах яства и питье. Грешным и пить и есть дуже хочется, рвутся к столам, да достать не могут. Цепь не пускает… Конь бежал, бежал и на колени упал. Слезли тогда батька с сыном. Взял старик за руку малого хлопчика, ведет дальше и спрашивает: «Что же ты видел, сынок, что же ты узнал?» Андрон сделал паузу, и в напряженной тишине неожиданно прозвучал дребезжащий голос мальчика-поводыря: – Много я видел, татулька, да мало я знаю… Скажи мне, что за люди мучаются там, по правую руку? – Это грешники, – ответил ему Андрон. – При жизни не работали, чужой пот, кровь сосали, на боку лежали. Зато теперь тут каменья ворочают, а упадут – гады их кровь сосут, тело точат. Какие поступки, такая и кара. – А за что, татулька, люди языками горячие сковороды лижут? – За то они лижут, что долгий язык имели. Лгали, понапрасну клялись. За неправду присягали. Людям зло причиняли. Такая им и казнь. – А то вижу я людей, – продолжал испуганно и жалостливо спрашивать поводырь, – что сырую землю жрут. Давятся, кровь изо рта течет. Почему так? – А потому так, – сурово отвечал певец, – что всего этим людям было мало. Богатство собирали, чужое заедали, бедных обижали, землю забирали… А что есть богатство? Земля, не что другое. Пускай жрут ее. Какая заслуга, такая и награда… – Еще вижу я людей, сами с себя шкуру лупят, мясо на куски разрывают, солью посыпают. Чем они провинились? – Они с бедного последнюю сорочку срывали. Вдов, сирот забижали… Пусть знают, как солоны сиротские слезы. – А то видел я – на себе люди сохой пашут. Новину поднимают. А земля каменистая, тяжелая. По бокам – столы с едой стоят, люди голодом мучаются, а достать не могут. Чем заслужили они такую муку? – Эти люди: воеводы, бискупы,
цивуны и маршалки.
Они народ мордовали… И в будни и в свято. Ни хворого, ни здорового не разбирали. Жалости, милосердия не знали. Сами вкусно ели, сладко пили. Убогих не дарили, голодных не кормили. Пусть же испытают, как голодать, холодать, каменья пахать. Одобрительный гул послышался вслед за ответом слепца. Окружающие готовы были уже сравнить свою жизнь с услышанным, но Андрон поднял руку, требуя тишины. Мальчик продолжал: – Коли ж ты все знаешь, так скажи ты мне, татулечка, кто и за что в смоляных реках, озерах кипит? Дуже они стонут, зубами скрипят. – Эта кара самая наибольшая, – ответил слепец. – Кипят в смоле гайдуки, слуги панские, и мужики, что панам продались. Своего же брата выдавали. За народ, за правду не стояли. Последнюю скотину у мужика для пана отбирали, по миру бедовать пускали. Соседей от врагов не обороняли. И нет им ни дна ни покрышки. Что посеяли, то и пожинают, по заслугам плату принимают. Мальчик закрыл лицо руками и будто всхлипнул: – Этих мне жалко, татка. А не можно их спасти? – Нет, – печально ответил Андрон. – А коли ты такой жалостливый, то и спасай людей, которые своей правды не видят… Ходи по селам и по городам. Не минуй ни одной хаты бедной. Убогих учи, давай пример. Чтобы были они между собой добрыми. Друг друга бы не обижали, чужого не брали. Своего брата панам не выдавали. Русских людей вместе собирали. Открывай очи посполитым людям. Научай различать правду от кривды. – О какой кривде говоришь? – раздался вдруг голос. Протиснувшись вперед, в круг вошел безбровый. – Очи мои открыты, где увидеть ее? – спросил он, вытянув шею. Андрон повернул к нему лицо и ничего не ответил. Мальчик-поводырь испуганно прижался к старику. Окружающие молчали, не понимая, что хочет этот невесть откуда взявшийся человек. – Молчишь, сова? – крикнул безбровый. – А того не знаешь, что твои слова смуту сеют? – Эй, человече! – вступился молодой гончар Петр, что провел ночь у костра под стенами города. – Отойди, мы про свою беду песню слушаем. – От таких песен душегубство по княжьей земле идет! – огрызнулся безбровый. Вокруг зашумели. Обступили безбрового, заговорили: – Иди своей дорогой! Чего пристал к старику? Откуда такой? Безбрового потихоньку выталкивали из круга. – Кто ты есть, что мирным людям слушать мешаешь? Иди! Иди! – Не тронь! – сопротивлялся безбровый. – Гляди, не было бы худа. – Воеводский он! – крикнул стоявший в толпе Георгий. – Знаю, что он из раю, да как зовут, не знаю, – ответил Петр и толкнул безбрового так, что тот растянулся на четвереньках. Толпа захохотала. – Пускай таким чином до своего пана скачет. – Спасите! – закричал безбровый, вскакивая. – Убийство! Гей, стража! – побежал на середину площади. Толпа возле певца быстро стала редеть. Петр оглянулся на подошедшего Георгия. – Уходи, парень. Теперь добра не жди… И точно. На площадь со всех сторон сбегались воеводские стражники. Не пытаясь уяснить причину крика, они обрушили свои плети на спины первых же подвернувшихся людей. Полетели на землю лотки с мелким разносным товаром, зазвенела посуда. Площадь огласилась воплями зазевавшихся. Старый певец по-прежнему сидел на своем месте, держа на коленях умолкшую лиру, и, высоко подняв голову, прислушивался к крикам и шуму. Мальчик-поводырь испуганно тянул его за полу свитки и дрожащим голосом просил: – Деду, бежать надо… бежать!.. Но было уже поздно. Безбровый подскочил к слепцу, рванул его за ворот. Старик невольно поднялся, взмахнул руками. Лира скользнула вниз и застонала на камнях мостовой. – Вот он! – кричал безбровый. – Вяжите его, грабителя! И щенка его вместе… В колоду! Георгий шагнул к безбровому: – Пусти! – Ага, и ты тут… – Безбровый пытался схватить Георгия свободной рукой. – И тебя прихватим… Георгий размахнулся и… р-раз! Безбровый полетел на землю. – Убивают!.. – закричал он дурным голосом, захлебываясь кровавой пеной. – Хлопца моего спасите… – просил старик. – Люди добрые, хлопца моего!.. – Всех хватайте, всех. И купца Скорины сынка… Юрку, душегубца… – вопил безбровый, боясь приблизиться. Георгий оглянулся. За ним был высокий дощатый забор с узкой калиткой. Схватив перепуганного мальчишку, Георгий бросился к калитке. Двое стражников уже вцепились в Андрона. Георгий, с разбега ударив плечом в калитку, выбил деревянную щеколду и свалился в какой-то сад, увлекая за собой мальчика. Из глубины сада, гремя цепями и оглушительно лая, навстречу им бросились две собаки. Георгий вскочил на ноги и, быстро подперев калитку тяжелым колом, загородил собой мальчика. Собаки кидались, хрипя и давясь в ошейниках. Прикрывая мальчика и не сводя глаз с собак, Георгий медленно подвигался вдоль забора. Собаки неотступно преследовали их, казалось вот-вот готовые сорваться с цепей. На площади продолжалось неистовство. Кто-то уже колотил сапогами в запертую калитку. Крепко сжав руку мальчика, Георгий бросился в глубь сада. Возле соломенного шалаша стоял маленький горбун и спокойно смотрел на беглецов, прикрываясь от солнца длинной белой рукой. Эта мирная фигура была так неожиданна, что Георгий остановился. Калитка затрещала под яростными ударами. Горбун молча показал Георгию на кусты крыжовника в углу сада и направился к калитке, ласково успокаивая собак. Беглецы бросились к кустам. С трудом пробравшись сквозь колючие ветки, они очутились возле высокой каменной ограды. Быстро осмотрев ее, Георгий заметил поросший полынью лаз, прикрытый замшелым камнем. Он отбросил камень и полез под ограду. За ним последовал мальчик. Георгий хорошо знал такие лазы, тайно вырытые мальчишками под оградами чужих садов. Не раз ему удавалось таким путем пролезть на животе под носом задремавшего сторожа. Но это было совсем непохоже на то, чего ожидал юноша. Пора уже было выбраться на улицу или в соседний двор, а беглецы все еще ползли в темноте, меж сырых стен узкого подземного хода. Георгий остановился и, протянув руки, нащупал маленькую, обитую железными полосами дверь. Он легонько толкнул ее, и дверь отвалилась, глухо ударившись о стену. – Дядя! – послышался испуганный голос мальчика. – Тут я, – отозвался Георгий. – Ползи сюда! – Боюсь, – шептал мальчик, всхлипывая. – Темно тут… – Не бойся, – ласково сказал Георгий, еще не решаясь ползти дальше. – Скоро выберемся. Тебя как зовут? – Янка, – прошептал мальчик. – А дедушка? – Дедушка?.. На-ка вот, Янка, держи конец пояса. Намотай на руку и не отставай. Нужно далее идти. Ощупывая каждый выступ, Георгий полез в дверь. Янка больше не плакал. Он покорно полз за своим покровителем по каменным ступенькам, уходившим вниз. Георгий выпрямился. Янка сейчас же вцепился в него дрожащими руками. Затхлый запах сырой земли и плесени ударил им в нос. Под ногами мягко крошилось истлевшее дерево. Георгий осторожно двинулся вдоль коридора, вытянув вперед руку. Коридор круто заворачивал вправо и дальше разветвлялся на два одинаковых хода. Какой из них выбрать? * * * У полоцкого воеводы Станислава Глебовича был гость. Старый его приятель, воевода трокский Ян Забржзинский, приехал к Глебовичу отвести душу на псовой охоте. Когда-то Забржзинский сам был полоцким воеводой, и его тянуло в эти места. – Сердце мое привело меня сюда, пан Станислав, – говорил маленький, подвижной и вечно подозрительно глядевший на людей Ян Забржзинский, обнимаясь с тучным, громко хохочущим, краснолицым Глебовичем. – Как в родной дом, до твоей милости рвался… – Нет большей радости для меня, драгоценный пан Ян, – отвечал Глебович, вытирая белесые, навыкате глаза. – Нет большей радости… Но Забржзинский приехал не просто в гости. Была у него и другая цель. Ему было поручено разузнать, верно ли писали полоцкие купцы и ремесленники великому князю о бесчинствах Глебовича и не угрожает ли это новым возмущением. Но пан Ян и не думал тратить драгоценное время на расследование. Он составил себе мнение о полочанах еще в бытность здешним воеводой и больше заботился о том, как выручить своего друга, а заодно и славно погулять. Забржзинский знал веселый нрав пана Станислава, знал пристрастие его к вину и помнил, что по этой причине приключился со Станиславом Глебовичем великий конфуз. Приехав в Москву с посольством от князя Литовского Александра, пан Станислав так упился сладкой романеей, что выболтал хитрому московскому боярину Ноздреватому секретные свои поручения. Был за то пан Станислав изрядно руган своим государем и отстранен от двора. Скучал и злобился опальный воевода. Мало кто навещал его. Но Ян Забржзинский не забывал, что, как-никак, Глебович принадлежал к числу важных магнатов. Он да Николай Радзивилл, воевода виленский, да князь Острожский, да Михайло Глинский, да еще Станислав Кишка, наместник смоленский, – вот она, истая знать государства Литовского. Это Забржзинский посоветовал пану Станиславу отомстить полочанам за челобитную и, сославшись на туман, запереть городские ворота на весь первый день ярмарки. Пан Станислав был рад гостю и принял его по-королевски. Воевода был богат. Подневольная челядь и пригонные люди отбывали барщину на воеводских полях. Купцы и горожане несли в замок подать мехами бобровыми и куньими, деньгами и продуктами. В честь именитого гостя воевода велел согнать в замок с ярмарки скоморохов. В обширном зале Верхнего замка под музыку сурм, сопелей и волынок плясали шуты с личинами и харями на головах. Гость и хозяева хохотали, подзадоривая «позорников».
Пьяны были все. Воевода обмахивал веером обрюзгшее, раскрасневшееся от вина и смеха лицо, когда, согнувшись в низком поклоне, к нему подошел служитель. – На площади схватили Андрона, что на лире играет… – доложил он. – Привели на суд твоей милости. Байки про волю рассказывал. – Воля? – переспросил воевода. – Дать ему волю на два локтя, не боле. В колоду его! – и, довольный своей шуткой, повернулся к гостю. Но Ян Забржзинский не согласился с хозяином. – Погоди! – остановил он служителя. – Не гоже певца в колоде держать. Пусть тот лирник сюда придет и покажет, панове, не краше ли он скоморохов поет. – Ой, добре! – весело закричал Глебович. – Нет на свете такого другого выдумщика, как ты, пан Ян… Одеть на бродягу личину! Два стражника вели Андрона по хоромам богатого замка. Они крепко держали его за руки, но певец не сопротивлялся. Он шел легко и свободно, словно не пленник он был, а богатый хозяин, поддерживаемый под руки почтительными наследниками. Легкие седые волосы ореолом сияли над его головой, и прекрасная задумчивая улыбка блуждала по лицу. Он проходил по просторным хоромам, уставленным высокой резной мебелью, сработанной руками искусных мастеров. Шел по коврам, привезенным из Бухары и Хоросана. Мимо стен, на которых висели турецкие ятаганы, флорентийские рапиры, немецкие мушкеты. Мимо выставленной в шкафах золотой и серебряной посуды. Мимо сундуков, ломящихся от дорогого голландского бархата и сибирской рухляди…
Если бы видел старый певец, какое богатство окружало его, он подумал бы, что попал в сказочное царство. Но певец был слеп. Он слышал, как приближались к нему пьяный шум и звук настраиваемых инструментов, и понял, что его ввели в залу, где шло пиршество. Кто-то быстро и неловко стал надевать ему на голову мешок. Андрон сорвал с себя мешок и отбросил его в сторону. В зале стало тихо. Андрон выпрямился. – Пошто привели меня? – сурово спросил певец. Скоморохи попятились. Пан Станислав поднялся с места. Андрон стоял, высоко подняв голову, со строгим и спокойным лицом. Его фигура вселяла невольное уважение и даже страх. Недаром в народе почитали слепых певцов, как неких священнослужителей, а часто и боялись, как колдунов. Никто не ответил. Скоморохи прижались к стенке, испуганно поглядывая то на смутившегося хозяина, то на величественного старца. Тогда Ян Забржзинский встал со своего места. Он поднял отброшенный Андроном наряд с конской «личиной» и хвостом, повертел его в руках и, посмотрев на старика, спросил: – Может, для пана воеводы споешь, старый, песню свою? – Нету у меня, ваша мосць, песен для забавы. Мои песни про горе… – И про волю? – добавил пан Ян. – И про волю, – ответил старик, возвышаясь на целую голову над паном Яном. – О! – вскрикнул пан Ян и, вдруг подпрыгнув, хлестнул личиной по лицу Андрона. Воевода, устыдившись, как бы гость не посчитал его трусом, сам взялся за дело. – Ты что? Мутишь хлопов?.. Сказывай, что поешь?.. – Старые песни, ясновельможный пан, – спокойно ответил Андрон. – Еще отец мой их певал, а он, кажись, от деда выучился. Что люди те песни слушать любят, в том моей вины нет. – Вот ты какая птица! – сказал воевода. – А знаешь ли ты, что я с тобой могу сделать?.. – А что можешь ты сделать? – улыбнулся певец. – В темницу посадишь, так мне и на воле света не видно. Казнить велишь, – я всякий день от бога смерти жду. Я помру, другой мои песни запоет… – О, лайдак! – взвизгнул пан Станислав и, схватив со стола тяжелый серебряный кубок, метнул его в старика. Андрон покачнулся и осел на ковер. Воевода, захрипев, рванул на себе ворот. – Псам!.. Поганым псам киньте! – кричал, задыхаясь, пан Станислав. Испуганные слуги жались к стенам. Они хорошо знали припадки бешеной ярости воеводы и боялись оставаться с ним в такие минуты. Глебович рвал на себе одежды, хрипел и брызгал слюной. Забржзинский схватил его за плечи и пытался удержать бьющееся в судорогах тело. – То напрасно, друже. Напрасно! Но воевода уже ничего не слыхал. Вид его был страшен. Рот кривился в гримасе, глаза закатились, руки рвали и крушили все, что ни попадалось. Забржзинский отскочил в сторону. Скоморохи в ужасе разбежались. Слуги поспешно вытащили Андрона из зала… Во дворе замка старый рыбак Ефим и его сын, привезшие воеводе чудо-сома, видели, как сбросили со ступеней тело певца. Старый рыбак перекрестился и, сказав сыну: «Выезжай со двора, а я зараз», подошел к толпившимся возле Андрона дворовым людям.
Глава III
Прошло уже много времени, а Георгий и Янка все еще плутали по узким темным извилинам подземелья. Мальчик был утомлен, и Георгию приходилось то и дело останавливаться для отдыха. Бесконечные, неизвестно куда идущие коридоры, темнота, таинственные шорохи, внезапно возникавшие то впереди, то позади, начинали пугать его.
Мальчик судорожно уцепился за руку своего спасителя. Казалось, еще немного, и он свалится.
– Давай-ка присядем, – предложил Георгий.
– Давай, – еле слышно проговорил Янка и сел.
Георгий опустился рядом.
– Не тужи, Янка. Теперь уж недолго. Здесь где-то близко улица… люди…
– Надо покричать, чтобы люди услышали, – сказал Янка и, собрав последние силы, крикнул: – Люди добрые-э-э!
Расколотый подземным лабиринтом крик отдался под низким сводом гулким эхом.
– Помогите-э-э! – надрывался Янка.
Георгий почувствовал, что ужас, все больше и больше охватывающий мальчика, передается и ему.
– Люди добрые-э-э!
– Тихо, Янка! Замолчи!
– Помогите-э-э!
Георгий зажал ему рот. Отчаянным рывком Янка вдруг выскользнул и бросился в глубину коридора. Георгий успел догнать его и схватить за плечи.
– Свет! – крикнул Янка. – Гляди, свет!
И точно: из-за угла коридора показался слабый отблеск. От неожиданности Георгий выпустил Янку.
– Свет! – шепотом повторил мальчик. И, засмеявшись, он вытянул руки, как лунатик, и пошел вперед.
Георгий шел рядом.
– Видишь, – сказал он радостно. – Я же говорил, что теперь скоро.
Они не знали, как долго проблуждали по подземным ходам, какое время дня было сейчас и что происходило там, наверху, на просторной солнечной земле. Они видели свет и знали, что это их спасение. Свет приближался, постепенно усиливаясь. Георгий и Янка вошли в широкий, полуовальный колодец.
Дальше идти было некуда. Вверху колодца, под самыми сводами, различалось небольшое отверстие, через которое проникал слабый луч. Здесь когда-то была дверь, теперь заложенная толстыми короткими бревнами и замурованная цементом. Неизвестно зачем верх двери был оставлен открытым, может быть, как отдушина. Цепляясь за выступы стены, упираясь ногами, Георгий дотянулся до бревен и схватился за край отдушины. Отверстие над дверью было достаточно велико, чтобы в него мог пролезть человек. Георгий просунул голову и осмотрелся. Потом полез в отдушину и скрылся.
– Дяденька! – в ужасе закричал оставшийся внизу Янка.
– Тут я, – слабо отозвался Георгий, и из отверстия к Янке просунулась длинная доска. – Держи доску! – командовал невидимый Георгий. – Прислони к стене и лезь.
Янка быстро взобрался по доске.
– Ого, ловко! Ты, верно, ни одному сторожу не попадался, когда за яблоками лазил, – пошутил Георгий, помогая мальчику пролезть.
– Не, – серьезно ответил Янка. – Я по деревам лазил… Мы лыки драли…
– Молодец! Прыгай ко мне!
Теперь беглецы оказались в просторном помещении. Вокруг поднимались каменные стены. Высокий потолок сбегался к середине, образуя небольшой купол, в центре которого находилось закрытое решеткой окно. Такие окна, вделанные в землю, часто можно было видеть возле церковной ограды или у фундамента старинного храма. Сквозь окно пробивался свет.
Первое, что они увидели, был стол, освещенный падающим с потолка лучом. Стол был большой, четырехугольный, покрытый парчой. На столе виднелась груда тускло поблескивающих предметов.
Держась за руки, Георгий и Янка медленно подошли к столу. Перед ними лежали в беспорядке дорогие кубки, лампады, ризы икон, подсвечники, снятые с древков хоругви. Вся эта утварь давно уже не употреблялась. Многие вещи покрылись слоем пыли, но были и чистые, видимо недавно привнесенные.
– Клад нашли, – прошептал Янка. – Ей-богу, клад!
– Тихо, Янка! – строго сказал Георгий. – Тут, видно, церковь…
По рассказам попа Матвея Георгий знал, что с давних времен под православными храмами строились потайные залы и коридоры, чтобы в злой час вражьих набегов прятать в них людей и ценное имущество.
Как бы в подтверждение его догадки сверху донесся звук церковного колокола. Георгий поднял глаза к окну и увидел, что свет окрасился розовым оттенком. По-видимому, звонили к вечерне.
Георгий не ошибся. Помещение, в котором оказались беглецы, было склепом церкви Параскевы. Подземный ход чуть ли не через весь город связывал его с храмом Софии. Когда-то в этих пещерах ютились схимники, охранявшие тайные ходы и молельни. Теперь подземные коридоры частью обрушились, частью были забиты или засыпаны камнями во избежание обвалов. А те, что уцелели, вряд ли были известны многим. Да и надобности в них, казалось, больше не было.
Коридор, по которому пробрались Георгий и Янка из садового лаза в церковный склеп, был лишь небольшой ветвью подземного лабиринта, соединявшего катакомбы двух старых церквей.
Что было теперь в этом склепе? Почему хранилась здесь дорогая церковная утварь? Зачем приносят ее сюда люди? Георгий не мог понять. Всматриваясь в окружающие предметы, он думал о том, как выбраться из склепа наверх. Должна же быть здесь дверь. Но сможет ли он ее открыть и куда она его приведет?
Медленно продвигаясь вдоль стены, Георгий заглядывал в темные углы, отодвинул части разобранного аналоя. Двери не было. Сумерки быстро сгущались. Вдруг где-то рядом заговорили люди.
Георгий затаил дыхание. Шаги и голоса доносились со стороны большого, прислоненного к стене киота. В щелях киота мелькнул свет. Голоса слышались все отчетливей…
– Янка! Янка! Чуешь?
– Что, что?.. – быстро проговорил мальчик, увлеченный разглядыванием церковной утвари.
– Люди!..
– Ага!
Оба бросились к киоту и замерли…
Теперь ясно и четко раздался негромкий голос:
– Упокой, господи, душу усопшего раба твоего…
Янка дрожал так, что слышно было, как стучали его зубы. Но к Георгию вернулась решительность. Обойдя киот, он увидел небольшую нишу, завешенную темным пологом. Георгий шагнул вперед и приподнял занавес.
Посреди маленькой кельи на грубо сколоченном столе лежал покойник. Восковая свеча освещала его. Человек в черной рясе сидел спиной к Георгию, у ног мертвого старика.
– Сокроешь лицо твое – смущаются. Возьмешь от них дух – умирают… в прах свой возвращаются… – читал человек монотонным голосом чуть нараспев.
Запах ладана и печальные слова напоминали Георгию смерть отца и особенный сумеречный свет, окутавший дом в день панихиды.
– Пошлешь дух твой – созидаются и обновляют лицо земли…
Лицо покойника показалось знакомым Георгию. Он осторожно шагнул вперед. Перед ним лежал дед Андрон.
Чтец оглянулся на Георгия и, словно ожидая увидеть его здесь, продолжал читать. Лицо мертвого певца было строгим и величественным. Легкие, скользящие тени от дрожащего пламени свечи проходили по лицу старца, как проходят облака по чистому небу.
Как он попал сюда?.. Что будет, если его увидит Янка?.. Нужно увести мальчика, прежде чем он узнает деда… Но Георгий не мог двинуться.
Он слышал, как кто-то прошел мимо него. Георгий повернул голову. Знакомый горбун уводил Янку, ласково поглаживая по голове и загораживая собой от покойника. Оба маленькие, они поднялись по ступенькам мимо стоявших, смутно различимых во мгле людей.
Послышался тихий голос:
– Подойди, Георгий, простись…
Георгий медленно подошел к покойнику и, как во сне, поцеловал лоб и руку старца. Он смотрел на руки лирника, не отрывая глаз. Кто-то взял его за плечи и увел от стола.
Георгий не видел рыбака Ефима и его сына, мимо которых провели его, не видел молодого гончара Петра и других незнакомых людей, не понял даже, кто его ведет, и только, услышав слова «Отпеваем брата нашего…», узнал попа Матвея.
– Добрые люди к нам принесли, мы же погребение совершим, – тихо объяснил священник. – Тебе спасибо, Георгий, за отрока… Братство наше опеку возьмет. Вырастим в мужа достойного.
Знакомый голос отца Матвея постепенно возвращал его к действительности. Они вошли в дом священника, в комнаты, куда так часто приходил Георгий читать Псалтырь и Часослов, по которым знакомился с грамотой.
Матвей усадил юношу на скамью и сам сел рядом.
– Отдохни! Утомлен небось да и смущен не в меру. Ты ныне многое видел.
Поп Матвей сделал паузу и как-то по-новому, испытующе взглянул в глаза юноши.
– Многие знают о нашем братстве не только в Полоцке. Да мало кому ведомо, что творится в нем, – продолжал священник. – Собрались мы поначалу, как братья. Будто б равно для всех, а теперь, стыдно сказать, бедные нас покидают, богатые только о себе думают… городские купцы на дело наше скупятся, в братстве, как в своем дому, распоряжаются, о поспольстве не думают. Нам же людей к свету вести надобно. Грамоту дать им. Защитить от латинства поганого. Школы нужны. Вот и складываем по крупинке казну братскую. Ты видел один из тайников наших. Никому о том не обмолвись… Поклянись, Георгий.
Георгий повторил за отцом Матвеем слова клятвы.
– Жаден и лют воевода, – снова заговорил Матвей, – всего нас может лишить. А помощь многим нужна, неимущим, убогим… Вот и тебе, Георгий…
– Я не убогий, – возразил юноша.
– Знаю, – ответил Матвей, – да много ли даст тебе брат Иван, коли из дому уйдешь? Говорил я с ним…
Георгий взглянул на священника удивленно и встревоженно.
– О желании своем из дома уйти я с вами тайно делился, – с упреком сказал он, – зачем же брату открыли и… Решение мое твердое. Уговорами никто не удержит. Я уйду! И гроша от брата не попрошу…
Матвей улыбнулся:
– Вон какая сила в тебе! А я не для уговоров. Иди. Только подумай о том, для чего науки постичь хочешь? Не для себя одного, разумею, человек грамоту изучает и не для одного себя постигает науки. Дело твое мы нашим общим считаем. Верю, вернешься в град свой, вместе людей к свету поведем. Будешь в братстве нашем за старшего. Ты и сейчас более многих из нас преуспел. И помощь не токмо тебе, но и от тебя ждем.
– Спасибо, отец Матвей.
Матвей встал, прошелся по горнице, потом спросил:
– Голоден ты? Я велю накормить.
Георгий отказался. Он забыл о голоде, обо всем, что сейчас могло помешать ему разобраться в нахлынувших мыслях. Нужно было остаться одному, обдумать.
Прощаясь, отец Матвей еще раз предупредил Георгия:
– Что видел, что слышал, никому не сказывай. Ни своим, ни чужим. Будет брат Иван спрашивать, помолчи. Он теперь заодно с купцами-старшинами. Мы от них потихоньку дело свое правим… А иной раз и против воли их…
Взволнованный шел Георгий домой. Он и раньше замечал, как с некоторого времени начали появляться в полоцком братстве признаки раскола, скрытой вражды между верхушкой – богатыми купцами, разбогатевшими старшинами цехов – и рядовыми, бедными братчиками.
Отец Матвей, горбун-садовник, Петр-гончар да еще несколько бедных ремесленников понимали задачи братства иначе, чем именитые купцы города. Его брат Иван, как теперь стало ясно Георгию, был в другом, враждебном юноше лагере. Потому и хоронили тайно Андрона, что знали: не захотят купцы-братчики открыто выступать против воеводы Глебовича ради какого-то лирника.
Жизнь предстала перед Георгием в суровом и жестоком своем проявлении.
Шла борьба. Простые люди копили гнев и силу, жертвуя многим ради далекой цели. Георгий был на их стороне… Так мог ли он продолжать жить под одной крышей со старшим братом?
С гордостью думал юноша о том, что его желание покинуть родной дом ради науки теперь приобретает еще новый смысл. Он уйдет в далекие земли, чтобы вернуться сюда. Здесь его будут ждать. Здесь в нем нуждаются.
Напрасно Иван видит в нем малолетнего, неспособного к делу хлопца. Сегодня ему открылось многое…
Он не предполагал, что борьба зашла так далеко, что она привела к тайному сговору внутри самого братства.
Войдя в сени дома, Георгий столкнулся с Настей, женой брата Ивана. Добрая, всегда веселая женщина всплеснула руками.
– Ой, Юрочка, – вскрикнула она, – иди к Ивану скорее!..
Георгий вошел в горницу. Иван, сгорбившись, сидел в углу и едва взглянул на брата.
Ивану Скорине было всего двадцать четыре года, но он казался старше своих лет. Длинное тощее лицо его с русой бородкой, подстриженной на немецкий манер, всегда было серьезным и озабоченным. Он не любил ни праздного веселья, ни пустой болтовни. К торговому делу Иван был привязан с малых лет, а в последние годы жизни отца был ему правой рукой.
– Доброго сына вырастил Лука, – говорили полочане, – не по летам смышлен.
А владелец богатого торгового дома в Познани, немец Клаус Габерланд, издавна имевший дела со Скориной, многозначительно поднимая палец, предсказывал:
– О, герр Иоганн… Большой купец растет!
После смерти Луки Скорины полоцкое купечество радушно приняло его наследника, Ивана, в свою среду. Именитые купцы приглашали его на деловые советы и семейные праздники. Ивана даже выбрали в радцы – советчиком полоцкого магистрата. Стал он и членом церковного братства, примкнув к богатым старшинам. Иван был грамотнее многих здешних горожан, и то, что довелось ему видеть в Новгороде и Гданьске, в Риге и Вильне, не прошло даром. Он заботился и об учении младшего брата Георгия, которого любил и которому теперь заменял отца. Слыша от отца Матвея об успехах Георгия в книжной премудрости, Иван радовался. Но потом поведение Георгия стало его тревожить. Пора бы хлопцу привыкать к торговому делу, ведь скоро он станет его компаньоном, а тот и не думал об этом.
Правда, Юрка (так называли Георгия дома) не отказывался посидеть в лавке или сбегать куда-либо по поручению брата, но Иван замечал, что делает это он равнодушно, без интереса к делу, начатому еще их прадедом. Видел, что Георгий стремится как можно скорее отделаться от поручения и запереться со своими книгами или уйти в монастырскую библиотеку, где нередко он проводил целые дни.
Иван уже давно собирался поговорить с братом, наставить его на истинный путь, да все откладывал этот не очень приятный для него разговор. А тут, будто гром в ясный день, пришли в дом к нему, именитому купцу, заседавшему в магистрате, воеводские стражники. Требовали выдать брата и грозили упрятать его в колоду за буянство и смуту.
Этого Иван стерпеть не мог. Он кое-как уладил дело, сунув конопатому доносчику тугой кошелек, но все же эта история порочила доброе имя и вредила торговому делу, чего Иван боялся пуще всего.
Иван Скорина, как и другие полоцкие купцы, возмущался своевольством Станислава Глебовича и дал свою подпись под известной уже нам челобитной, но, как и другие купцы, подписать вторую челобитную наотрез отказался. Вместе с богатыми старшинами теперь он искал мирного согласия с воеводой.
Когда вошел Георгий, Иван как раз думал о том, что пора положить конец слишком вольной жизни брата.
Георгий поклонился и хотел пройти мимо, но брат остановил его.
– Погоди! – начал он, чувствуя приближающуюся волну гнева. – Подивись, на кого похож стал.
Выглядел Георгий действительно не по-праздничному. Новый кафтан во многих местах порван, сорочка и сапоги измазаны глиной. На лице, потемневшем от пыли, ссадины.
Иван оглядел его злыми глазами.
– Мало я потратил кошту на твое учение, а семье какой прибыток? Что молчишь? Кабы не гроши мои, сидеть бы тебе вместе с Андроном слепым в колоде.
– Иван, – тихо сказал Георгий, – слепца Андрона воеводские люди убили.
Иван помолчал, потом, отойдя к окну, сказал нехотя:
– На воеводе сей грех. А тебе в такие дела соваться незачем. – И снова, повернувшись к Георгию, заговорил горячо: – Отец наш, царство ему небесное, об убогих думал не меньше твоего и себя не забывал. А ты?.. Одумайся, Юрка!
– Отпусти меня, Иван. За наукой… – вдруг сказал Георгий.
– По нашему торговому делу твоей науки станет. Вот, думаю, сладим струги в Ригу, тебя за старшего пошлю. Плыви!.. Там тебе и правда, и наука. Отцовы прибытки умножим и людишкам вокруг кормиться дадим…
– Отпусти меня, брат! – упрямо повторил Георгий. – А коли согласия твоего не будет, я сам уйду…
Иван подскочил к брату:
– Сам уйдешь?.. Не уйдешь! В погреб запру! На хлеб и воду!..
В дверь просунулась Настя.
– Иван! – сказала она ласково. – За что же ты на него? Хлопец с утра не пивши, не евши.
Но Иван был вне себя от ярости.
– Отныне Юрку из дому не выпускать. И с людьми ему не встречаться, пока вся дурь из головы не уйдет! – визгливо крикнул он и быстро вышел из горницы.
Настя с сочувствием смотрела на Георгия. Она знала, что Иван упрям и решений своих не меняет.
– Ой, Юрочка, братик ты мой маленький! Что же теперь будет?
Георгий подошел к ней:
– Постой, Настенька. Расскажи, что тут было.
Настя, продолжая причитать, объяснила:
– Явились к нам воеводские жолнеры,
кабы их мать-земля не носила, а с ними тот конопатый, хвороба ему! За тобой, Юрочка, приходили, кабы им света не видеть.
Оставшись один, Георгий принялся обдумывать свое положение. Больше всего пугала угроза брата засадить его под замок. Это могло надолго задержать отъезд.
Утром, когда Настя вошла в горницу, где обычно спал Георгий, его уже не было. Обшарили весь дом и двор, искали по городу, но так и не нашли. Юноша как в воду канул.
Глава IV
Братство, приютившее осиротевшего Янку, было одним из тех многочисленных обществ, которые в ту пору приобрели большую силу и значение в городах Западной Руси. Эти общества, зародившиеся еще в отдаленные времена, состояли из купцов и ремесленников и вначале носили чисто церковный характер. Они заботились о благолепии церквей, охраняли церковное имущество, которое нередко разворовывалось алчными, нечистыми на руку попами и дьячками, собирали пожертвования на храмы от прихожан. К престольным праздникам «сытили мед», устраивали пиры – «братчины», за круговой чашей обсуждали дела – и церковные, и мирские, торговые. На сходах выбирали старост и судей.
Понятно, что именитые купцы верховодили в таких братствах, ведя дело не без выгоды для себя. Но настали новые времена, и новые помыслы стали возникать в умах городских людей. Нередко церковные братства стали превращаться в зародыши общественных организаций городского, торгово-ремесленного люда, пытавшегося противодействовать произволу землевладельческой знати и через православную церковь влиять на народную массу.
Стремилась к этому и лучшая часть полоцкого церковного братства.
В это тяжкое для белорусского народа время братства стали расширять рамки своей деятельности, заботясь уже не только о благолепии храмов, но о противодействии насильственному насаждению чужой веры, языка и культуры. Конечно, они еще не помышляли о настоящей политической борьбе. Свою главную задачу братчики видели лишь в просвещении посполитого люда, основанном на строго религиозных, православных началах. Однако в условиях того времени и эта ограниченная, скромная деятельность имела немалое значение в деле организации сопротивления феодальному гнету и чужеземному порабощению.
* * * Когда купеческий сын Георгий Скорина вступил в ряды полоцкого братства, его встретили там с радостью. Юноша сразу расположил к себе братчиков серьезностью, сочетавшейся с веселым нравом, успехами в учении, усердием в общественных делах.
Отец Матвей не мог нарадоваться, глядя на своего ученика. Он помог Георгию не только изучить Псалтырь и другие церковные книги, но и проникнуть в тайны творений древних писателей.
В Софийском соборе, в монастыре, хранилось немало старинных книг, знакомство с которыми явилось для молодого Скорины началом его образованности и породило неиссякавшую на протяжении всей жизни жажду новых знаний.
Сама его жизнь в городе Полоцке, шумном, деловом и в то время одном из передовых культурных городов Запада, способствовала быстрому развитию юноши. Частые встречи с иноземцами-купцами помогли ему «научиться говорить по-заморскому», разожгли интерес к чужим землям, к науке.
Скоро Георгий ощутил неудовлетворенность. Познания, приобретенные в Полоцке, стали казаться ему недостаточными. А научиться большему здесь было негде и не у кого. Так постепенно созрело смелое решение: покинуть на время родной город, чтобы потом возвратиться сюда обогащенным глубокой мудростью и отдать ее своим братьям, Руси.
Глава V
Буйный дождь, всю ночь шумевший над лесом, к утру обессилел и прекратился. Солнце уже высоко поднялось среди уплывающих облаков. Их длинные тени медленно переползали через большой наезженный шлях, на котором показался одинокий всадник. Пропитанная влагой почва не принимала больше дождя, в глубоких колеях и впадинах вода стояла сверкающими зеркальцами. Из-под копыт лохматого конька брызгами взлетали клочья отраженных разорванных облаков и голубого неба. Воздух был чист и прозрачен. Птицы вели свой хлопотливый разговор. Все наполнилось той светлой торжественностью, которая всегда сопровождает победу солнечного утра над ненастной ночью. В такие часы уходят тоска и уныние, и путник в неясной радости стремится вперед и вперед. Словно разделяя чувства своего хозяина, маленькая крестьянская лошаденка задорно взмахнула головой и, никем не подгоняемая, перешла на мелкую рысь. Всадник затрясся в самодельном седле, широко расставив локти и подобрав повод. Не сразу можно было узнать в нем Георгия. Сейчас он больше походил на бродячего монаха, чем на сына зажиточного полоцкого купца. От обычной одежды юноши осталась только лихо примятая войлочная магерка. Суконный бурый армяк, какой обычно надевали люди, собираясь в дальний путь, был Георгию явно не по плечу. Свисая широкими складками, он закрывал не только ноги всадника, но и брюхо лошади. Армяк был подпоясан простым плетеным поясом, на котором болтались кожаная сумочка и нож в деревянных ножнах. Георгий был рад одежде, подаренной ему попом Матвеем, веселой лошаденке, вот уже несколько дней бойко бежавшей по лесной дороге. «Свободен! Я свободен!» – повторял про себя юноша, с умилением глядя по сторонам. Эта мысль, казалось, приближала его к цели. Мимо проплывали медностволые сосны. Ветви деревьев роняли радужные капли. Солнечные блики играли на кряжистых дубах. Деревья, трава, цветы – все было красиво и согласно, как широкая, свободная песня… Песня! Из глубины леса действительно послышалась песня. Высокий девичий голос подхватывался невидимым хором, отзываясь в лесу звонким эхом. На поляне, окруженной молодым дубняком, показались празднично одетые крестьянские девушки. Они пересекали поляну, направляясь к уходящей в сторону от дороги лесной тропинке. Песня была знакома Георгию. Песня про хлопца, возвращающегося с чужбины домой. Юноша придержал коня, боясь своим появлением спугнуть девушек. Но те в последний раз показались на темном изгибе тропинки и скрылись в лесу. Их голоса удалялись, постепенно затихая. Георгий почувствовал некоторое разочарование и досаду. Издали доносились слова песни:
Темна ночка наступает, едет хлопец и вздыхает…
Где я буду ночку ночевать?..
Уже много ночей провел Георгий в пути, находя приют то в лесу у костра, то в заброшенном шалаше зверолова. Ни дожди, ни ветры, ни глухие предрассветные часы не пугали юношу. Пускаясь в путь, он жаждал дорожных приключений. Ему казалось, что для достижения цели он обязательно должен пройти суровые испытания. Врожденная любознательность и общительность помогали ему быстро сходиться с людьми и узнавать много такого, о чем он раньше только догадывался. Вскоре Георгий пристал к небольшому крестьянскому обозу, возвращавшемуся с ближайшей ярмарки. Сначала крестьяне отнеслись к нему настороженно: бог знает, что за человек. Обоз медленно скрипел по обочине шляха, по которому то и дело проносились повозки купцов или кавалькады шляхтичей. Выезжать на шлях крестьяне не смели. Одни из мужиков, еще не растеряв ярмарочного хмеля, тряслись на передке телеги, нестройно распевая. Другие дремали на охапке соломы, третьи награждали злыми прозвищами какого-либо обгонявшего их пана. Когда же Георгий сам отпустил несколько метких шуток по адресу спесивой шляхты, его попутчики оживились и, осмелев, заговорили с ним совсем по-дружески. Обоз постепенно уменьшался. Телеги одна за другой сворачивали в сторону, некоторое время пылили на узком проселке и скрывались в лесу. Наконец с Георгием остался только один смешливый и лукавый Сымон, ехавший на двуколке, которую он сам называл «бедой». Человек этот заинтересовал Георгия. Он был явно умнее остальных попутчиков и, несмотря на постоянное балагурство, пользовался их уважением. Некоторые крестьяне почему-то называли его «батькой». То ли потому, что чернявый и горбоносый Сымон несколько напоминал цыгана, а цыган почти везде называли таким именем, то ли по другим, непонятным Георгию причинам. Вообще в Сымоне многое казалось непонятным. Он приехал на ярмарку издалека и, как выяснилось из разговоров, ничего не продал и не купил. На вопрос Георгия, зачем же он отправился в столь далекий путь, Сымон ответил: – А я, хлопче, дикий мед собираю… – Где же тот мед, на ярмарке? – А где цвет, там и мед. – И тут же переводил разговор на загадки: – Ты вот что, ответь мне, кто такие: «Век поживали, один одного не догнали»? Георгий пробовал угадать, но Сымон смеялся над его ответами и сам разъяснял: – Хоть у тебя горшочек и умен, да семь дырочек в нем, вот она, догадка, и не держится. Я про колеса сказал: век поживали, один другого не догнали… Но, между прочим, и про людей то самое сказать можно. Георгий ехал молча, рядом с двуколкой. Сымон лукаво поглядывал на него. – Что задумался, как пес в лодке?.. Слушай, что я тебе расскажу. Видишь, кругом у нас ни море, ни земля, корабли не плавают, бо нельзя… Болото!.. А ране тут было озеро, и на озере том остров, а на острове люди жили… И Сымон рассказал с детства знакомую Георгию сказку о потонувшем городе, но рассказал так живо и так убедительно, что Георгий готов был поверить, будто Сымон сам жил в этом городе и только один спасся. Ехать с ним было весело и интересно. Ничто не ускользало от быстрого взгляда «собирателя дикого меда». Пролетит ли птица, пройдет ли человек, на все у него находилось своеобразное объяснение, всегда неожиданное и всегда с каким-то странным смыслом. Увидев, например, ксендза, Сымон, проводив его недобрым глазом, хитро щурился в сторону Георгия и спрашивал: – Правду ли люди кажут, что у ксендза только две руки: одна, что крестит, другая, что берет, а вот третьей, что дает, нету?.. Георгий смеялся. – Ох, Сымон, гляди, как бы не схватили тебя за язык. Будут тебя твоим же салом… – …да по моей шкуре мазать?.. – перебил Сымон. – Этого я не боюсь. Я как тень: на огне не горю, в воде не тону, на соломе не шуршу. И точно. Был он какой-то легкий, словно невесомый, похожий на быструю и стремительную птицу. Приближаясь к Радогостью, путники выехали на узкую, хорошо накатанную дорожку, ведущую к имению католического епископа. Впереди показались два рейтара. Сымон заметил их первый и, сделав Георгию знак остановиться, поднялся во весь рост. Всадники тоже остановились. – Эге!.. – молвил Сымон. – А ну, хлопче, гони вперед! И, поднеся руку ко рту, так пронзительно свистнул, что лошадь Георгия вздрогнула. Всадники торопливо повернули коней. Сымон хлестнул вожжами и помчался вслед за Георгием. Рейтары бросились в сторону, в лес. Георгий расхохотался и, придержав коня, оглянулся на Сымона. Но Сымон не смеялся. Продолжая стоять на телеге, он смотрел через лес, вправо, куда поворачивала дорога. Лицо его вдруг стало строгим и злым. Георгий также посмотрел вправо и увидел поднимающиеся над лесом клубы черного дыма. – Пожар?.. – спросил он Сымона. – Горит… – ответил тот как бы про себя и, крикнув: – Поспешай за мной, может, успеем еще, – хлестнул лошаденку. Несясь рядом с Сымоном, Георгий был уверен, что где-то на хуторе начался пожар. Он опередил двуколку, стремясь первым броситься в огонь и, быть может, спасти задыхающегося в дыму старика или ребенка. Он видел перед собой только растущее зарево, клубы дыма и мечущихся людей. Лошадь его вдруг вздыбилась, чуть не наскочив на внезапно выставленную поперек дороги жердь. Сильный толчок выбил Георгия из седла, чьи-то руки подхватили его. – Что за птица? – услышал Георгий грубый и насмешливый голос. – Не то дьяк, не то монах. Ты чей? Епископский? Георгий не успел ответить, как подошедший здоровенный хлопец схватил его за ворот. – А, все черти одной шерсти… На ворота его! – Стой! Стой! – закричал подъехавший Сымон. – Отпустите хлопца, душегубы, свой это. Мужики, схватившие Георгия, отступили и почтительно поклонились Сымону. Сымон тоже снял шапку и, весело посматривая по сторонам, приветствовал: – Здорово живете, люди добрые! – Здоров будь и ты, батька Сымон! – нестройно ответили дюжие молодые хлопцы. Одни из них были вооружены рогатинами, другие – топорами и косами, надетыми, как пики, на длинные палки. Сымон, стоя во весь рост на своей телеге, всматривался в суматоху пожара и быстро спрашивал: – Где остальные? Тут? – Нет, – ответил старший из мужиков, – хлопцы наши в лес поскакали на бискупских конях ангелов вылавливать. – Ой, батька Сымон, – засмеялся другой, – ну и потеха была! Бискупские стражники, что цыплята от ястреба, – кто куда. – Плохо, детки… – нахмурился Сымон. – Нужно было никого не выпускать. Я двух уже на дороге спугнул… На конях и с оружием. – На конях? – переспросил старший. – Тут таких не могло быть. Мы коней сразу забрали… То, верно, не здешние. – А не здешние, и того хуже, – сердито сказал Сымон. – Стало быть, гости вовремя, к свадьбе… Он спрыгнул с телеги и, сделав знак хлопцам, отошел в сторону. Те покорно пошли за ним. Пока они тихо беседовали, Георгий успел прийти в себя и осмотреться. На воротах раскачивался человек, повешенный за ноги. Судя по одежде, он принадлежал к епископской челяди. Его длинные руки касались земли, словно он пытался поднять что-то и не мог… На почерневшем лице страшно белели выкатившиеся глаза. Георгий отвернулся. Поймав повод коня, он медленно прошел стороной двора. Конь храпел, косясь на окровавленные туши разрубленных огромных собак-волкодавов. Над усадьбой поднимались языки пламени и тучи дыма. В дыму и искрах с громким карканьем кружилась стая ворон. Двор был заполнен мечущейся толпой крестьян. Никто не пытался остановить огонь, уже перебросившийся с главного здания на окружавшие двор службы. С грохотом и треском вылетали двери, рамы окон. На земле валялись битое цветное стекло, домашняя утварь, разорванные и обгорелые картины в дорогих рамах, ковры, посуда. Над двором стояла копотная, гнетущая духота, тревожный шум. Вдруг Георгий увидел, как из-за пылающего дома выскочил босой монах. Путаясь в длинной сутане, он бежал, перепрыгивая через горящие балки и разбросанную по двору ломаную мебель. За монахом с руганью гнались двое крестьян. Монах устремился к воротам, где в ту минуту не было никого. Он, видимо, надеялся скрыться в лесу. Возможно, что это ему удалось бы, но, споткнувшись, монах растянулся в двух шагах от Георгия. Беглец был таким жалким и с такой мольбой глядел на юношу, что тот, не раздумывая, набросил на него валявшееся рядом шелковое покрывало и, шагнув вперед, заслонил его собой. Вряд ли это спасло бы монаха от ярости преследователей. Но тут раздался резкий, знакомый Георгию свист. Все, кто был во дворе, на мгновение затихли. На опрокинутой телеге, возвышаясь над толпой, стоял Сымон. Освещенный пожаром, он казался невероятно высоким и сильным. Даже короткая свитка выглядела теперь нарядной. Только хитрая усмешка да простовато-иронический голос напомнили Георгию знакомого «собирателя дикого меда». – Добро пируете, браты! – крикнул Сымон, оглядывая двор. – Небось и гостей не ждете… – Чего ждать? У нас кто смел, тот и поспел! – ответили ему веселые голоса. Сымону протянули ковш с медом. – Гуляй, батька! Сами теперь паны… Праздник! Сымон ковша не принял. – За гульбой, смотри, головы покладете… – молвил он сурово. – Уходить надо отсюда. Придет войско, косой не отобьешься! – Боюсь я их, як волк ягнят! – крикнул веселый хлопец. – Мне теперь сам черт не брат! – Черт душу вынет, а пан шкуру снимет! – ответил Сымон. – Я дело кажу! Думал, в поход собрались, а тут погуляли – и до хаты! Так, что ли, браты? А придут гости – по одному, как тетерок, подавят! Люди молчали, чувствуя справедливость слов Сымона. – Наше дело – святая месть, – продолжал Сымон, – злодеям панам, воеводам да бискупам! За долю нашу мужицкую, за веру православную воевать! – Разве худо мы воевали? – обиженно крикнул хлопец, в котором Георгий узнал того, что тащил его к воротам. – Посмотри кругом, батька! Сымон посмотрел кругом, улыбнулся и, ничего не ответив хлопцу, продолжал речь. – Был я в Миколаевцах, в Поповке, – спокойно и негромко рассказывал атаман, – там тоже люди топоры вострят. К нам пристать согласны. В самый град Полоцк ездил. С купцами речь вел. Может, сабель, пик дадут. Зельем для пищалей разживемся… Народ соберем. Пройдем по всей нашей земле войной. Пробьемся к соседям нашим, к князю московскому! Одна у нас вера, и язык наш на Москве без толмачей понимают. Толпа зашумела. – От родной хаты да невесть куда! Лучше тут помрем, в лес уйдем! – Верно батька кажет! Собирай народ! – В лес, в лес! В лесу нам каждое дерево в помощь! Там жолнеры не достанут! – Добро! – крикнул Сымон. – Силой никого не неволю. Кто согласен, становись на мою сторону. Остальные – всяк себе сам хозяин. Одно скажу, по домам разойдетесь, язык за зубами держать! Вокруг Сымона росло тесное кольцо мужиков. – Веди нас, батька! Сымон стоял, грозно сжав кулаки. – Придет войско бискупа или короля, пытать начнут. Кто своего соседа или односельчанина выдаст, пусть на себя пеняет! Под землей найдем! – Тут он, ворон плешивый! – вдруг радостно закричал маленький пожилой крестьянин в заячьей шапке, сдернув шелковое покрывало и подымая за шиворот босого монаха. Монах пытался вырваться из рук старичка. – Я служитель божий. Меня не можно ловить! То есть грех. – Грехов на мне много, – успокаивал его старичок, подводя к Сымону, – так что не смущайся, и этот не тяжеле других… Лицо монаха было землисто-серым. Его поставили перед Сымоном, и атаман, глядя на него сверху вниз, спросил: – Ты что здесь делал? Монах испуганно залепетал и упал на колени. За него ответил старичок в заячьей шапке: – Веришь, батька, меня чуть крестом не забил… Я к нему по-хорошему подхожу, а он со стенки медное распятие хвать да как замахнется… – Я… я… – перебил старичка монах, – я благословить хотел. Кругом захохотали. – Пане атамане! Матерь божья!.. – лепетал монах. – Только благословить… Клянусь святым Бернардом… Сымон оборвал его: – Ни твое, ни бискупа вашего, грабителя, благословение нам не надобно! И сюда мы вас не звали! Своя у нас вера и земля своя! Наша. А вы, божьи служители, ее у нас из-под ног вырываете… Так, что ли, браты? – Так! Так! На ворота его! – закричали крестьяне. – Чуешь? – гневно спросил монаха Сымон. – Тут твой приговор! Монах взвыл, повиснув в сильных руках крестьян. Его потащили к воротам. К Сымону подскочил Георгий. – Отпусти его, Сымон! Отпусти… Не надо больше крови!.. – крикнул юноша. – Ах, ты еще здесь, купеческий сын?.. – Сымон вновь повеселел. – Боишься небось, что без тебя мы своим умишком не управимся? Нет, хлопец, отпустить нам его невозможно. Сымон спрыгнул на землю и, положив руку на плечо Георгия, отвел его в сторону. – Стоит только нам этого ворона отпустить, он нынче же сюда войско приведет да на каждого пальцем укажет. А как жолнеры станут мужиков вешать, этот божий служитель им латинское благословение даст. Не первая это у нас встреча. Поживешь больше, сам увидишь… Да и не гоже тебе в наши дела встревать. Говорил – за науками едешь, ну и поезжай с богом. Как бы кто тебе дорогу не перебежал. – Сымон повелительно крикнул: – А ну, хлопцы! Подведите коня купецкому сыну. Да дайте еды на дорогу, чтобы поминал наше воинство лаской. Георгий молча смотрел на атамана. Ему хотелось многое сказать этому человеку, неожиданно представшему перед ним таким сильным и умным – атаманом. Но от волнения не мог найти нужных слов. Сымон снова улыбнулся. Лицо его, недавно злое и грозное, стало на миг ясным и добрым. Словно прочитав мысли Георгия, он сказал: – Меня вспоминай, да за разбойника не считай. Я живу правильно. Быстро живу. Свой век сдваиваю, чужого не заедаю. Только время мое еще начинается… Ну, будь здоров, имей сто коров, а мне телушку на развод побереги. Я еще хозяином буду. …Часто потом Георгий вспоминал это прощание среди догоравшей епископской усадьбы. Вспоминал, как крепко пожал ему руку Сымон, как мужики, казалось такие угрюмые и недружелюбные, наполнили ему дорожную суму и, проводив до ворот, ласково пожелали счастливой дороги, как, доехав до реки, увидел он большой отряд вооруженных всадников, переезжавших мост. Тогда Георгий испытывал какое-то смутное и противоречивое чувство. Он сочувствовал восставшим мужикам, как сочувствовал всем обиженным и угнетенным. Но не так рисовал себе Георгий борьбу народа против угнетателей. Он мечтал о честном бое, рыцарских подвигах и милостивом прощении безоружных пленников. Только потом, проехав много верст по родной земле, нашел он объяснение и оправдание всему, что казалось прежде бессмысленной жестокостью. Было худо и прежде, под своими православными господами. А теперь, когда князья и католические монахи прибрали к рукам не только лучшие земли, а все, что родило и приносило плоды, совсем жизни не стало. Недаром один нищий старик разъяснял Георгию смысл слова «католик». «Состоит это слово, – говорил он, – из двух слов: кат (палач) и лик (лицо). Смотрите, дескать, на них и увидите лицо палача». Чем дальше отъезжал Георгий от родного дома, тем все больше сгущались мрак и уныние. Он вспоминал о восставших крестьянах, как о героях, шедших на бой за благо народа. О Сымоне же он не переставал думать, да и слишком часто напоминали о нем встречные. Не первый год ходил здесь Сымон со своей ватагой, и слова его передавались из уст в уста. За него молились, к нему шли обездоленные, искали его и рассказывали о нем легенды… А конь все бежит и бежит, через боры и пущи, по зыбкой топи болот, мимо курных хат, мимо смертей и болезней, через недолю… Сокращая путь, Георгий обычно уклонялся от больших дорог, сворачивая на проселочные шляхи и тропинки. Судьба оберегала его. Ни дикие звери, населявшие леса Белоруссии, ни разбойничьи шайки, совершавшие набеги на купеческие обозы, не тронули одинокого путника с малой переметной сумой, ехавшего на усталой лошаденке. Но не зверей, не разбойников опасался Георгий. На заставах больших городов караулили проезжих людей воеводские приставы. Собирали дань путную, и проезжую, и торговую, и постойную. Брали с человека, брали с коня, брали с клади. Брали за не так сказанное слово. В ходу тогда была поговорка: «На Литве каждое слово стоит золота…» Писаные законы о пошлинах и мытах мало кому были известны, и сборщики, пользуясь неграмотностью путников, грабили их, как хотели. Нередко бывало и так, что человека, не имевшего, чем заплатить, избивали батогами и сажали в колоду. Георгию платить было нечем, и потому он объезжал города с крепостными стенами и караульными башнями, пользуясь гостеприимством крестьян. Так проехал он весь Виленский тракт, оставил по правую руку Гродно и выехал на мощеный, застланный деревом шлях, ведущий к городам Бельску и Бресту. Георгий решил заехать в Брест, где проживал знакомый ему по Полоцку купец Зиновий Горбатый, у которого он рассчитывал пополнить свои скудные запасы и расспросить о дороге. На развилке шляха Георгия остановили три неожиданно появившихся всадника. Один из них, с огромными накрашенными усами, вероятно старшина, грубо крикнул: – Куда лезешь?.. И взмахнул плетью… Георгий едва успел увернуться от удара. Плети остальных всадников обрушились на спину лошади. Рванувшись вперед, она по брюхо увязла в болотной грязи, тянувшейся по обеим сторонам мощеного шляха. Всадники захохотали: – Ай ладно же скачет, пся крев! Георгий понукал лошаденку, торопясь выбраться из болота и поскорее отъехать от дороги к видневшемуся вдалеке кустарнику. Внезапно старший из всадников поднялся на стременах и, сложив руки рупором, закричал, как обычно кричат на охоте, предупреждая о поднятом звере: – Пиль-ну-уй!.. Голоса невидимых людей повторили, как эхо: – Пиль-ну-уй… ну-уй!!! Подъехав к кустарнику, Георгий увидел рассыпавшихся цепью мужиков с палками и мешками в руках. Георгий спросил крайнего, что здесь происходит и почему нельзя проехать по шляху. – А ты, панич, стань в сторонку, от греха подальше, сам все увидишь, – ответил рыжий крестьянин средних лет, одетый в белую холщовую рубаху, такие же штаны и беспятые лапти. Осторожно выглядывая из-за кустов, крестьяне стали смотреть на дорогу. Георгию, сидевшему в седле, хорошо было видно все. На дороге показалась пестрая кавалькада. Впереди на красивых разукрашенных конях скакали двое богато одетых всадников. Они весело посматривали по сторонам, сдерживая танцующих скакунов. – Тот, седой, толстый, что на серой кобыле, – сам воевода виленский, ясновельможный пан Николай Радзивилл, – объяснил Георгию рыжий крестьянин. – А молодой – его гость… Немец какой-то, не здешний… Наш пан его в Бельске встретил. За воеводой и его гостем ехала свита дворовых людей. У некоторых из них были на сворках собаки. Рыжий крестьянин сказал: – Мы тут вторые сутки цепью стоим. Может, пан воевода захочет гостя охотой потешить, так мы караулим… По этой причине никому ни прохода, ни проезда нет. Молись богу, панич, что легко выскочил. Радзивилл, отъехав от молодого немца, поднял висящий на серебряной цепочке рог и затрубил. Свита пришла в движение. Псари подались вперед, готовя собак. По дороге во весь опор поскакали всадники, и поле огласилось криками: – Гу!.. Гу!.. Гу!.. – Зараз наш черед, – сказал рыжий и побежал от Георгия. Громкий и разноголосый лай собак, крики людей, звук охотничьего рога сразу наполнили воздух весельем и тем шумным азартом, который всегда охватывает людей на травле зверя. В кустарнике кто-то крикнул: «Пущай!..» Спрятавшиеся крестьяне вытряхнули из мешков живых зайцев. Зайцы выскакивали на поляну как сонные, еще не зная, куда бежать от шума и людей. Мужики отгоняли их палками, сами боясь показаться из-за кустов. Обходя болото, к поляне, на которую были выпущены зайцы, скакал на красивом турецком аргамаке молодой немец. Впереди неслись, словно по воздуху, большие меделянские собаки, а следом мчались псари и ловчие. Радзивилл наблюдал за гоном издали, криком подзадоривая гостя. Рыжий крестьянин, размахивая пустым мешком, крикнул Георгию: – Уходи, панич, не дай боже, поперек попадешь… С хриплым визгом пронеслись мимо собаки. Не отставая от них, крестил плетью коня молодой немец. Глухой, короткий крик… Не успевший отбежать рыжий крестьянин опрокинулся навзничь. Перед Георгием на мгновение застыло бледное лицо всадника с хищным оскалом зубов и острыми холодными глазами. Взмах плети, прыжок коня… Рыжий лежал на спине, широко раскинув руки. Георгий видел, как трава окрашивалась кровью. Он поглядел вслед удалявшемуся всаднику. Гон продолжался. Мужики торопливо уносили тело рыжего в кусты. * * * О Бресте нечего было и думать. Дороги охранялись стражниками, встреча с которыми не сулила ничего хорошего. Проплутав ночь по бездорожью, Георгий на следующий день выехал к реке, отделявшей земли Литвы от Польского королевства. Теперь путь лежал мимо польских городов и деревень, которые мало чем отличались от родных Георгию белорусских селений. Однако встречи с новыми людьми, новые обычаи и порядки вызывали жадный интерес юноши. Все, что приходилось ему видеть, он старался запомнить и понять. Проехав Люблин и переправившись через Вислу у Сандомира, Георгий задержался на целый день, чтобы осмотреть новый город Корчин с недавно выстроенной крепостью и стеной невиданного ранее устройства. Здесь впервые Георгий узнал об умных машинах, заменявших тяжелый труд людей на воротах у подъемных мостов. Узнал о новом вооружении крепостных башен. В городе Проствице, прославленном своим пивом, Георгий встретил шумную компанию школяров, направлявшихся в Краков. Это были сыны магнатов или зажиточных шляхтичей. Беззаботно болтая, они говорили об университете, как о чем-то обычном, даже не очень желаемом. Георгий смотрел на них, как смотрит сирота на балованного, капризного ребенка, окруженного незаслуженной лаской родителей. Для него университет был чем-то святым, величественным, о котором не только нельзя было говорить шутя и пренебрежительно, но ради которого стоило принести любые жертвы. Кто знает, какие еще испытания суждены ему в стенах университета? Об этом думал Георгий, когда на закате теплого дня он выехал на большой, поросший дубами холм. Перед ним был Краков. Город лежал в живописной долине. Освещенный мягким светом заката, он казался сложенным из золотых камней. Деревья, окаймлявшие городскую стену, тянулись к предгорьям Татр. На фоне волнистых гор, подернутых вечерней синевой, четко выделялись острые шпили городских башен и кресты храмов. Был субботний день. В городе готовились к вечерним молитвам, и до слуха Георгия доносился приглушенный далью тихий благовест. Спокойно и величаво несла свои воды мутная Висла. По широкому шляху, ведущему к городским воротам, пылило стадо, перекликаясь звоном маленьких бубенцов, привешенных на шеи коров и овец. Изредка их подгонял резкий звук пастушьего кнута. Все было покойно и красиво. Георгий долго смотрел на город. Вот он – Краков. Центр польской культуры. Столица польских королей. Что ждет его за этой молчаливой городской стеной?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЕМЬ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ
Бессмертие свое
Сам создаю я, боже,
А большего и ты
Ведь сотворить не можешь.
А Мицкевич
Глава I
В сыром полумраке университетской канцелярии было тихо. Желтые отблески свечей слабо озаряли свитки пергаментов, запыленные папки и тощие фигуры писцов, похожих на больших черных птиц. В центральной нише, на помосте, восседал секретарь, погруженный в дремоту.
Сквозь решетку стрельчатого окна пробился косой солнечный луч. Пламя свечей замигало робко и беспомощно, посрамленное этим щедрым сиянием. Луч медленно передвигался от конторки к конторке, играя веселыми пятнами на грудах бумаг, обнажая грязную плесень стен, заросли паутины, помятые, лимонные лица писцов с их морщинами, лысинами и сальными космами волос. Писцы зажмурились и отложили перья. Секретарь сладко зевнул, потянулся и невольно поглядел туда, откуда явился этот веселый и тревожный посетитель и где виднелся клочок сентябрьского бледно-голубого неба.
В этот миг дверь в канцелярию отворилась и вошел юноша.
– День добрый, панове! – сказал он.
Писцы вздрогнули от звонкого и чистого голоса, повторенного гулким эхом.
– День добрый, пан секретарь, – повторил вошедший, обращаясь к ближайшему писцу.
Но писец не ответил на приветствие и молча указал перстом на секретаря. Юноша поклонился и отошел к помосту, где восседал глава канцелярии.
– Не порадует ли меня пан ради ясного дня доброй вестью?.. – сказал он, весело улыбаясь. – Уже все схолары
исправно слушают лекции, один я пребываю в праздности…
Секретарь устремил на вошедшего испытующий взор. То ли белая свитка юноши, накинутая поверх расшитой сорочки, то ли звонкий его голос, необычный в этой комнате, где единственными звуками были шепот да скрип гусиных перьев, вызвали на его лице гримасу, отдаленно напоминавшую улыбку. Секретарь порылся в ворохе бумаг и заговорил:
– Прошение твое, Георгий, сын Скорины, родом из города Полоцка, было передано его преподобию пану ректору, собственной рукой коего на вышеозначенном прошении начертано: «Отказать».
Георгий всплеснул руками:
– Да нет же, пан секретарь! Не может того быть! Я просил допустить меня к учению… в университете. Ни о чем другом. В сем отказа я не мыслю.
– Пан ректор всесторонне рассмотрел твое прошение в соответствии со статутом университета, с грамотами о правах и привилегиях, дарованными университету королями польскими. А также с инструкциями святейшего престола, воспрещающими еретикам и прочим врагам святой римской апостолической церкви доступ в число питомцев сего достославного средоточия наук. Поскольку же ты, Георгий, сын Скорины, являешься таковым, постановлено тебе отказать.
Несколько минут Георгий стоял перед секретарем молча, как бы вникая в смысл услышанных слов. Потом медленно повернулся и пошел к выходу. Тяжелая дверь, скрипя, захлопнулась за ним. Миновав длинный темный коридор, Георгий вошел во внутренний двор. Здесь было пусто и тихо. На квадратных плитах, нагретых солнцем, ворковали голуби. Среди каштанов и лип, уже тронутых осенним багрянцем, звенела струйка воды, лениво вытекавшая из каменного фонтана.
Отказать!.. Значит, напрасен был долгий путь по лесам и болотам? Напрасны старания и дни надежд?.. Недобрым ветром занесло его на эти улицы. Уже пришли к концу скудные средства. Уже продан за полцены барышнику-цыгану неказистый конек. Что же делать ему здесь, среди чужих и равнодушных людей? От кого ждать помощи и совета?
Только что окончилась лекция, и веселая гурьба студентов высыпала во двор погреть на солнце продрогшие спины. Одни чинно прогуливались, другие закусывали, расположившись на скамьях у фонтана, третьи продолжали неоконченный спор. Шумная группа схоларов обступила толстого краснорожего молодца, который, видимо, рассказывал о своих ночных похождениях. Его покрытая сальными пятнами мантия была распахнута, бархатная шапочка еле держалась на густой копне волос. Студент то и дело уснащал свой рассказ непристойными шутками, вызывавшими взрывы хохота.
Стоя за выступом угловой башни, Георгий думал. Никогда теперь не быть ему в веселой студенческой толпе, никогда не носить мантии и бархатной шапочки, отличающих людей науки от простых смертных. Он вспомнил о других юношах, товарищах его детства, оставленных в родном городе. Может быть, и они теперь так же шумят и веселятся, слоняясь буйными ватагами по берегу прекрасной Западной Двины… А он один. От тех отстал, к этим не пристал. Один в целом свете…
– Qui est hic juvenis pulcher et ex quo loco venit?
Перед Георгием стояли двое схоларов. Спросивший был повыше ростом. Из-под его мантии виднелся шелковый кафтан, шитый золотым позументом и отороченный соболем. Георгию показалось, что он уже где-то видел это бледное лицо с тонким изогнутым носом и острыми серыми глазами. Оправившись от неожиданности, Георгий бойко ответил:
– Georgius sum,Lucae Scorinae filius et ex urbe glorioso Polotsco qui in terra Rutenia est – veni.
Студенты улыбнулись, и высокий, уже по-польски, учтиво сказал:
– Познания, не свойственные столь юному возрасту, делают честь пану. Позвольте мне осведомиться, какая цель привела вас сюда и что является причиной вашей печали?
Велика сила участливого слова, услышанного в минуту отчаяния. Так обессиленный, продрогший путник радуется заблестевшему вдалеке свету, не думая о том, что это, может быть, лишь болотный огонек или отблеск костра разбойничьего табора.
Доверчиво рассказал Георгий свою печальную историю. Не утаил и того, что покинул свой дом против воли брата и предпочтет погибнуть на чужбине, чем возвратиться с повинной.
Схолар вежливо выслушал рассказ и задумчиво сказал:
– Видно, перст господний указует вам добрый путь, помогая отрешиться от заблуждения схизмы.
Святая церковь охотно примет вас в свое лоно, и тогда уже не будет препятствий для вашего поступления в университет…
– О, нет! – горячо воскликнул Георгий. – Не господь, но люди воздвигли предо мной сию преграду. О том же, какая вера истинна, смогу судить, лишь постигнув все науки.
Собеседник пристально посмотрел на юношу и улыбнулся.
– Что ж, не будем спорить, – медленно проговорил он, как бы обдумывая что-то. – Надеюсь, что смогу помочь вам. Ждите меня завтра здесь в этот же час. – И он быстро пошел к воротам.
– Погодите! – крикнул Георгий вслед. – Погодите, ясновельможный пан! Ваше имя?
Но студент уже скрылся за воротами. Георгий бросился за ним. Его громкий возглас привлек внимание веселых схоларов, и дорогу Георгию загородил краснолицый толстяк.
– Приветствую благородного чужестранца! – торжественно произнес он, отвесив низкий поклон и одновременно делая предупреждающий знак схоларам.
Георгий неловко поклонился. Схолары засмеялись, но краснолицый прервал их величественным басом:
– Вы, кажется, хотели узнать имя того пана, который удостоил вас беседой?
– Да, да, – обрадовался Георгий. – Скажите мне его имя, он обещал помочь мне.
– Хорошо, я сообщу вам, – ответил толстяк. – Мы зовем его честным польским именем Ян. Перед лицом же господа бога и его преподобия пана ректора он именуется Иоганн, рыцарь фон Рейхенберг. По вкусу ли вам это, чужестранец?
– О да, это красивое имя, – ответил Георгий.
– Не согласен, – сказал схолар. – Ибо что есть красота?.. Блаженный Августин определяет красоту как высшую степень добродетели, тогда как Николай Молчальник, напротив, считает добродетель высшей степенью безобразия. Или, быть может, вам незнакомы воззрения сих мудрецов?
– Пусть пан простит мое неведение… – смущенно ответил Георгий.
– Прощаю, – великодушно ответил схолар. – Но знаете ли вы хотя бы, кто такой Николай Молчальник?
– Нет, – робко признался Георгий.
– Николай Молчальник – это я, – гордо объявил краснолицый под громовой хохот студентов. – Я вижу, – невозмутимо продолжал Николай, – что непристойное веселье этих пасынков науки смущает вас. Не следует, однако, придавать значение звукам, напоминающим вопли того животного, на котором господь наш некогда свершил свой въезд в Иерусалим. Итак, юный чужестранец, вы сказали, что Ян, он же Иоганн, обещал помочь вам… В какой же помощи вы нуждаетесь?..
– Я хочу поступить в университет, – несмело ответил Георгий.
– О, в таком случае вам не стоило обращаться к Иоганну. Ибо университет – это я. Вот если бы речь шла о презренном металле, тут я бессилен, ибо, хотя голова моя и полна благородных мыслей, но кошелек мой пуст. Как справедливо заметил еще Фома Аквинат, истинная мудрость несовместима с богатством. Но там, где речь идет о науке, я всегда оказываю помощь ближнему.
Студенты, еле сдерживая смех, с интересом следили за беседой.
– Благодарю пана за доброе слово, – поклонился Георгий.
– Не стоит благодарности, – важно произнес толстяк. – Я немедля принял бы вас в число моих последователей, но в данное время разум мой поглощен единственным размышлением: как удовлетворить потребность многогрешного чрева в пище и вине, именуемых в просторечии обедом… Есть у вас звонкая монета, чужестранец?
Вопрос был задан в упор и с такой неподражаемой деловитостью, что Георгий невольно раскрыл кошелек и вынул из него единственную золотую монету. Георгий готов был поделиться ею с этим словоохотливым Молчальником, но не успел и слова молвить, как студент легким движением руки взял монету и, повернувшись к схоларам, сказал:
– Вот пример, достойный подражания… Как ваше имя, чужестранец?
– Георгий, – ответил юноша, – Георгий, сын Скорины из славного города Полоцка.
– Запомните этот день, Георгий, сын Скорины, – торжественно произнес толстяк. – В этот день вы удостоились великой чести оказать услугу Николаю Кривушу из Тарнува, шляхтичу и ученому…
Удар колокола, призывавший на лекцию, прервал красноречивую тираду пана Кривуша. Студенты направились к университетскому зданию, а Георгий пошел со двора. Встречи с Иоганном и Николаем окрылили его.
«Видно, сама судьба свела меня с этими людьми», – говорил он себе, вспоминая утренний разговор.
Он проходил по главным улицам, полным шума и движения, любуясь богатыми дворцами краковских патрициев, украшенными фигурными аттиками, галереями, затейливой резьбой. Издали полюбовался величественной громадой королевского замка, у ворот которого расхаживали воины в шлемах и кольчугах, вооруженные алебардами. Заглянул в старинный костел святой Марии, где в сумраке строгих готических сводов теплились высокие свечи и плыли тихие аккорды органа. Побывал и в узких переулках, где еле было видно небо и стояло зловоние от нечистот.
Наступил вечер. Улицы быстро опустели. В ту пору с наступлением темноты ходить по городу было небезопасно, и люди предпочитали сидеть по домам за надежными запорами. Георгий повернул к дому, с трудом отыскивая дорогу. Усталость и голод одолели его. За весь день он съел только купленный у мальчика-разносчика дешевый пирог, начиненный требухой, и выпил ковш доброй краковской браги.
Он жил в корчме на окраине города. Сразу за корчмой простирались городские луга, куда жители выгоняли пастись коров, коз и овец, а за лугами высилась поросшая кудрявой зеленью гора Святой Брониславы. Корчма стояла на отшибе, и сюда с наступлением темноты сходились без всякого риска попасть на глаза воеводского дозора разные посетители. В большой комнате, вокруг пылающего очага, на котором, шипя, жарилось мясо, возле бочонков с пивом и медом собирались бродячие торговцы, вербовщики солдат и комедианты из заезжего балагана.
За прилавком стоял корчмарь, одноглазый седой еврей в потертом лапсердаке. Тщедушный подросток лет пятнадцати примостился рядом с отцом и, уткнув нос в толстую книгу, невозмутимо читал. Перед корчмарем стоял Николай Кривуш. Его жирное лицо светилось истинным довольством. Корчмарь внимательно разглядывал взятую у Кривуша золотую монету, то пробуя ее на зуб, то поднося почти вплотную к единственному глазу.
– Что ж, Берка, – торопил его Кривуш, – неужели слово шляхтича тебе не внушает доверия и ты пробуешь его на зуб?
– Слово словом… – проворчал корчмарь. – Много я слышал разных слов, но разве может бедный еврей обменять их на хлеб и мясо? Или, может, пан думает, что из слов я шью одежду для моих детей?
– Стало быть, ты считаешь, что золото надежнее слова? – спросил Кривуш. – Пожалуй, ты прав, недоверчивый. Ибо народная поговорка гласит: молчание – золото. Однако, с другой стороны, святой Иоанн за многоречивость был прозван Златоустом, а наши стряпчие и отцы-проповедники успешно продают простакам каждое слово на вес золота. Я же охотно отдаю это золото за твое слово, приказывающее стряпухе нарезать телятину и откупорить жбан вина. Или ты все еще считаешь меня способным чеканить фальшивые монеты?
– Если однажды пан утверждал, что сам видел, как верблюд пролез через игольное ушко, – ответил еврей, – то почему же он не может сделать монету? Ученый человек все может…
– И здесь ты прав, сын Минотавра и жабы. Действительно, алхимики при помощи философского камня делают золото даже из пива. Но я предпочитаю превращать золото именно в пиво…
– Кажется, монета настоящая, – наконец убедился корчмарь. – Интересно, откуда пан достал ее?
– Много есть на свете интересного, Берка, – поучительно сказал Кривуш, – но не все дано знать людям. Итак, готовь ужин, но помни: я и мои друзья умеем отличить добрый мед от прокисшей браги даже в том состоянии, когда другие путают паненку с ксендзом.
С достоинством произнеся эту тираду, Кривуш направился к столу, где его ждала компания собутыльников. Вот в этот момент и вошел в комнату Георгий. Обычно он избегал ужинать здесь, предпочитая покупать скромную и дешевую еду у рыночных торговок. Сегодня же он был чертовски утомлен и голоден, а запах жареного мяса заставлял забыть об экономии. Уже шагнув к прилавку, Георгий вспомнил, что Кривуш забрал его последнюю монету. Не заметив сидящего за столом Кривуша, он повернул к своей каморке. В его возрасте редко приходят в уныние от подобных вещей, и Георгий быстро примирился со своим положением.
Во сне голод не страшен, а завтра он продаст цветистую попонку из-под седла уже проданного им коня. Да и вообще завтрашний день должен принести столько радости.
Никто не обратил внимания на юношу. Только Кривуш, вдруг прервавший беседу, подождав, пока Георгий скрылся, крикнул:
– Послушай, Берка. Нет ли среди твоих постояльцев чудака в модной одежде времен Болеслава Храброго,
приехавшего из каких-то восточных земель, чтобы поступить в наш достоскучнейший университет?
– Может, пан думает про того хлопца, что сейчас прошел? – спросил хозяин.
– Да. Какого же дьявола поселился он в этой зловонной дыре, когда он богат, как епископ?
– Кто богат? – презрительно спросил Берка. – Этот хлопец беден, как Иов.
– Вздор! Говорю тебе, он – богач… Просто сорит деньгами. Вот что, Ицек, – обратился Кривуш к сыну корчмаря, – сбегай к нему и скажи, что хозяин и гости просят его разделить с ними ужин и выпить по чарке меду.
– А кто заплатит за его ужин? – встревожился Берка.
Кривуш захохотал:
– Ну и глуп же ты, Берка. Он заплатит не только за себя, но и за всю нашу благородную компанию. Живо, Ицек, беги!
Когда Ицек вошел в каморку, Георгий лежал на деревянной кровати, но еще не спал. Он вежливо отказался от угощения, сказав, что устал и хочет спать.
– Пан, верно, голоден, – настаивал Ицек. – Я могу принести ужин сюда.
Георгий взял мальчика за руку и улыбнулся.
– Признаюсь тебе, Ицек, – сказал он, – что охотно бы поужинал, но… Утром я потерял последний червонец… Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Завтра начинается новая жизнь, и ее я не променяю ни на какие богатства. Завтра я поступаю в университет. Понимаешь?
– Я понимаю, – сказал мальчик. – Пан хочет быть ученым…
– Да, да, я буду ученым. Двери науки уже открываются для меня. Ступай же, Ицек, и не тревожься обо мне…
Вернувшись в трактир, мальчик передал Кривушу ответ Георгия.
– Вот как, – задумчиво сказал студент. – Так это был его последний золотой…
– Так он сам сказал, – ответил мальчик.
– И он его потерял! – воскликнул Кривуш. – Вот разиня. Сразу виден простак. Разве деньги сделаны, чтобы их терять… Их надлежит пропивать. Не так ли, друзья?
Собутыльники встретили это изречение громким одобрением. Кутеж продолжался.
Георгий долго ворочался на жестком ложе с боку на бок. Пьяные выкрики и нестройное пение не давали ему уснуть. Наконец усталость взяла свое. Когда в дверь постучали, он уже спал крепким сном. Вошел пьяный Николай Кривуш. В одной руке он держал поднос, в другой кружку меда. Не будя юношу, он поставил то и другое на табурет возле изголовья и тихо вышел, осторожно прикрыв скрипящую дверь.
Утром Георгий был в университетском дворе задолго до условленного часа. Теперь снова тревога и сомнения мучили его. Двор наполнялся заспанными еще схоларами, и Георгий нетерпеливо искал среди них Иоганна. Может быть, он только посмеялся над ним?.. Может быть, он даже не пожелает узнать его?..
– Надеюсь, я не заставил пана долго ждать… – услышал Георгий голос человека, подошедшего сзади.
Георгий быстро повернулся. Фон Рейхенберг поздоровался с Георгием со своей обычной холодной вежливостью и предложил отправиться к попечителю университета, как только он освободится после двух лекций.
Через некоторое время Георгий поднимался по мраморной лестнице дворца краковского епископа. По тому, как почтительно слуги, облаченные в монашескую одежду, кланялись Иоганну, Георгий понял, что его неожиданный покровитель – человек знатный и влиятельный.
Войдя в небольшой, роскошно убранный зал, Иоганн попросил Георгия подождать, а сам удалился. Георгий присел на край кресла. Вскоре к нему подошел монах и жестом пригласил его следовать за ним.
Георгий очутился в комнате, застланной коврами. Несмотря на то, что был полдень, окна были завешены и в дорогих подсвечниках горели свечи. В глубине, за большим столом, покрытым алым бархатом, сидел сухонький старичок в фиолетовой сутане. Георгий понял, что это и есть попечитель университета, краковский архиепископ. Юноша почтительно поклонился ему.
– Чего ты ищешь? – спросил архиепископ.
– Науки, – ответил Георгий. – Хочу учиться семи свободным наукам, дабы отличать правду от кривды.
– Познаешь сие, что станешь делать?
– Мыслю вернуться в родную землю, ибо люди, где родились и богом вскормлены, к тому месту великую любовь имеют…
Архиепископ посмотрел на Георгия маленькими слезящимися глазками.
– Известно ли тебе, что Краковский университет открыт лишь для чад нашей святой римской церкви?
Георгию показалось, что из-под его ног уплывает пол.
– Вчера я узнал об этом, – проговорил он еле слышно.
– Отчего же ты не соглашаешься отречься от ереси, в которой пребываешь?..
– Могу ли я, ясновельможный пан архиепископ, – взволнованно сказал Георгий, – признать истинной веру, которой еще не ведаю?.. Отречься же ради блага моего от обычаев, в которых вырос, не почитаю достойным…
Архиепископ повернул голову к Иоганну, и тот улыбнулся. Очевидно, ответ Георгия понравился им обоим.
– Пусть так, – проговорил архиепископ. – Ты умен и правдив. Будь ревностен в учении и покорен наставникам твоим. Не обмани моего доверия. Мы разрешим принять тебя в университет. Старайся постигнуть догматы истинной веры, преодолеть заблуждения, усвоенные в детстве. Желание твое исполнится. Постигнув науки, ты вернешься на родину, чтобы сеять добрые семена среди твоих заблудших братьев… Как твое имя?
– Георгий, сын Скорины.
– Ты будешь наречен Франциском в честь нашего святого Франциска Ассизского. Ступай с богом!
* * * Во время описываемых событий Краковский университет находился в расцвете своей славы. Основанный в 1364 году королем Казимиром Великим, Краковский университет первые пятьдесят лет, казалось, был свободной школой. Но в начале XV века положение университета изменилось. Польские властители искали дружбы папского престола и поддержки влиятельного католического духовенства. В Краковском университете был открыт богословский факультет, который сразу занял привилегированное положение. Да и вся университетская наука была отдана под надзор католической церкви. Верховным попечителем университета с тех пор стал краковский архиепископ.
Научная мысль была скована слепым подчинением каноническим авторитетам. В философии безраздельно господствовал Аристотель, дополненный сочинениями церковных авторов раннего средневековья. Изучение математики исчерпывалось геометрией Евклида и арифметикой Иоанна Сакробоско, автора «Трактата об искусстве исчисления». Астрономия не пошла дальше Птолемеевой системы.
И все же Краковский университет считался одним из лучших, и слава его распространялась далеко за пределы польской земли. Занятия в университете начинались рано. В пять-шесть часов утра схолары собирались в аудитории. Профессор разворачивал пожелтевший фолиант и читал вслух, изредка прерывая монотонное чтение своими комментариями. Он приводил различные толкования громоздких формул и афоризмов, изложенных на средневековой, «кухонной» латыни, но никогда не осмеливался критиковать их. Это и называлось лекцией.
Студент исправно записывал все и обязан был затвердить и самый текст, и комментарии наизусть. Проверка знаний проводилась на диспутах. Диспут был главным событием в университетской жизни, смыслом и целью всей кропотливой работы учебного года.
Эти словесные турниры мало походили на научные споры нашего времени. Участников средневекового диспута не слишком интересовала суть обсуждаемого вопроса. Главным было искусство полемики и красноречия. Диспут велся на той же варварской латыни, и чем искусней был спорящий в составлении выспренных сентенций, тем больше у него было шансов одержать победу. Нередко спорщики так распалялись, что прибегали к аргументам более действенным, чем латинские цитаты. Зал оглашался криками, бранью, затем пускались в ход кулаки и палки. Слушатели подзадоривали спорящих и делились на две враждующие партии. Часто, с трудом остановив спор, руководитель диспута вызывал цирюльника, чтобы пустить кровь, поставить примочку или вправить вывихнутую челюсть диспутанту. Что же касается самого предмета дискуссии, то о нем вовсе забывали в пылу сражения, а истина так и оставалась неустановленной.
Казалось, где же было здесь зародиться подлинной науке, стремящейся постигнуть тайны мироздания? Могло ли прозвучать здесь пламенное пророческое слово?
Славянские народы не остались в стороне от движения умов, охватившего Европу. Старая чешская Прага прежде многих городов Италии и Франции стала очагом гуманистического просвещения. За Прагой последовал Краков. В славянских городах жили и творили в то время выдающиеся ученые и мыслители. Университеты – Пражский и Краковский – обновились и расцвели, привлекая юношей не только из Польши, Богемии, Венгрии, но и из германских стран и даже из Англии.
Нередко приходилось Георгию слышать рассказы о Ягеллоновском университете. С давних пор им владела мечта попасть в знаменитый польский город. Наконец мечта осуществилась. Георгий Скорина был зачислен в списки студентов под именем Franciscus Lucae de Polotsko.
Георгий, или, как теперь он звался, Франциск, поступил на факультет свободных искусств. В средневековых университетах факультет этот считался наименее важным, и его студенты, именуемые «артистами»,
по своему положению были ниже медиков и особенно богословов.
Георгий начал изучать «семь свободных наук», которые также назывались «свободными искусствами». Среди них были: словесные – грамматика, риторика, логика и реальные – арифметика, астрономия, геометрия и музыка. Все эти науки преподавались по старинному образцу. Однако новые веяния уже давали себя чувствовать. Факультет свободных искусств стал центром гуманистических идей и приобрел громкую славу.
* * * На другой день после посещения архиепископа Георгий впервые был допущен на лекцию. Было еще темно, когда он, задыхаясь от волнения, прибежал в университет. До начала занятий оставался добрый час, и ворота еще были заперты. Георгий шагал взад и вперед возле здания, ежась от утреннего холодка, когда услыхал насмешливый голос.
– Приветствую ученейшего мужа, – сказал Николай Кривуш. – В стремлении к науке ты опередил даже нашего цербера, – прибавил он, показав на подошедшего к воротам заспанного старика, вооруженного ржавой алебардой.
Ворота распахнулись. Георгий был смущен. После происшествия с червонцем он не знал, как относиться к новому своему знакомому. Но, увидев на лице Кривуша добродушную улыбку, он тоже улыбнулся и ответил шутливо:
– Однако я вижу, пан не меньше меня стремится к науке и также поднялся спозаранку.
– Заблуждение, юноша, заблуждение, – грустно сказал Кривуш. – Я просто еще не ложился. Мужу науки не подобает спать по ночам, ибо, как известно, сова Минервы
летает только ночью.
По всклокоченной гриве и запаху винного перегара нетрудно было понять, в каких трудах провел эту ночь Николай Кривуш.
– Итак, – продолжал Кривуш, – ты снова явился штурмовать неприступную твердыню?
– Нет! – ответил радостно Георгий. – Сегодня я пришел не хлопотать, а уже учиться…
– Прекрасно! – воскликнул Кривуш. – Надеюсь, мы достойно отметим это прискорбное событие. Вот дверь, ведущая в ад, представляющийся тебе раем. Следуй же за мной, я буду твоим Вергилием.
Пройдя по темному извилистому коридору, они вошли в круглый зал, у стены которого возвышалась кафедра с четырьмя зажженными свечами. Аудитория еще была пуста.
– Если не ошибаюсь, дорогой коллега, – продолжал Кривуш прерванный разговор, – тебя удивляет, что я называю прискорбным событие, которое кажется тебе самым счастливым в твоей жизни… А между тем это так. Чему радоваться? Тому, что ты променял солнечные просторы на затхлый сумрак? Три года цветущей юности ты приносишь в жертву. Во имя чего?
– Ради чего? – удивился Георгий. – Ради науки.
– Науки?.. Неужели ты думаешь, что мудрость обитает под этими зловещими сводами? Неужели надеешься познать науку, читая тарабарщину, сочиненную преподобными ослами?.. Нет, не здесь жилище науки. Ищи его среди трав и деревьев! Следи за полетом птиц и движением ветра, за рождением и смертью живых существ! Изучай движение звезд! Прислушайся к людской речи и песне!.. И ты узнаешь то, чего никогда не найдешь у Фомы Аквината.
Георгий слушал эту речь, столь неожиданную в устах человека, который казался ему беспутным и пустым гулякой. Слова Николая заинтересовали его. Но воспитанный в беспредельном почтении к книжной премудрости, он не мог согласиться со своим собеседником.
– Многие люди, – возразил Георгий, – живут среди природы. Но, не обладая знаниями, почерпнутыми из книг, не могут понять ее. Я проехал по многим дорогам и видел, как бедна и печальна жизнь селян. Нет, не стану я хулить науку. В ней одной вижу средство к счастью людей.
В то время, как происходила эта беседа, аудитория постепенно наполнялась. Схолары, зевая и потягиваясь, занимали места, раскрывали записи, чинили гусиные перья. Георгий не заметил, как на кафедру поднялся человек. Студенты встали и хором произнесли приветствие.
– Кто это? – спросил Георгий Кривуша.
Кривуш, неожиданно для Георгия, серьезно ответил:
– Тише… Это пан Ян Глоговский… – И шепотом пояснил: – Один из немногих профессоров, кто достоин звания ученого… Тебе повезло для начала.
Глоговский был действительно выдающимся ученым своего времени. Он родился и жил в Кракове, но имя его было известно далеко за пределами Польши. Подобно многим ученым той эпохи, Глоговский занимался самыми разнообразными науками – математикой, философией, медициной. Он обладал обширными и глубокими познаниями, внушавшими уважение каждому, кому приходилось беседовать с ним.
Увлекался Глоговский и книгопечатанием. Лет за двадцать до описываемого времени в Кракове начали печатать церковно-славянские книги. Это новое дело впервые начал тогда знаменитый книгопечатник Святополк Феоль, а продолжил его мастер Ян Галлер. Глоговский часто бывал в его друкарне, интересовался всеми подробностями печатного искусства и при его помощи стал сам печатать свои лекции.
Таков был человек, которого увидел на кафедре Георгий Скорина в это первое утро своей университетской жизни. Георгий, конечно, не мог еще знать всего этого о Глоговском, но сама мысль, что он сидит в аудитории университета и слушает лекцию знаменитого профессора, наполняла его таким торжественным волнением, какого еще ему не приходилось испытывать.
Он слушал голос лектора, словно музыку, не различая слов, не вдумываясь в их смысл. Он глядел то на вдохновенное лицо Глоговского, озаренное отблеском свечей, то на студентов, дружно скрипевших перьями, то на стрельчатые окна, за которыми вставал серый осенний день.
Глоговский читал по-латыни, часто делал отступления и увлекался пространными суждениями, переходя на польский язык. Георгий неплохо знал и латынь, и польский язык, но к ужасу своему обнаружил, что ничего не понимает. Он напряг все свое внимание. Он слышал и понимал каждое слово, но смысл целого ускользал от него. Георгий пришел в отчаяние.
«Как я заблуждался, думая, что созрел для высокой науки, – говорил он себе. – Все эти юноши, видимо, не испытывают никакого затруднения и свободно записывают мудрые мысли. Я же не в состоянии постигнуть их».
Когда лекция кончилась, Николай Кривуш взглянул на грустное лицо новичка и спросил:
– Видно, не очень развеселила тебя речь пана Глоговского? Или, может быть, ты страдаешь зубной болью? За скромное вознаграждение я готов исцелить тебя, как исцелял уже не однажды канцелярских писцов и лавочников.
– Нет, – ответил Георгий, смущаясь. – Вижу я, что не понять мне науки, оттого и печалюсь.
– Не беда! – Кривуш похлопал его по плечу. – Ведь и сам я, признаюсь, на первой лекции хлопал ушами, что не помешало мне впоследствии стать тем, кем я стал. Откинь же свои сомнения, и лучше давай подумаем о том, как достойно отпраздновать твое вступление в университет…
Выходя из аудитории, они столкнулись с Рейхенбергом. Немец сухо поклонился Кривушу и приветливо протянул руку Георгию, поздравив его с началом новой жизни. Горячо пожав его руку, Георгий сказал:
– Спасибо, пан, век не забуду вашей ласки.
– Надеюсь, – улыбнулся Иоганн, – надеюсь также, что не забудете и того, что говорил вам его преосвященство пан попечитель. Вы, кажется, нуждаетесь в жилище? Я получил для вас разрешение поселиться в бурсе.
Завтра я навещу вас, и мы побеседуем более подробно.
Вечером того же дня Георгий перетащил свой мешок в маленькую, убого обставленную комнату. У стен стояли два жестких топчана. Один из них кое-как был застлан, другой, по-видимому, еще пустовал. Георгий подошел к окну, выходившему в университетский сад. Огромные старые клены стояли в багряном великолепии осени. Изредка падал на землю золотой лист. Тихо и одиноко… Георгий вздохнул. «Родина, родина, – подумал он, – как далеко ты от меня!»
Глава II
Прошло несколько месяцев. Георгий освоился с чужим городом и университетом. Страх и растерянность, испытанные им на первой лекции, скоро исчезли. Он понял, что здесь, на чужбине, только собственные силы и ум помогут ему. Злое упорство предков пробудилось в юноше.
Так некогда приходил поселенец в пущи и болота Полесья, брался за топор и заступ, не торопясь рубил хмурые ели, выкорчевывал пни, выжигал обширные ляды. Проходило время, и возникала низкая бревенчатая хата, взрастали хлеба, начиналась жизнь.
Георгий трудился не разгибая спины. Каждый день на рассвете появлялся он в аудитории и покидал ее, только когда заканчивалась последняя лекция. По ночам, при свете воскового огарка, он переписывал лекции в аккуратный сшиток, помещая на полях собственные размышления. Его сосед по каморке, Вацлав Вашек, обычно крепко спал в это позднее время, и Георгий нередко смотрел на него с завистью. Пища Георгия была скудной, как у пустынника. Другой, наверно, давно бы свалился от истощения, но он оказался на редкость выносливым.
В ту пору в университете наряду с сыновьями вельмож и городских патрициев училось немало неимущих юношей. Получая в бурсе бесплатное жилье, они должны были сами заботиться о пропитании и одежде. На улицах университетских городов часто можно было встретить голодных и оборванных схоларов, просивших милостыню у прохожих:
– Подайте ученому схолару ради щедрот науки будущей.
Но наш герой был горд и ни за что не опустился бы до такого унижения. Зато он не гнушался никаким трудом и не считал зазорным за скромную плату разгружать телеги приезжих крестьян и торговцев или носить со складов в лавки тяжелые кипы товаров.
В учебных занятиях Георгий уделял главное внимание латыни, без которой нельзя было обойтись в университете. Сначала он принялся за латынь с чисто практической целью, но вскоре почувствовал к ней большой интерес. Он с наслаждением произносил звучные стихи древних поэтов, заучивая их наизусть. Еще большее удовольствие доставляло ему вникать в суть сложной латинской грамматики.
С каждым днем Георгий чувствовал себя все свободнее и увереннее в этом новом мире. Скоро лишь очень немногие схолары превосходили его в толковании текстов. Никто не трудился так упорно, как он. Это было оценено в студенческой среде. К Георгию стали обращаться за помощью и советами, и он всегда охотно и приветливо помогал товарищам. Его веселый и добрый нрав, простота в отношениях привлекали к нему многих. С некоторыми из студентов у Георгия завязалась крепкая дружба.
Особенно подружился он со своим соседом по комнате Вацлавом Вашеком. Это был долговязый застенчивый чех, редкой физической силы, родом из Моравской Остравы. В Кракове у него не было ни родных, ни друзей, и он острее Георгия ощущал свое одиночество. Успехи Вацлава в науках были посредственны. Однако он вовсе не был глуп или не способен. Просто ему не хватало той неиссякаемой силы духа, которая была присуща Георгию Скорине.
Он с трудом переносил лишения, с которыми Георгий легко примирился. С почтительным восхищением следил Вацлав за своим новым товарищем, дивясь его упорству и способностям. Георгий быстро опередил Вацлава в науках, но Вацлав не чувствовал к нему зависти, а радовался успехам друга и как бы гордился ими. Георгий сознавал свое превосходство над Вацлавом, но никогда не давал почувствовать его. Он высоко ценил благородство, честность и возвышенный образ мыслей юного чеха.
В свободное время они рассказывали друг другу о своем доме и детстве, о природе и обычаях родного края или напевали вполголоса песни. Каждый из них узнавал страну другого и находил в ней много общего со своей родиной. От воспоминаний они переходили к мечтам.
Обычно мечтал вслух Георгий. Вашек любил следить за полетом его воображения. Речь шла о том времени, когда, закончив учение, они отправятся странствовать… Они обходили всю землю и видели жизнь разных людей в холодных и жарких странах. Отправлялись в плаванье по чудесным морям и посещали Вечный город, в котором некогда творили замечательные поэты, ораторы, историки. Посещали родину Аристотеля и Платона, где над лазоревыми волнами все еще высятся колонны Парфенона.
Но когда раздавался сочный храп Вашека, Георгий покидал своего друга и продолжал путешествие один. Путь его лежал к Полоцку.
Умудренный книжной наукой, он въезжает в родной город. Никто не узнает его, даже брат Иван и веселая, ласковая Настя. Потом все ахают, и весть о его приезде собирает жителей Полоцка к дому Ивана Скорины. Все хотят посмотреть на ученого мужа, сына купца Луки.
Брат Иван с гордостью принимает почести. Горожане избирают его своим бурмистром. Потом, когда все расходятся, Иван смущенно обращается к Георгию и просит забыть давнюю обиду. Георгий обнимает брата и говорит:
«Никакой вины за тобой не числю. Знаю, что ты всегда хотел блага для меня, только осмыслить не мог, что есть истинное благо».
В это время входит поседевший поп Матвей. Георгий горячо обнимает своего первого учителя, и они долго сидят рядом, беседуют. На глазах у старика слезы, и он говорит:
«Недаром надеялись мы на тебя. Вот каким ты вырос большим и мудрым. Теперь мне у тебя учиться под стать… И умереть не обидно…»
Георгий кланяется ему в ответ:
«Спасибо вам, отец Матвей, за науку и ласку. Живите долгие годы, теперь я ваш первый помощник в тяжком труде просвещения…»
Мечты обрывались… Георгий лежал молча, не зажигая свечи. Только тлеющие в жаровне угли красноватым отблеском освещали убогую сырую келью.
Кроме Вацлава, Георгий сблизился с некоторыми студентами-поляками. В их числе был и Николай Кривуш. Николай обычно проводил вечера и ночи в трактирах. Георгий же никогда не принимал участия ни в шумных попойках, ни в ночных похождениях. Георгий любил веселую песню, хорошую шутку, звонкий смех. Не был равнодушен и к девичьей красе. Но сейчас было не до того. Поэтому с Кривушем он встречался не часто. Однако, узнав его ближе, Георгий обнаружил под маской цинизма и шутовства острый ум и доброе сердце. Он привык к странной манере его разговора, которая смущала его вначале, и научился отбивать иронические тирады Николая остроумными и складными шутками. Беседы с Кривушем доставляли ему удовольствие.
Кривуш тоже привязался к новому другу. Он по-прежнему подтрунивал над его скромностью и простодушием, но в глубине души любил Георгия.
Иначе сложились отношения с Иоганном фон Рейхенбергом. К этому человеку Георгий с самого начала испытывал странное и сложное чувство. Считая себя должником Иоганна, Георгий в первые дни готов был завязать с ним тесную дружбу. Но было в этом юноше нечто такое, что охлаждало Георгия и даже внушало смутную неприязнь.
Рейхенберг часто уезжал в свое поместье, а живя в Кракове, редко бывал в компании студентов. Принадлежа к знатному немецкому роду, пользующемуся большим влиянием при королевском дворе, Иоганн вращался в кругу краковских магнатов и князей церкви. В университете он был близок только с несколькими студентами, сыновьями польских вельмож.
Рейхенберг и его друзья показывались в аудитории редко, держались замкнуто и высокомерно. Они не считали нужным слушать всех профессоров и посылали мелких шляхтичей или грамотных слуг из замковой челяди записывать лекции. В ту пору это было распространено не только в Краковском, но и во многих других университетах Европы.
Лишь два-три раза Георгию привелось беседовать с Рейхенбергом. Беседы эти были краткими, но ни разу не обходилось без того, чтобы Иоганн не осведомился о том, каковы успехи Георгия в теологических дисциплинах и не созрело ли в нем убеждение в преимуществе католической веры. Георгий отвечал уклончиво, ссылаясь на то, что изучение латыни и древних классиков, в которых он отстал от товарищей, отнимает у него слишком много времени.
Георгий часто думал об этом человеке. Он знал о Рейхенберге только то, что было известно всем, но из этого нельзя было составить себе о нем представление. Иоганн был умен и, хотя редко бывал в университете, несомненно, обладал знаниями. Не казался он и бездельником, проводящим дни в праздности и развлечениях. Это был человек деятельный и, по-видимому, занятой. Но чем он занят? Какого рода дела и заботы беспокоили юношу, избавленного от необходимости заработать себе на жизнь?
Рейхенберг явно не отличался ни мягкосердечием, ни добротой. К людям «низшего круга» относился с высокомерным равнодушием. Почему же он вдруг принял такое сердечное участие в судьбе Георгия?
Однажды в зимнее утро Георгий увидел Рейхенберга в аудитории во время лекции Яна Глоговского. Это было необычно. Иоганн всегда избегал посещать лекции этого профессора. Георгий же не пропускал ни одной. В этот раз Глоговский излагал один из разделов учения Аристотеля, трактовавший о движении, определяющем собой различные формы материи. Георгий жадно слушал учителя и непрерывно записывал в своей тетради. Глоговский умолк и, устало облокотившись на кафедру, спросил:
– Все ли понятно в том, что я сказал вам?
Слушатели молчали. Потом чей-то голос ответил:
– Не все понятно, пан профессор…
Глоговский поднял голову и увидел Георгия, вставшего со скамьи.
– Тебе не понятно? – спросил Глоговский.
– Мне, – ответил Георгий.
– Говори!
– Аристотель учит, что материя может принимать определенную форму только посредством движения… Стало быть, мир постоянно изменяется…
– Так, – сказал Глоговский.
– Но мир, – продолжал Георгий, – со времен Аристотеля претерпел множество изменений. Почему же наука до сего дня продолжает покоиться на том, что высказано много веков назад?
Глоговский внимательно вгляделся в лицо юноши. В глазах профессора зажегся вдохновенный огонек. Аудитория ждала в полном молчании.
– Формы мышления отличны от форм материального мира, – сказал Глоговский, продолжая испытующе смотреть на Георгия.
– В этом я и усматриваю противоречие. Ибо тот же греческий мудрец учит, что душа нераздельна с телом и что в душе человеческой отражается весь мир… – Георгий оборвал свою тираду. Как мог он так увлечься! Как посмел противоречить этому великому ученому, перед которым в душе преклонялся! Он густо покраснел.
Глоговский улыбнулся:
– На вопрос твой сейчас отвечать не стану. Я посвящу ему отдельную лекцию. Вы свободны, панове. Я кончил.
Георгий собрал свои записи и вышел из аудитории. В коридоре его окликнул Рейхенберг.
– Пан Франциск удостоился похвалы, – сказал он. – Однако истинная мудрость заключается не в чрезмерной пытливости, а в скромности и незыблемой вере.
– О, Ян! – ответил Георгий. – Вы правы. Я и сам раскаиваюсь в том, что проявил нескромность, осмелившись противоречить пану Глоговскому…
– Не о пане Глоговском речь, – возразил Иоганн. – Не следует подвергать сомнению мысли, которые содержатся также и в творениях отцов церкви. В них одних воплощена высшая истина. Может ли слабый человеческий ум превзойти то, что внушено божественным откровением? Запомните это, Франциск…
Георгий несколько опешил от этого наставления, естественного в устах проповедника, но не светского юноши. Он хотел возразить Иоганну, но тот опередил его:
– Впрочем, юности свойственны заблуждения. Я надеюсь, что с течением времени вы освободитесь от них. Теперь же я прошу вас об одной услуге…
– Охотно окажу вам любую услугу, – живо ответил Георгий.
– Видите ли, – продолжал немец, – кое-какие дела и обязанности отнимают у меня много времени. Мне редко удается бывать здесь и потому приходится посылать людей из свиты моего отца, чтобы записывать лекции. Но, хоть и сведущие в латыни, они не обладают ни научными познаниями, ни проницательным умом. Записи их не могут удовлетворить меня…
– Вы хотите, чтобы я помог вам в этом? – спросил Георгий. – Я очень рад, что могу оказать эту ничтожную услугу. Я буду делать для вас отдельные записи всех лекций.
– В этом нет нужды, – остановил его Рейхенберг. – Вы будете давать мне те записи, которые делаете для себя. Ведь вы вносите туда и ваши собственные мысли? Не так ли?
– Да, разумеется, – подтвердил Георгий.
– Отлично, это поможет мне яснее усвоить предмет. Я знаю, вы нуждаетесь в деньгах. Ваш труд будет щедро оплачен…
– Как! – вскрикнул Георгий. – Вы предлагаете мне плату? Неужели вы могли думать, что я возьму у вас хоть грош? Ведь мы же друзья…
Он доверчиво и сердечно протянул руки, чтобы обнять Иоганна, но немец отступил назад, и на лице его появилась чуть презрительная улыбка.
– Вы еще недостаточно хорошо изучили польский язык, Францишек, – сказал он сухо, – и не умеете выбирать выражения. Слово «друг» означает слишком многое. Мой род происходит от Гогенштауфенов, а мой отец – барон священной Римско-Германской империи… Вы можете стать моим братом… во Христе. Но другом… Это другое…
Георгий стоял неподвижно, ошеломленный неожиданной обидой.
– Друг мой! – прозвучал чей-то голос, и рука легла на его плечо.
Георгий обернулся. Перед ним стоял Глоговский.
– Друг мой, – повторил он ласково, беря Георгия за руку. – Приходи ко мне сегодня вечером, я хочу побеседовать с тобой.
Кивнув юноше, Глоговский скрылся в сумраке коридора.
Георгий снова повернулся в сторону Рейхенберга.
– Хорошо, пан Ян, – сказал он твердо и решительно. – Я обязан вам тем, что поступил в университет, и не хочу остаться должником. Вы будете исправно получать все мои записи…
Не ожидая ответа, он с достоинством поклонился немцу и быстро пошел к выходу.
На этот раз Георгий, не заходя, как обычно, в торговые ряды, отправился домой. Он был взволнован неприятным разговором с Иоганном и обрадован приглашением Глоговского. Когда Георгий вошел в каморку, его сосед спал, уткнувшись носом в жесткую подушку.
– Проснись, лентяй, – крикнул Георгий, принимаясь тормошить Вашека. – Ты проспал интереснейшую из лекций.
– Это ты, Франек? – спросил Вацлав сонным голосом. – Кажется, я в самом деле уснул.
– В этом не может быть сомнения, – смеясь, ответил Георгий. – Что же тебе снилось, бедняга?
– Целый круг колбасы и маковая лепешка, – с грустью ответил Вашек. – И если бы ты не поторопился, может быть, я успел бы съесть их.
– О, чревоугодник! Почему же ты не поспешил сохранить хотя бы кусочек для своего друга? Впрочем, я заботливее тебя. Кажется, в моем мешке осталось несколько сухарей.
– Не ищи их, – остановил Георгия Вацлав. – Я уже их съел, чтобы как-нибудь скоротать время.
Георгий не успел ответить, как дверь распахнулась и в каморку вошел Николай Кривуш. Толстяк был навеселе. Он, видимо, только что плотно пообедал. Щеки его пылали и лоснились, глаза блестели.
– Привет и слава мученикам науки! Приблизьтесь, сыны мои, я дам свое благословение! – крикнул он громовым голосом, вынимая что-то из-под плаща.
– Колбаса… – прошептал Вашек почти с испугом. – Целый круг колбасы!
– И маковые лепешки! – провозгласил Кривуш, кладя на стол свои приношения.
– Чудо! – сказал ошеломленный Георгий. – Он только что видел это во сне. Ты поистине ясновидец, Вацлав.
– В таком случае, – сказал Кривуш, – я попрошу тебя, Вацлав, в следующий раз увидеть во сне кабанью голову, паштет из бекасов и небольшой бочонок старого меда. Не буду также огорчен, если тебе приснится костер, на котором будет поджариваться его преподобие пан ректор со своими приятелями, доминиканскими монахами.
– Где ты раздобыл эту святую пищу? – спросил Вацлав, отламывая большой кусок колбасы.
– Проходя по торговым рядам, – важно объяснил Кривуш, – я встретил моего старого знакомца, дядюшку Отто. Этот немец владеет лавкой, которая снится по ночам всем краковским красавицам, как Вацлаву колбаса и лепешки. Я обратился к нему с приветствием по-латыни, чем, несомненно, польстил ему. «О, герр бурш, – сказал этот индюк, набитый фаршем из червонцев. – Ви ест великий снаток латайниш. Напишит мне айн документ…» И он попросил меня составить по-латыни жалобу в магистрат на сборщика податей…
– И ты написал? – спросил Вашек.
– Разумеется. Мне не пришлось ломать голову. Под рукой у меня был трактат блаженного Августина, и я добросовестно переписал оттуда две страницы.
– Что же немец?
– Он был тронут до слез. Он вызвал свою супругу, фрау Амалию, которая давно уже неравнодушна ко мне, как, впрочем, все особы ее пола и возраста…
– А каков ее возраст? – поинтересовался Георгий.
– Я думаю, что она прожила в этом бренном мире немногим более половины столетия. Фрау Амалия угостила меня отличным обедом и снабдила на дорогу тем, что вы сумели так быстро уничтожить.
– Мне кажется, Николай, – решил похвастать Георгий, – что сегодня я заслужил еще лучшее угощение. Пан Глоговский удостоил меня похвалы…
– О, Франек! – воскликнул Вацлав. – Расскажи.
Георгий рассказал друзьям о событиях сегодняшнего утра.
– Какой ты смелый, Франек! – восторгался Вацлав. – Я никогда не решился бы.
– Прекрасно, сын мой, – одобрил Кривуш. – Движение материи – это как раз то, о чем я все время думал, унося колбасу из-под носа лавочника…
– Погодите, – остановил их Георгий. – Это еще не все. После лекции я говорил с Рейхенбергом.
– Не понимаю, что тебе нужно от этого спесивого немца, – сказал Кривуш.
– На этот раз нужно не мне, а ему, – возразил Георгий. – Ведь он помог мне поступить в университет, и я не могу быть неблагодарным. Только не знаю еще, зачем он это сделал…
– Может быть, затем, – объяснил Кривуш, – чтобы покрасоваться милосердием и сделать тебя своим покорным лакеем.
– Нет… я не думаю, – заметил Георгий. – Впрочем, бог с ним. Есть новости более интересные. Пан Глоговский пригласил меня к себе на беседу.
– Святая дева! – вскрикнул Вашек. – Как я рад за тебя, Франек.
– Если бы ты сразу сказал об этом, – почти обиженно заметил Кривуш, – мне не пришлось бы так долго держать за пазухой это доброе вино.
И, вынув бутылку, Николай Кривуш провозгласил тост за будущего ученого Франциска Люце де Полоцко.
* * * Еще только смеркалось, когда Георгий вышел из бурсы, направляясь к Глоговскому. Ему нужно было пройти весь город до самой окраины. В то время на некоторых улицах Кракова появилось уже много новых зданий, выстроенных немецкими и итальянскими зодчими и отличавшихся той гармоничной простотой, которая была присуща эпохе Возрождения. Но здесь, на окраине, еще царила средневековая готика. Мрачные дома с выступавшими верхними этажами, сложенные из кирпича и дерева, стеснили и без того узкую улицу.
Георгий не без труда нашел жилище профессора. В нижнем этаже помещались лавки зеленщика и мясника. Рядом с лавками были железные ворота.
Войдя в ворота, он увидел стрельчатую арку, за ней широкую лестницу с пологими кирпичными ступенями. Георгий поднялся в просторный вестибюль, скупо освещенный масляной плошкой. Из-за двери доносились визгливые не то женские, не то детские голоса. Георгий постучал. В двери показался седой слуга и на вопрос Георгия, как пройти к пану Глоговскому, молча показал вверх на крутую деревянную лестницу.
Георгий поднялся еще выше и наконец вошел в светлую комнату, где вдоль стен на полках стояло множество книг. В простенках между полками висели карты земли и небесной сферы.
В глубине комнаты, за огромным столом, уставленным медными и стеклянными сосудами, Георгий увидел Глоговского, беседовавшего с незнакомым ему человеком.
Глоговский был в домашнем темном халате, напоминавшем монашескую сутану. Его седеющие волосы свободно падали на плечи. Собеседник, мужчина лет тридцати, в суконном кафтане чужеземного покроя и квадратном черном берете, по-видимому, был иностранец.
Георгий остановился в смущении. Глоговский увидел его.
– А, ты пришел! Прекрасно. Подойди же, Францишек.
Георгий подошел к столу.
– Вот, – обратился Глоговский к своему собеседнику, – юноша, достойный вашего внимания, коллега. Он прибыл к нам из далеких русских земель… Среди учеников моих не знаю более ревностного, чем он.
Гость внимательно поглядел на Георгия глубокими карими глазами. Юноша, смущенный похвалой Глоговского, опустил голову.
– Сегодня, – продолжал Глоговский, – он задал мне вопрос, какого я доселе не слыхал из уст схолара.
Он с удивительной точностью, слово в слово, повторил их утреннюю беседу. Гость молчал, продолжая пристально рассматривать Георгия.
– Мысль твоя разумна, – сказал он наконец (Георгия удивило его правильное польское произношение). – Изучая творения Аристотеля, не следует всецело полагаться на них. Ибо и сей греческий философ обо многих вещах судил неправильно, не обладая еще достаточным знанием их природы…
Георгий вдруг вспыхнул.
– Пусть простит меня уважаемый пан, не могу того допустить. Аристотеля я почитаю величайшим и ученейшим из мудрецов…
– Чтобы утверждать это, нужно самому много знать, – сказал незнакомец спокойным, немного глуховатым голосом.
– Знания мои ничтожны, – признался Георгий, сразу остыв, – но…
– Хорошо, что ты в этом признаешься. Величие древнего мыслителя не оспариваю. Но с тех пор люди открыли многие тайны природы, дотоле непонятные. Ведь ты сам говорил, что мысль не остается неподвижной…
– Так, – сказал Георгий тихо.
– Разве не учил Аристотель, что Земля является центром Вселенной и пребывает в неподвижности, а вокруг нее вращаются различные концентрические сферы: Солнце, Луна, пять планет… А между тем внимательные наблюдения и вычисления могут дать другое представление о мире.
– Чьи наблюдения? – спросил Георгий.
– Некоторых ученых, – уклончиво ответил незнакомец. – Однако, друг мой, – обратился он к Глоговскому, – наступает мое время… Прощайте.
Он вежливо поклонился Глоговскому, снова внимательно взглянул на Георгия, затем быстрым движением сжал его руку выше запястья и вышел.
– Не скажет ли мне пан профессор, – спросил Георгий Глоговского, когда незнакомец скрылся за дверью, – кто этот иноземец?
– Он не иноземец, – ответил Глоговский, – а поляк. Он учился в нашем университете, затем странствовал в чужих краях и теперь заехал к нам ненадолго. Это великий ученый, Францишек.
– Как его имя?
– Его зовут Николай Коперник.
Глоговский поднялся и подошел к Георгию.
– Хорошо, что ты пришел. Ты можешь бывать здесь так часто, как пожелаешь. В этой комнате я провожу большую часть дня, а нередко и ночи. Здесь высоко, и ко мне не доносятся ни голоса моих домашних, ни шум улицы. Я нарочно выстроил себе эту келью под самой крышей. Отсюда мне видны небо и далекий горизонт.
Он подвел юношу к окну. Уже стемнело, и за окном были видны силуэты куполов, кровель и башен. Темнела лента Вислы с возвышающимся на ее берегу знаменитым Вавелем, где на высоком холме застыли громады старинного собора и королевского замка.
Глядя в окно, Глоговский заговорил о вопросе, заданном Георгием сегодня на лекции. Он всесторонне разобрал его и высказал свои собственные мысли, пояснив Георгию, что не имеет возможности на кафедре излагать их с полной свободой.
Затем он сам стал задавать вопросы юноше, интересуясь его прошлым, его страной, народом и обычаями.
Георгий с радостью отвечал, и здесь впервые он доверил учителю свою затаенную мечту.
Георгий рассказал Глоговскому о своем желании посвятить жизнь печатанью книг на родном языке. Он говорил горячо, взволнованно, словно боясь, что эта давно вынашиваемая им идея вдруг не получит одобрения, окажется ложной.
Глоговский слушал его улыбаясь. Профессор понимал, сколь опасно было бы сейчас не поддержать юношу. Но понимал он и то, что Георгий слишком мало знал о печатном деле. Быть может, даже не видел еще печатных станков, не знал, какие трудности ожидают его на этом пути.
– Сын мой, – сказал Глоговский задумчиво. – Я вижу в очах твоих огонь, который может зажечь только истинно высокий и благородный дух. Иди же смело своей дорогой! Но не питай тщетных надежд, что в нашем университете ты достигнешь своей цели. В нем злой волей обскурантов наука скована по рукам и ногам. Оставайся в университете, но учись и за пределами его. Приходи сюда чаще, как это делают несколько других любознательных юношей. Я попросил моего друга, пана Коперника, задержаться здесь на некоторое время и побеседовать с нами. Согласен ли ты, Франциск?
От волнения Георгий не мог вымолвить ни слова. Он только молча кивнул головой.
– Но будь осторожен, – предупредил Глоговский. – Я слишком часто ощущаю на лекциях присутствие невидимых соглядатаев. Слава богу, здесь мы свободны от них. Пусть никто не знает о наших собраниях. Я часто видел тебя с рыцарем фон Рейхенбергом. Ты дружен с ним?
– Нет, – ответил Георгий, – я у него в долгу.
Он рассказал профессору о своих отношениях с Иоганном.
– Так, – молвил профессор, размышляя. – Несомненно, что, оказывая тебе помощь, он преследовал какую-то цель. Это странный и, думаю, опасный человек. Он обладает могущественными связями и пользуется большим влиянием в университете. Он и его друзья ненавидят меня. Однако займемся более интересным делом.
Глоговский показал ему старинные латинские манускрипты, переписанные искусными писцами Западной Европы и Византии, древнееврейские свитки Торы, замечательное итальянское издание «Божественной комедии» Данте, тогда еще мало кому известной в Польше. Затем он перешел к инкунабулам, первопечатным изданиям. С особенной гордостью он показал несколько славянских книг. Это были знаменитый «Осьмигласник», напечатанный в Кракове в 1491 году пражским мастером Святополком Феолем, и издания краковского типографа Яна Галлера, в числе которых были трактаты и лекции самого Глоговского. Эти книги Георгий уже успел приобрести и почти выучить наизусть. И все же он долго рассматривал печатные славянские буквы и заставки, словно пытаясь сейчас понять секрет их создания.
Беседа затянулась до глубокой ночи. Новый мир раскрылся перед Георгием, и только к нему были прикованы его мысли. Это было словно второе рождение.
Пробираясь в темноте домой, Георгий во дворе университета столкнулся с Кривушем.
– Это ты, Франек? – узнал его в темноте Кривуш. – Я ждал твоего возвращения до тех пор, пока Вацлав со своим другом Морфеем
чуть не захватили меня в плен. Неужели все это время ты был у профессора?
– Николай, – сказал восторженно Георгий, – мне кажется, что никогда я не был так счастлив, как сегодня!
– Уж не пригласил ли тебя пан Глоговский бывать у него? – лукаво спросил Кривуш.
Георгий помолчал. Он помнил слово, данное профессору, и ответил уклончиво:
– Пан Глоговский очень добрый и ученый муж.
– Молодец, Франек! – Кривуш неожиданно зашептал: – Помни, мы собираемся каждый четверг и субботу. Приходить нужно не ранее чем стемнеет и не всем вместе.
– Как!.. – вскричал Георгий. – Разве и ты бываешь там?
– Николая Кривуша только там и можно найти, где мудрость и высокие знания. Я рад за тебя, Франек… Прощай!
Кривуш исчез. Удивленный и радостный, Георгий медленно направился в бурсу.
Глава III
Уже несколько недель Георгий служил приказчиком в лавке Отто из Любека, куда помог ему поступить Николай Кривуш.
Торговля хотя и не привлекала Георгия, но не была новым для него делом. Сын купца, не раз выполнявший дома различные торговые поручения, он скоро завоевал доверие хозяина и уважение приказчиков.
После тяжелой, полуголодной зимы служба казалась ему просто раем. Георгий больше не думал о пище, получая ее у хозяина, подобно другим служащим. Его платье оставалось чистым и опрятным, так как на работе он носил специальный кафтан, сшитый из хозяйского сукна. В кармане уже позвякивали деньги.
Главным же преимуществом этой службы было то, что у него оставалось достаточно свободного времени для занятий. Теперь он редко бывал в университете, в котором окончательно разочаровался. Зато не менее четырех раз в неделю он по вечерам посещал дом Глоговского.
Кружок был невелик: несколько студентов-поляков, с которыми Георгий прежде встречался в университете, но не был близко знаком, Николай Кривуш и Вашек, привлеченный Георгием с разрешения пана Глоговского.
Эти вечера были совсем не похожи на монотонную жвачку университетских лекций. Беспредельные просторы открывались перед юношами. Легко и вдохновенно шла сложная работа мысли, освобожденной от оков.
Глоговский излагал им свои философские взгляды, пытаясь по-новому осмыслить учения древних мыслителей. Он рассказывал также о своих опытах в области анатомии, особенно подробно останавливаясь на своей любимой теме – строении человеческого черепа и функции мозга.
Студенты свободно высказывали свои мнения. Георгий обычно задавал вопросы, дававшие пищу для оживленных споров между юношами, и нередко отваживался почтительно, но твердо возражать самому профессору.
Профессор одобрял и всячески поддерживал стремление юноши усвоить не только то, что сообщалось на лекциях факультета свободных искусств, но и то, что преподавалось на других факультетах – медицинском и богословском.
Не раз слыхал Глоговский о том, что Скорина ставил в трудное положение своих учителей, находя явные противоречия в лекциях разных факультетов их университета.
Друзья предостерегали Георгия от опасности таких открытий.
– Скоро, Франек, ты станешь Фомой неверующим, – говорили они. – Да и к чему тратить время в спорах о том, чего не надобно знать «артисту»?
Георгий, смеясь, отвечал им:
– Видали ли вы дерево, одна ветвь которого не согласуется с другой? На котором вместе растут груши и огурцы, яблоки и тыквы? Вторым Вавилоном был бы сад из деревьев таких. Наука же, подобно широкому лугу, должна цвести цветами разными, но в единый ковер сливаться…
Особое место в кружке занимал Николай Кривуш. Он удивлял товарищей глубокими и своеобразными суждениями и незаурядным поэтическим дарованием. Воспитанные на классической поэзии древних греков и римлян, юноши с удовольствием слушали лирические сонеты Кривуша. А его злые, острые эпиграммы и шуточные песенки вызывали взрывы веселого хохота, к которому присоединялся и сам профессор Глоговский.
Иногда на беседе присутствовал Коперник. Нередко он рассказывал о событиях, происходящих в Королевстве Польском и Великом Литовском княжестве, о которых был хорошо осведомлен.
Когда же беседа касалась астрономических тем, Коперник осторожно указывал на ошибки устаревшей системы Птолемея и бегло говорил о собственных изысканиях.
– Я нахожусь в периоде поисков и потому не могу еще с полным убеждением отстаивать свою гипотезу. Придет день, когда я смогу сказать вам о том, к чему пришел и что считаю истинным.
Студенты чувствовали за этой неторопливой и немногословной речью величие истинного ученого и всегда радовались приходу Коперника.
По утрам Георгий охотно бежал в лавку дяди Отто. Здесь, в компании простых и веселых приказчиков, он отдыхал от напряженной умственной работы.
Атлас, бархат, кружева, сукна – все это было простым и привычным делом, не требовавшим ни сомнений, ни споров. Пестрое разнообразие материй, суета рынка, неторопливая важность хозяина напоминали ему родной Полоцк. Иногда Георгий садился в дальний угол прилавка и подолгу задумчиво смотрел в одну точку, пока старший приказчик не выводил его из оцепенения окриком:
– Франек, пойди к хозяину, узнай, не для этой ли досточтимой пани схоронил он драгоценнейшую золотную камку, что так редко попадается ныне.
Георгий убегал в заднюю дверь, зная, что ему вовсе не нужно тревожить хозяина, а надо постоять в темном коридорчике, пока старший приказчик произнесет знакомые слова:
– О, пани, если то схоронено не для вас, я предложу наиредчайший атлас, только в субботу прибывший с Востока.
Но пани уже хотела только золотную камку.
Георгий возвращался и равнодушно сообщал, что камку продать нельзя, так как хозяин ждет посыльного от жены самого пана воеводы. Приказчики делали грустные лица. Пани вспыхивала от обиды и гнева. Она видела в том унижение для себя и собиралась покинуть магазин. Но ей загораживали путь дорогими турецкими бархатами, малиновыми и зелеными, с золотыми и серебряными узорами. К ее ногам падали куски ткани, где, как в волшебной сказке, по золотой земле рассыпались чудесные травы. С прилавка небрежно лились тафта индийская, китайская… На вишневом и лазоревом поле сверкали золотые и серебряные цветы, деревья, горы. Ей предлагали мухоярь, зуфь. Все пестрело узорами, манило отливом складок.
Но пани хотела только золотную камку, ту самую, что берегли для жены воеводы. Приказчики вздыхали и снова бросались в атаку. Пани, казалось, уже готова была сдаться, но Георгий делал неосторожное движение, злополучная камка лихо разворачивалась поверх всех материй, затмевая их в глазах пани своей красотой. И пани хотела только ее. Ту самую золотную камку, что берегли для этой выдры, жены воеводы…
Старший приказчик заметно слабел и с грустью приказывал убрать все с прилавка. Он как бы признавал себя побежденным. Он тихо и с сожалением говорил:
– Пани видит, что мы рады ей угодить… Но мы видим также, что достопочтенная пани разбирается в искусстве. Что делать! Жаль… Слово хозяина – закон…
Тут Георгий, словно что-то вспомнив, шептал старшему на ухо. Тот оживлялся, также шепотом переспрашивая. Утомленная пани следила за ними с тревогой и надеждой. И ей объявляли приговор:
– Если пани поймет нас и ни словом не обмолвится о том… Мы ценим такое понимание красоты и, может быть, сделаем так, что жена воеводы… получит другую материю.
Измученная, но счастливая и гордая дама не спорила о цене. Рыжий мальчишка-посыльный, он же зазывала, едва поспевал за ней, неся пакет старой, давно вышедшей из моды материи. Приказчики стояли в дверях и, улыбаясь, смотрели, как вслед за «трудной пани» рыжий мальчишка уносил не десять аршин камки, а весь кусок в двадцать четыре аршина, завалявшийся в лавке.
Однажды солнечным утром дядя Отто сказал своим приказчикам:
– Уже время убирайт куфтюр и киндяк. Пришель каспаша Весна.
Плотные материи уступали место тафте и атласу. В лавке красили рамы окон и двери.
С наступлением весны Георгий стал задумчивым. Лицо его осунулось и побледнело.
Сквозь тоску по родному краю, сквозь высокие мысли, пробудившиеся под влиянием бесед с Глоговским, пробивалось новое, еще не понятное и тревожное чувство. Где-то в глубоких тайниках его существа накоплялось оно, волнующее и неясное, чтобы однажды вдруг превратить юношу в мужчину.
Георгий увидел во сне женщину и влюбился в нее. Понял он это не сразу. Однажды в лавку вошла молодая пара. Вероятно, жених и невеста. Кавалер сделал очень дорогой подарок молодой даме, щеки которой зарделись счастливым румянцем. Все, кто был в этот час в лавке, залюбовались ее красотой. Георгий тоже с удовольствием смотрел на счастливую пару. Но вдруг он мысленно сравнил молодую даму с той, что явилась ему во сне, и понял, что влюблен.
Да, влюблен! В видение, в дух, порожденный зреющим желанием, неотвратимым влечением к безвестной прекрасной подруге.
С этого дня Георгий жил в каком-то опьянении. Его мечта становилась день ото дня назойливей. Он ждал Её. Он знал, был уверен, что ОНА явится.
Вот как это произойдет. Она войдет через эту дверь, улыбнется рыжему зазывале и свирельным голосом спросит:
«Здесь ли служит бедный схолар Франциск, что поклялся любить меня больше жизни?»
«Здесь, – ответит ей рыжий зазывала, потрясенный ее красотой. – Вот он стоит за прилавком, бедный схолар Францишек, и ждет вас, драгоценная панночка!»
Панночка шагнет своей маленькой ножкой через щербатый порог немецкой лавки и протянет руку, унизанную кольцами и браслетами. Он молча поцелует ее пальцы и выйдет из-за прилавка.
Все приказчики, посыльные и соседние торговцы сбегутся, чтобы посмотреть на панночку. Даже хозяин откроет свои заплывшие глаза и скажет:
«О, майн готт!..»
Георгий гордо поднимет голову и пройдет мимо под руку со своей королевой. Куда?
– Кута профалился крушеф?.. Франц, подними-ка свой зад… О, доннер веттер, ты сидел на самы люший приманка красафиц города Кракоф…
И хозяин столкнул Георгия с тюка заморских кружев, только что доставленных в лавку.
Каждый день и каждый вечер, когда со скрипом закрывались железные ставни и щелкали тяжелые висячие замки, он шел домой, словно обманутый. И на следующее утро являлся в лавку, снова полный надежд.
Это продолжалось почти всю первую половину мая.
Однажды, когда Георгий, мечтая, сидел за прилавком, вбежал запыхавшийся Николай Кривуш. Остановившись посреди лавки и сложив молитвенно руки, он проговорил плаксивым голосом:
– Спаси, о брат мой. Я погибаю.
– Что случилось? – спросил Георгий. – Тебе нечем наполнить свою винную бочку?
– Нет, – строго ответил Николай. – Я не пью больше. Вот уже скоро четыре часа, как я трезвее самого Магомета. Страдания мои имеют иную причину… Франек, я влюблен!
Георгий расхохотался.
– Замолчи, Франек, – сказал Кривуш, тяжело опускаясь на скамью. – Грешно потешаться над горем друга.
– Разве это горе, Николай? – возразил Георгий, продолжая смеяться. – Даже в священном писании сказано: «Жених войдет, яко богач, и в прах падут…»
– Именно «яко богач», – перебил его Кривуш. – Но не войдет, а выйдет. Я выйду отсюда богачом, и ты мне поможешь в этом.
– О, друг мой, все, что я имею, я согласен разделить с тобой. Но это не сделает тебя богатым.
– Знаю. Оба мы богаты только мудростью и красотой, – согласился Кривуш. – Но и этого достаточно, чтобы помочь богине любви сделать правильный выбор… Франек, сейчас она войдет сюда.
– Богиня любви?
– Да. Моя возлюбленная… Я указал ей эту грязную лавчонку как единственное место, где почти за бесценок можно приобрести сафьяновые сапожки на жемчужных застежках.
– Николай, разве ты не знаешь, что мы не торгуем обувью? – удивился Георгий.
– Знаю, – ответил Кривуш. – Но ей вовсе не нужен ваш прелый бархат и изъеденный мышами куфтюр. Ей нужны сафьяновые сапожки и моя любовь.
– Тогда тебе следовало назначить свидание в магазине пана Липского. Там есть всякая обувь, – резонно заметил Георгий.
– Но там нет такого ученого и догадливого приказчика, – возразил Кривуш. – Слушай внимательно. Когда она войдет, ты не обратишь на нее внимания. Ты будешь заниматься только мной…
– Удовольствие небольшое, – вставил Георгий.
– Только мной. Я скуплю у тебя половину ваших самых дорогих материй. Какую бы цену ты ни назвал, она ничтожна по сравнению с моим кошельком. Я несметно богат. Ты стараешься угодить мне, но я замечаю прекрасную даму и благородно уступаю ей первенство… Возможно, их будет две. Упаси тебя боже ошибиться.
– Все ясно, – весело ответил Георгий, увлекшись затеей толстяка. – Но как я отличу одну от другой?
– О! – воскликнул Кривуш. – Я могу точно описать ее.
– Хорошо, – согласился Георгий. – Ее глаза?
– Звезды, – ответил без запинки Кривуш. – Нет, голубые озера в ясный день!
– Ее руки?
– Два лебедя.
– Фигура?
– Отличается от ангельской только более земной талией.
– Во что она одета?
– Праздный вопрос. Разве мог мой взор задержаться на бренных одеждах, когда я увидел ее глаза. О, брат мой, поверь, что итальянец Петрарка и не взглянул бы на свою Лауру, если бы догадывался о существовании моей возлюбленной.
– Ее имя?
– Увы! Она так была взволнована при встрече со мной, что не нашла в себе сил назвав его.
– Прекрасно, – заключил Георгий, – теперь я отличу ее даже среди тысячи.
– Итак, приступим, Франек. Она может явиться с минуты на минуту, – заволновался Кривуш.
Георгий стал в позу услужливого приказчика.
– Угодно ли ясновельможному пану взглянуть на образцы?
– Великолепно, сын мой! – Кривуш важно облокотился на прилавок. – Вываливай на прилавок все самое лучшее, только не вздумай резать на куски и… Что случилось, Францишек?
Георгий вдруг побледнел. Застывшим взором он глядел поверх головы друга.
Кривуш обернулся. В дверях лавки, как в раме, освещенные ярким солнечным светом, стояли две женщины. Молодая златокудрая девушка, еще хранившая детскую округлость лица и трогательную наивность выражения глаз, опиралась на руку женщины средних лет, по-видимому экономки. Георгий не мог отвести от нее глаз.
– Она, – прошептал он, – это она!.. Наконец пришла.
Он не слышал, как полная, задорно улыбающаяся экономка предложила: «Войдем же, панна Маргарита!», как обе женщины сказали: «День добрый» и как им ответил только Кривуш, отчего Маргарита удивленно взглянула на Георгия, а экономка подарила толстяку ласковую улыбку.
Он только видел, как она переступила щербатый порог лавки и, направившись к нему, протянула руку, унизанную кольцами и браслетами. Все происходило как в недавнем сне.
Сейчас он упадет на колено и поднесет к губам кончики этих почти прозрачных пальчиков. Но Маргарита только указала на сверток, бывший в руках Георгия, и спросила:
– Это кружева?
Георгий молчал.
– Кружева, моя ясная панночка! – донесся хриплый голос Кривуша.
Георгий вздрогнул.
– Заморские кружева, только вчера прибывшие, – объяснил он, постепенно возвращаясь к действительности.
– Покажите! – приказала экономка.
И Георгий привычным жестом развернул сверток.
Но тут Кривуш сделал свой заранее обдуманный ход.
– Напрасно пани будет любоваться, – объявил он, приняв важную позу. – Я уже закупил те кружева.
– Ах! – сказала Маргарита и отступила от прилавка.
Георгий чуть не бросился к ней. Он поспешил разъяснить:
– Пан шутит…
Кривуш метнул в него гневный взгляд и еще больше заважничал:
– Всю партию этих кружев положи вместе с тем, что я уже отобрал.
Георгий растерянно вертел в руках кружева. Экономка, лукаво улыбаясь, обратилась к Кривушу:
– Пан так богат, что закупает кружева оптом, или, может быть, пан берет их для перепродажи… и тогда разрешит нам…
– Нет, пани Зося, – перебила ее Маргарита, – я только хотела посмотреть.
Кривуш подмигивал и делал Георгию загадочные знаки. Тот наконец вспомнил уговор и засыпал экономку предложениями, с сожалением думая о том, что теперь все внимание Маргариты достанется Николаю. Но Кривуш почему-то не воспользовался своим преимуществом. Наоборот, он еще больше надулся и, не удостаивая смущенную девушку и двумя словами, грубо и невпопад вмешивался в разговор Георгия с экономкой.
В конце концов из всей затеи ничего хорошего не получилось. Оба кавалера вели себя по меньшей мере странно, и дамы даже несколько обиделись. Но когда девушка сказала своей экономке, что пора идти домой, Георгий прервал разговор на полуслове и снова застыл с таким печальным лицом, что пани Зося расхохоталась и уже на ходу что-то шепнула Маргарите, явно по адресу Георгия.
Георгий вышел из-за прилавка и, вероятно, пошел бы на улицу вслед за Маргаритой, если бы ему не преградил дорогу Кривуш.
– Так вот каков ты, бедный схолар Францишек! – прохрипел толстяк, покрываясь багровыми пятнами. – Ты только прикидывался тихоней.
– Николай, опомнись, – попятился Георгий.
– Нет! – гремел разошедшийся Кривуш. – Ты должен опомниться, а не я. Ты, погрязший во лжи и обмане. Ты, коварно обманувший доверие друга. Я ли не открыл тебе душу, я ли не просил тебя заниматься только мной и второй дамой…
– Я так и поступил, – едва смог вставить Георгий.
– А что ты сделал потом? Тебе мало было одной, и на глазах у друга ты пытался обольстить обеих, нарушив наш уговор…
– Николай, – перебил его Георгий, – я должен сказать тебе правду. Я был поражен… Я увидел ее…
Кривуш едва перевел дыхание и неожиданно переменил тон:
– О, я понимаю тебя, друг мой… Я также был поражен, когда впервые ее увидел.
– Нет, – тихо сказал Георгий. – Я видел ее раньше… Я ждал ее…
– Вот как, – живо заинтересовался толстяк. – Вы уже встречались? Где, когда?
– Я видел ее во сне… – сознался Георгий. – Когда она вошла сюда, мне показалось, что это снова видение. Так она была похожа на ту… Мне казалось, что стоит только открыть глаза – и все кончится. Я потеряю ее навсегда. Я боялся…
– Ты боялся, что твой друг Николай Кривуш украсит свою жизнь ее любовью?
Георгий побледнел.
– Замолчи! – сказал он.
Но Кривуш не хотел молчать.
– …Что не тебе, а другому принесет она однажды на свидание жареного каплуна и бутылку меду из хозяйского погреба.
– О ком ты говоришь? – вскрикнул Георгий.
– О ком? – с презрением переспросил Николай. – О ней, о несравненной пани Зосе, лучшей экономке города Кракова.
Георгий бросился к Кривушу и крепко обнял его.
– Прости, Николай. Я думал… Маргарита…
– Маргарита? – спросил Кривуш, задыхаясь в его железных объятиях. – Так ты о Маргарите?
И оба разразились таким веселым хохотом и так звонко хлопали друг друга по спине, что спавший в соседней комнате хозяин проснулся и стал искать под кроватью домашние туфли.
Кривуш между тем развивал новый план:
– Я знаю, где она живет, ее отец нанял здесь дом с садом по баснословной цене. Ты придешь и передашь для панночки эти кружева как подарок, и вы познакомитесь… Лучшего случая нельзя ждать.
– Но это очень дорогие кружева… – сопротивлялся Георгий.
– Я же сказал, что оплату беру на себя. Я богат, как епископ.
В лавку, позевывая, вошел хозяин. Первое, что он увидел, это заморские кружева в руках у Кривуша.
– Вас ист дас, Франц? – спросил недоуменно дядя Отто.
Но за Георгия ответил Кривуш:
– О, дядя Отто! Вы не видели, как ловко Франек только что продал всю партию этих гнилых кружев одной важной пани…
– Это не гнилы крушеф… – обиделся дядя Отто, но тут же улыбнулся. – Это прафта, майн зон? Ты продал весь крушеф?
Георгий замялся. Кривуш снова ответил за него:
– Конечно. Пани приказала отнести к ней домой. Но в лавке нет никого. Вот он и задумался, как бы пани не отказалась…
– О, нужно скоро, – радостно заторопился хозяин. – Ошень удашный продаш. Теперь я в лавке. Отнеси, Франц, этой пани…
Георгий не успел опомниться, как Николай свернул кружева, сунул ему в руки и вытолкнул на улицу.
– Что ты выдумал? – испуганно спросил Георгий друга, как только они завернули за угол.
– Мужайся, Франек. Это первое испытание. Лучшего случая не представится. Ты еще раз увидишь Маргариту, быть может войдешь к ней в дом и понравишься родителям… А завтра я верну деньги хозяину.
– Ты вернешь деньги? Такую сумму? Лучше скажем, что пани передумала.
– Не делай глупостей, Франек. Неужели сонный немец тебе дороже приснившейся Маргариты? И ведь я верну деньги. Разве ты не знаешь? Я получаю наследство… Моя бедная тетя в Тарнуве готовится отдать душу господу.
– Ты не шутишь, Николай?
– Я скорблю, Франек. Старая пани была не так уж плоха. И если ты согласен вместе со мной достойно помянуть ее, то деньги будут еще сегодня. Я могу занять их у менялы.
Так они дошли до дома Маргариты, уже знакомого Кривушу.
– Иди! – торжественно сказал Кривуш. – И помни: счастье в твоих руках. Скоро ты сможешь посещать этот дом вместе со своим другом, который, впрочем, не посягнет на хозяйский покой… Иди, я жду тебя в переулке.
Георгий сделал два отчаянных шага и оказался возле калитки. Он немного помедлил. Потом закрыл глаза и постучал.
Пожилой привратник с удивлением взглянул на юношу, стоявшего с зажмуренными глазами, с пакетом в вытянутых руках.
– Что пану угодно? – спросил старик.
– Для панны Маргариты, – прошептал Георгий и, открыв глаза, увидел за спиной привратника лукавую мордочку экономки. Георгий готов был провалиться сквозь землю.
Экономка узнала Георгия и, взяв пакет из его рук, весело воскликнула:
– Ах, те самые кружева, что закупил тот смешной пан! Он уже отказался от них?
Георгий был в силах лишь повторить:
– Для панны Маргариты…
– Так много? – удивилась веселая экономка. – А сколько стоит?
– Ничего… Это подарок… Я прошу… – выдавил Георгий и почти бегом бросился прочь от калитки.
Вслед ему раздался смех экономки, потом щелкнула калитка.
Георгий оглянулся. Кривуша нигде не было. Переулок был пуст. Георгий перешел на противоположную сторону и, прислонившись к фонарю, поглядел на окна дома. Вот здесь, за этими стенами, она… Его видение… Маргарита… Он ждал ее, и она пришла. Судьба пожелала их встречи. Может быть, это ее окно?
Светлая волнистая занавеска медленно приподнялась, и в окне показалась Маргарита. Отступать было поздно. Она видела его, она смотрела на него и улыбалась.
Несколько секунд Георгий стоял как зачарованный, потом, решившись, поклонился ей. Маргарита ответила ему ласково и непринужденно. Может быть, она тоже ждала его прихода? Кто знает…
Так состоялось знакомство юного схолара Георгия Франциска Скорины и девицы Маргариты Сташевич.
* * * Два дня Георгий тщетно искал своего друга, чтобы взять у него деньги на оплату кружев. Кривуш исчез. Мучимый раскаянием, Георгий далеко обходил торговые ряды, боясь встретиться с дядюшкой Отто.
А хозяин все ждал своего приказчика, унесшего дорогой товар какой-то важной пани, которой и имени он не знал. На третий день дядя Отто обозвал себя дураком и отправился на розыски. Прежде всего он пошел в университет.
Всю дорогу немец готовился к встрече с «вероломным Францем» и так хорошо затвердил грозные проклятия и ругательства, что, подойдя к университету и столкнувшись с полуглухим привратником, вместо приветствия крикнул ему одну из заранее подготовленных фраз. Привратник, как ни был он глух, не замедлил ответить тем же.
Дядя Отто рассвирепел. Забыв от возмущения все польские слова, он отвечал привратнику только на немецком языке, что еще больше разозлило привратника.
Дело, вероятно, окончилось бы дракой, если бы не проходивший мимо студент. Студент отвел дядю Отто в сторону и, выслушав его жалобу, заговорил с ним по-немецки, спокойно и повелительно. Дядя Отто сразу затих, даже как-то обмяк, а когда студент вручил ему две золотые монеты, стал низко кланяться и благодарить. Студент вынул из сумочки лист бумаги, перо и чернильницу и продиктовал:
«Я, Отто Штольц родом из Любека, купец города Кракова, заявляю, что служивший у меня приказчиком схизматик и вор Франциск украл партию дорогих брабантских кружев и скрылся. Стоимость украденного мне уплатил благородный рыцарь Иоганн фон Рейхенберг, дабы я оставил все сие в тайне и не порочил доброе имя королевского университета, питомцем коего является упомянутый подлый вор Франциск.
Я, Отто Штольц из Любека, подписал это своей рукой и произнес клятву, как подобает доброму католику. Аминь».
Дядя Отто подписал бумагу, перекрестился и передал ее Рейхенбергу, который положил ее в глубокий карман расшитого кафтана.
Расставшись с Рейхенбергом и еще раз ощупав словно свалившиеся с неба червонцы, дядя Отто почувствовал себя вполне удовлетворенным. Он не спеша брел к магазину, не подозревая, что там его ожидают виновники событий.
* * * Георгий нашел своего беспутного друга вот как. Каждое утро Георгий бежал в тихий переулок к дому, арендуемому паном Сташевичем, и, скрываясь за углом ограды, подолгу смотрел на окна, прислушиваясь к приглушенным звукам, доносившимся из дома. Вечером, как только схолары шумно заполняли коридоры бурсы, Георгий снова исчезал и спешил на свой пост. Он с нетерпением ждал, когда занавеска на окне приподнимется и он увидит Маргариту. И счастье улыбнулось ему.
Скоро их знакомство упрочилось. При встречах они обменивались горячими взглядами, улыбками, поклонами. Однако стены дома по-прежнему разъединяли их. И вот настал момент, когда эта преграда должна была рухнуть.
Однажды девушка показалась в окне с букетом только что срезанных цветов. Глядя на Георгия, она уронила на панель два цветка и с ними маленькую, перевязанную шнурком бумажку. Улыбнувшись, она закрыла окно и скрылась за занавеской.
Подобрав цветы и бумажку, Георгий побежал за угол. Дрожащими руками он развернул записку. Какое разочарование! Посредине листка одиноко стояла выведенная слабой девичьей рукой маленькая буква «М». Как ни вглядывался Георгий, как ни вертел бумажку, Маргарита больше ничего не сообщала ему… Георгий был озадачен. Конечно, слишком смело было ожидать, что Маргарита первая напишет ему. Но тогда к чему эта бумажка с начальной буквой ее имени? Два садовых цветка и записка… Что означают они? Зачем она поднесла цветы к окну и уронила два из них? Всего два. Вместе с запиской…
И вдруг он понял: это сигнал. Записка означала только одно: разрешение писать. Писать к ней, к Маргарите. Цветы указывали другое. Уронив их, Маргарита закрыла окно. Значит, теперь должно быть другое место свиданий. Цветы из их сада… Конечно же, сад!.. В саду он будет оставлять ей записки и получать от нее. Быть может, в саду они встретятся…
Георгий быстро вернулся к дому, обошел его и увидел большой, тенистый сад, обнесенный высокой каменной стеной, спускавшейся к реке. Георгий шел вдоль стены, всматриваясь в замшелые камни. Верно, где-нибудь здесь есть тайная калитка, известная Маргарите.
Георгий уже собирался свернуть за угол, как вдруг подле него распахнулась узкая, заросшая еще прошлогодним плющом дверца и из нее вынырнул Николай Кривуш.
Георгий даже присел от неожиданности. Кривуш не заметил его. Воровски оглянувшись и поправив под плащом какой-то сверток, толстяк быстро направился вниз к реке. Одним прыжком Георгий нагнал друга.
– Попался, негодяй! – зловеще прошептал он, навалившись Кривушу на спину.
Толстяк взвизгнул и резко наклонился, пытаясь перебросить через голову преследователя. Но Георгий был сильнее. Он встряхнул Николая так, что тот упал на колени и поднял руки. Из-под плаща выскользнули ощипанный гусь и бутылка. Кривуш успел схватить одной рукой бутылку, другой гуся и, подняв над собой то и другое, зажмурил глаза.
– Кто бы ты ни был, – пропищал он жалобным голосом, – я разделю с тобой эти дары. Только уйдем подальше от этих стен.
Георгий продолжал держать его, не давая повернуться.
– Кто позволил тебе разорять мой птичий двор и грабить мой винный погреб? – грозно спросил он, изменив голос.
– О, ясновельможный пан! – залепетал Кривуш, думая, что его настиг сам пан Сташевич. – Дьявол в образе экономки заманил меня в ваши владения. Он искушал мою юношескую скромность, и я еле откупился, согласившись принять сей дар, который намереваюсь пожертвовать монастырю святого Франциска, моего покровителя. Однако, будучи честным католиком, я никогда не посягал на чужое, и раз вы являетесь законным владельцем сих бренных благ, то я охотно возвращу вам эту своевременно скончавшуюся птицу и несколько глотков кислой влаги, именуемой вином. Все же совесть моя повелевает…
– Совесть твоя повелевает тебе хранить тайну пани Зоси, – со смехом сказал Георгий, вырвав из рук Николая гуся и бутылку.
Узнав друга, Кривуш нимало не смутился.
– А славно мы пошутили, – сказал он, поднимаясь с колен. – Я искал тебя со вчерашнего вечера, чтобы разделить с тобой этого юного гусенка и престарелое вино.
– Конечно, для того, чтобы вместе со мной помянуть твою покойную тетю? – насмешливо спросил Георгий.
– Представь себе мое огорчение, – вздохнул толстяк, – тетя выздоровела и даже, кажется, собирается замуж. Но пусть это не смущает тебя. Мы выпьем за ее здоровье так же, как пили бы за упокой.
– Николай! – серьезно спросил Георгий. – Значит, ты не получил наследства и кружева остались неоплаченными?
– Клянусь здоровьем этого гусака и моей славной тетушки, что за кружева я уплатил.
– Уплатил? – с радостью воскликнул Георгий.
– Конечно, – ответил Кривуш. – Слово шляхтича есть слово прежде всего.
– Хорошо, Николай. Прежде чем начать пир, мы зайдем к дяде Отто и убедимся в том, что он не считает меня вором, – предложил Георгий.
Кривуш вдруг забеспокоился:
– К чему это, Франек? Гусь может протухнуть. Экая жара!
Но Георгий решил во что бы то ни стало покончить с этой историей, мучившей его уже более двух дней. Он почти силой повел друга в лавку дяди Отто.
К радости Кривуша, хозяина не оказалось. Но Георгий решительно заявил, что будет дожидаться его хотя бы до самого вечера. Увидев, что ему не избежать очной ставки, Кривуш обдумал свою позицию и решил, что лучше всего отрицать. Все отрицать. Что бы ни говорил хозяин, он будет говорить совершенно противоположное. Это решение несколько успокоило Кривуша, и он даже весело приветствовал медленно вошедшего в магазин дядю Отто.
Ответив, как обычно, «гут морген», немец остановился против Георгия и молча уставился на него. Кривуш затаил дыхание. Георгий, глядя прямо в глаза хозяину, спросил:
– Все ли деньги получили вы, дядя Отто, за те кружева, что я отнес панне?
– Да, – ответил немец, вынимая два золотых, полученных от Рейхенберга. – Я полушил все теньги… За крушеф…
Прошептав «Пресвятая богородица», Николай застыл с разинутым от изумления ртом. Дядя Отто некоторое время смотрел на Георгия, потом, спрятав червонцы в карман, выразительно произнес:
– Но ты, Франц… больше не слушишь в мой лавка… Ауфвидерзеен! – и медленно прошел к себе в заднюю комнату.
Георгий по-своему понял причину гнева дяди Отто. Он был уверен, что деньги действительно заплатил Кривуш. Потеря выгодной службы не печалила его. Тем лучше. Тем больше останется у него свободного времени. Георгий был рад, что дело с кружевами закончилось так благополучно.
Когда в корчме старый знакомый Берка подал им румяного, аппетитно пахнущего гуся и наполнил чарки вином, он сказал:
– Николай, я постепенно верну тебе всю сумму, которую ты так благородно уплатил за меня.
Кривуш странно молчал и, только выпив вторую чарку, спросил Георгия:
– Скажи, Франек, не похож ли я на колдуна?
Георгий удивленно посмотрел на друга.
– Видишь ли, – сказал Кривуш многозначительно, – мне кажется, что с некоторых пор я приобрел дар волшебника. Не спрашивай меня ни о чем. Скоро я сам открою тебе одну тайну.
Глава IV
Иоганн фон Рейхенберг стоял посреди высокой комнаты, уставленной чучелами зверей и редких птиц. На стенах были развешаны охотничьи доспехи. На полу, покрытом мягким ковром, лежали две борзые собаки, с интересом следившие за действиями их хозяина. Иогачн стоял неподалеку от толстой веревки, протянутой через всю комнату на уровне человеческого роста. На веревке был привязан худой, взъерошенный кречет. Голова кречета то и дело падала книзу, но, как только она касалась крыла, Иоганн ударял тонким хлыстом по веревке. Птица судорожно вздрагивала, пытаясь расправить связанные крылья, шипя и кося налитые мукой и ненавистью глаза. Борзые смотрели на хозяина, ожидая только его жеста, чтобы одним прыжком покончить с измученной птицей. Обессиленный кречет потерял равновесие и свалился с веревки, повиснув на тонкой цепочке. Борзые вскочили, но Иоганн повелительным взглядом заставил их лечь. Рукой, одетой в перчатку из толстой кожи, он поднял кречета и поставил его на веревку. Снова бессильно опускающаяся голова, снова удар хлыста по веревке. В комнату вошел слуга. – Неизвестный монах просит вашу милость принять его, – доложил слуга. – Отправь на кухню, пусть накормят, и проводи с богом, – ответил рыцарь, не оборачиваясь. – Он говорит, что не нуждается в пище телесной. Он хочет видеть вас… – Гони его прочь! – прикрикнул Рейхенберг, еще раз поднимая повисшую птицу. Но слуга не уходил. Помявшись у дверей, он добавил: – Монах предлагает купить у него какой-то перстень и ладанку… – Что? – Иоганн резко повернулся. – Перстень и ладанку? – Да, – ответил слуга, – кажется, так сказал этот монах. Иоганн быстро надел на птицу колпачок и бросил хлыст. – Скорее проведи его наверх и вели… – Уже ничего не нужно, ваша милость, – произнес появившийся в дверях грязный, оборванный монах. – Осмелюсь смиренно просить благородного рыцаря здесь взглянуть на… Монах протянул на ладони перстень и ладанку, согнувшись в низком поклоне, и бросил быстрый взгляд на слугу. – Иди! – приказал Иоганн. – И пусть никто не входит, пока я не позову. Едва закрылась дверь за слугой, как Рейхенберг опустился перед монахом на колени. Быстрым движением монах благословил Иоганна и, не ожидая приглашения, устало опустился в кресло, покрытое медвежьей шкурой. – Встань, рыцарь фон Рейхенберг! – сказал он повелительно. Перемена, происшедшая в поведении этих людей, была поразительна. – Мы недовольны тобой, – сказал монах. – Два года назад ты высказал желание взять под свою опеку юного схизматика, прибывшего из русских земель, с тем чтобы подарить нашей святой церкви верного слугу. Юноша оказался незаурядным, на что я уже обратил внимание здешнего архиепископа. Однако ничто еще не свидетельствует о его готовности служить нашему делу. Что для этого сделано тобой, рыцарь? – Если будет позволено, – начал Иоганн с неожиданным, не свойственным для него смирением, – я могу предъявить некоторые документы. Он вынул из стола папку и положил перед монахом. – Вот записи некоторых лекций с примечаниями и рассуждениями самого Франциска. А вот расписка, полученная мной от одного немецкого купца, честного католика. – Иоганн протянул расписку, обвинявшую Георгия в воровстве кружев. Монах взглянул на расписку. – Это заслуживает похвалы. Пусть бумага ждет своего времени. Но этого мало. Слишком мало, рыцарь! Что ты можешь рассказать о вашем профессоре Глоговском? – Он пользуется любовью схоларов, – ответил Иоганн. Монах усмехнулся: – Похвальная наблюдательность… Они создали вокруг себя целую общину. Не сегодня завтра он будет проповедовать свои воззрения всей молодежи. К чему ведет это? Иоганн молчал. – Среди них и опекаемый тобой Франциск. Что сделано для того, чтобы спасти юношу от их губительного влияния и умерить его гордыню? Монах вдруг замолчал, уставившись на птицу, сидевшую под колпачком. Кречет еле держался на веревке, вздрагивая и боясь сорваться. Монах подошел к нему. Птица почувствовала его приближение и слабо зашипела, не имея сил поднять клюв. – Что сделало эту птицу послушной? – спросил монах. – Отсутствие пищи и сна… – начал объяснять Иоганн. – Страх! – перебил его монах. – Страх и постоянное напоминание о высшей силе. Власть высшего существа, способного дать, отнять, запретить… И длительные мучения, смиряющие гордый дух неразумного творения господа. Монах взял Иоганна за руку и подвел к птице. – Смотри, рыцарь, и пойми, что должен ты делать ради святого нашего дела… * * * Новая жизнь началась для Георгия. Он почти ни с кем не встречался и даже стал пропускать беседы у Глоговского. Теперь он весь день проводил у стены сада. Положив в условленное место записку, затаив дыхание он ждал, пока послышится знакомый шелест шагов. Потом к его ногам падал ее ответ, написанный неуклюжим детским почерком. Георгий бежал вниз к реке, садился под тень старой вербы и по нескольку раз перечитывал скупые наивные строки. На берегу реки было пустынно и тихо. Уже несколько дней стояла адская жара, и люди редко покидали дома. Никто не мешал Георгию. Он писал Маргарите много и часто. Что это были за письма! Вероятно, за всю дальнейшую жизнь он не скажет столько нежных, столько освященных чистой любовью слов. Маргарита отвечала тем же. Страсть их росла и достигла той силы, когда никакие каменные ограды не могли помешать их встрече. …Маргарита открыла калитку, и Георгий вошел в сад. Деревья не шевелились. Воздух до предела был насыщен золотистой пылью и, казалось, чуть-чуть звенел. Ни ветерка. На небе медленно сдвигались тяжелые крылатые тучи, и сквозь них с трудом пробивалось уже низкое солнце. Все предвещало грозу. Маргарита прислонилась спиной к дереву. Георгий видит на побледневшем ее лице капли мелкой росы. Он смотрит в глаза любимой. Слышит ее дыхание. Чувствует ее теплоту. Он не в силах двинуться, вымолвить слово. Оба смущены и испуганы. А как они ждали этой встречи, для которой было приготовлено так много слов! Молчание. Горьковатый запах травы. Пряный аромат цветов. На них надвигается тень гигантской тучи, и от этого кажется, что дышать стало еще труднее. Ни ветерка. Земля, деревья, цветы томятся ожиданием. Глаза девушки полузакрыты. Пересохшие губы шепчут: – Как душно… Как тяжело… Тяжело и Георгию. Он слышит, как глухо и повелительно стучит в его жилах кровь. Душно… Это длится, быть может, час или два… Быть может, одно мгновение… И вдруг с оглушительным треском, разрывая огромный полог, сверкает короткая молния. Гром потрясает воздух. Маргарита вскрикивает и, быстро крестясь, приникает к Георгию. Георгий обнимает ее плечи, как бы защищая от неожиданного удара… Дождь обрушился сразу. Обильные теплые струи зашумели по ветвям, выбили короткую дробь на камнях ограды сада, слились в единый, равномерно нарастающий гул. Со стороны дома слышится низкий женский голос: – Маргарита! За ней второй, более высокий: – Панна Маргарита! Маргарита не откликается. Она не слышит голосов. Не видит и не ощущает дождя. Только когда рядом с ними вскрикнула панна Зося, они отпрянули друг от друга. Экономка набросила на плечи Маргариты накидку и, словно ничего не случилось, озабоченно шепнула Георгию: – Бегите! Живее! Как бы панночка не простудилась. Маргарита закрыла лицо руками и побежала к дому. Георгий шел под ливнем и думал о мучительной ночи, которую ему предстоит пережить, прежде чем снова он увидит Маргариту. Казалось, не будь надежды увидеть ее завтра, он не нашел бы сил дожить до утра. * * * Стоя посреди комнаты и сбрасывая мокрые одежды, Георгий рассказывал Вашеку наспех придуманную историю о том, как он попал под дождь. Вацлав любовался мощными, блестевшими от влаги мускулами Георгия, его складной фигурой и думал о том, что ему никогда, вероятно, не суждено встретить такой красивой девушки, как возлюбленная Георгия, о которой он уже знал от Кривуша. И никогда не научиться так весело и искусно скрывать свои похождения, как это делает сейчас его друг. Раздался короткий стук в дверь. Час был поздний. Полуголый Георгий оборвал рассказ и с удивлением посмотрел на Вашека: «Кто бы это мог быть?» Вашек приоткрыл дверь. Кто-то снаружи с силой потянул дверь к себе, и, оттеснив Вашека, в комнату вошел Иоганн фон Рейхенберг в сопровождении двух студентов из числа его рьяных почитателей. Георгий вежливо поздоровался, извинившись, что вынужден принимать гостей в столь странном виде. Иоганн махнул рукой. Не ответив даже на извинения Георгия, он обратился к Вашеку: – Мы имеем приватное дело до пана Франциска. Не сочти за труд оставить нас на короткое время. – Возьми мою сухую сорочку, – сказал Вашек Георгию, – она под подушкой. – И вышел. Рейхенберг стоял, глядя в маленькое окно, по которому извивались мутные ручейки, сбегавшие с крыши. – Два года назад, – заговорил Иоганн тихо, – его преосвященство снизошел до моей просьбы и разрешил принять в университет купеческого сына чужой веры, дабы мог сей юноша познать истину… – Я храню благодарность за то… – сказал Георгий. – Однако, – продолжал Иоганн, – поведение твое заставляет думать иное… – Чем заслужил я этот упрек? – спросил Георгий. – Поддаться влиянию опасных в своем вольнодумстве учителей, – строго сказал Рейхенберг, – это больше, чем нарушить долг благодарности. Ты пренебрег дружбой, которую мог бы сыскать среди нас… – Прости, пан Ян, – перебил его Георгий. – Я еще плохо знаю польский язык и, как тебе известно, не совсем правильно понимаю слово «друг». Кроме того, мне неведомо, кого ты называешь опасными учителями… Иоганн сжал губы. – Хорошо, – процедил он, сдерживая ярость. – Мы пришли сюда с миром… Согласен ли ты, приняв наши условия, заключить с нами союз? – Скажу от сердца, – ответил Георгий, – я никогда не собирался враждовать ни с тобой, ни с кем-либо другим. Но… О каких условиях ты говоришь? – Условия, которые помогут тебе отплатить добром за добро людям, заботящимся о твоем благе, быть может, больше, чем ты того заслуживаешь. Георгий тихо спросил: – Каковы эти условия? – Известно ли тебе, что в недалеком будущем предстоит большой диспут? – спросил Иоганн. – Да, – ответил Георгий. – Мне известно также, что пан ректор рекомендовал поставить на этом диспуте весьма важные научные вопросы. – И, главное, – добавил Иоганн, заметно оживляясь, – рассказать о тщетном старании некоторых подвергнуть сомнениям канонические авторитеты. И вот один из лучших питомцев университета, не блещущий знатностью рода, сын простого русского купца, еще недавно пребывавший в заблуждениях схизмы, ныне вступающий в лоно святой апостольской церкви, должен будет выступить на этом диспуте и рассказать о пагубных идеях, проповедуемых на тайных собраниях… Георгий сделал движение. – Молчи! – остановил его немец. – Мы знаем все. Глоговский и Коперник должны быть преданы церковному суду. Своей речью на диспуте ты можешь оказать нам помощь в этом. – Нет! – воскликнул Георгий. – Как смел ты предложить мне это? Я глубоко почитаю этих великих ученых. И не я один!.. – Того требует святая церковь, – перебил его Иоганн, – рыцарем которой мы помогаем тебе стать. – Не рыцарем церкви, а проповедником науки вижу я себя в будущем. Я принес клятву служить моему народу и… – Твой народ… – прервал его Иоганн с презрительной усмешкой, – рабы, которым нужны не слуги, а господа. Ты можешь стать господином его. Мы дадим тебе власть и силу. Мы сделаем тебя боярином, князем. – Замолчи, Иоганн фон Рейхенберг! – угрожающе сказал Георгий. – Ты пришел за миром, который хуже войны. Все ли сказал ты? – Да, – ответил Иоганн после продолжительной паузы. – Я сказал слишком много для тебя, хлоп… – Немец сделал знак своим спутникам. Рослый длинноносый студент распахнул плащ и поднял распятие. Георгий увидел под плащом ножны кинжала. – Клянись, – грозно сказал длинноносый, – что все слышанное тобой останется тайной! Что ни родным, ни близким ты не откроешь нашего разговора, что не помыслишь восстать против церкви нашей и ее слуг. Иначе… – Иначе? – спросил Георгий, оглядывая обступивших его студентов. Георгий стоял один против троих, полуголый, сжимая единственное оружие, попавшееся ему под руку, – свое мокрое платье. Двое спутников Иоганна медленно заходили ему за спину. Немец стоял прямо против него. – Перекрестись и произнеси клятву, – прошептал Рейхенберг. Лицо немца было совсем близко. Стоило только взмахнуть рукой… Что напомнило ему это выражение лица? Эти серые, холодные глаза… Тонкие поджатые губы… Острый с хищным изгибом нос… – Крестись, и мы простим тебе твои заблуждения… «А-а!.. Дорога у Бреста… Нарядная охотничья кавалькада… Крестьяне, выпускающие зайцев из мешков… Крики „угу… угу“». – Или ты примешь наше проклятие и нигде не скроешься от нашего гнева! «…Хриплый лай собак. Бледное лицо всадника… Опрокинувшийся на спину крестьянин… Кровь на траве… Испуганные односельчане, торопливо уволакивающие тело в кусты… Да, то самое лицо! Тот же взгляд!» – Делай свой выбор… Георгий взмахнул рукой и хлестнул по лицу немца. Иоганн отскочил к стене. Двое других отбросили плащи. Но в это время распахнулась дверь. – Крещение состоялось! – весело крикнул Николай Кривуш, входя в комнату вместе с бледным и возбужденным Вацлавом. Кривуш насмешливо поклонился Рейхенбергу: – Виншую
пана Яна. И прошу к столу, по старому нашему обычаю. Вытирая мокрое лицо, Рейхенберг направился к двери. За ним последовали его спутники. Вацлав стоял, сжав кулаки, пока не вышли все трое. Георгий все еще продолжал держать мокрую одежду, с которой стекала на пол вода. Его мышцы мелко дрожали. – Опусти свое паникадило. – Кривуш обнял друга. – Можешь ничего не объяснять. Все ясно! – И, притянув к себе Георгия, он крепко поцеловал его в лоб. * * * Как ни уверяли Георгия друзья, что стычка лишь укрепит его популярность в университете, ибо немца не любят и каждый охотно встанет на защиту Георгия, случай этот омрачил счастливую весну юноши. Он не сомневался в преданности своих друзей и в сочувствии к нему большинства студентов. Но то, чего не могли понять Кривуш и Вацлав, считавшие причиной ссоры только зависть Иоганна к научным успехам соперника, представлялось Георгию в совершенно ином свете. Теперь он наконец отчетливо понял, какую цель преследовали фон Рейхенберг и краковский архиепископ, помогая ему поступить в университет. И странно! Размышляя об этом, Георгий вспомнил последний день своей жизни в Полоцке. Вспомнил во всех подробностях и ощущениях. Незримые нити связывали эти полоцкие события с тем, что происходило теперь в Кракове. Шумный город с его обманчивой нарядностью и весельем вдруг обнажил зловоние монастырских задворков и переулков, где простая человеческая честность была столь редким гостем, как и солнце, загороженное от людей тесно нависшими этажами домов. Университет почудился юноше темным бесконечным подземным ходом, где вдалеке мерцал бледный свет. Сколько препятствий, сколько невидимых ям и обвалов на пути к этому свету! Дойти до него почти невозможно. А если все же дойти? Если, вытянув вперед руки, ощупывая скользкие стены сводов, спотыкаясь и падая, все же идти и идти вперед, сжав зубы, не отрывая глаз от мерцающего вдалеке огонька? Что ждет его там? Не окажется ли этот свет отблеском печальной свечи у изголовья певца и не поразит ли слух монотонный речитатив псалма: «Сокроешь лицо свое, смущаются… И в прах обращаются… Обновляется лицо земли…» Вечное обновление! Бесконечное движение материи и подобная лицу покойника каменная неподвижность однажды установленных истин и законов. К тому ли стремился ты, юноша? Для того ли шел через поля и болота, бросив отчий дом? Вот двор университета. На этих плитах он впервые встретил Иоганна, которого считал своим благодетелем. Не ясно ли теперь, для чего помогли ему тогда Иоганн и стоящие за ним неизвестные люди? Они хотели сделать его своим помощником в тайной борьбе против белорусского народа. О, как далеко метил немец! Он ждал новых стычек с Рейхенбергом, но ни Иоганн, ни его товарищи ничем не выказывали своей вражды. Они даже в отношениях с другими схоларами стали как будто ласковей и проще. Однако теперь Георгию казалось все подозрительным. Единственным местом, где он отдыхал от докучливых мыслей, был старый сад над рекой. Едва наступал условленный час, как Георгий преображался. К нему возвращалась былая веселость, глаза снова светились ласковым светом. Вацлав любил смотреть на своего друга, когда тот готовился к свиданию. Вялому и немного ленивому чеху нравилось в Георгии все. Иногда он сам зажигался его огнем, и тогда их беседа принимала особенно веселый и душевный характер. Однажды Георгий, расчесав кудри и надев праздничное платье, спросил Вашека, хорошо ли он выглядит. – Великолепно! Ты наряден, как в первый день пасхи. Но… Разве ты не знаешь? Вернулся пан профессор. Все наши собираются у него. Георгий нахмурился. Он знал, что Глоговский, отсутствовавший более двух недель, вернулся в Краков. Знал, что профессор, безусловно, спросит о нем, о Франциске… Он и сам побежал бы с радостью к любимому учителю. Вашек мог бы и не напоминать об этом. – Конечно, я знаю, – сказал Георгий сухо, не глядя на Вашека. – Разве мой наряд помешает мне принять участие в беседе? – Нет, нет, Франек, – смутился Вацлав. – Я только хотел предупредить тебя… – Спасибо, – ответил Георгий и, заторопившись, убежал в сад, к Маргарите. Встретившись с Маргаритой, Георгий был серьезен и несколько печален. Беседа долго не вязалась. Он молчал, задумчиво грызя стебель цветка, или отвечал невпопад. – Тебе скучно со мной, Франек, – сказала Маргарита со слезами в голосе. – Ты больше не любишь меня. Георгий крепко сжал ее руки. – Нет, милая, я люблю тебя еще более прежнего. Но у меня много огорчений. – Что же случилось? – испуганно спросила девушка. – Маргарита… Я хочу открыться тебе… Я не Франциск. – Ты шутишь, Франек, – улыбнулась девушка. – Это не мое имя, – продолжал Георгий, – Франциском меня назвали здесь, в Кракове. – Тебя дважды крестили? – Я крестился только раз. Но двери университета открылись лишь для Франциска. Они оставались закрытыми перед моим честным христианским именем: Георгий. – Георгий… Юрий… – повторила Маргарита. – Такое красивое имя. Зачем же ты потерял его? – Я не терял его, – ответил Георгий. – Это они хотели заставить меня забыть мое прошлое. – Ты меня пугаешь, Франек… Прости, Юрий, – поправилась Маргарита. – Кто это они? – Мои враги. Рыцарь фон Рейхенберг, архиепископ краковский и другие. – Его преосвященство? – воскликнула Маргарита. – Опомнись, Юрий. – Молчи, Маргарита, и слушай… И Георгий рассказал ей свою историю. Рассказал о городе Полоцке и смерти отца, о своем детстве, о попе Матвее, лирнике Андроне, о бегстве из родного дома. С любовью и умилением описал ей белорусскую землю, через которую лежал его путь. Никогда еще Маргарите не приходилось слышать такой интересный и вдохновенный рассказ. Она смотрела на своего возлюбленного, и он вдруг показался ей сильнее, красивее и умнее того Франека, которого она знала прежде. Она не могла понять того, что говорил ей Георгий о своем народе, о пришлых властителях, о борьбе истинной науки с рутиной схоластики. Но она любила его и твердо знала: он не может быть неправ. Как страшен мир, в котором живет она и с которым борется Франек… Нет, Юрий! Мужественный и любимый Юрий. Георгий взял девушку за руку. – Любимая моя, – сказал он взволнованно, – прекрасная моя невеста. Дай мне твою руку, и поклянемся… Они опустились на колени. – Клянусь, – говорил Георгий, – не отступать от слова, данного учителю моему, отцу Матвею… – Клянусь, – шептала Маргарита, – молиться за Юрия и дела его. Да принесет ему бог счастье и победу. – …Не страшиться лишений и мужественно переносить удары врагов, – продолжал Георгий, – но достичь цели, хотя бы ценой самой жизни моей… – И если постигнет его горе или будет ему тяжело, – шептала Маргарита, – разделить с ним все и облегчить бремя его. – Клянусь вечно любить и беречь подругу мою Маргариту. Всю жизнь! – Всю жизнь! – повторила Маргарита. Солнце зашло. Последние отблески заката догорели, и сразу наступила темнота. Вдруг Маргарита заплакала. Какое-то неясное предчувствие сжало ей сердце. А что, если это последнее свидание? Она не решалась сказать об этом Георгию. – Всю жизнь, – тихо повторил Георгий. – Но теперь нам придется расстаться на некоторое время. Маргарита вздрогнула. – Не покидай меня, Юрий, – сказала она дрожащим голосом. – Мы не увидимся лишь несколько дней, – успокоил ее Георгий. – Мне нужно много заниматься сейчас. Я буду писать тебе каждый день, и ты тоже… – Да, – ответила Маргарита и, чтобы скрыть слезы, быстро пошла к дому. * * * Георгий не спешил возвращаться в бурсу. Только что показалась молодая луна. Недвижные деревья, осыпанные белым цветением, засеребрились. Тихая, светлая, торжественная ночь… Георгий идет посреди улицы. В домах наглухо закрыты тяжелые ставни. Двери и ворота заложены тройными засовами. Во дворах изредка лязгают цепями собаки и провожают Георгия ленивым лаем. Проходит ночной дозор. Трое стражников с факелами. Стук алебард, гулкий топот кованых сапог. Опять тишина… Мужской голос поет что-то очень простое и трогательное. Слышится девичий смех. Георгий идет на песню. Тени на балконе застывают. Он идет дальше. Сворачивает в узкий переулок. Куда он идет? Не все ли равно… Георгий идет прямо. Переулок кончается. Открытое место, плеск воды. Ах, это река!.. Значит, он шел в сторону, противоположную бурсе. Он идет по берегу. Луна поднялась. Светло, тихо… Георгий смотрит на очертания Вавеля с его башнями, стенами, воротами. На невысоком холме он видит странную фигуру. Человек стоит спиной к Георгию, запрокинув голову. Прямой, темный, неестественно высокий человек медленно поворачивается, продолжая смотреть на небо. – Пан Коперник! – восклицает Георгий, пораженный странной встречей. – Да, – говорит Коперник. – Я пришел сюда, чтобы посмотреть на них. Сегодня они особенно прекрасны. – Кто? – Звезды… Ах, это ты, Францишек! Погляди туда. Это Кассиопея, вон там, на Млечном Пути. Ее очертания похожи на нашу букву «w». Ты видишь только шесть ее звезд, но их там должно быть много больше… Вероятно, много больше. А вон там, по другую сторону, Андромеда. Пониже Персей, Плеяды, Овен… Георгий следил за движением руки ученого. – Поистине они прекрасны, – сказал он шепотом, – и как таинственны. В чем их природа? Далеки ли они? Если бы взглянуть на них поближе… – Да, если бы взглянуть поближе на планеты, – повторил Коперник. – Нам это не дано. Это большие, особые миры, подобные тому, на котором мы обитаем. Они также живут и движутся, повинуясь строгим и неотвратимым законам. – Движутся вокруг нас? – спросил Георгий. – Нет. Движутся вокруг Солнца, вращаясь по своим кругам. И вместе с ними движется наша Земля. – Может ли это быть?.. Мы движемся? – вскрикнул Георгий. – Да, – сказал Коперник. – Теперь я в этом уверен. Иначе чем объяснить смену дня и ночи, смены времен года? У меня нет еще всех доказательств, но я уже убежден. Сегодня я впервые поделился своей гипотезой с паном Глоговским и его учениками. Я не видел тебя среди них, Францишек… Георгий молча опустил голову. Мог ли он знать, что в этот июньский вечер тысяча пятьсот шестого года великий Коперник впервые откроет своим друзьям труд многолетних исканий. Что именно в доме пана Глоговского несколько человек услышат о гениальном открытии, которое еще двадцать лет будет скрыто в разрозненных, перечеркнутых и заново переписанных тетрадях. И что только на смертном одре ученый увидит первый экземпляр своей книги «Об обращении небесных сфер», которой суждено будет потрясти мир. Коперник повернулся к Георгию и некоторое время молча смотрел на него. – Сегодня ты не пришел на беседу оттого, что был у возлюбленной? – неожиданно спросил он. Георгий ответил просто и откровенно: – Да, я был с ней… Коперник улыбнулся: – В твоих глазах еще отражается ее свет… Я не осуждаю тебя, но помни, наука ревнива. Если ты посвятил себя ей… – Разве любовь несовместима с наукой? – смущенно спросил Георгий. Коперник вновь помолчал и, вздохнув, ответил: – Не знаю… Истинная наука не терпит соперниц. Он надел свой четырехугольный берет и протянул Георгию руку. – Прощай, друг мой, я хочу остаться один. Когда Георгий пришел домой, Вацлав против обыкновения еще не спал. – Я дожидался тебя, Франек, – восторженно объявил он. – Профессор Глоговский сказал, что ты выступишь на диспуте на степень бакалавра. Он предлагает тебе тему: «О месте священного писания в науке и просвещении». Счастливый Георгий крепко обнял друга. Наутро Георгий получил письмо, привезенное знакомым купцом, возвратившимся из Литвы. Георгий вскрыл пакет, запечатанный восковой печатью, и узнал знакомые с детства старинные славянские литеры. Поп Матвей писал ему о полоцкой жизни, о том, что брат Иван и все его домочадцы пребывают в добром здоровье, а торговые дела идут не так бойко, как прежде. Задавили же торговлю воеводские пошлины и поборы. Писал старик о полоцкой братчине, что все больше теснят ее невесть откуда понаехавшие монахи, что жить становится все труднее и печальнее… «…Однако стараемся, поелику сил достает, и Янку, отрока-сироту, коего ты к нам привел, обучили письму и к делу поставили. Но бедны мы людьми, грамоту разумеющими. Без них как можем мы умы осветить? Все мы члены единого тела, и не может, например, глаз руке или рука ноге сказать: „Ты мне не нужен“. Боле меня, человека малого, боле многих из нас нужен нашему делу ты, брат Георгий. И все мы говорим тебе: иди, научайся, преуспевай в науках и помни, что мы ждем тебя здесь. На тебе же, Георгий, упование наше. И не токмо мы одни чаем возвращения твоего. Прими земной поклон и благословение пастырское от грешного отца Матвея…» Долго Георгий не расставался с этим письмом. Оно напомнило о выполнении святого долга, ради которого он покинул дом. Дни и ночи Георгий готовился к диспуту. Он часто бывал у Глоговского. Подолгу сидел над древними книгами и, казалось, совсем забыл Маргариту, лишь изредка посылая ей короткие записки. Не только друзья Георгия, но весь университет ждал торжественного дня диспута. Не многие студенты знали о существовании кружка Яна Глоговского, но почти все понимали, что в университете возникла особая группа, которая находится в разногласии с официальной, церковной наукой. Лишь наиболее развитые вникали в суть этого разногласия. Однако ясно было, что предстоял не заурядный, скучный спор ученых попугаев, а настоящая схватка. И уже это одно возбуждало всеобщее любопытство. Тезис Георгия был заблаговременно опубликован ко всеобщему сведению. Казалось бы, в нем не содержится ничего из ряда вон выходящего. «О месте священного писания в науке и просвещении»… Общепризнанное положение. Как может породить оно ожесточенную полемику? Какой диспутант дерзнет оспаривать пользу Библии для науки? Если же он признает эту пользу, то в чем же смысл диспута? Никто не мог понять, почему Франциск Скорина и его учитель избрали этот тезис. * * * Расставшись с Георгием, Маргарита проплакала всю ночь и весь следующий день находилась в состоянии смутной тревоги. Занятая своими мыслями, она не обратила внимания на то, что в дом к ним явился какой-то грязный монах. Монах был отведен в дальнюю комнату, где долго и таинственно шептался с отцом. Она поняла, что произошло что-то очень важное, лишь когда ее позвали к отцу. Отец, подведя ее к монаху под благословение, взволнованно сказал: – Дитя мое, правда ли, что некий еретик Франциск и ты… – Да, правда, – прошептала Маргарита, побледнев. – Молитесь! – повелительно приказал монах. Отец и дочь упали на колени перед распятием. Все дальнейшее происходило словно во сне. Ее заперли в отдельную комнату и никого не впускали к ней, даже добрую и преданную панну Зосю. Маргарита слышала торопливые шаги, раздававшиеся в покоях, гневные крики отца, шум каких-то сборов. Потом пришла мать и объявила, что над их домом нависло несчастье и что они должны спешно уехать. Куда? Этого она не может сказать… Маргарита была в ужасе. Значит, сбылось предчувствие: это была их последняя встреча… Отец Маргариты страшился навлечь на себя гнев всемогущего ордена. Размышлять было некогда. Угроза монаха – не пустые слова. Всем домашним было приказано хранить в тайне день и час отъезда. Никому не позволено было разговаривать с Маргаритой, виновницей всего происшедшего. Девушка металась в своей светлице. Она смотрела в маленькое решетчатое окно и ждала, надеясь увидеть кого-нибудь, кто бы мог известить Юрия. Никто не появлялся. Она уговорила мать допустить к ней хоть на часок панну Зосю. Ночью, тайно от отца, мать привела экономку. Маргарита написала короткую записку, и экономка обещала передать ее. Старый привратник принес записку в бурсу. Георгия не было дома, записку принял Вашек. Опасаясь, что письмо любимой девушки оторвет друга от занятий, он открыл записку и, к своему удивлению, прочел: «Любимый мой Юрий!..» Девушка умоляла какого-то неизвестного Юрия спасти ее… Бежать… Бежать из дома. Упоминался какой-то страшный человек, который пришел, чтобы лишить ее счастья. Так вот она, женская верность! Франека обманывали. Хорошо, что записка попала к нему, Вацлаву. Нет, Франек этого не должен знать. Разыскав Кривуша, Вашек показал ему записку. Прочитав ее, Николай задумался… Да, записка была от Маргариты… – Что же, – молвил он со вздохом, – панна Зося тоже предпочла мне нового повара. Мужчине надо привыкать к этому. Да и не так уж прекрасна эта тщедушная панночка. Конечно, Франек пока не должен ничего знать. До окончания диспута записка покоилась в кармане Вацлава, не знавшего истинного имени своего друга Георгия и, как все схолары, называвшего его Франеком.
Глава V
В три часа дня в университетской капелле состоялась торжественная месса. По окончании мессы схолары, бакалавры и магистры, во главе с паном ректором, в строгом молчании прошли в большой парадный зал. Стоял жаркий августовский день, но окна зала были закрыты плотными драпировками, чтобы ничто мирское не проникало сюда. Зал был освещен множеством восковых свечей и сальных плошек. Студенты расположились на скамьях; деканы и магистры заняли высокие резные кресла вокруг огромного стола, покрытого алым бархатом. Георгий занял место на отдельной, боковой скамье, предназначенной для диспутантов. Рядом с ним сели еще два студента, также выступавшие на соискание ученой степени. И Георгий и его соседи чувствовали на себе сотни глаз, с интересом ожидавших их победы или поражения. Волнение, охватившее Георгия еще с того дня, когда был объявлен диспут, не покидало его до последней минуты. Он взглянул на сидевших рядом товарищей, которым предстояло выступить первыми. Студенты держали свитки своих записей, и Георгий видел, как бумага мелко дрожала в их руках. Выражение их лиц говорило скорее о признании какой-то вины, чем о твердой решимости уверенного в своей правоте человека. Они сидели, словно ожидая суда. Ректор объявил, что по решению факультета свободных искусств кводлибетарием
сегодняшнего диспута избирается пан Ян Глоговский. Служитель в черной ливрее, с алебардой в руках, ударил в висячий колокол. Георгий вздрогнул. Один из соседей Георгия поднялся и направился к кафедре. Георгий обрадовался тому, что его вопрос, поставленный вторым в программе диспута, давал некоторую отсрочку и позволял ему увидеть ход спора. – Могут ли души праведников вознестись на седьмое небо и лицезреть господа, или доступно сие лишь ангелам? – дрожащим голосом повторил свой тезис поднявшийся на кафедру студент. Тема эта уже неоднократно обсуждалась в университете, и потому диспут шел вяло, не вызывая ни горячих возражений, ни «научных» доказательств. Георгий стал рассматривать зал, мысленно отыскивая своего будущего противника. По условиям диспута, каждый желающий мог выйти на единоборство с ним. Кто же он: друг или враг? Искусный оратор или начетчик, зазубривший тяжеловесные цитаты? Слева от него сидел Вацлав Вашек. Милый и преданный друг. Исход диспута волновал его не меньше, чем самого Георгия. Сколько нежной заботы проявил он в дни подготовки! Теперь Вашек, согнув могучую спину и подперев руками голову, о чем-то сосредоточенно думает. Позади Вашека Кривуш. Он серьезен и торжествен. На нем дорогой шелковый плащ, подаренный какой-то знатной дамой в благодарность за стихи, написанные ко дню ее рождения. «Эту королевскую мантию, – говорил тогда Кривуш, – я накину на плечи лишь в самый торжественный день, ибо она есть первая достойная плата за несколько чудесных строк, похищенных у одного великого поэта». Курчавые волосы поэта хранили следы тщетных попыток сделать прическу. Лицо было чисто вымыто и припудрено. Кривуш внимательно вглядывается в лица. Потом, когда окончится ученый спор, он изобразит в лицах участников и в насмешливых стихах передаст смысл и цель диспута. На правом крыле, напротив кафедры, окруженный своими друзьями, сидит Иоганн фон Рейхенберг. Еще раз ударил колокол, возвестив об окончании первого спора и о присуждении степени бакалавра студенту, «доказавшему» возможность лицезреть господа бога не только ангелам, но и праведникам. Наступает очередь Георгия. Сейчас решится, сменит ли он шапочку схолара на берет бакалавра или, посрамленный противником, опустится на покрытый соломой пол аудитории. – На суд ученых мужей славного Ягеллоновского университета, – объявил Глоговский, встав с кресла, – предлагается трактат о том, какое место в науке и просвещении рода человеческого занимают книги священного писания и как должно нам применять и изучать их. Разъяснить сие вызвался схолар Франциск, ищущий ученой степени бакалавра. Всякий, кто пожелает, может вступить с ним в спор и опровергнуть высказанные им мнения. Итак, Франциск, займи место на этой кафедре. Георгий словно не слышит этого. Он остается сидеть на своем месте. – Франциск, – повторяет Глоговский, смотря на юношу. – Иди, Франек, – шепчет Кривуш. Перегнувшись через спинку скамьи, Вацлав смотрит на Георгия; в глазах его страх и сочувствие. Георгий встает с места и идет к кафедре. Он бледен, но поступь его тверда. Легкий шепот слышен на скамьях. Георгий на кафедре. Глоговский ободряюще кивает ему и улыбается. Взгляд Георгия падает на Рейхенберга… Застывшие острые глаза… К немцу склоняется один из его друзей и что-то шепчет на ухо. Иоганн чуть заметно улыбается. О чем они? Сотни глаз устремлены на одного. Это первое публичное выступление юноши в одном из знаменитейших университетов мира. Ни один из его соотечественников не удостоился еще этой чести, и, значит, его победа будет как бы победой всего его народа. На него пал выбор Яна Глоговского, Николая Коперника и лучших студентов Краковского университета. Он будет говорить не только от своего имени, но выразит взгляды всего их кружка. Нет, лучше умереть, чем потерпеть поражение. – Я, Франциск, сын Скорины из славного города Полоцка… – начинает он и слышит, как голос его дрожит. «Только бы не сорваться, только бы не спутать заранее приготовленных аргументов…» —…дерзнул предстать перед высоким синклитом ученых мужей, дабы высказать свои суждения по предложенному вопросу. Зал затих, словно притаившись. Но уже произнесены первые слова. Уже схвачена нить сложного рассуждения, и Георгий, отбрасывая общепринятые вступления, громко спрашивает: – Что есть Библия? Глоговский удивленно поднимает брови. Не так должна была начаться речь его ученика. Где же ссылки на книги Ветхого и Нового Завета? Где изречения пророков и апостолов? Как подойдет он теперь к теме? Георгий сам отвечает на заданный им вопрос: – На языке древнегреческом слово «Библия» означает «книга». Да, это книга, написанная мужами далеких времен. В книге сей, вернее, во многих книгах, ее составляющих, даны научные знания, достойные внимания ученых. Вашек слушает затаив дыхание. Ни одно слово, ни один звук, произнесенный его другом, не проходят мимо. Лицо Николая Кривуша расплывается в улыбке. Как смело и просто говорит он о священном писании! – Разве не помогает нам Псалтырь, – говорит Георгий, – познать основы грамматики, то есть искусство правильно читать и говорить? Разве изучающий логику не найдет для себя полезного в посланиях апостола Павла или в книге Иова? Вспомним книги Соломоновы или Екклезиаст. Не помогают ли они нам овладеть риторикой, иными словами, искусством красноречия и складного письма? Взглянем на такие науки, как математика и астрономия. Люди, лишенные света знаний, видят в явлениях природы часто лишь чудо. Мы же должны объяснить их по законам науки астрономической. Тишина сменяется нарастающим гулом. Кривуш, не удержавшись, кричит: – Молодец, Франек! Кто-то вскакивает с места и требует прекратить богохульство. Его силой усаживают на скамью. Вашек озирается, готовый каждую секунду броситься на защиту друга. Рейхенберг громко хохочет, за ним хохочут его подголоски. Глоговский стучит молоточком, пытаясь установить тишину. Но Георгий не нуждается в ней. Словно подстегнутый шумом, он поворачивается в сторону Рейхенберга и голосом, перекрывающим все, продолжает: – Мы извлекаем из книг сих познания о любви к родной земле, к воле и счастью своего народа. – Георгий выпрямляется и, протянув руку к залу, спрашивает: – Не надлежит ли нам, подобно древним героям, не щадя живота своего, бороться с порабощением народов славянских? Зал снова загудел. Ректор растерянно посмотрел на кводлибетария. Но Глоговский не видел ни ректора, ни шептавшихся профессоров. Он смотрел на своего ученика, и только на него. Освещенный неспокойным пламенем свечей, возвышаясь над залом, Георгий продолжал говорить. Он говорил, что только невежда или безумец может усомниться в правильности высказанного им положения, что нужно стремиться к распространению книг в народе, чтобы простые люди могли постигнуть начала науки. Голос его звенел под высокими сводами. – Однако мы видим, что священное писание, равно как и другие книги, существует лишь на латинском языке, а в землях православной веры – на церковно-славянском. Посполитый люд не знает древних языков, и книги ему недоступны. Зачем сие? Кто скрывает науку от поспольства, от людей простых и немудреных, кои наполняют собой мир и в поте лица умножают его достояние? Не те ли, кому тьма и заблуждения народа помогают порабощать его? Кому же, как не нам, людям науки, надлежит пресечь это зло. Осветим души и умы человеческие знанием. Объясним тайны Вселенной. Научим отличать правду от кривды. Общим радением дадим народу книги на понятном ему, родном языке… …Что он говорит, этот юноша? Слыханное ли дело? Книги на языке мужиков? Магистры укоризненно качают головами. Рейхенберг снова смеется и свистит. Тишина взрывается нестройным хором голосом. К Георгию долетают отдельные бранные выкрики. Он смотрит в зал и видит только злые, возбужденные лица. Где же друзья? Где Кривуш, Вацлав? Где другие студенты кружка Глоговского? Неужели теперь, когда наконец сказано большое и правдивое слово, он остался один? На мгновение ему стало страшно. Ректор и профессора окружили Глоговского. Быть может, они требовали прекратить диспут, оборвать речь Георгия? Глоговский стучал молотком и не отвечал им. Его возбужденное лицо, вся его фигура, казалось, говорили Георгию: «Продолжай, юноша, продолжай! Это те мысли, которые давно лелею я сам. Но разве могу я высказать их? Ты моложе и смелее твоего учителя, отягощенного годами и бременем повседневных забот. Продолжай же!» И Георгий продолжает. Он поднимает вверх обе руки. Это знак, говорящий о желании оратора высказать самое главное и закончить речь. Наконец он находит Кривуша и видит, как тот вместе с Вашеком почти силой усмиряют разъяренных противников. Георгий говорит медленно, чеканя каждое слово. С негодованием он отвергает ложное положение о том, что только древние языки могут быть языками книг. Он доказывает, что языки польский, чешский, язык его родины Руси достойны стать языками науки. Разве не обладают они обилием слов, достаточным для обозначения всевозможных предметов, действий, понятий? Разве нет в них правил грамматических, как и в древних классических языках? И можно ли сомневаться в звучности и красоте песен, сказок и поговорок народа? Только переводя книги на живой язык всех народов, можно сделать их рассадником науки и просвещения. – В этом, мыслю я, лишь начало, – вдохновенно заканчивает Георгий. – Ибо наука, подобно жизни человеческой и самой Вселенной, не стоит на месте, но движется и совершенствуется, обогащая нас новыми дарами. Таково мое убеждение, и иного не мыслю. Я кончил, панове! Едва умолк Георгий, как с места поднялся Иоганн фон Рейхенберг. – Я хочу опровергнуть положения, выдвинутые схоларом Франциском, – сказал он требовательным высокомерным голосом. – Хорошо, рыцарь фон Рейхенберг, – ответил Глоговский. – Займи свое место и говори. Иоганн поднялся на кафедру, стоявшую против той, которую занимал Георгий. Зал снова затих. Георгий и Иоганн стояли лицом друг к другу. На секунду глаза их встретились, и каждый прочитал во взгляде другого непримиримую вражду. – Положения, изложенные тобой, Франциск, – начал Иоганн, – есть чудовищное нагромождение ложных и еретических мыслей. Никто не мог ожидать от тебя слов, подобающих верному сыну церкви, ибо всем известно, что ты по сей день хранишь верность заблуждениям восточной схизмы. Однако даже твои единоверцы не дерзают так богохульствовать и порочить священное писание, как это сделал ты. – Из чего ты заключил это? – спокойно спросил Георгий. – Ты говоришь о священном писании, как об обыкновенной книге, написанной людьми. Между тем все мы, честные христиане, считаем его божественным откровением. Разве это не поношение святыни? – Нет, – сказал Георгий. – Книги эти написаны людьми, и мы можем назвать их имена. Имена царей и пророков, евангелистов и апостолов. Если же написанное внушено им свыше, то это лишь усиливает его мудрость и научный смысл. Может быть, ты с этим не согласен, Иоганн фон Рейхенберг? – Не он с мудростью, а мудрость не согласна с ним! – крикнул с места Николай Кривуш, и на скамьях ответили смехом. Глоговский пригрозил Кривушу. – Я утверждаю, что это есть ересь и святотатство! – почти крикнул Иоганн. – Нужно не утверждать, а доказывать, – спокойно возразил Георгий. – Докажи, и я охотно соглашусь с тобой… – Хорошо, – продолжал Иоганн, постепенно раздражаясь. – Усомнившись в чудесах, ты дерзнул усомниться во всемогуществе господа. Деянья Христовы изображены тобой как явления астрономии. Это ли не кощунство? – Я лишь говорю, – ответил Георгий, – что явления эти могут быть объяснены наукой. Разве существование Земли и небесного свода, Солнца и звезд не является само по себе величайшим чудом? Почему же желание объяснить это ты называешь кощунством? Ведь древние мудрецы Аристотель и Птолемей, а также отцы церкви пытались познать сию тайну. – Можно ли сравнивать ничтожных смертных с великими мудрецами и святыми? – гневно воскликнул Иоганн. Георгий улыбнулся: – Прежде чем стать мудрыми или святыми, они были простыми смертными. Судьба человека неведома. Возьмем тебя, Иоганн фон Рейхенберг. Едва ли ты способен стать мудрецом, судя по твоим невежественным речам. Но, проявляя такое рвение в защите церковных догматов, ты наверняка метишь в святые… На скамьях раздался взрыв веселого хохота. Иоганн побледнел: – Ты ответишь за это оскорбление, схизматик. – Разве я оскорбил тебя, – иронически спросил Георгий, – сказав, что ты стремишься заслужить венец святого? Я готов слушать не угрозы твои, но разумные возражения. Однако если они будут подобны уже высказанным, то ты не выйдешь победителем из нашего спора. – Ты осмеливаешься настаивать, – крикнул Иоганн, – на переводе священного писания на грубый и подлый язык черни! – На благородный язык народа, – поправил его Георгий. – Эго противоречит основным положениям нашей церкви, признающей языком богослужения, а также науки только латынь. – Ты говоришь неверно, Иоганн. Ведь в стремлении подчинить православную веру римскому престолу под видом унии папа разрешает пользоваться на Литве и на Руси церковнославянским языком. Но если можно пожертвовать латынью ради древнеславянского, то почему этого нельзя сделать ради языков, на которых говорят славянские народы ныне? Объясни нам, рыцарь… Иоганн вдруг оживился. – Значит, ты подвергаешь сомнению мудрость предписаний святейшего престола и тем самым сомневаешься в непогрешимости папы? Георгий ответил не сразу. Иоганн ждал, пристально глядя на своего противника, и, казалось, уже видел победу. Друзья Георгия затаили дыхание. Что ответит он? Как обойдет он это страшное место и обойдет ли? Георгий поглядел на профессоров. Глоговский опустил голову, сдерживая волнение. Рядом с ним сидел Коперник. На его лице Георгий не мог прочесть ничего. Он, как всегда, был спокоен и безучастен. Непогрешимость папы! Георгий уже слыхал об образе жизни папы Александра VI Борджиа, кровосмесителя и убийцы – ярчайшем свидетельстве «непогрешимости» римских первосвященников. Но одно упоминание об этом было бы равносильно самоубийству. Георгий видел, какую западню расставил ему противник. – Призываю всех в свидетели, – тихо сказал Георгий, повернувшись к залу, – что я не касался этого вопроса, хотя и имею о нем свое мнение. – Изложи его, – потребовал Иоганн. – Рыцарь фон Рейхенберг, – прервал немца Глоговский, – ты отклоняешься от темы. Здесь не идет речь о догмате папской непогрешимости. Иоганн бросил злобный взгляд на Глоговского: – Я вижу, что у схизматика нет недостатка в покровителях. Мы еще заставим его ответить на этот вопрос. Теперь же спросим: во имя чего хочет он переводить священное писание с латыни на язык холопов? – Я уже разъяснял, – ответил Георгий. – Чтобы сделать науку достоянием народа. Истинная мудрость понятна всякому. Подобно большой реке, она имеет глубины, в которых может утонуть слон, но имеет и мели, по коим легко пройдет и ягненок. Народ должен… – Народ! – презрительно перебил его Рейхенберг. – Разве жалкий мужицкий сброд, подобный диким зверям, обитающим в ваших лесах и болотах, нуждается в науке? – Иоганн фон Рейхенберг, – сказал Георгий, сурово сдвинув брови. – Не в первый раз я слышу от тебя эти гнусные слова. Сто лет назад люди Белой Руси вместе с поляками, чехами и литвинами бились с твоими предками на поле Грюнвальда. И надменные рыцари полегли во прахе и крови под ударами презираемых тобой мужиков. Остерегись же, рыцарь, изрыгать хулу на славные наши народы. Ибо терпению нашему есть предел! Неистовый шум покрыл эти слова Георгия Скорины. Накаленный воздух зала потрясали грозные выкрики. Студенты перепрыгивали через скамьи и двигались к кафедрам. Иоганн стоял бледный, с перекошенным от злобы лицом. Небольшая группа его сторонников окружила кафедру, защищая его от нападения. Служитель колотил в колокол. Профессора и магистры, покинув высокие кресла, оттаскивали дерущихся студентов. О продолжении спора нечего было и думать. – Долой с кафедры! – Виват Франциску! Вон немца! В Рейхенберга полетели комья смятой бумаги, гнилые яблоки. Иоганн сделал угрожающий жест и быстро спустился, укрывшись за спины своих защитников. С большим трудом удалось установить некоторую тишину. Пан ректор встал рядом с Глоговским и громко спросил: – Почитают ли панове факультет схолара Франциска достойным ученой степени бакалавра в семи свободных науках? Зал затих, ожидая решения. Ректор обращался со своим вопросом по очереди к каждому из сидевших за столом ученых: – Пан Глоговский… Пан Вратиславский… Пан Коперник… Пан Григорий Саноцкий… Пан Тадеуш Ортым… Все отвечали утвердительно. Ректор вздохнул с облегчением. Ему хотелось как можно скорее закончить этот скандальный диспут. Его преподобие по натуре был человек мирный. Трепеща перед высшим церковным авторитетом, он в то же время искал расположения профессоров. Поэтому борьба, закипевшая в университете, весьма тревожила его и сбивала с толку. Он с трудом ориентировался в ней, не зная подчас, чью сторону принять. Итак, все отвечали утвердительно. Но вот очередь дошла до одного из ученых докторов, желтолицего, морщинистого старичка. – Мысли оного Франциска почитаю я еретическими. А посему согласия моего нет, – сказал он сердито. Ректор даже вздрогнул. – А ведь правда, – сказал он, словно вспомнив. – Я и сам усмотрел в его словах… некоторым образом… частицы… Но тут вступился Глоговский: – Франциск не сказал ничего такого, что бы оскорбило слух честного католика. Напомню, он привел несколько ссылок из законов и учения святейшего престола. – Да, да, – обрадовался ректор. – Где же тут ересь? – Устав наш не требует согласия с мнением диспутанта, – продолжал Глоговский. – Для присуждения ученой степени достаточно признать, что он обладает обширными знаниями и искусен в ведении научного спора. Он доказал это. – Конечно, – быстро согласился ректор. – Он вполне доказал нам свои знания и риторический дар. Георгий все еще оставался на кафедре, ожидая окончательного решения. Возбужденный спором, он теперь почти безразлично слушал переговоры ректора и профессоров, хотя и знал, что именно от них зависит его судьба. – Тем не менее, – скрипел желтолицый, – самый дух его речей не совпадает с догматами нашей церкви. – В этом пан, пожалуй, прав, – с грустью заметил ректор. Но Глоговский не уступал: – Панове, факультет должны принять во внимание, что Франциск не является католиком. Разумеется, об этом можно пожалеть. Однако известно, что он допущен в университет с высокого соизволения его преосвященства архиепископа, попечителя нашего. Уже готовый возразить, желтолицый вдруг поджал губы, словно сразу глотнул много воды. Ректор возликовал. – Ну, разумеется, – сказал он с улыбкой. – Ведь не кто иной, как его преосвященство указал нам принять этого юношу, невзирая на его принадлежность к восточной схизме, а стало быть, мы и не можем требовать от Франциска верности католическим догматам. Я полагаю, что мы вправе решить сей вопрос утвердительно. И ректор торжественно провозгласил о присуждении Франциску, сыну Скорины, происходящему из города Полоцка, ученой степени бакалавра. – Виват! – гаркнули во всю мочь Николай Кривуш и Вацлав. – Виват! – повторили почти все студенты. – Не позволим! – внезапно раздался голос Рейхенберга. – Не позволим! – завопили его соседи. Ректор снова нахмурился. – Рыцарь фон Рейхенберг, – сказал он с достоинством. – Мы уважаем твое благочестие, твое рвение к наукам, твое высокое происхождение. Однако не можем признать за схоларом право вмешиваться в решения ученых мужей факультета. – Я хочу спасти вас от бесчестия! – громко сказал Иоганн, подходя к столу. – Может ли носить почетное звание ученого человек, запятнавший себя позорным воровством? Ропот пронесся по залу. – Подлый клеветник! – крикнул Вацлав. Георгий стоял бледный как полотно. – Чем можешь ты подтвердить это тяжелое обвинение? – спросил ректор. Иоганн подошел к столу и положил перед ректором расписку дядюшки Отто. Ректор медленно прочел расписку вслух. – Ложь, – прошептал Георгий и тотчас же громко спросил: – Кто написал это? – Купец Отто из Любека, – ответил торжествующе Рейхенберг и, подойдя к двери, распахнул ее. – Войдите, герр Отто. Пан ректор желает говорить с вами. Когда к столу, покрытому алым бархатом, подкатилась кругленькая фигурка дядюшки Отто, зал наполнился шумом и движением. С изумлением, почти с отчаянием Георгий взглянул на Кривуша. Он искал его взгляда, надеясь прочесть в нем разгадку этой неожиданной и странной истории. Но Николай глядел в сторону, и лицо его, казалось, не выражало ничего. – Это твоя рука? – спросил ректор у дядюшки Отто, указывая на расписку. – Моя. – Можешь ли ты принести клятву перед распятием, что написанное здесь – правда? – Могу. – Дядя Отто… – взволнованно начал Георгий. – Франциск, – прервал его ректор. – Вина твоя подтверждается. Ты признаешь ее? Георгий едва успел перевести дыхание, как Кривуш, перепрыгнув через нижнюю скамью, оказался посреди зала. – Нет! – крикнул он. – Виновен не Франциск. – Кто же? – крикнул Глоговский. – Кто? – спросил ректор. – Назови его имя. Кривуш, выждав, пока затих в зале шум, ответил громко и спокойно: – Виновен я… И чтобы доказать это, прошу разрешения задать купцу Отто несколько вопросов. – Говори, – разрешил ректор. – Дядя Отто! До этого случая подозревали ли вы Франциска в чем-либо бесчестном? – О, нет, – ответил купец. – У меня нишего не пропатал… Он был шестный юнош. – Хорошо, – сказал Кривуш. – Кто сообщил вам о том, что некая пани купила эти кружева и велела отнести их к ней в дом? – Отлишно помню, – сказал Отто. – Это быль ты… – Так, – продолжал Кривуш. – А помните ли вы, что два дня спустя мы пришли к вам в лавку и Франциск спросил вас, получили ли вы деньги за кружева? – Я не забыль это… – И вы ответили, что получили все сполна и показали два золотых? – Я так сделаль, потому што полючиль мои деньги от милостивый герр риттер фон Рейхенберг… – Вы сказали об этом Франциску? – О, нет! Герр риттер приказаль никому не кофорить… – Достаточно, – прервал немца Кривуш. – А теперь пусть позволит мне высокое собрание разъяснить эту прискорбную историю. И он подробно изложил все, заявив, что кружева нужны были ему, Кривушу, для его дамы. О Маргарите он умолчал. – Я невольно ввел в заблуждение и купца и Франциска, так как некоторые мои расчеты не осуществились. Однако я уплатил бы эти деньги несколько позже, если бы милостивый рыцарь не поспешил сделать это за меня. И, отвесив иронический поклон Иоганну, Кривуш сказал: – Благодарю пана за дружбу. Я верну ему те два червонца. А за свои старания рыцарь заслужил проценты. И я готов уплатить их добрым ударом сабли, как подобает честному польскому шляхтичу. Прежде чем удар колокола возвестил об окончании диспута, Кривушу было объявлено о том, что он предстанет перед университетским судом. Георгий бросился к другу: – Николай! Я выступлю на суде. Докажу, что ты честен… – Ах, Франциск, – перебил его Кривуш. – Все равно мне не избежать геенны огненной. Не будем больше говорить об этом. Я заказал Берке поистине княжеский ужин. Зови же Вацлава, и пойдем праздновать твою победу. Когда друзья, пробившись через толпу возбужденных студентов, заполнивших коридоры, выбрались на уже потемневший двор, их остановил Коперник. – Поздравляю тебя, Франциск, – сказал он тихо, – и хочу дать добрый совет… Уезжай из этого города. Они не простят тебе. – Бежать? – воскликнул Георгий. – Да, – сказал Коперник. – Иначе ты погибнешь. Разве ты не видишь, что и на нашей польской земле рыщут агенты инквизиции. – Но здесь живут друзья мои… Моя невеста… Могу ли я покинуть их? – Ты должен это сделать, если действительно любишь науку. Я также уезжаю отсюда. – Куда же мне идти? – спросил Георгий. – Планета наша велика, – улыбаясь, ответил Коперник и, обняв юношу за плечи, отвел в сторону. – Ты хотел изучать медицину, – тихо сказал он, словно собираясь сообщить нечто такое, что надобно уберечь от огласки, – отправляйся в Падую. Я дам тебе письмо к большому ученому и моему другу, профессору Мусатти. Ты будешь учиться у него. Уехать в Италию! Кто из схоларов не мечтал об этой стране прославленных ученых, ваятелей, живописцев! Не раз Николай Коперник в тесном кружке друзей-учеников рассказывал о своих странствиях по этой солнечной стране. В воображении вставали величественные колонны Римского форума, прекрасные венецианские каналы, чудо-дворцы Флоренции и Милана. Видеть все это хотелось. Но еще больше Италии юношу, так мало знавшего родину, манило другое. – Знаю, – сказал Коперник, пристально глядя в глаза Георгия и как бы читая в них его мысли. – Мне говорил пан Ян о твоем благородном желании вернуться на родину. Подумай, что принесешь ты ей сейчас? – Нет, – ответил Георгий. – Сегодня, пан Николай, на диспуте… я клятву дал жизнь посвятить служению братьям моим, принести им свет грамоты… – Задача сия высока, – негромко сказал Коперник, – трудна и опасна. Ни в чем правители так не боятся истины и не мстят за нее, как в просвещении поспольства. Где хочешь найти ты наставников и защитников дела своего? – спросил он. – Приходят вести из Киева, из Московии, из чешской Праги, – ответил Георгий тихо, но убежденно. – О мужах науки славянской. К ним пойду. – Славно, – одобрил Коперник. – Бери пример с близких своих, но прежде туда пойди, где почерпнешь наиболее знаний. И на чужой земле не грешно учиться тому, что после свою землю украсит. Охвати мир разумом, сравни и исчисли истину. Ты молод, свободен, везде побывай! Вечером собрались у Глоговского. Так же, как и Коперник, Глоговский считал, что Скорине более оставаться в Кракове не следует. Ясно, что Рейхенберг не замедлит отомстить за свое поражение, и это может пагубно сказаться на дальнейшей судьбе Георгия. Но куда направить юношу? Где найдет он мудрых и чистых сердцем учителей, способных открыть пытливому уму бакалавра многое, еще оставшееся тайным? Николай Коперник, как обещал, принес письмо к итальянскому профессору Мусатти. Георгий принял письмо с благодарностью, но снова сказал о своем решении побывать сначала в русских городах. Глоговский понимал и одобрял стремление Скорины. – Что ж, Францишек, – сказал он к концу беседы, – пожалуй, прав пан Николай. Идти нужно туда, где почерпнешь наибольше знаний. Не отрекайся от Падуи. Университет итальянский – один из достойнейших. Изучишь там медицину лучше, чем у нас в Кракове или даже в славном Пражском университете. Худо ли поступил сам пан Коперник, вернувшись на родину с бесценным богатством, собранным им в чужих городах? Но прав и ты. Если хочешь дать народу книги на его родном языке, надобно прежде поучиться у самого народа. Так думал и Георгий. День за днем, как трудолюбивая пчела, он будет собирать нектар науки, увидит жизнь людей, услышит их песни и сказки. Он проникнет в сокровищницы монастырей и разыщет списки древних славянских сказаний. Он пойдет в Москву, в Киев, познакомится с сочинениями ученых монахов. Побывает в чешской Праге и отправится в Италию не бакалавром «семи свободных наук», а человеком, познавшим жизнь великих славянских народов, впитавшим их мудрость, накопленную годами борьбы. Так мечтал Георгий, лежа без сна, в ночь после диспута и прощальной беседы у Глоговского. А Маргарита? Покинуть ее? Разве не поклялись они всю жизнь быть вместе? Что ж, они пойдут вдвоем. Рука об руку. Путь их будет нелегким. Но Георгий верил в свою подругу. Ничто не пугало его. Сначала он будет учить малых детей, Маргарита станет помогать ему, и так они добудут себе пропитание и благодарность народа. А потом… Едва дождавшись утра, он решил отправиться к Маргарите. Вашек остановил его у самых дверей. – Что случилось, Вацлав? Я тороплюсь. – Не стоит торопиться, – сказал Вацлав грустно. – Она обманывает тебя. – И он протянул Георгию смятую записку. Георгий в недоумении взял записку, но едва только он прочитал первые строки, как лицо его изменилось. – Когда ты получил это? – Несколько дней назад. Я не хотел отвлекать тебя… – Что ты наделал?.. – прошептал Георгий в отчаянии. – Франек, – сказал Вашек, встревоженно глядя на друга, – скажи мне только, кто этот Юрий, и я убью его. – Юрий – это я, – ответил Георгий и выбежал из комнаты. Задыхаясь, он спешил к знакомому дому… Но что это?.. Окна заколочены, на дверях большие замки. На его отчаянный стук вышел старый привратник и равнодушно сообщил, что Сташевичи уехали, не дожив своего срока по контракту. А куда и почему, он и сам не знает. Маргарита уехала!.. Словно качнулась земля под ногами у Георгия. Он прислонился к забору. – Не может того быть… – прошептал юноша, удивленно глядя на привратника. Старик ответил: – То правда, панич. – И вдруг, вспомнив, спросил: – А не вы ли схолар Юрий? – Я! – встрепенулся Георгий. Мгновенная надежда осветила его лицо. Быть может, сейчас он получит оставленный ею адрес, письмо… Привратник вынул из-за пазухи маленький сверток. – Вот, – сказал он, – это просила панна Маргарита отдать схолару по имени Юрий. Георгий схватил сверток. Руки дрожали, шелковый лоскуток выскальзывал, никак не развязывался. – Очень плакала панночка, – шепотом сообщил старик, – а святой отец успокаивал, о каком-то монастыре говорил… – О монастыре? – с ужасом переспросил Георгий. – Так ее увезли в монастырь? – Не знаю, ничего не знаю… Мне и того не велено, что сказал. Старик испуганно закрестился: – Святая дева, защити меня… – и захлопнул калитку. Георгий услышал, как скрипнул засов, зашуршали по песку торопливые шаги привратника, и все стихло. Перед ним был дом с заколоченными окнами и в руках развернутый лоскут, на котором лежал последний привет Маргариты. Старинный перстень с камнем-печаткой. Дубовая веточка и латинское слово «Fides», что означает «верность». * * * Две переметные сумы уложены и завязаны. Все готово к путешествию. – Сядем, – предложил Вацлав. Исполняя древний обычай, они опустились на скамью. Кривуша все еще не было. Это огорчало Георгия. Все как-то не ладится. Последние три дня он и его два друга – Вацлав и Николай Кривуш – неутомимо рыскали по окрестностям Кракова, пытаясь узнать, куда увезли Маргариту. Они обошли все соседние монастыри. Часами простаивали у ворот. Георгий роздал монахам почти все свои сбережения. Кривуш пускался на любые дерзости, чтобы проникнуть за высокие монастырские стены. За эти три дня он дважды исповедовался в монастырских церквях и один раз чуть не дал обет послушания, но вовремя успел вернуться в грешный мир через узкое окно монашеской кельи. А Маргариты все не было. Никто не знал, не видел в монастырях молодой богатой панночки… Вашек, как только узнал о решении Георгия покинуть Краков, замолчал, и теперь из него нельзя было вытянуть больше двух слов. Не пришел проститься Николай. Как грустно!.. Скоро взойдет солнце, и чешский купец, которого Глоговский попросил взять с собой Георгия, тронется в путь. Встретит ли Георгий еще когда-нибудь своих друзей? Вчера объявили, что решением пана попечителя Кривуш исключен из университета. Бедный Николай! Как все здесь несправедливо. Даже диплом бакалавра, на котором так красиво написано его имя «Францискус Луце де Полоцко – бакалавр», кажется ему тоже фальшивой бумажкой. Нет, ничто его не удержит. Ни воспоминания о Маргарите, ни добрые друзья, убеждавшие остаться, обещая защиту и помощь. Не из-за боязни покидает он этот город. Решение, однажды принятое им, не могло быть изменено. Изменив его, он изменил бы самому себе. Этого Георгий никогда не допустит. Зная характер Францишка, друзья прекратили уговоры. – Пора, Франек, – сказал Вацлав. Георгий окинул взглядом маленькую комнату, где он провел два долгих, незабываемых года. Друзья вышли… Вашек не позволил Георгию взять сумки и понес их сам. Больше он не говорил ни слова. Вот и обоз купца. Последняя минута прощания. Георгию показали место на передней телеге. Солнце начало подниматься над горизонтом. Купец перекрестился и сказал: – Пресвятая дева, сохрани нас… Трогайте с богом. Обернувшись, Георгий увидел бегущего от городской заставы человека. Это был Кривуш. Георгий соскочил с телеги и бросился ему навстречу. Юноши обняли друг друга. Купец велел остановить обоз. Вашек стоял на прежнем месте, глядя в землю. – Во всей Польше нет лучшего бегуна, чем Николай Кривуш, – говорил толстяк, еле переводя дыхание. – Почему же ты не пришел раньше? – спросил Георгий. – Вот, – ответил Кривуш, протягивая Георгию несколько монет. – Я ждал, пока проснется меняла, чтобы вернуть тебе долг. – О каком долге ты говоришь? – Помнишь червонец в первый день нашего знакомства на университетском дворе? – Николай, как не стыдно… – Тебе деньги нужнее, чем мне. Ведь я все равно растворю их в адской кухне алхимика Берки. Бери, Франек! Георгий смотрел на друга, и в глазах его стояли слезы. Вдруг он заметил: – Что за платье на тебе? Где же твой дорогой плащ, в котором ты красовался на диспуте? – Ах, я, кажется, забыл его у менялы, – ответил Кривуш. – Там было так душно… Ничего, Франек, и без плаща каждый узнает Николая Кривуша, шляхтича и ученого. Телеги заскрипели по песчаному тракту. Георгий смотрел на удалявшихся от него друзей. Вот он уже не различает их лиц, не видит, как закусил губы Вашек, не слышит, как Николай, сжав его руку, говорит: – Стыдись, Вацлав. Разве не радоваться мы должны, что наш Франек уезжает туда, где нет ни ректора, ни Рейхенберга, где он найдет себе новых друзей? И слеза покатилась по щеке веселого студента. Второй раз в своей еще недолгой жизни покидал Георгий друзей.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
БРАТЬЯ МОИ – РУСЬ!
Иди в огонь за честь
отчизны,
За убежденья, за
любовь!
И. Некрасов
Глава I
Как ни тоскливо, как ни тяжело было на душе у Георгия, потерявшего возлюбленную и друзей, все же он не приходил в отчаяние.
Его окрепшая воля помогла выдержать и это испытание.
В часы бессонницы воспоминания томили сердце скорбью об утраченном, рука до боли сжимала спрятанный на груди маленький перстень. Но никто не слышал от Георгия ни жалобного слова, ни даже тяжкого вздоха.
С ним никто не заговаривал без дела, никто ни о чем его не расспрашивал. Монотонно скрипели по песчаному тракту колеса, мерно покачивались тяжело груженные телеги чешского купца.
Переправившись через Вислу, они выехали на мощенный деревом шлях Брестского воеводства, по которому Георгий проезжал два года назад, направляясь в Краков. Но теперь путь лежал в столицу Литовского княжества Вильну.
Георгий никогда не был в Вильне, и знакомство с одним из оживленнейших городов Запада было заманчивым для него.
Однако не простое любопытство заставило юношу предпринять это путешествие. Виленские купцы и старшины ремесленных цехов вели обширную торговлю со многими городами Германии, Венгрии, с Крымом и славянскими землями. Начала завязываться и торговля с Москвой. Если бы не мешали частые военные столкновения, с Москвой окрепла бы не только торговая связь. Георгий не сомневался, что встретит в Вильне московских или новгородских купцов, а с их помощью, воспользовавшись затишьем на литовско-русской границе, уедет в Московское княжество.
Хозяин обоза, купец Алеш, не знал о таком плане своего попутчика.
Рослый сумрачный чех с вечно озабоченным лицом, украшенным длинными, свисавшими на грудь, поседевшими усами, в простой одежде, вооруженный двумя дорожными пистолетами, на первый взгляд заставлял относиться к себе настороженно.
Но постепенно, наблюдая за ним, видя, как Алеш обращается со своими конюхами и молодым приказчиком, как помогает людям на переправах через реки, как делит с ними свою небогатую пищу, Георгий понял, что под суровой внешностью купца кроется доброе и мужественное сердце человека, прожившего нелегкую жизнь. Чувствуя, как Алеш по-отечески заботливо относится к нему, Георгий первый сделал шаг к дружбе.
– Пан Алеш, – сказал он на одной из остановок, присаживаясь возле купца, отдыхавшего в тени широкой ветлы на берегу озера. – Не знаю, как лучше отблагодарить вас за добро, и прошу, коли будет в том надобность, примите посильную помощь мою, как друга.
Алеш взглянул на него из-под нависших бровей и, кажется, в первый раз за весь путь улыбнулся.
– Слава Христу, пан бакалавр, – сказал он, погладив Георгия по голове, как ребенка, – с делами мы справимся. А от дружбы купцу как отказаться? Радостно мне, что очнулся ты.
Георгий удивленно посмотрел на Алеша. Тот пояснил:
– Тревожить тебя боялся, пока горечь вся на дно не осядет. Не смущайся, мне пан Глоговский все про тебя поведал. И про диспут, и про паненку.
– Зачем же… – смущенно пробормотал Георгий.
– А затем, – засмеялся пан Алеш, – что любят старики о молодых посплетничать. То не в обиду. Мне наказ дан увезти тебя не только от Кракова, но и от смуты твоей. Послушай меня, не томись. Помни, коли грабитель твой тебя веселым зрит, добро твое в его руках горит.
На этот раз привал затянулся надолго.
Неторопливо, словно разматывая запутанный клубок, протягивал Алеш нить своей долгой жизни к сегодняшним дням. В иных местах, будто завязывая узелок, сравнивал он рассказанное о прошлом с тем, что происходило на глазах у Георгия.
– Вот ты за наукой в далекие земли идешь, а я для науки той, покоя не зная, по белу свету шатаюсь. За купца выдаюсь, товары разные продаю, покупаю, а всего-то моего имущества здесь – конь да одежда на мне.
Старик доверил Георгию свою тайну. Обоз, с которым они двигались в Вильну, не принадлежал ему. Он всего лишь выполнял поручение общины «чешских братьев». Разъезжая по ярмаркам, продавал сукна, шерсть, куски тонкого полотна, металлические изделия, все то, что жертвовали ремесленники и крестьяне – члены «чешского братства» для строительства и содержания школ на родном языке. На вырученные деньги Алеш покупал воск, смолу и возвращался на родину. Прибыль сдавалась казначею общины. Были у него и другие поручения к некоторым образованным людям Польши и Литвы, но о них Алеш умалчивал.
– Добрые школы построили мы для малых детей, – с гордостью похвалился старик, – учат там на нашем родном языке. Но мало их… Все тесней и тесней становится, разоряют нас… – вздохнул Алеш.
«Стало быть, и на вашей земле…» – хотел спросить Георгий, с интересом слушая рассказ.
Но Алеш продолжал:
– Бьемся и за волю, и за веру свою. Сколько я себя помню, дня не было, чтобы не нависала над нами угроза чужого ярма.
Старик рассказал, как, будучи еще мальчиком, он принимал участие в защите «Табора», боевого революционного лагеря гуситов. Во время разгрома «Табора» погибли его отец и старшие братья.
Много горя пришлось тогда на долю таборитов. Крестьяне, ремесленники и обнищавшие землевладельцы, вооруженные косами и вилами, храбро бившиеся за свободу, равенство и братство, были обмануты и преданы сторонниками панов-феодалов.
Потерпев поражение, табориты все же не прекратили борьбы. Объединившись в общины «чешских братьев», они продолжали сопротивляться владычеству римского папы и германского государя. Пользуясь трудами выдающегося чешского ученого Петра Хельчицкого, «братья» создали стройную систему самоуправления своих общин.
– Не папа римский назначает нам священников и епископов, – рассказывал Алеш, – а на общем сборе синодом выбираем мы своих пастырей. Оттого и зовемся братьями, что у нас все люди равны. Нынешний король Владислав и многие паны ненавидят нас, с презрением обзывают «грязными земледельцами», «сапожницким обществом», трудно нам отбиваться, да все же держимся, а иначе и вовсе жить смысла бы не стало.
Долго рассказывал Алеш о самоотверженной борьбе чехов. Скорина слушал и думал, что в будущей жизни, о которой сейчас он только мечтал, он не останется одиноким. Новые мечты и новые планы начали возникать в голове юноши. Но не скоро суждено им было осуществиться.
Солнце уже окунулось в багряное озеро.
Потемнел и затих прибрежный камыш. Дважды подходил молодой приказчик, чтобы напомнить о позднем времени. Наконец Алеш поднялся.
– Что же, братцы, – обратился он к ожидавшим его людям, – скоро ночь. Не случилось бы худа ехать далее. Разводите огонь, здесь заночуем.
Коротка летняя ночь.
Георгий, казалось, едва только стал засыпать, как его разбудил лай собак и громкий говор людей.
Выбравшись из-под телеги, где он устроил себе ложе, Георгий увидел, что их маленький лагерь окружен вооруженными всадниками. Некоторые из всадников держали на сворках больших рычащих собак.
Сначала Георгий подумал, что это охотники, егеря какого-нибудь магната, случайно завернувшие на их огонек. Но скоро разглядел на всадниках одежду королевского войска.
Старший из них, не сходя с коня, при свете потрескивающего факела рассматривал поданную Алешем охранную грамоту.
– То добре, – сказал всадник, возвращая бумагу. – Але пану купцу придется не ехать на Вильну. – И, не слушая возражений Алеша, крикнул: – Пистоли, сабли забрать!
Трое всадников обезоружили Алеша. Один из них подтолкнул Георгия, стоявшего в стороне.
Шагнув вперед, Георгий обратился к старшему:
– Дозвольте пана спросить…
– Кто то есть? – прервал его старший, поднося к лицу Георгия факел. – Служка?
– Я не служка, – попытался объяснить Георгий.
– Пане товарищу,
– вмешался Алеш, становясь рядом с Георгием, – это наш случайный попутчик. Он ученый. Бакалавр достославного Краковского университета, он направляется…
– То добре, – не слушая дальше, объявил пан товарищ. – Пану бакаляру надо вернуться до Кракова.
– Но мне надобно в Вильну! – запротестовал Георгий.
– Не можно! – грубо оборвал его старший всадник. – Никому не можно до Вильны! – И, перекрестившись, тихо добавил: – Умер король.
* * * В ту же ночь к воротам города Вильны подкатили две закрытые кареты.
Взмыленные кони тяжело дышали. На каретах и усталых слугах, сидевших на высоких запятках, толстым слоем лежала дорожная пыль. Видимо, они проделали неблизкий путь и очень торопились.
Латники, охранявшие городские ворота со стороны Трокского шляха, окружили прибывших, приказав всем находящимся в каретах выйти.
Сопровождавший приезжих монах шепнул что-то старшине стражи, и тот разрешил не выводить из кареты молодую панночку и ее остроглазую экономку.
Из первой кареты, опираясь на трость, вышли грузный хозяин и пожилая, тяжело вздыхавшая, утомленная пани.
Латники видели, как старая пани хотела подойти к дверцам второй кареты, но толстый хозяин строго взглянул на нее и сердито стукнул о землю тростью. Пани только прошептала:
– Пресвятая дева, помилуй ее…
Монах торопил стражу. Скоро воротные цепи были опущены, и, прогремев по булыжнику под сводами арки, кареты выехали на мощеную улицу города.
Неприветливо, мрачно встречал город ночных гостей.
Со стен свисали длинные черные полотнища. Толстые восковые свечи горели у распятий и каплиц, уныло перекликались колокола католических и православных церквей. На высоких ступенях костела, мимо которого проезжали кареты, сидел воеводский служитель-бирюч
с бумагой в руке.
Дав знак каретам остановиться, он поднялся и, почти не глядя на бумагу, монотонным голосом объявил заученный текст «Повеления ясновельможного пана воеводы жителям славного места Виленского, всем приезжим и путникам»:
– Никто не должен носить другого платья, кроме как черного. Пусть снимут женщины ожерелья и кольца и всякие украшения. Никто не засмеется, не будет петь песни или слушать музыку… И будет так ровно один год!
Приникнув к окнам карет, приезжие с тревогой смотрели на затихшие улицы города. Хотя уже приближался час заутрени, на улицах не было никого, кроме вооруженной стражи. Это пугало приехавших господ и их слуг. Только одна печальная панночка, забившись в угол кареты, безразлично глядела перед собой и односложно отвечала на вопросы экономки.
Заехав в тихий переулок возле моста через Вилию, кареты остановились у высокой каменной ограды, заросшей диким виноградом.
Монах постучал в калитку. Ему ответил лай собак.
– Мы приехали? – словно очнувшись от сна, спросила панночка.
– Кажется, так, панна Маргарита, – шепотом ответила экономка, не отрываясь от окна, – ой, недоброе творится в этом городе…
Маргарита молчала.
Глава II
– Плачьте, люди места Виленского. Соедините скорбь свою друг с другом и рыдайте! В траур оденьте сердца свои…
Пан Николай Радзивилл поднял тонкий кружевной платочек и приложил его к сухим глазам. Длинные волосы воеводы упали на плечи, прикрытые черным плащом. Могучая фигура согнулась, словно от горя, и голос дрогнул.
– Нет более у нас отца, защитника и милостивого господина, – продолжал воевода, стоя на высоком балконе своего замка.
Но пока еще никто не рыдал.
Собравшись у воеводского замка, толпа молча слушала речь, ожидая погребального шествия. Не горе, вызванное смертью великого князя, отражалось на лицах простых людей, а любопытство и тревога.
Виленчане чувствовали, что воевода и городской магистрат обеспокоены не только тем, как, соблюдая древние обычаи Литвы и Польши, сладить траурную процессию из Вильны в Краков, но и чем-то другим.
Давно уже было неспокойно в столице Великого княжества Литовского. Не успели люди порадоваться миру, заключенному с Москвой, как начались неурядицы между панами магнатами и королем. Доселе шумный, оживленный город затих, насторожился, словно в засаде.
Торговля замерла. Иноземные купцы поспешили уехать, ничего не продав и не купив. У псковских и калужских купцов люди воеводы Яна Забржзинского отняли товары и многих побили. Козельские купцы еле спаслись бегством из самого города Вильны. И это было, пока еще жил Александр, да при нем был князь Глинский, у которого не раз искали русские люди защиту и управу на беззакония панских державцев.
А что будет теперь?
В мае месяце в земли княжества вторглись толпы перекопских татар. Запылали города и села, застонали нивы под копытами вражьих коней. Князь Глинский остановил это нашествие. Одержав блестящую победу под Клецком, он недавно вернулся в Вильну, гоня перед собой толпу пленных крымцев. Накануне его возвращения жители города готовились торжественно встретить победителя, да воеводские стражники плетями загоняли их во дворы и дома.
Вильна встретила Глинского пустынными улицами и молебнами костелов.
Король умирал.
Паны магнаты давно не ладили с Глинским. Потомок татарского князя, осевшего в городе Лиде еще при Витовте, Михайло Глинский был любимцем великого князя Александра. Хитростью и старанием он приблизился ко двору и скоро из придворного маршалка стал властным хозяином чуть ли не половины Литовского княжества.
Обладая острым глазом и пытливым умом, обученный военному искусству в странах Западной Европы, Глинский не только в ратных делах выделялся среди литовских и польских вельмож. Он прежде других увидел признаки распада и гибели Литовского княжества. Уния с Польшей, жестокий произвол, грабежи, чинимые населению королевскими державцами и католическими монастырями, вели край к полному разорению. Войны с русскими еще более отягощали положение. Уже не только пограничные, но и дальние бояре помышляли об отъезде к московскому государю.
Большая часть православного населения, люди Белой Руси, притесняемые иноземцами, теряли терпение, искали пути объединения с русскими, поднимали восстания.
Глинский, не боясь, указывал Александру на причины этих восстаний. Советовал изменить политику. Александр понимал правоту Глинского, доверял ему, но был бессилен против магнатов и шляхты. Видя слабость великого князя, Глинский пытался заключить союз с панами магнатами.
Ярый сторонник римского папы, Ян Забржзинский, завидуя Глинскому, не брезгал клеветой и обманом. Собирая доказательства о якобы подготавливаемой измене, о желании отделить Белую Русь от Великого княжества Литовского, он оговаривал Глинского. Защита Глинским некоторых обижаемых литовскими магнатами русских бояр давала богатую пищу клеветникам. Постепенно Глинский оказался в непримиримой вражде с Забржзинским и его сторонниками. Продолжая пользоваться лаской великого князя, он стал тайно накапливать силы.
Добиваясь назначения русских на «державные и коштовные должности», Глинский стремился окружить себя людьми близкими и преданными. Это не могло ускользнуть от пристальных взоров его врагов. Ненависть литовских магнатов росла. Росло и недовольство политикой Александра. Видя во всем руку Глинского, на сейме в Радоме паны выступили против короля, потребовав ограничения его власти. Желание ставить всякое решение короля под свой контроль давно уже не давало покоя завистливым магнатам.
Выслушав приговор сейма, Александр тяжело занемог. Болезнь обострилась здесь, в Вильне, куда привезли немощного Александра, покинувшего войско Глинского, защищавшее княжество от крымских татар. Александр едва дождался возвращения князя Михаилы с победой. Вскоре он умер, не оставив наследника.
Глашатаи возвестили о последней воле покойного, будто бы высказанной епископу виленскому Табару и воеводе Радзивиллу. Наследником объявлялся брат великого князя, пятый сын Казимира – Сигизмунд. Перед богом и людьми мог свидетельствовать Михайло Глинский, что не о Сигизмунде были последние слова великого князя.
– Гибнет княжество, – прошептал Александр, слабой рукой обнимая склонившегося Глинского, – защити его… На мудрость твою и мужество уповаю. Прости меня, брат…
Были при сем и епископ Войтэх Табар, и Николай Радзивилл, и польский канцлер пан Ласский, да только слышали они как будто другое.
Боялись магнаты, что гордый недавней победой Глинский, владевший отрядами испытанных воинов, захватит великокняжеский престол и, войдя в союз с Московским великим князем Василием, отдаст ему Литовскую Русь, чего хотел и Василий, и люди, населявшие большую половину Литовского княжества.
В Вильну съехались воеводы с отрядами вооруженных слуг. Прибыл смоленский наместник Станислав Кишка, полоцкий воевода Глебович, пан Ян Забржзинский и уже выживший из ума, подслеповатый староста жмудский Станислав Янович.
Желчный и подозрительный канцлер Ласский торопил отправить тело покойного в Краков, чтобы по старому обычаю похоронить его на Вавеле. Но Радзивилл отказал канцлеру, заявив, что, пока Глинский со своими людьми в Вильне, нельзя покидать столицу.
Решено было хоронить Александра в Вильне и сюда же как можно скорей вызвать Сигизмунда.
На воскресенье было назначено траурное шествие.
Все пять ворот города зорко охранялись латниками и ландскнехтами. Закрыты были и все дальние дороги, ведущие в Вильну.
Поняв причину неожиданных распоряжений виленского воеводы, взвесив свои силы и силы врагов, Глинский решил принять участие в шествии, подготовив неожиданный для панов воевод план отступления.
Многие жители Вильны другого ждали от Глинского.
* * * В доме, в котором остановились Сташевичи, строго соблюдался этикет траура. Комната, отведенная для Маргариты, не отличалась от других покоев. Картины, бронзовые светильники и зеркала покрыты черными полотнищами. Узкие окна, на стеклах которых изображены жизнь и страдания пророка Иеремии, затянуты крепом.
Одинокая свеча изливала печальный свет.
Перед Маргаритой стояло распятие и лежала раскрытая книга.
Когда пан Сташевич вошел в комнату дочери, Маргарита поднялась навстречу ему. Лицо ее было бледно, глаза, веселые глаза Маргариты, потускнели и смотрели испуганно, жалостно.
– Маргарита, дитя мое! – дрогнувшим голосом проговорил старый пан, протягивая руки.
Маргарита упала ему на грудь.
Пан Сташевич в глубине души опасался, что строгие меры могут оказаться пагубными для его хрупкой дочери. Но угроза бернардинцев была так страшна и страх настолько непреодолим, что до приезда в Вильну он и не думал о смягчении участи Маргариты.
Теперь семья его далеко от опасного схизматика Франциска, или – как называла его Маргарита – Юрия, и девушка вернется к жизни.
В эти дни в Вильне нельзя было рассчитывать ни на какое веселье, но прогулка по городу и особенно зрелище торжественного обряда должны были оказать благотворное влияние на сердце юной католички.
Пан Сташевич отправился с Маргаритой к воеводскому замку. Улицы были заполнены людьми, каретами, колясками. Весь «Кривой град»,
вплоть до берега Вилии, протекавшей у подножия Замковой горы, шумел и колыхался. Даже на городской стене и на крышах домов сидели любопытные.
Сташевичи с трудом добрались до палат Радзивилла и поднялись на холм, где уже расположились в своих колясках ранее прибывшие виленчане.
Шествие только началось.
С горы спускались, прорезая толпу, нищие с толстыми зажженными свечами в руках. Их было много, не менее двухсот или трехсот человек. Одетые в траурные хитоны, нищие завывали, ударяя себя в грудь. За нищими на рослом белом коне ехал придворный хорунжий с обнаженным мечом, острием обращенным к сердцу.
Для Маргариты все это было новым и необычным. Стараясь ничего не пропустить, она встала на сиденье коляски и, опираясь на плечо отца, спрашивала его обо всем.
Отец охотно объяснял.
– Это придворный хорунжий, начальник охраны покойного.
– А почему он так держит меч?
– То знак горя и отчаяния, – пояснил Сташевич. – Когда-то телохранитель мечом прокалывал себе сердце, когда умирал его господин.
– Он тоже проколет сердце? – в ужасе спросила девушка.
– Нет, дочь моя, то было раньше, теперь это только напоминание.
Вслед за всадником медленно двигались четыре траурные колесницы и сорок латников, везущих одиннадцать знамен земель, объединенных Польшей, и двенадцатое самое большое, коронное.
На некотором расстоянии от них ехал рыцарь, наряженный в одежды Александра, представлявший в торжественном шествии особу покойного. Следом воеводы несли регалии великого князя. Старший из них двумя руками держал высоко поднятый меч с хорошо различимой щербиной на его лезвии.
– Сам виленский воевода, – тихо сообщил Сташевич, нагнувшись к Маргарите, – ясновельможный пан Радзивилл. В руках у него, очевидно, меч великого князя.
– Если позволит пан, – обратился к Сташевичу стоящий рядом невысокий мужчина с бледным лицом и широко расставленными добрыми глазами, – я расскажу уважаемой панночке, что то за меч…
Незнакомец поклонился Маргарите.
С самого начала Сташевич заметил, что человек этот не столько следил за процессией, сколько за ним и особенно за его дочерью. Сташевич даже подумывал переменить место, но теперь это сделать было трудно, да и внимательно посмотрев на незнакомца, он решил, что человек этот, видно, состоятельный и воспитанный.
Имея взрослую дочь, не следует избегать знакомства с молодыми мужчинами.
– Прошу вас, пан, оказать эту ласку, – согласился Сташевич.
Подойдя ближе и обратившись к Маргарите, незнакомец объяснил.
– Панна видит зазубрину на мече – это «щербец». А сделана эта щербина будто еще Болеславом Храбрым, когда этим мечом он постучал в ворота города Киева, матери городов русских, – с какой-то едва заметной горечью закончил незнакомец.
– А кто тот, рядом с паном воеводой? – спросила Маргарита, указывая на худого, с плоским белым лицом, высокого человека. – Ой, какой некрасивый!
– Т-с-с, – шутливо погрозил незнакомец и, понизив голос, ответил: – То польский канцлер пан Ласский, за ним на подносе несут жезл и державу, символы власти. Справа идет воевода полоцкий пан Глебович, слева – смоленский наместник пан Станислав Кишка.
– Так, так, – подтвердил Сташевич, – то, дочь моя, все наизнатнейшие вельможи.
– Да, – тихо заметил незнакомец, – только не вижу я самого наизнатнейшего…
– Кого пан мыслит?
– Князя Глинского.
Улицу уже заполнило духовенство, идущее впереди королевской колесницы, нагруженной драгоценными, шитыми золотом материями и заморскими шелками. Это везли подарки костелам, встречаемым на пути следования шествия.
Плакали, завывая, «траурники», монотонно звонили колокола.
Тридцать вороных коней везли золоченые дроги, на которых возвышался открытый пустой гроб.
– А где же?.. – успела только вскрикнуть удивленная Маргарита, как отец, жестом приказав ей молчать, опустился на колени и стал креститься.
Перекрестился и незнакомец, но Маргарите показалось, что он перекрестился не так, как крестился отец и как крестилась она.
Отец оставался на коленях все время, пока дроги с пустым гробом медленно двигались мимо них.
– Тело покойного князя в храме, – шепотом объяснил Маргарите незнакомец, – пока идет шествие, над ним совершается богослужение. Объехав все костелы, процессия должна вернуться…
Шум прервал объяснение незнакомца. В толпе, плотно обступившей процессию, мелькнули приветственно поднятые руки, послышались негромкие возгласы:
– Глинский! Князь Глинский!
Незнакомец вдруг оживился и, на мгновение забывшись, вскочил на подножку, схватил Маргариту за руку:
– Вот он, вот! Смотрите!
Лицо его осветилось радостью. Он указал Маргарите на спускавшегося с Замковой горы всадника, одетого в простое военное платье.
– Слава, князь! Виват пану Глинскому! – выкрикивали из толпы на разных языках: по-литовски, по-русски, по-польски.
Скованные торжественностью церемонии, виленчане не сразу решились нарушить строгий порядок траура. Сначала несколько смельчаков, поддавшись порыву, забыв, зачем они вышли на улицы города, подбросили вверх шапки, выкрикнули приветствия победителю татар. И вслед за ними, почувствовав силу, уже не боясь плетей воеводских гайдуков, народ подхватил:
– Слава Глинскому, защитнику нашему! Слава!
Над толпой взлетали шапки, платки. Букет цветов, рассыпавшись в воздухе, упал на дорогу под копыта коня князя Михайлы. Гул приветствия вызвал ропот среди панов.
Стоявшие позади пробивались вперед. Завязались мелкие драки, послышалась грубая брань. Латники повернулись к толпе и оттесняли ее.
Глинский ехал молча, не отвечая на приветствия.
Он поравнялся с коляской Сташевичей, и Маргарита могла хорошо рассмотреть его лицо. Смуглое, с небольшими черными усами и столь же черными нахмуренными бровями, лицо его было мужественно красивым. Но Маргарите оно показалось злым.
Глинский и в самом деле был рассержен. Он не хотел нарушать торжества похорон своего друга и боялся, как бы из-за неожиданных приветствий народа паны воеводы не наделали бед.
Впереди процессии пан Радзивилл уже шептал что-то пану Ласскому. Метались вокруг них растерянные слуги.
Почти дойдя до красных ворот, траурные колесницы остановились.
Неизвестно, как бы обернулись события, но тут из-за ворот послышался звук военной трубы. Два всадника, обгоняя друг друга, помчались навстречу шествию. Один спешил к виленскому воеводе, другой – к Глинскому.
Гремя, опустились тяжелые цепи, и в арке красных ворот, гарцуя на гнедой тонконогой кобыле, показался богато одетый всадник, сопровождаемый трубачами и вооруженной свитой.
В тот же миг, пришпорив коня, обойдя золоченые дроги, мимо возмущенных священников и вельмож проехал Глинский. За ним промчались Андрей Дрожжин и немец Алоиз Шлейнц.
Все, кто стоял вдоль мостовой, двинулись к красным воротам, окончательно сломав порядок траурного шествия. Некоторые бросились в обход, в переулки.
Путаясь в длинных хитонах, суетились нищие со свечами в руках.
Сердито кричал что-то пан Ласский. Радзивилл приказал латникам расчистить дорогу.
– Спокойно, панове, – гремел голос воеводы. – Ясновельможный наследник великого князя Литовского прибыл! Виват Сигизмунд!
– Виват! – заревели паны.
Подняв над головой меч-щербец, Николай Радзивилл торжественным шагом двинулся к Сигизмунду.
Но он опоздал.
Будущего великого князя и короля Сигизмунда встретил Михайло Глинский. Гордый и воинственный претендент на престол Великого княжества Литовского Михайло Глинский первый преклонил колени перед Сигизмундом.
Не сходя с коня, Сигизмунд выслушал верноподданническую речь Глинского.
Паны воеводы, минуту назад готовые броситься на Глинского, теперь остановились на почтительном расстоянии, обмениваясь недоуменными взглядами. Замолк и собравшийся вокруг народ. Мало кто понимал латинские слова, и еще непонятней слов было поведение князя Михайлы.
– Эге, – сказал незнакомец, стоя в коляске рядом со Сташевичем, – кажется, от большого грома и малого дождя не случилось. Не подъехать ли нам полюбопытствовать, пан… простите, не знаю вашего уважаемого имени.
– Сташевич Эдуард, – ответил отец Маргариты, продолжая настороженно смотреть в сторону красных ворот. – Позвольте и мне узнать имя пана?
– Адверник Юрий, – просто ответил незнакомец.
Маргарита пристально посмотрела на него. Адверник смущенно улыбнулся ей и счел нужным добавить:
– Я житель и домовласник этого места…
– Весьма рад, пан Адверник, вашей компании, – быстро сказал встревоженный Сташевич. – Но дочь моя не совсем здорова.
– Ах, отец, – горячо возразила Маргарита, – мне так хотелось бы посмотреть еще.
– Не каждый день, пан Сташевич, приезжают к нам в Вильну наследники престола, – поддержал ее Адверник.
Когда, оставив коляску и протиснувшись сквозь толпу, Адвернику и Сташевичу удалось подвести Маргариту почти вплотную к живой цепи ландскнехтов, охранявших будущего короля, церемония встречи уже подходила к концу.
Поцеловав меч-щербец в руках виленского воеводы, Сигизмунд по очереди обнялся с вельможами. К Глинскому подошел позже всех.
– Обнимаю друга нашего, верного слугу и брата! – громко сказал он, повернувшись к народу. – Пусть этот день, когда князь Михаил принес свою клятву, запомнят все!
– Запомнить! – с визгом крикнул Ян Забржзинский.
– Запомнить! – повторили за ним воеводы.
– Запомнить! – улыбаясь, согласился Сигизмунд.
По знаку Радзивилла латники схватили в толпе двух бедно одетых мальчиков и вывели на середину образовавшегося круга.
Мальчики испуганно смотрели на воевод, не понимая, что хотят от них эти богатые, сильные люди.
Сигизмунд бросил на землю два червонца. Телохранитель подобрал их и отдал мальчикам.
– Золотые, золотые, – зашелестел в толпе завистливый шепот.
И тут же кто-то, нехорошо засмеявшись, прибавил:
– А сейчас будет доплата!
Тут мальчиков положили на мостовую, лицом вниз, сорвали с них штаны, и над худенькими телами просвистела лоза.
Улица огласилась воплями.
Воеводы смеялись.
– Запомнят! – визжал Забржзинский, довольный тем, что это именно он первый сказал Сигизмунду о древнем обычае.
Он выхватил у одного из латников прут и, хохоча, сам стал сечь мальчиков.
– Навеки запомнят!
– Боже мой… за что их? – Маргарита закрыла руками лицо.
Адверник молчал.
– То есть наш старый обычай, – улыбаясь, разъяснил Сташевич, – чтобы не пропало в памяти событие. Вырастут хлопцы, состарятся, но будут добре помнить, как обнялись на дружбу Сигизмунд с князем Глинским.
Глава III
Весь день королевские стражники неотлучно сопровождали обоз купца Алеша.
Обоз возвращался назад, в Краков, по уже знакомой дороге. Ночью остановились на отдых, разбив лагерь на обочине возле густого паросника.
Дождавшись, когда все затихли, Георгий тихонько подполз к Алешу.
– Прощайте, пан Алеш, – прошептал он на ухо своему новому другу. – Я ухожу.
– Один? – удивился Алеш. – Опасно, Франтишек, теперь кругом тут неспокойно.
– Все же лучше, чем вернуться в Краков с конвоем, – ответил Георгий, сжимая руку пана Алеша. – Вы знаете мои планы, не удерживайте меня, добрый друг. Я должен идти.
Помолчав, Алеш обнял Георгия.
– Жалею, что расстаемся, – грустно сказал старик. – Мне также придется, видать, повернуть к дому. Думал я уговорить тебя поехать со мной в золотой наш стобашенный город… Через год-два я снова в этих местах буду, и ты бы вернулся.
Посетить Прагу – сердце Чешского королевства хотелось Георгию, и случай сейчас, казалось, был подходящий, но, избрав для себя другой путь, он не мог принять предложение чеха.
Алеш помог ему незаметно обойти спящих охранников. Проводив Георгия до опушки, он долго смотрел в густеющую темень, в которой словно утонул этот полюбившийся ему молодой бакалавр.
И снова, как в дни бегства из Полоцка, непреодолимая жажда увидеть новые земли овладела Георгием.
Быть может, теперь в этом желании было и неосознанное стремление забыть тяжелые дни испытаний, уйти от них, и тайная надежда на неожиданную встречу с возлюбленной…
Так или иначе, но он решил идти вперед и ни за что не возвращаться. Это чувство не покидало его. Если нельзя пробраться в Вильну и оттуда уехать в Московское княжество, он пойдет в Киев.
Не раз Георгий слышал о просвещенных людях древней русской столицы, о монахах, собравших в своем пещерном монастыре редчайшие рукописные творения русских летописцев и переводы с византийских списков.
Поговаривали даже о скором открытии в Киеве университета для православных с более широкой и свободной программой, чем в Краковском университете.
Трудно было поверить этому, пока Киев находился под властью польской короны, но Георгий надеялся, что все же найдет там ученых мужей, с помощью которых закрепит и расширит полученные в Кракове знания.
По совету Алеша он решил дойти до реки Припяти, а там, пристав к плотогонам или торговым караванам, спуститься вниз до Днепра и по Днепру приплыть в Киев.
Он шел один, останавливаясь на ночь в лесных хуторах и деревушках.
О пропитании почти не приходилось заботиться. Приближалась осень, на полях и в садах богатых фольварков было много работы. Георгий без труда находил применение своим силам. Он не жалел об этих остановках, как не жалел и обо всем своем путешествии.
Каждый день приносил новые впечатления. Перед ним открывался неведомый мир, наполнявший сердце любовью и радостью.
Медленно продвигаясь на юг, в конце сентября Скорина вошел в пределы бывшего Турово-Пинского княжества.
Он проходил через деревни и хутора, над которыми, казалось, века проносились, не разрушая ни чистоту языка, ни обычаи и законы древности. Здесь не было островерхих костелов с их коварными богослужителями. Повсюду звучала родная белорусская речь.
Природа, окружавшая Георгия, была красива и загадочна, как предания старины, живущие среди лесов и болот. Его обступали мохнатые ели. Тихая зыбь хвои и янтарь смолы наполняли воздух кружащим голову лесным ароматом. Не шелохнувшись, стояли дубы-великаны, на их могучих ветвях колыхалась заря. Приветливо звали путника отдохнуть лесные поляны.
Присев где-нибудь на опушке, Георгий подолгу любовался нежными красками лугов и болот. Тихо струился сладкий запах болотных цветов. Из вязкой земли по вечерам вставали дрожащие испарения и, медленно покачиваясь, тянулись вдоль леса. Тогда все начинало терять свои очертания, переноситься в призрачный мир, рождавший легенды. Легенды, предания, суеверия были неотделимы от жителей этого дикого лесного и болотного края.
Скоро Георгию довелось познакомиться с ними.
Однажды, миновав старый город Медники с разбитой и заброшенной крепостью, Георгий вошел в селение Рудня.
Небольшое селение было окружено болотом, расцвеченным бурыми пятнами. Здесь в земляных печах плавили железную руду, добываемую из глубин болота.
Оттого, вероятно, и селение получило название Рудня.
Георгий подошел к стоящей на отшибе курной хате. Навстречу выбежали трое детей. Выставив непомерно раздутые животы, они испуганно смотрели на пришельца. Все трое были одеты в одинаковые полотняные рубахи, прикрывавшие их худенькие тела.
Едва Георгий перешагнул через низкую изгородь, как дети шарахнулись в сторону и скрылись за хатой.
Из полуоткрытых дверей струился дым. В отверстии, прорубленном в стене вместо окна, виднелся огонек камелька.
Георгий постучал в притолоку.
– Господи Исусе, помилуй нас!
Из хаты ответил чей-то слабый голос: «Аминь!» – и Георгий, нагнув голову, вошел.
На битом земляном полу лежала женщина. Она тихо стонала и трясущимися руками натягивала на себя какое-то тряпье. В правом углу на свежевыструганном столе лежали остатки еды: кусок серого, землистого хлеба с примесью мезги
и наполовину очищенная луковица. Слева белела примятая солома. Там, вероятно, спали дети.
В сумерках хаты Георгий больше ничего не мог разглядеть. Да он и не пытался всматриваться. Ему уже хорошо были знакомы эти низкие, прокопченные жилища, где царит темень, нищета и запустение.
Женщина пригласила Георгия сесть, показав рукой на ровно обрубленный пень, и осведомилась, откуда он идет:
– С русского аль с польского боку?
Узнав, что родом он из русской стороны и здесь только заночует, женщина осмелела.
– Милости просим… Хозяин еще вчера по знахаря пошел, – рассказала она, продолжая тихо стонать. – Душит меня хворь ломотой и волосом… Колтун напал… Люди говорят, только Михалка один, знахарь наш, может эту болезнь выгнать, да не знаю, видно, пора моя пришла…
Женщина заплакала. Сквозь всхлипывания слышен был ее жалобный шепот:
– Детки мои, сиротиночки! На кого ж я вас покину теперь?
Георгия охватила тоска. Чем он мог помочь этим людям? На лекциях в университете он никогда не слыхал об этой болезни бедняков, не знал ни ее происхождения, ни средств избавления от нее. Да и захочет ли принять его помощь женщина, верящая лишь в силу своего знахаря?
Георгий вышел во двор.
Вокруг была сумеречная тишина. Сиреневый горизонт затягивался болотным туманом. Птицы уже умолкли. Войдя по брюхо в болото, лошадь мирно пощипывала осоку. Где-то журчала сбегавшая через запруду вода, словно повторяя: «торр-ропись».
Георгий лег на небольшой стожок сена, укрывшись тут же валявшимся старым армяком.
Трое детей, осторожно прокравшись мимо него, быстро юркнули в хату.
Утомленный дорогой, Георгий начал засыпать. С болота потянулся туман, и скоро Георгию стало казаться, что стог, на котором он лежит, превращается в маленький остров, плывущий среди океана.
Слабо сопротивляясь сну, он смотрел на торчащий перед стогом куст вербы. Ветер колыхнул туман и, разорвав его на длинные полотнища, повесил на сучья куста. Листья вербы обвисли и колыхались вместе с туманом, словно обрывки рубища.
Незаметно для глаза туман принял почти отчетливую форму, и Георгий решил: пришел какой-то монах…
На мгновение призрачные образы становились знакомыми и ясными, но вдруг таяли и больше не повторялись.
Почему-то вспомнилась давно слышанная им легенда об озере, которое заросло и стало болотом. Не об этом ли болоте сложили люди легенду?
Конечно, это здесь когда-то было светлое озеро, а посреди озера – остров. На острове стоял город. Да согрешили люди, озеро поднялось и поглотило его. Стала на этом месте дрыгва такая, что идешь, а земля перед тобой вздыхает, поднимается. На плесах бурые пятна: это кровь потонувших выходит наружу. От крови этой – горе и болезни для всех, кто живет на берегу бывшего озера.
В ясную погоду зоркие глаза видят на дне кресты и кровли, чуткое ухо ловит колокольный звон. Устрашенные птицы летят прочь. Серны и лоси, дрожа от страха, скрываются в пущах. А на болоте слышатся гул, вопли и бряцание металла. Слышно ржание коней, мычание коров, голоса людей.
Нужно спасти затонувший город, и тогда все успокоится. Но из всех людей только один хлопец семи лет может стать спасителем. Пусть он проедет по болоту на кобыле трех лет, найдет три камышины, возле тех камышин крест на цепи.
Пусть тянет за цепь!.. Но не может хлопец вытянуть. Потянет за цепь – город покажет свои крыши и уже раздаются ликующие голоса жителей, а он выпустит цепь из рук, и опять все погружается в болотную муть…
Да что же это такое? «Помогите! Помогите!»
Георгий спешит на помощь хлопцу, хватает цепь и, не оглядываясь, устремляется прочь. А цепь тянется, тянется и глухо звенит.
Над ним бьет крылом сказочная птица-вещун и голосом, похожим на голос больной женщины, поет: «торр-ропись»… «тор-ропись»… Маленький остров колышется и плывет среди океана. На острове танцует серый монах. Танцует на одной ноге и превращается в высокого старца…
Старец озирается по сторонам, вынимает из-за пазухи какую-то траву и кладет на голову женщины.
– Ты, волос, волос коловый, волос ломовый, и мозговой, и рассыпной… волос жильный и трехжильный, и волос денный, и волос ночной! Отчего ты колешь, отчего ты ломишь? – бормочет старец и поднимает женщину с колен.
Георгий смотрит на них из-под армяка и видит стоящего в стороне мужчину в свитке и трех пугливых детей в белых рубашках. Тогда приходит догадка. Это хозяин привел Михалку-знахаря, и он творит заклинание над несчастной женщиной.
Монотонное и таинственное бормотание продолжается:
– В буйной голове, в ретивом сердце, в скорых ногах, в ясных очах утишься, умирься и не коли, и не ломи ни на восходе красного солнца, ни на закате ясного месяца. Ступай в землю темную, в тьму кромешную! Не к людям живым, а к упырям лихим…
Михалка плюет на три стороны и трижды говорит «аминь».
К женщине подходит муж и уводит ее. Женщина идет медленно, превозмогая боль, но не стонет больше, хотя по всему видно, что страдание ее не уменьшилось. Муж и знахарь тихо разговаривают. Говорят о будничных крестьянских делах, словно не было только что ни заговоров, ни колдовства, а просто встретились два добрых соседа.
Георгий больше не мог заснуть.
Глядя на высокое звездное небо, он думал о том, что довелось ему видеть. Сроднившись с окружавшей природой, полесские жители, как эхо, повторяли то, что сказало им солнце и болотные травы, лесные птицы и звери. Они верили в силу волшебного заклинания так же бесхитростно и свято, как верили в христианскую молитву. Признавая греческих богов,
поклоняясь им, они в то же время расчетливо сберегали старых, еще далекими дедами придуманных идолов, вполне могущих пригодиться, по их мнению, в быту, в хозяйстве.
Рядом с чудовищным суеверием, с набором бессмысленных слов заговоров он встречал и умение избавлять человека от многих болезней. Тогда-то и начал Георгий свои первые записи.
В толстый сшиток он записал несколько сказок и притчей: о трудолюбивой пчеле, о том, как на земле появился аист, как превратил бог в эту птицу любопытную женщину, заставив ее весь век собирать по болоту лягушек и гадов.
Отдельно Скорина сделал запись «О том, как исцелять разную хворь».
О «тетке-лихорадке», распространенной в Полесье болотной болезни, он записал: «Не ложись по весне спать без подстила, а непременно под крышей и на соломе или досках сухих. Почнет же душа колотиться и сотрясать все тело твое, выпей настой прегорький из полыни-травы дикой. Тогда кровь, что осталась холодной, разогревается и все тело греет, а лихорадка уходит».
О болях в животе: «От жара человек телом страдает, но жар многие хворобы уничтожает. У кого болен живот, кладут на то место скоринку хлебную, твердую, на ней кусок льна зажигают и тот огонь горшком прикрывают. От сего делается жар и живот в горшок тянется, через то боль отсасывает. А заклинаний при том можно не говорить вовсе».
Стремясь глубже понять связь существа человека и внешней природы, Георгий наблюдал за растениями, насекомыми и птицами. Он видел рождение и гибель организмов, видел, как крепнут и наливаются жизненным соком одни, как хиреют и гибнут другие.
Великая книга жизни раскрылась перед молодым Скориной, и он часто вспоминал слова Николая Кривуша, советовавшего изучать природу, а не пыльные фолианты университетских библиотек.
Георгий записал в своем сшитке:
«К природе, что с нарожденья нас окружает, надобно ласку иметь и знать ее добре. А еще надобно знать и сокровища человеческой мысли, заключенные в книгах ученых, без коих не способны прийти мы к знаниям истинным».
Эта мысль заставляла юношу отказываться от новых знакомств с лекарями и рассказчиками и быстрее идти туда, где ждал он найти высокую науку.
Так приближался Георгий к одной из больших и красивых рек Белой Руси – Припяти. Уныние и тоска давно покинули юношу. С началом каждого дня от земли исходила радость чистой любви ко всему, что окружало его, любви, растущей и крепнущей при каждой встрече с жителями полесского края и его природой.
Георгий был свидетелем того, как сопротивлялись полешуки, когда в их забытый край стала докатываться нарастающая волна порабощения.
Там, за кругом полесских болот, уже подходила к концу жестокая битва, в которой могучим оружием была новая сила – деньги.
Росли города и рынки, развивались ремесла. Продавался и хлеб, и пахарь. Панам-феодалам нужны были деньги. Опутанные хитрой системой денежных выкупов, бедные землепашцы, еще недавно бывшие «людьми похожими», то есть имеющими право свободно переходить с одной земли на другую, от одного пана к другому, становились «людьми непохожими», «отчинными» – крепостными.
Полешуки уходили, уходили в леса, за непролазные топи, собирали ватаги и отстаивали свою полесскую волю. Некоторые оседали на новых землях и начинали жизнь сначала. Многие гибли. Иные убегали в города, скрывая свое имя, нанимались на любую работу или шли в «полцены» на тяжелый сплав леса, попадая в новую кабалу.
С одним из таких беглых «отчинных» неожиданно встретился Георгий, придя в город Пинск.
Глава IV
Гулко шлепая босыми ногами, на палубу головного струга
поднялся светловолосый, взлохмаченный, в изодранной, едва прикрывавшей могучее тело рубахе, двадцатилетний детина.
Не заметив Георгия, стоявшего возле сложенных в штабель дубовых клепок, почесываясь и сощурив припухшие глаза, он повернулся к солнцу и, опустившись на колени, перекрестился. – Дякую господу богу, солнышку ясному, месяцу красному, звездочкам светленьким, миру крещеному, что я эту ночку переночевал, – полушепотом выговаривал детина, отбивая поклоны. – Дай, боже, этот денек передневать в счастье, в корысти, в прибытке и в добром здоровье. Во имя отца, и сына, и святого духа – аминь. Молящийся услышал тихий смех и оглянулся. – Пропил ты, хлопец, свою корысть и прибыток, – добродушно заметил Георгий, любуясь складной фигурой детины. – Теперь у бога не скоро допросишься. Детина встал и, покосившись на Георгия, смущенно ответил: – Я господу молюсь, а что будет – на то его воля. – Лучше сберечь бы добытое, Язэп, то было в твоей воле. Язэп осторожно шагнул к Георгию, тихо спросил: – От Мосейки штоль? Приказчик новый? – Не бойся, Язэп, – дружески успокоил его Скорина, – я не приказчик над тобой и не от Мосейки. Попутно мне. Вместе до Киева поплывем. – А имя мое откуда ведаешь? – все еще недоверчиво спросил детина. – Имя твое теперь, поди, всему Пинску известно, – улыбаясь, объяснил Георгий, – твое да дружка Андрейки. Я же тебя вчера на струг привел. С того часу ты только сейчас проснулся. Язэп помолчал, видимо стараясь вспомнить вчерашнее, потом мотнул курчавой головой и, засмеявшись, сказал не без хвастовства: – Ну, погуляли с обиды… одного пива да меду не меньше как по ведру на крещеную душу. Георгию кое-что было известно про вчерашнее пьянство помощника лоцмана со своим дружком, подмастерьем Андреем. Догадывался он и о причине необузданного загула, но ему хотелось услышать объяснение самого Язэпа. – Это с какой обиды? – С обиды, с горькой обиды, – повторил Язэп, и красивое, еще по-детски округлое лицо его стало жалким. Подойдя вплотную к Георгию, он строго спросил: – Звать как? Георгий назвался. – Почто на струге сем? – Говорю, попутно мне, до Киева. – К святым местам, что ль? – Я за наукой еду, – ответил Георгий. – За наукой, – раздумчиво повторил Язэп. – А можешь ты крест дать, что обиды моей никому не расскажешь? Никто не мешал их беседе. Головной струг, на палубе которого они находились вторые сутки, стоял на приколе у Лещинского предместья, ожидая, когда подвезут последнюю партию груза. Нанятая голытьба разбрелась кто куда. Старший на струге, набожный и сварливый кормчий, ушел к обедне в монастырь, видневшийся из-за рощи золотистых лип. Несмотря на вчерашнее обильное возлияние, Язэп не изжил своей горечи и невольно искал сочувствия. Отнесясь с наивной доверчивостью к новому знакомцу, он подробно рассказал про «тяжелое свое вандрование».
– Жили мы на Днепре, возле Смоленска, – медленно вспоминал детина, прислонясь спиной к борту струга. – В недостатке жили, в убожестве. Порешили на лучшие земли идти. Люди мы были вольные, похожие. Вот и пришли всей семьей аж под Слуцк, осели на земле нового пана Кастуся Санковского, чтоб на нем черти на том свете оседали… – Дурной пан был? – перебил его Георгий. – Добрый да ласковый, – с нескрываемой злобой ответил Язэп. – «Я вас, любонькие мои, со всею душою приму, – передразнил он ласкового пана, – одного мы с вами роду, племени и веры одной». Ну, было нам радости! Вот, думаем, набрели на добрую душу. Матка в церкви толстую свечу заказала. Батька похваляться стал: «Нас, говорит, вольных да работящих, кто хошь примет, не то что пригонное быдло какое». А пан поддакивает: «Так, так, любый братику, твоя воля в великокняжеском статуте оговорена. У нас все по закону будет». Не сбрехал пан. Все было по закону. Дал нам и землю, и коня, и лес на хату, и семена – все по льготе на долгий срок. Почали жить, как арендаторы. Язэп помолчал и, тихо вздохнув, прикрыл глаза. – Придем, бывало, с поля, за вечеру сядем и словно сказку друг другу рассказываем… Вот пройдет еще лето, посеем-пожнем, поднимемся, землю откупим, сами хозяевами станем… Пан добрый, он нам уступит. День за днем, лето за летом, а на третье лето приходит к нам пан… В неизбывной досаде, захлебываясь, Язэп путал слова, рассказывая о роковом для его семьи дне. Пан насчитывал за каждую льготную неделю аренды по десять литовских грошей.
Да въездных двенадцать грошей, да долги разные за три года. Откуда было взять столько денег? Тогда пан Кастусь прочитал им городское установление, по которому отец и мать Язэпа «вместе с детьми и домочадцами, не имея чем расквитаться, повинны работать на пана за каждую неделю по неделе, сколько было всего сроку льготы, да за долги по три гроша в неделю и на все то время считать их людьми отчинными – за паном Кастусем Санковским, – а не похожими, не вольными». Таков был закон. – Будто цепями сковали нашу семью, – продолжал Язэп, – не смог я слезы маткины видеть, горе батьково, ну и решился… – Пана убил? – невольно вырвалось у Георгия. – Борони меня боже, – замахал руками Язэп, – я не душегуб, мыслимо ли? За того пана всех бы нас живыми в землю вкопали. Нет, пана я не убил. – Что же ты сделал? Язэп помолчал, потом, наклонившись к Георгию, прошептал: – Убежал я от того закона великокняжеского, от батьки… совсем убежал. Большие, доверчивые глаза его подернулись синим ледком. – Найдет меня пан, вернет в свое господарство, навеки отчичем сделает, тогда и смерть не страшна. – Успокойся, Язэп. – Георгий дружески погладил его руку. – Пан далеко, на сплаве не один ты беглый работаешь, кто узнает… – Никто не узнает, – с горькой усмешкой перебил Язэп, – да, видно, правду старые люди кажут: «Паны да панята – одного черта сатанята». Слушай, что вчера было… Вчера покрученик крикнул Язэпу: – Эй, хлопец! После работы ты пойдешь к Мосейке-хозяину. «Мосейкой» называли старого ростовщика Моисея, полгода тому назад взявшего на откуп половину речного сплава. Несмотря на почтенный возраст, ростовщик охотно откликался на свое уменьшительное имя «Мосейка», нередко сам употреблял его, говоря о себе в третьем лице. Он хорошо знал, что как бы ни называли его, а сила его крепнет и многие зависят от него, кормятся его милостью. Сначала была только одна небольшая меняльная лавка, теперь уже вырос дом на окраине Пинска. Сейчас он взял на откуп половину сплава, но кто помешает ему с будущего года откупить весь сплав? Сгорбившийся, одетый в темный, засаленный полукафтан, Мойсей всегда неожиданно появлялся на пристани. Заложив руки и втянув шею, словно вынюхивая что-то своим большим горбатым носом, он только проходил мимо стругов и барж, ни с кем не заговаривая, ничего не спрашивая. Из-под нависших бровей весело поблескивали прищуренные глаза. Так же неожиданно, как появлялся, он вдруг исчезал. А назавтра покрученики отдавали новые распоряжения, переставляя рабочих с одного места на другое, кого-то увольняли, кого-то нанимали. Так был молчаливо замечен Мосейкой Язэп, старательно работавший на вязке плотов, и переведен в помощники лоцмана, на место начавшего слепнуть старика. Кормчие и хозяйские покрученики отнеслись к повышению Язэпа доброжелательно. Они ценили в ладно скроенном тихом парне силу, сметливость, душевную простоту и суеверную набожность, оберегавшую, как им казалось, всех плавающих от водяных и лесных духов. Язэп обрадовался новой должности. В его чистом сердце зрела мечта накопить денег и выкупить из неволи мать и отца. Мечта, казалось, начинала сбываться. За пазухой, тщательно завернутые в тряпочку, уже хранились несколько монет. В этот день он должен был получить деньги уже не как простой сплавщик, а как детина, помощник лоцмана. Язэп вошел в полутемную, запыленную меняльную лавку. – Ты знаешь, Язэпка, – тихо сказал ростовщик, заперев за хлопцем дверь и усаживаясь на высокий табурет, – зачем я позвал тебя? Нет, Язэпка не знает, он думает, что он пришел за получкой и только, – сам ответил Мосейка. – Хорошо, ты получишь то, что тебе следует, заработаешь добре, – продолжал ростовщик. – А вот батьку с маткой забыл. Ай-яй, плохо… – Не забыл я ни батьки, ни матки, – ответил Язэп, предчувствуя что-то недоброе. – Не забыл, – словно обрадовался Мосейка, – так чего же ты тут сидишь? Беги лучше до дому! Там же тебя ждут и батька, и матка, и… вельможный пан Кастусь. Ого, какой важный пан. Не то что бедный еврей Мосейка. – Хозяин, – прохрипел Язэп, задыхаясь, – не выдавай меня, Христом-богом прошу, не выдавай! – Что значит – не выдавай? – весело спросил ростовщик. – Разве может бедный еврей не послушаться пана? Или ты думаешь, что я должен дать за тебя выкуп? Ты, верно, не знаешь, какой это выкуп… Он нагнулся над столом и, быстро перелистав толстую книгу, начал считать: – В каждом месяце четыре недели, а месяцев каждый год двенадцать, за три года будет недель уже сто пятьдесят две и за каждую надо по девять грошей… Ну, Язэп, ты уже подсчитал? – Я отработаю, – еле слышно проговорил детина. – Э, хлопец, – ростовщик захлопнул книгу, – я уже стар и не могу ждать. Но я помогу тебе. Язэп смотрел на него с мольбой и надеждой. – Я помогу, – повторил Мосейка, пристально глядя на побледневшего хлопца. – Никто здесь, кроме меня, не знает, что ты должник пана, так бог с тобой. Хочешь, можешь остаться моим должником, понимаешь? Не панским, а Мосейкиным, и я никому не скажу ничего, а? – Лучше уж твоим, Мосейка, – словно в тумане, глядя на ростовщика, проговорил Язэп. – Ты будешь работать, как раньше, а я буду платить тебе половину. Другая половина пусть останется у меня. А вдруг пан найдет тебя и потребует выкуп? Чем будет платить бедный Мосейка? Язэп поставил свой крест на бумаге, которой он не мог прочитать. – Половину того, что ты получал, пока не был детиной, Язэпка, – объявил ростовщик, кладя в руку Язэпа несколько монет. Язэп безразлично посмотрел на деньги и вышел. Он направился к своему другу и утешителю, подмастерью Андрею. Но у Андрея самого дела были не лучше. Давно уже вышел срок хлопцу перейти мастером в цех. Талантливый резчик удивлял купцов тонким рисунком резьбы, хитроумным уменьем оживлять куски простого дерева. Изделия Андрея всегда продавались мастером втридорога. Они были лучше работ других подмастерьев и нередко лучше того, что делал сам мастер Яким. Это-то и мешало Андрею поступить в цех. Мастер оттягивал, насколько мог, экзамен Андрея, боясь потерять работящего, прибыльного ученика и нажить конкурента. По законам цехов ремесленников каждый подмастерье мог быть принят в цех как равноправный после нескольких лет учения и при условии, если он представит на экзамене свою «главную речь» (вещь), сделанную самостоятельно, не хуже, чем по указанию мастера. Кроме того, он обязан был дать угощение за собственный кошт всем старейшинам объединения городских цехов. Иначе никто не станет тратить время на его экзамен. У Андрея была «главная речь». Много дней тайком от Якима вырезывал он «райскую птицу» из дерева, почти не употребляемого тогда для резьбы: из вишни. Он выбрал вишню потому, что его прельстила окраска. Случайно мастер увидел его птицу и понял, что перед ним одаренный художник, опередивший своего учителя. Злобная зависть вспыхнула в сердце разбогатевшего на трудах учеников старого резчика. Яким отказался ссудить червонец Андрею на угощение. У Андрея не было червонца. Хитрый Яким посоветовал обратиться к Мосейке. Мосейка не отказал, но потребовал залог. Когда Язэп принес свое горе к Андрею, тот мрачно заворачивал в платок райскую птицу, чтобы отнести ее в залог ростовщику. Язэп не стал ничего рассказывать другу и, безразличный ко всему, остался ждать. Случилось так, что именно в этот день Скорина зашел к Мосейке, узнав, что его струги готовятся к отплытию в Киев. Сговорившись об условиях, он собирался уходить, но его внимание привлек боязливо вошедший в лавку бледный, худощавый подмастерье с задумчиво-печальным выражением лица, на котором уже появилась русая бородка. – Ну, Андрейка, – приветствовал его ростовщик. – Ты принес мне золотое запястье или, может быть, ожерелье из жемчуга? Что ты принес? – Птушку райскую, – тихо ответил Андрей и начал осторожно разворачивать платок. – Райскую птушку? – переспросил Мосейка. – Из чего она сделана? Из серебра с самоцветами? – Из вишенки, – ответил Андрей, и скулы на лице его дрогнули. Он поднял на ладони деревянную птицу. Георгий видел, как жадно блеснули глаза ростовщика. Птица была хороша. Размером не более одной пяди, она напоминала дикого голубя, но казалась нежней. Бледно-розовая, с чуть заметными отливами и тщательно выточенными перьями, она создавала впечатление живой птицы. К ней хотелось прикоснуться, погладить ее. Мосейка уже протянул было руку, но Андрей отступил от прилавка и, попав в узкий луч солнечного света, выше поднял птицу. Свободной рукой он взял ее за ножки и слегка сжал их пальцами. Вдруг деревянная птица встрепенулась, взмахнула тонкими крыльями и начала медленно распускать веером хвост. Солнечные зайчики замелькали на перьях хвоста, как драгоценные камни. Это было так неожиданно и прекрасно, что Георгий вскрикнул, а Мосейка коротко засмеялся. Андрей разжал пальцы, и птица, словно избежав опасности, сложила перья, приняв прежнюю спокойную позу. Андрей гордо взглянул на ростовщика, но тот уже успел побороть себя. – А чего же она не поет? – спросил он безразличным голосом. – Не надо, – насупившись, ответил Андрей. – Не надо, – невольно повторил за ним Скорина. – Ах, – насмешливо заметил Мосейка, – молодой панич тоже говорит, что «не надо», а бедный Мосейка думал, раз есть птушка, так она должна петь. – Она сама как песня! – не выдержал Георгий, любуясь чудесным творением. – Ой, какие хорошие слова, – заторопился ростовщик, почти выхватив у Андрея птицу и недовольно поглядывая на Георгия. – Андрейка еще подумает, что он сделал чудо… Ладно, хлопец, бери свой червонец, а птушка пускай постоит вот тут… Может, она еще запоет, а? Андрей стоял молча, зажав в руке червонец, не спуская глаз с пыльной полки, где среди старых подсвечников, замков и битой посуды грустила его юная, бледно-розовая райская птица. Георгий видел, с какой тоской расстается мастер со своим, быть может, лучшим творением. Видел это и ростовщик. Ему хотелось как можно быстрее выпроводить Андрея, не дать ему передумать. – Слушай, Андрейка, – ласково заговорил Моисей, доставая из-под прилавка небольшой запечатанный воском жбан, – ты становишься мастером, так прими подарунок от старого Мосейки. Это добрый мед, я берег его для великого свята, так пускай это свято будет у Андрейки. Такой хороший хлопец. На, иди… Сунув ему жбан, ростовщик подтолкнул Андрея к двери. Андрей ушел. Довольный Мосейка обратился к Георгию: – Что делать, панич, надо же помогать бедным людям. – И, засмеявшись, добавил: – Теперь Андрей пойдет служить пану Хмелю. Пропадет мой червонец, что, неправда, панич? Это была правда. В тот же день Георгий еще раз увидел Андрея, а с ним и Язэпа. Решив поискать, где бы можно было за недорогую плату покушать, Георгий вышел в предместье Каролич, к старому замку. Там, на рыночной площади, дрались пьяные. Компания оборванцев и скоморохов окружила дерущихся, подзадоривая то одного, то другого. Кричал пьяный Андрей, на всю площадь обзывая дурными словами своего мастера Якима и цеховых старшин. Язэп опрокидывал торговые лотки и, шатаясь, переходил от одной группы дерущихся к другой. В драку ввязывались новые бойцы, торговцы. Если бы не добрые приятели Андрея – молодые ремесленники, неизвестно, чем кончился бы этот день для Андрея и Язэпа. Георгий помог побыстрее увести уже начавшего слабеть и затихать Андрея. Вернувшись, он разыскал уснувшего под чьей-то опрокинутой телегой Язэпа. Два лесоруба, знавшие помощника лоцмана, помогли Георгию отнести его на струг. Там и спал Язэп до сегодняшнего дня. Георгию было нестерпимо жалко этих двух молодых друзей. Как помочь им? Ведь все, что имел Георгий, – это несколько монет, принесенных Кривушем в последний час расставания. С берега послышался резкий свист. Язэп вскочил и подбежал к борту струга. – Андрейка! – крикнул детина и, бросив Георгию: – Пришел, горемыка, – сбежал по пружинящим доскам сходней на берег. Георгий пошел за ним. Сидя на бревнах, опустив голову и машинально строгая маленьким ножичком поднятую с земли щепку, Андрей тихо говорил Язэпу: – А Яким потребовал, чтоб я ту птушку представил. То, говорит, твоя «главная речь» и повинна быть цеху представлена. Коли не представишь, значит, и суду об ней не быть, и тебе в мастера не лезть… – Ты бы сказал, чтоб обождал, – посоветовал Язэп, – пока Мосейка отдаст. – Говорил, – махнул рукой Андрей. – Ну? – Ждать, говорит, нам особенно нечего. Ты, говорит, пропил свою птушку, делай теперь другую, а покуда мы тебя в цеху даром держать не станем. Как исстари ведется, так и мы. Пока не мастер, все, что сробил, повинен цеху отдать. – Ишь куда гнет, сатанинская сила! – с гневом сказал Язэп. – Как же нам ту птушку вернуть? – А никак, – неожиданно равнодушно отозвался Андрей. – Она теперь у Мосейки в гнезде. Оттуда не выпорхнет. Он сегодня за червонец свой полтора требует… Где мне взять? И вдруг, резко поднявшись, сказал, захлебнувшись горечью: – Проститься с тобой пришел, ухожу отсюда навсегда. – Андрейка! – Язэп крепко схватил его за руку, как бы пытаясь силой удержать друга. – Подожди меня здесь, Андрей! – крикнул Георгий и быстро, почти бегом направился к городу. Когда Георгий снова вернулся на пристань, берег шумел окриками покручеников, бранью, звонким стуком падающего на палубы дерева. Последний обоз с товарами прибыл, и покрученики торопили людей, готовя отправку с рассветом следующего дня. На головном струге было людно. Георгий с трудом отыскал Язэпа, принимавшего груз возле визжащего деревянного блока. – Где Андрей? – Георгий старался перекричать визг блока и грохот катящихся пустых бочонков. – Ушел, – едва взглянув на Георгия, ответил Язэп. – Куда ушел? Я птушку его принес… вот она! – кричал Георгий, поднося к самому лицу Язэпа завернутую в магерку райскую птицу. Язэп, не понимая, посмотрел на руки Георгия. – Вот она, – повторил тот, раскрывая магерку, – та самая, что у Мосейки была… В мягком войлочном колпаке шапки, как в гнезде, сидела красивая и спокойная райская птица Андрея. Язэп улыбнулся, трясущимися руками взялся за край магерки. – Подымай! – закричали на Язэпа с берега. – Ну, подымай! – заревел рядом голос покрученика. Но Язеп бросил канат и, прижав к груди птицу, прыгнул через борт на берег. – Стой, быдло поганое! – Приказчик схватил суковатую палку и метнулся к сходням. Георгий преградил ему путь. – Подожди, пане милостивый, – решительно сказал он, отнимая палку. – Я за него стану, а Язэп скоро вернется. И, не ожидая согласия, он взялся за толстый канат. Приказчик остолбенел от удивления. – Давай веселей! – крикнул Георгий. Блок заскрипел, завизжал. Над узкой полоской реки, отделявшей головной струг от берега, поплыли высоко поднятые связанные ободья. С грохотом катились бревна, мягко шлепали рогожные мешки с золой. Мышцы Георгия напряглись, кровь быстрее побежала по жилам. Из груди сама собой вырвалась песня:
Зялены дубочак,
Куды нахилиуся?
Малады малойчик, чаго зажуриуся?
С берега ответили лесорубы:
О, я зажуриуся,
Што не ажаниуся!
Жани мяне, матка,
Жани маладога!
Песня наполнялась хриплыми мужскими голосами, ритмом дружного труда, радостью теплого осеннего дня, росла и плыла над затихшей солнечной рекой.
Глава V
Головной струг легко рассекал стреж светло-зеленой осенней реки. За ним, не отставая, шли два других струга последнего в это лето торгового каравана. Мимо уплывали пестрые берега, поросшие ольхой, вербами, изредка кленом и молодыми дубами.
Деревья уже начали оголяться. Листодер – октябрь щедро сыпал на землю медяки, золотил берега. Местами сквозь поредевшие ветви виднелись желтые, опустевшие поля убогих крестьянских наделов. Звонко хлопая длинными бичами, пастухи сгоняли по отлогому берегу стада на водопой.
Изредка доносились голоса перекликавшихся в лесу женщин, вероятно собиравших грибы или бруснику.
Впереди съезжались к середине реки две черные, просмоленные душегубки. Рыбаки, стоя на коленях, одной рукой ловко орудуя веслом, другой выбирали из воды опущенную на длинных шестах сеть.
Когда головной струг поравнялся с ними, рыбаки уже съехались вместе и, оживленно переговариваясь, быстро освобождали запутавшуюся в нитяных ячейках рыбу: видно, у них была удача.
– Бог в помощь! – крикнули им с палубы струга.
– Дякуем! – одновременно отозвались оба рыбака и поклонились крикнувшему.
– Дякуем брюха не помажешь, – пошутил молодой багорщик, узнавший знакомого рыбака, – позвал бы на уху, дядька Василь!
– Милости просим! – добродушно ответил рыжий Василь и, зачерпнув деревянным черпаком со дна душегубки несколько небольших рыб, метнул их на струг.
Сверкнув на солнце, по палубе рассыпалась серебристая плотва. Багорщики только оглянулись на нее и, не став собирать, дружно закричали рыбакам:
– Помогай бог, чтоб не последняя!
– С одной породы не навариста!
– Без ерша – не хороша!
Рыбаки рассмеялись, и оба, рыжий Василь и его товарищ, швырнули на палубу еще несколько щупаков, мелких окуней и даже молодого соменка в локоть длиной.
– Кушайте на здоровье!
С веселым оживлением багорщики бросились собирать скользящую по палубе рыбу. Старый кормчий прикрикнул на них и, переложив руль, отвернул струг от лодок.
Рыбаки отплывали, выгребая вверх по течению. Скоро они поравнялись со стругами, шедшими вслед за головным. Оттуда послышались голоса новых любителей ухи. Но рыбаки только ответили им на приветствие, быстро повернув к берегу, заросшему густым камышом.
Снова медленно и плавно потянулись тихие берега, согретые последним теплом осеннего солнца. Вверху бороздили голубую лазурь журавли. Внизу отраженные водой Припяти облака ласково хлюпали о просмоленные борта и терялись в мелких струях, расходившихся по сторонам судна.
Легко и отрадно было на душе у Георгия. Все предвещало добрый путь: и тихая даль красивой реки, и золотистые берега, и мягкий солнечный день, и добрые рыбаки…
Все казалось наполненным любовью и дружбой.
Небольшая жертва, принесенная им ради избавления от несчастья другого, решительный шаг, сделанный в защиту обиженного, открыли ему ту единственную истину человеческого спокойствия и счастья, которая неизменно приходит вслед за выполненным желанием сделать добро. Кажущаяся невозможность отказа от некоторых собственных выгод и удобств ради кого-то другого нередко сдерживает чистый порыв, делает человека как будто житейски разумным, на самом же деле постепенно отдаляет от окружающих, ожесточает и лишает радости дружбы.
«Если бы все люди, – размышлял Георгий, – так же, как они стараются оградить себя от других, стремились бы помочь друг другу, то зачем нужны были б великокняжеские законы и стражники? Разве должен был бы тогда Язэп убегать от отца с матерью или отдавать за червонец свою райскую птицу Андрей?»
Вспомнив об Андрее, Георгий улыбнулся. Как хорошо, что он сберег деньги, полученные его другом Николаем у краковского менялы взамен дорогого плаща. Это были последние деньги Георгия. Неизвестно, как скоро он сможет заработать другие, но, ни на мгновение не задумываясь, отдал он их пинскому ростовщику.
Язэп догнал Андрея уже в Заречье, на дороге в Велятичи. Вернуться в Пинск Андрей наотрез отказался.
– Паничу скажи, – передавал он через Язэпа, – что век его ласки не забуду. Приведет бог, отслужу за доброту. А в Пинске дел у меня не осталось. Теперь мне туда путь закрыт.
Ушел на восток… Сколько тропок протоптано в эту сторону?.. На восток… на восток… Вот и Язэп, тоскуя о друге, признался Георгию, что хотел бежать вместе с Андреем «на русскую сторону», да побоялся. Ведь он крест на бумаге хозяина своей рукой поставил.
Три больших струга шли вниз по течению. Извилистое русло реки с песчаными откосами и перекатами таило немало опасностей для пловцов. Стоя на носу головного струга, Язэп замерял глубину длинным шестом с насечками.
– Круче давай! – кричал он кормчему. – Еще круче, под самые вербы правь!
И, выждав некоторое время, вдруг командовал:
– Выпрямляй!
Судно послушно сворачивало на середину реки, обходя неожиданно показавшийся из-под воды большой камень.
Язэп обладал удивительной памятью и чутьем. Однажды проплыв по реке, он на всю жизнь запоминал ее виры
и отмели, безошибочно угадывал обмелевшие или начавшие зарастать песком перекаты. Даже сам кормчий, крепкий сухожилый старик, вечно ворчавший на багорщиков и бурлачную голытьбу, затихал перед Язэпом, когда тот выходил на нос со своим шестом.
Но выплывали струги на широкую ровную гладь, и оживление Язэпа сменялось унынием. Он садился куда-либо в угол, среди бочек и мешков, и молча смотрел на бегущую воду, словно искал в ней разгадку своим невеселым думам.
Так плыли весь день. Скоро по правому берегу открылся Туров. Первый этап пути пройден благополучно.
Кормчий стал на колени.
– Яко Давид-царь, воспою славу твою, яко твое есть царство, и сила, и слава! – говорил старик нараспев.
Все бывшие на струге повеселели и стали готовиться к причалу.
Город лежал в низине между двумя песчаными мысами, образующими широкую бухту. Разбросанные по берегу дома предместья, поднятые на высокие сваи и украшенные деревянной резьбой, напоминали огромные скворечни. Видно, здесь часто река заливала берега.
За насыпным валом, окружавшим город, виднелись купола храма, крыши новых построек и на большом кургане возвышался серый каменный замок. Вот и все, что успел рассмотреть с палубы струга Георгий.
Возле старой пристани толпилось много барж, лодок, стругов, сновали люди, со скрипом двигались груженые телеги.
Необычное в этот час оживление на пристани удивило прибывших. Удивление сменилось тревогой, когда, подойдя ближе, они увидели расставленные на мостках гаковницы
и возле них вооруженных людей. С левого берега, из-под кустов, вышли две плоскодонки и, держась посреди реки, перегородили путь. На плоскодонках также были люди с оружием, но не в форме жолнеров или ратников, а в обычном мещанском платье. Вероятно, жители города.
Едва струги причалили к торчащим из воды почерневшим сваям, как с берега потребовали к себе старших. С первого и второго стругов сошли кормчие, с третьего сбежал суетливый косоглазый покрученик.
Скоро до Георгия донесся его визгливый голос. Покрученику объявили, что струги дальше не пойдут, а весь товар и прибывшие люди останутся в Турове, на какой срок – неизвестно. Такова воля князя.
Всех прибывших из Пинска согнали под охраной на берег.
– Где это видано? – визжал косоглазый покрученик. – Купцов не с почетом, а с пищалями встречают!.. Галганы туровские, христопродавцы! Найду же я управу на них!
Проклиная и понося туровские порядки, косоглазый побежал искать управу в магистрате. На пристани посмеивались стражники:
– Зря человек жар теряет…
– Магистрат теперь заодно с князем стоит.
Прибывшим предложили устроиться на ночь в полусожженном сарае. Там уже находилось несколько человек, приплывших снизу и тоже задержанных в Турове. Бурлаки о чем-то шептались в темных углах. Кормчий тихо молился, готовясь ко сну.
Георгий поискал Язэпа и, не найдя его, прилег на охапке соломы. Из отрывочных, доносящихся до него слов он не мог составить себе представление о происходящем в городе, поняв лишь одно, что уйти из города самовольно никто не имеет права.
Язэпа все не было.
Поздно ночью прибежал косоглазый покрученик. Теперь он проклинал туровский магистрат, отказавшийся вступиться за его обиду. Осветив спящих фонарем, он растолкал Георгия.
– Вот тебе, пан грамотей, бумага, перо. Напиши за ради бога челобитную до князя. Сможешь ли?
– До какого князя? – спросил Георгий, беря бумагу.
– До Глинского, до князя Михаилы, он теперь сам тут.
* * * Еще не успели сойти рубцы от розог на спинах мальчиков, высеченных в память дружбы Глинского с Сигизмундом, еще только отшумели салюты и фейерверки в честь избрания Сигизмунда великим князем Литовским и королем Польским, как Глинский сделал первый ход в своей двойной игре. Оставив короля в окружении придворных, усыпив его верноподданнической лестью, князь Михайло уехал в свое имение Туров и начал тайную подготовку к решительной схватке.
В Туров съезжались белорусские и украинские шляхтичи, мелкие землевладельцы. Обиженные королем и богатыми магнатами, они тянулись к Глинскому, надеясь на поддержку Москвы. Сходились в Туров и посполитые, видя в князе Михайле защитника веры и обычаев от жестоких притеснителей – литовско-польских феодалов и католических епископов.
В Турове обновлялись старые и строились новые укрепления. Делалось это под видом восстановления недавно разоренной татарами вотчины. А чтобы не было лишних языков, Глинский повелел запереть город с суши и воды.
Струги и баржи, еще летом свободно заходившие в Туров на торговом пути по Припяти и Днепру, теперь попадали в ловушку. Товары перегружались в княжеские склады. Иногда за них расплачивались, а иногда отделывались обещаниями. Людей переманивали на службу к Глинскому. Купцы, отправившие свои караваны, долго не могли разыскать их следы.
Улицы были оживлены, словно в дни большой ярмарки. То там, то здесь виднелись шатры прибывших обозов. Почти на каждом шагу встречались вооруженные люди. Мастеровые возводили новые временные дома, чинили городские стены, укрепляли земляной вал. Особенно шумно было в Заятелье и Запесочье, частях города, еще не залечивших раны после нашествия татар 1502 года. Следы недавних жестоких битв встречались в древней столице феодального княжества на каждом шагу.
С любопытством осматривая незнакомый ему город с высокого холма, прозванного «тур-горой», возле вросших в землю каменных крестов, Георгий вспоминал слышанное им раньше о Турове.
«Кто основал этот город? – думал Георгий. – Варяг ли по имени Тур, принявший здесь христианство, или вырос он из простого селения рыбаков? А может быть, пошло название города от зверя тура, в неисчислимом множестве водившегося на берегах Припяти?»
По-разному говорилось. Слава Турова далеко разнеслась по Белой Руси. Здесь был центр и оплот христианской веры всего полесского края. Отсюда, из Туровского монастыря, расходились по всей русской земле пламенные слова проповедника Кирилла, епископа Туровского, учителя многих просвещенных монахов.
Сойдя к урочищу Городище, Георгий остановился возле колодца, в котором, по преданию, крестился варяг Тур. Наклонившись над полуобвалившимся срубом, он увидел в глубине слабое мерцание криницы. Сквозь песок пробивалась, равномерно пульсируя, мутно-белая жидкость растворенного известняка.
Это был тот самый «Тур-колодезь», легенду о котором слыхал Георгий еще в Полоцке. Рассказывали, что злые татары, вырезав все население города, закидали колодезь телами грудных младенцев и теперь, вот уже сколько лет, бьет в колодце ключом из-под земли материнское молоко, взывая о мести.
Не просто рождались такие легенды. Многое видал город Туров… Что же готовилось в нем теперь?
– День добрый, панич! – услышал Георгий знакомый голос.
Оглянувшись, он увидел торопливо подходившего, запыхавшегося Язэпа и с ним стражника. Если б Язэп не окликнул Георгия, тот не узнал бы своего друга. Вместо рваной рубахи на детине была добротная крестьянская куртка, сапоги. В руках он держал новую жолнерскую шапку.
– Насилу нашли тебя, – весело заговорил Язэп, – от князя приказ в замок идти…
Большего ни Язэп, ни стражник объяснить не могли.
– Велено до князя доставить, – только повторил стражник.
Лицо Язэпа сияло. На вопрос Георгия, где он был и откуда у него такая одежда, хлопец уже на ходу объяснил:
– Попрощался я ныне со всем, что ранее было. Ха, ха… Было, да сплыло… Мосейка теперь сам до пана Кастуся пускай побежит, а я теперь вольный!
– Кто же дал тебе волю? – радуясь за хлопца, спросил Георгий.
Язэп, взглянув на шагавшего рядом стражника, подмигнул ему. Оба загадочно улыбнулись. Взяв Георгия за руку, Язэп шепнул в самое ухо:
– Князь Михайло… Он всем русским волю дает… и одежду, и хлеб… Я теперь…
Он вдруг замолчал, испугавшись, как бы не сболтнуть чего лишнего.
С тревогой и любопытством вошел Георгий в княжеские покои. Лысый дворецкий посмотрел на его запыленные сапоги и, неодобрительно чмокнув обвисшими губами, показал на скамью в углу, возле широкой лестницы. Георгий присел на скамью, раздумывая о том, что его ожидает.
Встреча с прославленным и всесильным князем тревожила юношу. Чего хотел от него Глинский? Что происходит здесь?
Молодой белокурый шляхтич в нарядном кунтуше, с короткой саблей у пояса, приоткрыв тяжелую дверь, негромко спросил:
– Дозволит ли ваша мосць? Тот человек разыскан…
– Пусть войдет, – ответил ему густой, сильный голос.
В широкой с низкими сводами комнате, устланной коврами и украшенной резными изделиями на русский манер, возле небольшого, покрытого парчовой скатертью стола, заваленного свитками бумаг, стояли два человека.
Георгий сразу понял, кто из двоих был князь Глинский.
Статный, широкоплечий, с гордо посаженной головой, одетый в шелковый домашний полукафтан, с дорогим перстнем на пальце левой руки, Глинский, не обратив внимания на вошедшего, продолжал беседу с почтительно стоящим перед ним толстым паном с длинными, по старой польской моде завитыми усами.
– Поляк мудр после беды, – говорил, очевидно разгоряченный спором, князь, – и нам, пан Андрей, забывать того не след.
– Так, – односложно ответил Андрей Дрожжин, слуга и поверенный Глинского и, предостерегая князя, кивнул на вошедшего Георгия.
Глинский взял со стола бумагу.
– Ты писал? – нахмурившись, обратился он к Георгию.
Георгий узнал челобитную, написанную им утром по просьбе косоглазого покрученика.
– Писал я, – смело ответил он, но, не зная, какова судьба челобитной, на всякий случай разъяснил: – По жалобному делу от старшего на стругах, где я попутчик.
– Стало быть, за проезд эта услуга? – улыбнулся Глинский.
– И слава грамоты сей не за тобой? Cui honor, cuidecus, cui vectigal,
– со смешком сказал Дрожжин, важно поправляя усы.
Георгия почему-то задел этот смешок и, обращаясь к Дрожжину, к которому он сразу почувствовал неприязнь, резко ответил:
– Ubi oficium ibi beneficium.
– Браво, – весело сказал Глинский, – от меня это не раз слыхал пан Андрей. По заслугам! Однако… ты поляк? Учен?
– Я русский, – ободренный похвалой князя, ответил Георгий. – Учился в Кракове до степени бакалавра, теперь же направляюсь в город Киев за новыми знаниями.
– В Киев? – тихо переспросил Глинский и взглянул на Дрожжина. – Вот что, пан бакалавр, – мягко сказал он, подходя ближе к Георгию, – челобитную ты написал разумно и грамоту добро знаешь. Затем и велел сыскать тебя. А только струги я отпустить не могу. Да и людей, что разом с тобой прибыли… – Глинский взглянул в упор в глаза Георгию. – Кто хочет мне служить – приму с радостью. Мне каждый потребен, особливо русский да грамотный. Что скажешь?
– Нет, князь, – ответил Георгий, – я не служить, а учиться иду и здесь не останусь. Отпусти меня.
Глинский с любопытством смотрел на юношу, осмелившегося говорить так независимо. Вон Дрожжин сколько лет рядом, а все вздрагивает, когда к нему обернешься. Положив руку на плечо Георгия, Глинский сказал более твердо:
– Оставайся, побеседуем, потолкуем, авось решение твое переменится, когда дела наши поймешь… А что до Киева, и туда сходишь. Сам отправлю, как время придет.
Глава VI
В Киев Скорина попал не скоро. Ни высокие стены, ни княжеские дозоры, дни и ночи охранявшие городские ворота, ни отсутствие денег, необходимых для дальнейшего путешествия, не удержали бы юношу, если бы его не захватили события, начавшие развиваться в Турове.
От зари до сумерек сидел Георгий в полутемном покое княжеского дворца, где несколько монастырских писцов переписывали составляемые им обращения, или, как тогда их называли, «прелестные листы», прельщавшие «всех, от единой веры и единого языка на свет божий нароженных, собираться под стяги защитника нашего – князя Михаqлы Глинского».
В канцелярии князя были заведены порядки не хуже, чем при королевском дворе. По примеру того, как делалось это еще при Казимире Великом, у Глинского велись книги записей – «Справы судные», «Дани», «Аренды», «Реестры разных отправ».
Заполняя страницы книг, едва обученные грамоте писцы вносили в них не столько описания действительно важных событий, сколько то, что было «им по руке».
Книгой «Реестра разных отправ» ведал наистарейший полуглухой писарь Федор Янушкович, служивший в канцелярии Александра и после его смерти перешедший к Глинскому.
На одной из страниц книги Федор записал:
«Тут початы писатыса про память отправы листов его милости, князя Михайлы, до панов и бояр и до разных земян и люду лета 1506, ноября 20 ден, индикт 10. А писаны те листы в Турову, повелением его милости князя, ученым бакаляром Франтишком и во множестве переписаны дяками. Которы чисты отданы его милости князю, а которы обшарпаны тые заглажены.
Дале не было чего писати у той ден, а што было, тое записал я, писар Федька Янушков сын».
Старик присыпал мелким песком страницу, аккуратно закрыл книгу и перекрестил зевающий рот.
Георгий тоже отложил перо. Он устал. Мысли начинали путаться, трудно находились необходимые слова.
– Много листов сегодня до князя отправил? – громко спросил он старого писаря.
– Что тебе? – приставив ладонь к уху, переспросил Федор.
– Листов, говорю, много ли?
– Почитай, половина обшарпана, – думая о своем, ответил глуховатый старик. – Совести у людей нет. По такому святому делу пишут, будто слепые. Тут каждую литеру нужно от самого сердца вести, душевно выписывать, а они, писаришки негодные, все пообшарпали. Мне же от князя срам…
– Да, от самого сердца надобно… – задумчиво повторил Георгий, не слушая ворчания старика. В переписке ли дело? Были бы слова не обшарпаны… от самого сердца… Где взять пример? У каких писателей? – Скажи, дядька Федор, – нагнувшись к писарю, спросил Георгий, – не осталось ли в Турове списков со «слов» покойного епископа Кирилла?
– Не ведаю, – ответил рассерженный на переписчиков старик, – может быть, и осталось, не у меня про то спрашивать. Я здесь пришлый и в монастырь их всего два раза ходил, а более и не пойду…
Старик распалился, заворчал с озлоблением. Георгий уже не рад был, что задел эту больную струну Федора.
– Почали дома божие гаснуть, как лампада без масла, – возмущался писарь, – только дымят, а не светят. Теперь у них Стефан-богохульник в преподобных подвизается. В святые метит, а про грехи мирские не забывает. От Кирилла не токмо что листов, и духу, почитай, не осталось. Все к рукам прибрал: и «Слово», и дело. Ризы дорогие с икон попрятал, то, говорит, татары пограбили. Когда те татары были, а он все на них валит. Разорилась обитель… А до того, как епископскую кафедру отсюда в Пинск перевели, была тут благодать…
Увлекшись воспоминаниями, Федор не заметил, как слушатель его тихонько вышел за дверь. Не первый раз набожному старику приходилось заканчивать свой рассказ о благодати прошлого в пустом покое. Редко находился терпеливый человек, способный до конца выслушать жалобы на новые порядки в православных монастырях и храмах. Старик привык к этому и не обижался на легкодумную молодежь.
Георгий вышел на верхний двор. Город уже окутывал вечерний туман. Кое-где горели костры. Возле них было шумно и весело. Доносились песни, смех. Несмотря на поздний час, на улицах было много народу. В городе становилось тесно от новых жильцов…
Георгий с радостью видел, что слова его падали на благодатную почву. Он не знал, куда в точности отправлялись «прелестные листы», но из Турова ежедневно уходили во всех направлениях гонцы, путные слуги, унося в переметных сумах, в шапках или на груди под сорочкой переписанные дьяками обращения.
Не хуже, чем «прелестные листы», доступные только знающим грамоту, зазывали людей нищие старцы, слепцы-лирники. Они расходились по всему Литовскому княжеству. С серьезными, настороженно-сосредоточенными лицами пели свои печальные песни, говорили свои душевные слова, указывали путь в город Туров.
С одним из таких нищих, чаще других заходившим в канцелярию князя, Осипом, Георгий познакомился в первые же дни работы у Глинского.
Осип, видно, был старшим среди жебраков,
выполнявших тайные поручения. Придя во дворец, он подолгу беседовал с Андреем Дрожжиным, потом собирал где-нибудь в углу двора свою братию, рассказывал, о чем была беседа с паном Андреем, раздавал мелкие деньги, никогда не беря себе ни гроша, и отправлялся в путь.
С живым, привлекающим сразу внимание лицом, умный и бескорыстный Осип нравился Георгию. Юноша охотно беседовал с ним, нередко узнавая от бывалого жебрака то, что не доходило в канцелярию князя.
Возле сожженной татарами деревянной Преображенской церкви Георгий встретил Осипа, сопровождавшего небольшую группу пришлых людей.
– Далеко ли собрался? – спросил Георгий.
– К пану войту нежданных гостей провожаю, – ответил Осип, на минуту задерживаясь. – Нынче с татарами вместе прибыли. Слыхал небось, войско наше как разбогатело? Брат князя Михайлы, князь Андрей, на собственный кошт целый табун коней закупил. Сегодня пригнали нехристи.
Георгий не знал этого.
– Как же, – весело рассказывал Осип, – коней пригнали, а по пути людишек себе заполонили. Еле наши отбили. Вот тебе и купцы, не то что венгры, те честно идут.
– А венгры что? – поинтересовался Георгий.
– Большим обозом идут, – понизив голос, сообщил жебрак. – Будто бы пищали и сабли везут. А ты сходи вон туда. – Осип махнул рукой в сторону далеко видневшихся новых хаз.
– Там тебе хлопцы все расскажут, поди, только о том языками молотят.
Георгий направился вниз. Проходя по улицам, он с интересом наблюдал многообразную жизнь города. Туров постепенно превращался в большой военный лагерь. Выросли новые загороды, на земляном валу появились пушки, умножилось количество кузниц, день и ночь наполнявших город звонкой перекличкой молотов. Прибывали обозы, шумели пьяные ратники возле одинокой корчмы в Заятелье. Лукавые горожанки распевали песни, заманивая бравых воинов на берег Припяти. Перекликались воротные часовые, опрашивая каждого входящего и выходящего.
Вспомнив рассказанное Алешем, Георгий невольно сравнивал Туров с чешским «Табором». Казалось, скоро князь Глинский поднимет знамя свободы, заиграют трубачи, ударят в бубны и литавры, всколыхнется, ощетинится город лесом пик, сабель, крестьянских кос и рогатин…
Георгий никогда не представлял себя в рядах воинов. Душа его по-прежнему восставала против кровопролития, он растил в своем сердце чистую любовь к людям и родине, но постепенно, с прожитыми днями, направление мыслей его стало меняться. Георгий все более убеждался, что одной любовью к родине, одними мечтами нельзя изменить ее печальную участь. В неволе люди темны. Чтобы дать им свет грамоты, надо дать им волю. А воля, видать, сама не придет.
Георгий не знал истинных замыслов князя, как не знал их никто, но он поверил в бескорыстность и святость дела Глинского, как поверили ему многие, и остался в Турове. Здесь окрепла и начала наполняться жизнью его мечта. Все то, что только искрилось в его представлении о будущем подвиге, теперь, казалось, находило опору в делах князя Глинского.
Спустившись к новым хазам и подойдя к костру, возле которого толпились ратники, Георгий увидал Язэпа.
– Слыхал, – радостно спросил его детина, – какая сила к нам прибавляется? От самого хана крымского – каждому по коню, от короля венгерского – по сабле!
Осип не ошибся: сообщенные им новости горячо обсуждались среди туровских воинов.
– Нет лучше воина, чем у нашего князя! – важно заявил гревший у костра зад в заплатанных штанах маленький человек, видно слывший здесь весельчаком и балагуром.
– Это почему же так? Растолкуй, Устин! – заранее улыбаясь, попросили окружавшие.
– А сами считайте, – загибая пальцы на руке, объявил Устин. – Воин хрестьянский, конь татарский, шапка-магерка, сабля-венгерка. Где другого такого отыщешь?
Ратники засмеялись.
– Ловко подсчитано.
– Верно, Устин, такого и у короля Жигмонта не найдешь.
– А я у Жигмонта другое поискать собираюсь, – весело возразил балагур.
– Это чего же?
– Сала с его королевской милости да с панов, что понаросло на них от нашего поту!
– Панское сало с душком, – заметил кто-то из-за костра.
– А ништо, – ответил Устин, – мне боты смазать, а то третий день скрипят, спасу нет. – И под общий хохот Устин поднял над костром ногу в старом, истоптанном лапте.
– Потерпи, Устин, – сквозь смех сказал Язэп, – придет час, оденешь панские боты.
– И шапку боярскую, – поддержал стоявший рядом.
– Слыхал еще я, вышла подмога нашему князю, – серьезно заметил пожилой рослый крестьянин, опоясанный саблей.
Все замолкли, повернувшись к нему.
– От московских бояр, – неторопливо продолжал пожилой, – обозы с пищалями и одеждой. К зиме обещалися тут быть непременно.
– А боле бояре те ничего не обещалися? – насмешливо спросил сидящий на корточках чернобородый мужик в рваном полушубке.
– Что?
– Да то, что московские бояре всего охотней дают! – ответил чернобородый, поднявшись и злыми глазами смотря на собравшихся у костра. – Я, братцы, сам из Москвы-матушки. Да только стала она мне злей мачехи… Не для нас Москва строилась, и не об нас там забота.
– Не бреши! – кинул ему пожилой.
Но чернобородый не обратил на него внимания.
– Тут у вас, – продолжал он, – паны да паненки, а там – батоги да застенки. Такая там воля, как на погосте поле…
– Что ж ты у панов волю искать прибег? – спросил Устин, подходя к чернобородому.
– А хоть бы и так, – огрызнулся тот, – ничем ваши паны наших бояр не хуже!
– Ах ты прихвостень панский! – шепотом проговорил Язэп.
Георгий оглянулся на него. Впившись глазами в чернобородого, сжав кулаки, Язэп вздрагивал от закипавшего гнева. Георгий взял его за руку, но Язэп, не глядя на друга, встряхнул плечом и шагнул к чернобородому прямо через костер.
– Ты что людей от братьев родных воротишь?
– Гони его в пекло к чертовой теще, – крикнул Устин, толкнув чернобородого на Язэпа.
Язэп взмахнул кулаком, чернобородый, пригнувшись, отскочил, попав ногой в костер и подняв облако искр и пепла.
– Что вы, братцы? Истинную правду скажу, провалиться мне на сем месте!
Чернобородый перекрестился.
– Вон, поганец! – наступал Язэп.
Георгий бросился к Язэпу, видя, что сейчас вспыхнет драка.
– Отойди, панич! – неожиданно остановил Георгия пожилой крестьянин. – И ты, хлопец, постой! – сурово приказал он Язэпу. – Вперед разобраться надо, что за человек…
– Верно! – подхватил насмешник Устин. – Может, при нем охранная грамота от князя или боярина!
– Грамота? – хрипло спросил чернобородый, метнув глазами на насмешника. – На, смотри, какую грамоту мне боярин выписал!
Быстро скинув полушубок, он поднял рубаху и повернулся спиной к Устину. Спина его была покрыта синевшими рубцами и лиловыми пятнами на местах вырванной кожи. В неспокойном свете костра раны будто ожили. Молча смотрели на них ратники. Потом кто-то тихо спросил:
– За что его так?
– Да, может, он злодей какой?
– Не злодей я и не вор, – говорил чернобородый, поворачивая спину так, чтобы было видно новым подходившим любопытным. – На боярина Ноздреватого всю жизнь спину гнул, а он по ней батогами пахал. Полюбуйтесь.
Окружившие его смотрели, трогали пальцами.
– Опусти сорочку, простынешь… – хмуро сказал пожилой. Ему неприятно было видеть, как человек хвалится своим горем.
Чернобородый одним движением заправил рубаху в штаны и стал натягивать на плечи полушубок. Он осмелел, почувствовав как бы свое превосходство над теми, кто зря смеялся над ним. Говорил зло, поучительно:
– Не нужны мне ни ваши паны, ни наши бояре. Будет! Теперь мой черед! Вы от князя своего воли ждете. Погодите, даст вам князь волю. Кому в рыло, а кому мимо, – сказал он, повернувшись к Язэпу.
Язэп молчал, исподлобья глядя на чернобородого.
– Ты нашего князя не тронь, – вступился за Глинского пожилой, – сам небось к нему прибежал.
– Может, к нему, а может, и нет, – загадочно ответил чернобородый. – Я землю ищу, где бы самого меня за князя признали… – ухмыльнувшись, пояснил он. – Да, видать, не с вами искать ее… Ну, расступись!
Твердым, решительным шагом чернобородый пересек светлый круг костра и ушел в темноту.
Оставшиеся зашумели, заговорили все сразу. На разные лады обсуждали непонятные слова.
– Видать, хлебнул борода горя…
– Это какую землю ищет человек?
– Где она, чтобы мужика за князя признали?..
– Вроде посмеялся над нами…
– А может, и в самом деле он… из каких-нибудь…
– Ну, чего языком мелешь, был бы из благородных, так не секли бы.
– Да, высекли крепко!
– Это баба его чепелом приласкала, – пытался шутить Устин, но шутку его никто не поддержал.
– Зря уйти дали, – словно опомнился Язэп, – надо бы его к пану Дрожжину отвести.
– Не совестно тебе, Язэп? – вступился Георгий. – Не от сладкой жизни сюда бежал человек.
– Знаю, – с неиссякнувшим еще возбуждением заговорил Язэп, – бегут к нам горемыки, и мы их, как братьев родных, жалеем, а этот…
– Что – этот?
– Глаза у него не такие… Брешет он, чует душа моя. Подосланный это.
– Кем подосланный?
– Панами подосланный, – горячо объяснил Язэп, – чтобы людей смущать, кого от Москвы отговаривать, кого от самого князя Михайлы. Слушайте, други, – обратился Язэп к собравшимся, – до князя разные люди приходят! От них только раздор. Вчера мы таких двоих повязали, смуту сеяли. А нам одного надо держаться!
– Верно, хлопец! – послышались одобрительные голоса.
– Святая правда твоя, нам за князя надо держаться.
– Он нас и на Руси в обиду не даст!
– Дай бог ему многие лета…
– Мы не боярские, – кричали одни, – а на Руси государь нашей веры!
– Нам другую землю искать нечего, – соглашались другие, – ишь чего захотел, самому за князя сказаться!
– Чужое горе-то далеко, – задумчиво сказал пожилой, – а свое – оно рядом. Вперед надо от него уйти, тогда закурим и другое кадило.
Долго еще по-разному обсуждалось сказанное чернобородым. Видно, слова его чем-то смутили людей. В темных углах шепотом рассказывали о нем тем, кто не был у костра. И, как всегда в рассказах, к малой толике известного о судьбе чернобородого прибавлялись новые, рожденные выдумкой сведения. Говорили, что прислан он от какого-то князя, бывшего простого мужика. Говорили, что сам он переодетый князь, бежавший с русской земли от злых братьев, захвативших его имение. Называли его и знаменитым разбойником, и тайным королевским соглядатаем. Верили тому, что кому больше было по душе. Кое-кто искал встречи с ним, таясь от своих товарищей.
* * * Князь Глинский стоял у стрельчатого окна в просторном верхнем зале дворца и смотрел на поблескивающий редкими сторожевыми огнями ночной Туров. Только что он отпустил своего верного немца Шлейнца, умно и подробно рассказывавшего о настроениях в городе. О том, что делают городские мещане, стесненные военными приготовлениями Глинского, что говорят среди ратников, чего ждут приходящие на призыв князя люди.
Глинский смотрел в окно. Внизу, под горой, лежал темный разбросанный город.
Неспокойные думы тревожили князя. Скоро зима. Войско плохо одето, запасы продовольствия невелики, не хватает оружия. Братья – старший Андрей и киевский воевода Иван – медлят с помощью. А надобно торопиться. Того и гляди, разведает Сигизмунд о том, что готовится в Турове, и нагрянет раньше времени. Не отобьешься от коронного войска с этакой голытьбой. Где искать помощи? У перекопского хана Менгли-Гирея? Коварен, да и зол он на Глинского из-за битвы у Клецка. У Владислава венгерского? Тот далеко. Ладно, что обоз с оружием выслал, а большего вряд ли допросишься. У московского князя Василия?.. Всякий раз, когда мысли обращались к этому имени, сердце сжималось будто от страха.
Каждый день доносят ему, как растет в Турове надежда на Московского великого князя. Иной раз казалось, стоит только ворота открыть, уйдут посполитые «на русскую сторону» – не удержишь. И останется он, князь Глинский, сам-конь. Кто окружает его? Кучка мелких феодалов, обиженная православная шляхта да несколько иноземных наемников. Среди них есть неплохие военачальники, но сила не в них, а в больших полках простолюдинов. К их душе надобно путь найти. Увлечь за собой, через их мечту о воле достичь своей цели: отомстить Сигизмунду и панам магнатам, стать вровень великим властителям – королю польскому и великому князю Московскому, а пока не настал еще час, осторожно вести игру.
Даже самые близкие видят в нем вождя вольнолюбивых угнетенных людей, и никому не ведомо, чем пламенеет его душа. Так и должно быть. Сигизмунд и магнаты испугались его, хотят лишить всего, чего за долгие годы добился он миром, умом и отвагой. Что ж, теперь он заговорит с ними иначе.
Не видит нынешний король, как за его спиной растут силы Глинского. Да и что может видеть этот надменный властитель, окруживший себя иноземными советниками? Словно закрыл кто глаза королю. У Глинского глаза открыты. Вовремя он увидал, как росло недовольство людей на Белой Руси, как притесняемый иноземцами черный люд и купечество стали открыто искать дружбы с Москвой. За них вступился князь Михаил. К нему пристали братья его и несколько полуразоренных польскими магнатами феодалов.
Дружба их с Глинским была понятна. А чем объяснить поток посполитых людей, хлынувший на его призыв? Только ли силой «прелестных листов», сочиненных молодым бакалавром, задержанным в Турове и обласканным князем? Военной славой Глинского или самовольно объявленным им правом переходить от своих панов, не боясь преследования и нового закрепощения? Нет, в Туров шли, покинув своих панов, свои хаты и семьи, люди, давно копившие ненависть к гонителям веры и воли – католическим панам и епископам. Шли, надеясь на то, что он даст им долгожданное избавление, приведет под высокую руку русского государя, защитника и хранителя веры.
Он ненавидел нового литовского князя и короля польского Сигизмунда, ненавидел всех Радзивиллов и Забржзинских, готовился нанести им жестокий удар, но не хотел владычества над собой и московского князя. Боялся этого, потому и медлил с просьбой о помощи, хотя видел в Василии врага своих врагов.
Людская молва о якобы состоявшемся договоре Глинского с Москвой раздражала его. Он старался развеять эту молву, подсылая людей, пытаясь осторожно вселить неверие в русского князя. А молва росла, ширилась, и, что ни день, к нему во дворец приводили ратники связанных шептунов, требуя от князя Михайлы казни за смуту, за худые слова о братьях-единоверцах.
Глинский думал, что, пока его идея захватила весь лагерь, пока стали подвластны ее силе с таким трудом сколоченные полки, можно успеть повернуть людей. После, когда он одержит победу и запишет за своей вотчиной всех приходящих к нему посполитых, не страшна будет и дружба с московским Василием, как равного с равным. Надо выиграть время, еще раз попробовать уговорить Сигизмунда пойти на уступки… Или поискать помощи у Владислава… Надо действовать.
Глинский дернул шнур большого звонка.
– Коней! – приказал он вбежавшим слугам.
На рассвете Глинский выехал в Краков.
В Турове остался брат князя Михайлы Василий со своей дочерью. Он был слеп, немощен и, кроме того, что передавал брату часть своего имения «для общего дела», больше ничем заниматься не хотел. Даже его личным хозяйством он предоставил распоряжаться брату. А у Михаила дел было много.
В военном лагере Турова по-прежнему не затихали приготовления.
Дрожжин носился по городу, проверял работы, распределял людей, проводил обучение новоприбывших, судил, миловал и казнил. Все шло, как раньше.
Однако отъезд князя в Краков, а затем в Венгрию оказал неожиданное влияние на жизнь всего туровского лагеря. Скоро это почувствовал и Георгий, увлекшийся разысканными им старинными рукописями и давно уже не видевший никого из своих друзей.
Глава VII
В один из солнечных зимних дней Георгий отправился в монастырь к отцу Стефану, хранившему, по слухам, листы «слов» русского златоуста – епископа Кирилла Туровского.
Монастырь находился за городской стеной, и раньше посетить его Георгий не мог. Теперь же, став во дворце своим человеком, он получил право в любое время выходить за городские ворота.
Привратник, проводивший Георгия к отцу Стефану, приоткрыл дверь кельи и, молча указав на нее, ушел.
Георгий переступил порог и остановился. Черный гроб, поднятый на небольшой постамент, стоял посреди просторной сводчатой кельи, вдоль стен которой протянулись низкие дубовые скамьи и в углу, под тусклым киотом, стоял грубо сколоченный шкаф. Пахло ладаном и плесенью. В гробу лежал, сложив на груди руки, старик. Георгий подумал, что привратник ошибся или по какой-то причине не предупредил о смерти Стефана. Он взялся уже за ручку двери, чтобы покинуть келью, и… невольно вздрогнул. Из гроба послышался легкий свист и затем мерный храп спящего человека.
Георгий удивленно посмотрел на лежащего. Отец Стефан сладко спал, так широко открыв рот, что жиденькая бороденка переломилась о грудь. Вспомнив слышанное о фанатичных схимниках, избиравших при жизни ложе смерти, Георгий осмелел и сделал шаг к гробу. Навстречу ему из гроба поднялась лохматая, жалобно замяукавшая рыжая кошка. Стефан рывком поднял голову и, досадливо крикнув: «Псик, окаянная!» – ногой выбросил кошку из гроба. Тут он заметил Георгия.
– Кто здесь?
Еле сдержав улыбку, Георгий поклонился схимнику:
– Я из города, по делу до вас, отец Стефан…
Стефан посмотрел на него из-под красных припухших век, потом медленно и тяжело потер рукой лоб.
– Выйди, – тихо приказал он, – помолюсь, позову.
Георгий вышел, за ним шмыгнула и рыжая кошка.
– Дверь прикрой, – услышал он сердитый голос святого.
Плотно прикрыв дверь кельи, Георгий прошелся по коридору.
Скоро Стефан окликнул его, и, вернувшись в келью, Георгий почувствовал, как к запаху ладана прибавился новый, острый и стойкий запах вина.
Стефан снова лежал в позе покойника, но лицо, чуть порозовевшее, больше не казалось сердитым. Тихонько икнув, он ласково спросил:
– Что ищешь, сын мой?
– Ведомо мне, – как можно почтительней ответил Георгий, – что вам, отец Стефан, удалось спасти от иноверцев некие творения преподобного Кирилла…
– Святого, – поправил его монах.
– Святого Кирилла, – повторил Георгий, – записи собственноручные сказанных «слов».
– Боже, – протяжно произнес Стефан, – поем и воспеваем силы твоя! – и снова икнул.
– Я ученый, – продолжал Георгий, – хотел бы увеличить знания свои, прочитав хоть однажды те листы, вами сохраненные.
– Вси языци, восплещите руками, воскликните богу гласом радости! – пропел Стефан, явно оживляясь и всплескивая руками. – Оскудела обитель наша, только и храним, что святыню, слова Кирилла… ик… яко зеницу ока… За помощь нашу духовную, – плаксиво продолжал старик, – не благодарствуют. Не себя ради во гроб сошел, ради приношений для братии, а мне ничего не надо, я во гробе…
Георгий догадался. Вынув несколько монет и положив их на скамью так, чтобы видел Стефан, он смиренно сказал:
– Беден я, но поделюсь чем имею за помощь вашу…
Стефан метнул взгляд на скамью и приподнялся.
– Туда не клади, сюда подай… Не для себя, для братии благодарствую. Теперь вдругорядь выйди. Помолюсь за тебя.
Георгий вышел. На этот раз Стефан долго не окликал его. Когда же наконец Георгий снова вошел в келью, Стефан сидел в гробу и раскладывал на поднятых коленях старые свитки.
– Святые слова, святые слова, – бормотал он заплетающимся языком. – Никому зрить, не токмо читать не даю. А тебе дам, дам на малый срок… Только ни-ни! – погрозил он толстым пальцем. – Прокляну! – Он вдруг, хитро подмигнув Георгию, прошептал: – Я сам сии слова из гроба реку… живым вещаю.
Георгий взял у захмелевшего схимника несколько свитков и с чувством гадливости покинул келью.
Придя домой, он, однако, увидел, что вознагражден за неприятные минуты, проведенные в монастыре.
Несколько полуистлевших свитков, доставшихся Георгию, были лишь отдельными частями разных «слов» проповедника. На них не было даже обозначено, какому дню праздника или какому событию они посвящены. Вероятно, Стефану удалось припрятать лишь то, что было забыто при переезде высшего духовенства в Пинск, и вряд ли было необходимо хитрому монаху приводить их в порядок и устанавливать причины появления «слов», которыми он пользовался по своему усмотрению.
Разбирая ровный почерк Кирилла, Георгий поражался яркости поэтических символов, образности языка.
«Грехи расслабили члены тела моего, – читал Георгий. – Богу молюся, и не слушает меня. Врачам роздал все мое имение, но помощи получить не мог. Нет у них зелия, могущего переменить казнь. Ближние мои гнушаются мною. Смрад мой лишил меня всякой утехи… Нет утешающего.
Мертвым ли себя назову? Но чрево мое пищи желает, а язык иссыхает от жажды.
Живым ли себя помыслю? Но не только встать с одра, подвинуть себя не могу. Ноги мои непоступны, руки бездельны.
Мертвый я в живых и живой в мертвых. Как живой, питаюся, как мертвый, ничего не делаю. Лежу наг без божия покрова. Человека не имам влажаша мя в купель…»
«О чем это „слово“? – размышлял Георгий. – Только ли о недугах одного человека, имя которого оставалось неизвестным, или о судьбе многих в иносказательной форме говорил проповедник? К чему звал он людей, пребывающих живыми в мертвых и мертвыми в живых? Чему учил?»
Георгий развернул другой пергамент.
«Что глаголеши: человека не имам? – отвечал поэт. – Небо и земля тебе служат. Небо – влагою, земля – плодом. Для тебя солнце светом и теплотою служит и луна со звездами ночь обеляет. Для тебя облака напояют землю дождем и земля на твою службу возвращает всякую траву семенитую, древа плодовитые, для тебя текут реки и пустыня зверей питает. Трудолюбивые пчелы летят на цветы и творят для тебя медовые соты».
Георгий и раньше знаком был с некоторыми поучениями Кирилла – «Словом в новую неделю по пасхе», «Словом на Фомину неделю» и другими, попадавшими в руки читателей в виде переписанных, а иногда и по-своему переложенных монастырскими писцами листов. Теперь же в руках у него то, что не подвергалось чужому домыслию. Так ли велики эти «слова», как казалось прежде?
Форма их сравнения, вопросы, обращения и аллегории отличали «слова» от сочинений других церковных писателей. Но поэтический взор проповедника, обращенный к явлениям природы, уводил слушателей в сферы религиозного созерцания, поэтому назидательность его «слов» была далека от жизни народа, нуждающегося в общедоступном, ясном просвещении. Георгий же мечтал о таких сочинениях, в которых бы каждое слово было понятно и грамотному монаху, и прибитому нуждой землеробу.
Не ради туманных будущих благ, а ради сегодняшнего вызволения писал свои «прелестные листы» Скорина, и потому слова ему надобны были про людей, что «на своей земле, как чужие, живут, и про чужих, что их трудом, как своим добром, распоряжаются».
Засидевшись до полуночи, Георгий убрал пергаментные свертки и уже хотел погасить свечу, как в комнату, не постучавшись, вошел Осип.
Отряхнув снег, поставив в угол посох с надетой на него шапкой, Осип сбросил с плеча полупустую суму.
– Слава богу, что ты вернулся, – обрадовался Георгий.
Осипа не было в Турове более двух недель, и Георгий опасался, что жебрак попал в лапы королевских соглядатаев.
– Трудна дорога сейчас? Намело сугробы? – спросил он.
Осип присел на скамью, помолчал.
– Тяжело, да не сугробы повинны. Что сугробы? Снег, он и есть снег… бел, чист, недолговечен… Солнце поднимется, снег ручьями сойдет, а молодую землицу снова наши слезы польют…
– Что случилось, Осип? – встревожился Георгий.
– Горе, – тяжело вздохнув, ответил жебрак. – Обманет князь.
– Обманет? – удивился Георгий. – Князь Михайло обманет?
– Он, – кивнул головой Осип. – Кто же еще? Оттого только и горек обман, на кого надежда была.
– В чем же ты видишь обман для себя? – не поняв его, спросил Георгий.
– Не для себя, – отмахнулся жебрак, – меня обмануть нельзя. Не на чем обмануть нищего, – объяснил он, постепенно оживляясь. – На деньгах обмануть захочешь – я их и так не беру, должности не присудишь – и ее я не жду, а хлеба кусок от камня за версту отличу. Убить меня или в темницу бросить можно, а обмануть – нет. Тебя вот да, тебя обмануть легко.
– В чем же?
– В надеждах твоих, в чаяниях, – ответил Осип. – Тебя да несчастных тех, что на слово твое, как на приманку, шли, родные места покинули. К воле шли! Ты их прельстил твоими листами. Ты да мы, неразумные. Поверили князю, смутили людей! – с гневом закончил Осип.
– Постой, друг! – Георгий присел рядом с ним на скамье. – Видать, ты узнал что недоброе?
– Узнал. – Осип резко повернулся к Георгию. – Князь к королю Жигмонту поехал, – заговорил он шепотом торопливо, взволнованно. – У его милости ласку выпрашивает, чтобы миром все кончить. А людишек зазвал сюда, дабы короля напугать. Дескать, вон какая сила у меня, не хочешь мира – я войной пойду… И еще знаю, к хану крымскому от себя посылал. Может, и ему передаться согласен. Видно, заговорила кровинка татарская. Ты вот думал, что людей до московского князя зовешь. Тому поверили многие, ан все иначе выходит… Слушай меня: князь замирится с королем либо союз с ханом заключит, куда люди пойдут? Кто им защиту даст? Хлопы, рабы, отчинники княжий… Боже ж ты мой, сколько жизней загинет! – Осип уронил голову на руки и закачался, причитая: – Боже милостивый!.. Под кнутом, в колодках, на виселицах… за что? Сирот сколько новых, за что? Господи, смилуйся ты над нами, грешными.
– Успокойся, Осип, – проговорил Георгий, чувствуя, как его самого захватывает тревога высказанной жебраком страшной догадки. – Дай рассудить… не может того быть. Это злые люди так о князе… Нет, Осип, не покинет князь посполитых…
– Покинет! – почти выкрикнул Осип и быстро поднялся. – Только вперед я покину его!
Он шагнул к двери и поднял свою суму. Движения его были решительны.
– Куда ты, Осип? Отдохни у меня… обсудим…
Жебрак посмотрел на Георгия. Лицо его вновь приняло обычное, ласковое выражение.
– Куда? – переспросил он с улыбкой. – А никуда… На волю… Подале от князей – голова целей!
Низко поклонившись Георгию, он вышел за дверь. Больше никто не видел в Турове старого жебрака.
* * * Посещение Осипа лишило Георгия покоя на всю долгую зимнюю ночь. Вспышка гневного недоверия к князю, убеждение в грозящем обмане, высказанное старым жебраком, обычно лучше других осведомленном о делах князя, наконец, его уход из Турова взволновали юношу.
Он не верил в обман Глинского, быть может, потому, что многого не знал, не видел. Запершись в своем покое, увлекшись разбором старых пергаментов и подорожных записей, он мало интересовался тем, что творилось за стенами дворца. А за стенами дворца уже появились первые признаки разлада в туровском лагере.
В городе было неспокойно.
Горожане выказывали недовольство. Размещенные в их домах ратники с каждым днем вели себя все смелее и нахальнее, разоряли хозяйство. Приходилось прятать от них не только сало и хлеб, но и дочерей с женами. Коли дальше пойдет так, то не от войны, а от одного постоя нового войска погибнет город Туров.
По улицам, словно в праздничный день, разгуливали молодые ратники, горланя непристойные песни. Чаще стали вспыхивать драки между полоцкими крестьянами, приставшими к Глинскому, и литовцами, между русскими и иноземцами.
Воротные стражники, что ни ночь, ловили людей, занесенных в реестры князя, пытавшихся обманом, а то и открытым боем прорваться за городские стены. Некоторым удалось уйти.
По берегам Припяти, грабя соседние фольварки и богатые хутора, разгуливала вольница чернобородого атамана, не признававшего ни князей, ни бояр.
Застрявшие в Турове купцы и покрученики подбивали народ к неповиновению. Обещали награды тому, кто вернется к своему старому господарю. Распускали слухи против князя Михайлы. Одни говорили, что Глинский хочет продать все поспольство, замириться с королем и панами магнатами. Другие сообщали как достоверное, что князь сторговался с татарским ханом Менгли-Гиреем и будет менять людей на золотые цехины. По пять грошей за голову.
Но самым злым слухом, более всего разжигавшим волнения, была весть о том, что Глинский отказался от помощи и покровительства Московского великого князя.
Находились «свидетели», будто бы видевшие в Турове московских послов. Привезли будто те послы волю всем русским от московского князя Василия, да Глинский напоил послов отравленным вином и ночью бросил в Турколодезь, а грамоту Василия сжег не то на трех, не то на двенадцати свечах.
Те, кто еще верили Глинскому, защищали его и словом, и кулаком. От этого нередко страдали и непричастные к тайному шепоту люди.
Дрожжин, оставшись за старшего военачальника и пытаясь успокоить непомерно выросшее пестрое и разноязыкое население туровского лагеря, до отказа набил сторожевую башню пойманными шептунами, публично сек главарей, но сдержать разложение лагеря не мог.
Он отправил одного за другим четырех гонцов к князю в Краков, а затем в Венгрию, требуя возвращения Глинского. А Глинский, не добившись успеха в своих переговорах ни в Кракове, ни у короля Владислава, покинул Венгрию и, разминувшись с гонцами Дрожжина, возвращался в Туров, ничего не зная о происходящем.
* * * Проведя в тревоге бессонную ночь, взволнованный виденным и слышанным в городе, Георгий находился в крайне возбужденном состоянии.
Чувство обиды и ненависти захватило его. Обиды на маловеров, поддавшихся обману панских лазутчиков (он не сомневался в этом), и ненависти к врагам, пробравшимся в лагерь.
Он понимал, что крутые меры, принимаемые недальновидным и нелюбимым народом паном Дрожжиным, из-за которых страдают и невинные люди, могут вызвать еще большее озлобление. Надобно действовать иначе. Пока не приехал князь и пока еще не стало поздно, надо собрать верных людей, таких, как Язэп, и заставить самих посполитых охранять свою веру в начатое ими дело.
Отправившись искать Язэпа, он столкнулся со своим другом на повороте узкого переулка, ведущего к рыночной площади.
– Беда, – крикнул запыхавшийся Язэп, – к тебе бегу! Уходи, заховайся куда-нибудь… придет князь, оправдаешься…
– В чем оправдаюсь? Перед кем?
– Перед людьми! – проговорил Язэп, испуганно оглядываясь назад. Со стороны площади доносился неспокойный гомон множества голосов.
– Листы! – торопился хлопец. – Побьют тебя за листы обманные… Беги! Там человек один грамотный листы читает, что ты писал, говорит: «ради обмана»!
Георгий схватил Язэпа за плечи.
– Ради обмана? Листы наши обманные?
– Ну да!.. Сейчас на дворец пойдут: листы сжигать и писцов топить. Я хлопцев к пану Дрожжину послал предупредить.
Но Георгий будто не слышал этих слов.
– Слова там про волю твою… За тебя же, а ты – «обманные»!
– Да что ты трясешь меня? – вырвался Язэп, с удивлением глядя на друга, никогда еще не бывшего в таком состоянии. – Не я то говорю. Человек там один…
– Что за человек? – Георгий решительно шагнул в сторону гудящей площади.
Теперь Язэп схватил его за руку:
– Не шути, панич! В большом гневе народ. Могут что хошь сейчас учинить. Лучше и не кажись.
Георгий остановился, повернув к нему бледное с горящими глазами лицо.
– Ты поверил тому человеку, Язэп? – спросил он таким голосом, что тот невольно отпустил руку и машинально перекрестился.
– Бог с тобой, Георгий Лукич… Я тебе как брату родному и князю верю… да не я один… боюсь только, кабы…
– Бояться нам нечего, – перебил его Георгий. – Правда наша! Стало быть, за нас люди будут. Идем!
Не дожидаясь Язэпа, Георгий быстро направился к площади.
– Коли так, – пробормотал смущенный отвагой друга Язэп, – и моя голова с тобой! – Придерживая висевшую у пояса новую венгерскую саблю, он побежал вслед за Георгием.
Язэп несколько преувеличил опасность. На площади было пока относительно спокойно.
Худой, с вытянутой шеей человек, одетый в потертую купеческую чугу, возвышаясь над любопытной толпой горожан и молодых ополченцев, потрясая каким-то листом, кричал охрипшим, надорванным голосом:
– Ты нам грамоту московскую покажи, а не брехню дьякову! Обманные тут слова написаны, верьте мне, я все литеры знаю!
– Читай, что написано! – требовали вновь подошедшие.
– Про Москву, про русских что сказано?
– Про князя что? – гудели другие. – Когда татарам продался?
– Спалить листы! Разом с теми, кто набрехал их!
– Заманили нас, темных, неписьменных!
– Слушайте, слушайте, люди добрые! – призывал хриплый голос. – Ничего тут про волю вашу не сказано. И про Москву ничего! Только чтоб до князя шли. Сами теперь растолкуйте: вы до князя, а князь куда?
– Князь к татарам пошел, а нам куда?
– Князь с панами опять… против русских!
Не видя, не замечая никого, кроме стоящего на возвышении человека, не отрывая от него горящего взгляда, Георгий пробивался вперед, расталкивая плотный круг слушателей. За ним шел Язэп, по пути выискивая знакомых ему ратников.
– Может, листы эти нехристь какой складывал, а вы им поверили! – надрывался охрипший. – Татарам за обман крещеной души по ихнему корану все грехи прощаются!
Добравшись до сваленных бревен, на которых стоял ораторствующий, Георгий прыгнул к нему и, поскользнувшись, ухватился за полу охрипшего.
– Ай! – испуганно вскрикнул тот, подавшись назад, словно ожидая удара.
Но Георгий не выпустил полы.
– Стой! – крикнул он, становясь рядом. – Я тоже грамотный, дай сюда лист!
Глаза охрипшего забегали по толпе.
– Братцы! – прохрипел он осевшим голосом, пряча за спину лист.
– Отдай! – грозно потребовал Язэп, встав с другой стороны и положив руку на эфес сабли.
– Тут и читать нечего… брехня это. – Трясущейся рукой человек протянул лист.
Георгий выхватил его и поднял над головой.
– Листы эти, – крикнул он в затихшую, жадно ждущую новых событий толпу, – помолясь богу, я складывал! – И, опустив полу чуги, свободной рукой осенил себя крестом.
– Ага! – взвизгнул кто-то над ухом Георгия. – Вот он, подманщик! Бей его!
Георгий увернулся от удара.
– Эй! Не балуй! – Одним прыжком Язэп оказался возле Георгия. Он толкнул в грудь замахнувшегося, тот качнулся, распростер руки и покатился вниз с бревен.
Из толпы с руганью к бревнам бросились двое мещан. Язэп выхватил саблю. Охрипший, видя все это, хотел было юркнуть вниз, но подоспевший к Язэпу молодой ратник схватил его за воротник.
– Погоди! Разом читать будешь!
– Ты за что человека бьешь? – визжал внизу сбитый с бревен. – Кто таков?
На Язэпа наступали подголоски.
– Вязать их обоих!
– Слушайте, что тут написано! – кричал Георгий, стараясь перекрыть поднявшийся шум.
На бревнах уже было несколько молодых ратников. Человек в купеческой чуге хрипел, вырываясь из их цепких рук.
– Разбой!.. За правду средь бела дня убивают!
– Узнаем, чья правда!
– Пущай читает!
– Читай, панич! Мы тебя знаем! – гудела толпа, напирая на стоящих впереди.
Ратники держали охрипшего, зажав ему рот. Язэп размахивал саблей, не пуская на бревна лезущих в драку.
– «Люд посполитый!» – начал Георгий, держа перед собой лист.
– Тише, тише! Дайте слово человеку сказать!
– «Люд посполитый!» – еще раз громко повторил Георгий, глядя в бумагу, и, не ожидая, пока установится тишина, стал читать дальше.
Голос его был звонок, силен, взволнован. Смелость, с какой оборвал он ораторство хриплого, и любопытство к написанному сделали свое.
Зажатые в толпе, укутанные платками женщины зашипели на мужей. Пожилые мужчины крикнули на молодежь, и толпа стала затихать, боясь не расслышать слов того листа, который только что, не зная его содержания, она считала «обманным», а теперь, может, он и вовсе окажется правдой.
– «Кому веру свою отдадите, – читал Георгий, – панам ли католикам, что забрали и землю вашу, и дом, и волю? Или же братьям своим единокровным от единой матери нашей – Руси?»
Словно последняя волна затихшего шторма, шелестя, прокатилась по площади и рассыпалась, затихая в глубине, возле амбаров.
Когда Георгий уже заканчивал чтение, пан Андрей Дрожжин в сопровождении двадцати конников прискакал на площадь. Настроение толпы так же быстро, как оно было поднято против «обманных листов» и их составителей, теперь поворачивалось в противоположную сторону. Но пану Дрожжину было известно только то, как сообщили ему посланные Язэпом хлопцы, что на площади подбивают людей идти жечь дворец. Увидев в центре толпы молодого бакалавра, он удивился, но не стал медлить. По его команде всадники, горяча коней и ругаясь, врезались в толпу. Мещане шарахнулись в стороны, увязая в сугробах. Поднялся женский визг, вопли. Пешие ратники закричали, пытаясь объяснить конникам, но поднятый шум потопил их голоса.
Люди, теперь боявшиеся наказания за свой первый порыв, разбегались, толкая друг друга, попадая под копыта коней.
Язэп с товарищами тащил по снегу упирающегося хриплого человека в купеческой чуге.
– Пан Дрожжин! – еще издали кричал возбужденный хлопец. – Вот он, зачинщик! Он подговаривал!
– А тот где? – грозно спросил пан Дрожжин. – Бакалавр?
Язэп не знал никого с таким именем. Но Дрожжин уже сам увидел спешившего к нему Георгия.
– Вот ты как на князеву ласку ответил? – прошипел он, нагнувшись с коня и угрожающе сжимая плеть.
– Пан Андрей, – проговорил Георгий, с удивлением глядя на взбешенного Дрожжина. – Народ в сильном волнении…
– Связать! – приказал Дрожжин, ткнув плетью в Георгия. – Об народе сам князь позаботится! – громко сказал он, приподнявшись на стременах. – Едем встречать его милость!
Крикнув всадникам, он поднял коня в галоп, обдав застывшего от удивления Георгия брызгами снега. Двое конников, спешившись, подошли к Георгию и молча скрутили ему руки. Юноша не сопротивлялся и только выронил на снег все еще зажатый в руке «прелестный листок».
* * * Вернувшись в Туров, князь Глинский понял, что его лагерь в опасности. Слишком открыто проявлялось нетерпение, колебалась вера в него – Глинского. Боязнь вернуться под власть ненавистных феодалов-католиков или попасть в рабство татарского хана толкала людей на необдуманные поступки, разлагала воинов.
Глинский, хорошо знакомый с историей крестьянских войн в Европе, знал, что массы легко отрекаются от своих поводырей, чуть только те сворачивают с желанного пути. Чтобы стать вождем людей, жаждущих воли и союза с русскими, а не просто смены властителя, надо поддерживать их веру в единомыслие с ними.
Как ни темен, как ни придавлен народ, все же он сильнее, чем кучка жадных дворян, ищущих только своей личной выгоды. Чтобы не быть раздавленным, надо идти с главными силами. Другого выхода нет.
Переговоры с Сигизмундом лишь ухудшили отношения. На помощь Владислава или Менгли-Гирея нельзя рассчитывать, да и при таком настроении людей в самом лагере их помощь была бы опасней молчаливого невмешательства.
Отругав Дрожжина за то, что тот без разбору хватал и виновного, и невиновного, слишком доверясь доносам и слухам, Глинский велел выпустить всех томящихся в сторожевой башне и начал осторожно, не наводя страха, очищать лагерь от смутьянов и маловеров.
Молодого бакалавра, по словам Дрожжина, подбивавшего людей разграбить и сжечь дворец, и еще нескольких заключенных он вызвал к себе.
До сих пор Глинский не слышал плохого о Скорине. Приласкав его, князь рассчитывал получить неплохого помощника, и вначале надежды его как будто оправдывались.
Владевший многими языками, Глинский совершенно не был обучен языку большинства примкнувших к нему людей, поводырем которых он становился. Счастливый случай привел к нему Скорину, когда надобно было составлять обращения. «Прелестные листы», написанные Георгием, убеждали искренностью, подкупали простотой слога, употреблением привычных слов, более понятных простому народу, чем монашеская церковнославянская речь. Скромный и трудолюбивый юноша понравился Глинскому. Неужели князь ошибся в нем, не разглядев за кажущейся преданностью тайных желаний?
* * * Несколько дней, проведенных в сырой, темной башне, были невыносимо тяжелыми для Георгия. То, что его, вставшего на защиту дела Глинского, связали люди Дрожжина, сначала поразило своей нелепостью, затем вызвало чувство гневного возмущения против насилия, творимого приближенными князя.
Впервые лишившись свободы, оказавшись среди таких же, как он, несправедливо заключенных людей, Георгий не мог избавиться от мрачных мыслей. Его просьбы и протесты оставались без всякого ответа. Он с ужасом представлял себя оторванным от мира, ставшего глухим к его голосу. Сознавать это было мучительно.
«Значит, – думал Георгий, – достаточно глупому и своевольному пану Андрею, не пожелавшему даже выслушать объяснения, произнести одно только слово, и человека лишают света, воли, могут казнить, объявив изменником».
Каждый день, проведенный здесь, казался Георгию украденным у жизни, которая именно теперь, как никогда, безраздельно должна принадлежать борьбе, начатой в туровском лагере.
Узнав, что скоро его поведут к самому князю Глинскому, Георгий не испугался. Он решил высказать князю не стесняясь все, что думал сам и что думали простые люди о порядках, заведенных в Турове помощниками Глинского.
С таким настроением он вошел во дворец. Похудевший, отчего теперь казался более рослым, с бледным лицом и сердито горящими, ввалившимися глазами, в испачканном, местами порванном кафтане, Георгий ничем не отличался от других узников, приведенных вместе с ним на допрос к князю. Однако Глинский сразу заметил его и, улыбнувшись ему, как доброму другу, отозвал в сторону, предложив обождать, пока он окончит дела других.
Если бы Глинский отнесся к нему иначе, если бы с теми, которых привели вместе с ним, насмерть перепуганными людьми, туровскими мещанами, князь говорил строго, ругал их, угрожал, Георгий, забыв о неравенстве, наговорил бы немало злых, оскорбительных слов о пане Дрожжине и, наверное, рассердил бы князя. Но Глинский, видно, понимал состояние невинных узников, не одобрял действий пана Андрея и обошелся с приведенными к нему заключенными просто и ласково.
Глинский сказал, что их держали в башне напрасно, по ошибке, что, если за кем что и было, он забудет об этом и требует лишь верной службы в дальнейшем.
Радость освобождения не только его, но и томившихся с ним людей лишила Георгия гнева, вызвав чувство благодарности и прощения.
Без злобы к Дрожжину и тюремщикам, не упоминая о них, он рассказал о происшедшем на площади.
– Не поверил я сразу, что ты людей на воровское дело толкал, – просто заключил Глинский, выслушав рассказ Георгия.
– Спасибо, князь, – поблагодарил Георгий, ободренный доверием. – Но я привел бы их во дворец, кабы знал, что ты возвращаешься.
– Вот как? – Глинскому показался слишком смелым такой ответ, он нахмурился. – Зачем привел бы?
– Слово твое услышать, – горячо заговорил Георгий, – по сердцу слово! Истинное. Ответь мне, ваша милость, куда людей поведешь? Открой мысли свои народу, и, коли они справедливы, не будет вернее войска, чем твое!
– А коли нет? – тихо спросил Глинский.
– Сам знаешь, покинет тебя народ… как покинули уже те, кто душою слаб. Не дай бог этого!..
– Умен ты, – проговорил Глинский, отходя от Георгия к столу, – смел и душою чист, это в тебе ценю. Да только в ратном деле не все прямо дается. Кому просишь мысли открыть?
– Народу, воинству посполитому! – твердо ответил Георгий.
– Народ – не один человек. – Глинский задумчиво посмотрел в окно. – Люди разные. Другой на святом Евангелии клятву дает, а сам к Жигмонту о делах наших весточки шлет. Небось видел, какие здесь люди собрались. – И, повернувшись к Георгию, с гневом добавил: – Лгут про меня разные воры. То тоже Жигмонтовы старания. А придет время – все правду узнают. – Он схватил со стола исписанный лист и протянул его Скорине: – На вот, читай!
Это было составленное самим князем Михайлом письмо к московскому государю Василию III.
– Помоги, пан бакалавр, перепиши да подправь, где след.
С волнением и радостью писал Георгий под диктовку Глинского:
«Великий князь, государь. Шлю свое челобитие за себя, и за братию, и за приятелей, и за поспольство.
Прошу учинить ласку нам и жалованье свое. Вступись, государь, на всяких неприятелей наших, а нам помоги.
Люди веры одной и одного племени вельми тяжко живут в дому своем, как на чужбине. А все русские и на русской же земле испокон веков живущие.
Лепей бы нам вместе быть, и мог бы ты видети наше добро, а што нам доброго милосердный бог даст помощью вашей милости государскою, хотим до конца живота нашего вашей милости служить…»
Словно свалился камень с сердца Георгия: «Значит, не обманут народ, и Осип неправ».
– Дозволь, князь, – с сияющим взглядом попросил Георгий, – рассказать людям о письме том? Не будет крепче заслона от шептунов…
– Погоди, – остановил его Глинский, – отправим грамоту, тогда не опасно, а пока… Что ж, с другами близкими да верными поделись, пожалуй.
Первый, кого встретил Георгий, выбежав из дворца, был Язэп. Детина так обрадовался освобождению друга и так был счастлив, что его вера в князя не обманута и что многие брехуны посрамятся, узнав о грамоте к московскому государю, что ему захотелось ознаменовать этот день чем-либо особенно дорогим.
– Георгий Лукич, – сказал он, обращаясь, как к старшему, глядя на своего друга увлажненными от радости глазами, – не прими за обиду, коли много попрошу… Ты человек ученый, тебя паном называют… а я хлоп темный…
– Ну, что ты, Язэп… говори…
– Братом твоим стать хочу… – залившись краской, несмело выговорил хлопец.
Георгий молча снял с себя нательный серебряный крестик и надел на Язэпа. Язэп повесил на грудь Георгия маленькую овальную медную иконку. Они обнялись.
– Навеки брат! На веки веков!
* * * Грамота московскому князю была запечатана и со строгим наказом вручена служившему у Глинского боярскому сыну Ивану, по прозвищу Приезжий.
Был этот Ивашка человеком странным и мало кому понятным. Откуда взялся он в Турове, никто не знал. На расспросы отвечал односложно: «Не здешний я, я приезжий». За то и прозвали его Ивашкой Приезжим. В самом ли деле был он боярским сыном или таким только сказался, никому не было известно. Но доставить важную грамоту в руки великого князя Василия Глинский поручил ему. И грамота была доставлена в самый короткий срок. С тем и вошел в историю неведомый сын боярский Ивашка Приезжий.
Отправив гонца, Глинский занялся делами с Андреем Дрожжиным. Проверял книги, реестры…
– Да, вот еще, – будто вспомнив только сейчас, сказал князь Михайло, – надобно брата Ивана кое о чем известить. Кого бы послать?
– К его милости князю Ивану путь недалек, – ответил Дрожжин, – до Киева – не до Москвы, любой слуга доберется.
– А что бакалавр сей? – тем же тоном спросил князь. – Он, кажись, в Киев плыл осенью? Вот его бы и отправить.
– Воля твоя, – поведя усами, ответил Дрожжин, затаивший на Георгия злобу после неудачного его ареста. – Сам слыхал, сколь дерзкие слова он перед твоей милостью говорил… холопий угодник.
– То верно, пан Андрей. – Глинский скрыл улыбку, зная, за что зол на бакалавра Дрожжин. – Горяч, да умен… только теперь он нам не опасен… и нужен не очень… Своим умом справимся. Пусть подале поживет пока что. Заодно и весточку передаст. Так что ты снаряди его к воеводе киевскому, князю Ивану. Пускай там науки свои постигает. Я письмо напишу.
Глава VIII
Весной 1507 года Георгий с оказией Глинского приплыл в Киев.
Древний город открылся ему в цветении садов, в сиянии золотых куполов церквей, освещенных ласковым солнцем. Раскинувшись на высокой гряде холмов, Киев отражался широкой поверхностью Днепра, манил пловцов приветливой, утопающей в зелени пристанью.
В этой поездке все радовало Георгия. И береговые пейзажи, и ясная, солнечная погода, и уверенность в том, что, выполняя данное ему от князя поручение, он в то же время сможет познакомиться с трудами киевских ученых монахов, о которых много говорилось среди живущих на Литве грамотных русских людей.
Георгий не знал, каково было содержание письма князя Михайлы к его брату, киевскому воеводе. Не сомневаясь в том, что он привез важное и тайное послание, юноша сразу с пристани отправился в большой стоящий на горе деревянный замок, где, как сказали ему, находился воевода.
В замке Георгия долго выспрашивали, откуда он, с кем и каким путем прибыл, что привез, но к воеводе не допустили.
Письмо от князя взял низенький, с круглой, наголо обритой головой и золотой серьгой в левом ухе воеводский кравчий. Он небрежно сорвал печать и, развернув лист, поднес его к своему носу.
Георгий был уверен, что, прочитав написанное, кравчий пригласит его к воеводе, и тогда все поймут, что он не простой гонец, а человек, которому доверили важное дело. Недаром же всю дорогу он оберегал это письмо, как самую большую драгоценность.
Кравчий поднял на Георгия узкие, насмешливые глаза и лениво проговорил:
– Гуляй, пан бакалавр, пану воеводе сейчас недосуг. А что до ученых монахов, то поищи их в здешних монастырях. Только из города пока не отлучайся.
Не попрощавшись, кравчий ушел.
Георгию было неясно, к чему относились его последние слова. Два дня бродил он по улицам Киева, знакомясь с городом. Почти на каждом шагу встречался с контрастами киевской жизни – богатством ее и нищетой. Роскошь первопрестольной столицы сменяли остывшие пепелища – следы жестоких войн и разорений. Златоверхие храмы, воздвигнутые древнерусскими и греческими мастерами, нередко оказывались лишь сохранившейся оболочкой. Широкие проломы дверей зияли черной глухой пустотой. Каменные ступени зарастали травой.
Покрылись серо-зеленой плесенью разорванные, наклонившиеся друг к другу широкие башни Золотых ворот.
Невдалеке от них, возвышаясь над низкими мазанками, стоял тринадцатиглавый Софийский собор. Он был недавно отремонтирован и восстановлен. И хотя служба в соборе еще не отправлялась, у его входа толпились нищие, уродцы и попрошайки. Побывав в соборе, Георгий сделал несколько зарисовок с древних фресок и мозаичных картин, украшавших своды, колонны и лестницы храма.
Спустившись к реке, Георгий запутался среди узких и кривых улочек тесно застроенного, убогого и грязного Подола. Здесь ютился ремесленный люд со своими кузницами, гончарными, кожевенными мастерскими, прядильнями и столярными.
Жилища ремесленников резко отличались от богатых построек Верхнего города. Копоть, дым и кислая вонь размачиваемых кож, лязг и грохот железа, плач детей, лай собак и мычание возвращающегося с поля стада коров по вечерам висели над Подолом.
Вверху улицы были по-весеннему оживлены и веселы. На восьми торговых площадях не смолкал разноязыкий говор украинцев и поляков, греков и венгров, шведов и евреев, татар и немцев. Казалось, со всего света съезжались сюда люди. Одни – по торговым делам, другие – помолиться в киевских храмах, третьи – в погоне за легкой наживой и в поисках приключений.
В центре города разгуливали богатые пани. Георгий не мог без улыбки наблюдать, как важно плыли по тротуару толстые, молодящиеся красавицы в сопровождении служанок, державших над ними, как опахало, сделанные из материи большие подсолнечники, чтобы солнце, не дай боже, не спалило белого лица госпожи.
На третий день, рано утром, еще до того, как зазвонили в церквах, уныло заговорил одинокий колокол костела. Его нечастый, дребезжащий звук повис над пустынными улицами. Затем появились конные разъезды, у городских ворот встала усиленная стража. На земляной вал выкатили пушки. Ставни в домах оставались закрытыми, отчего казалось, что город будто ослеп. Из-за заборов выглядывали и тут же скрывались чем-то встревоженные жители. Двери и ворота дворов запирались на двойные запоры.
Георгий прибежал в крепость, когда там только что было получено приказание закрыть город, приготовив его на всякий случай к осаде.
Воеводы в Киеве уже не было. Не было и бритоголового кравчего. Воеводский писец, укладывая в мешок какие-то пожитки, на ходу объяснил Георгию, что брат воеводы, князь Михайло Глинский, пошел войной против короля и уже разбил королевское войско где-то под Гродно, что пан воевода ускакал по Броварскому шляху неизвестно куда и что, если приезжий пан бакалавр хочет остаться цел, пусть скорее идет вместе с ним в Печерский монастырь, куда собираются все русские, так как теперь им опасно оставаться на виду.
– Может, еще все миром кончится, – сам себя успокаивал писец, – да только береженого и бог бережет.
В город прибывали военные. Улицы наполнила вооруженная шляхта. В костелах служили панихиду по зверски убитому изменником Глинским ясновельможному пану Яну Забржзинскому.
* * * Челобитная, отправленная Глинским великому князю Василию, явилась тем верно угаданным шагом, который, с одной стороны, успокоил начавший было бунтовать лагерь повстанцев, с другой стороны, на долгие годы сдержал стремление посполитого люда к воле и объединению с русскими.
Король Сигизмунд понимал, что означала завязавшаяся дружба Глинских с Москвой. Готовясь ознаменовать свое восшествие на престол войной с московским князем Василием, вернуть волости, отданные Москве по договору, заключенному покойным Александром, Сигизмунд разослал послов к ливонскому магистру Плеттенбергу, перекопскому хану Менгли-Гирею и казанскому Магмет-Аминю, приглашая их вместе выступить против Москвы.
Король торопил союзников.
Послы объяснили:
– Для того такой срок короткий войны положен, что медлить никак нельзя. Как бы Василий московский да с его помощью Глинские, узнав о воле нашего государя свои земли добывать, не предупредили бы его и в наши земли не вторглись бы.
Уже дряхлеющий Менгли-Гирей устал от походов. За него все решали сыновья.
Молодые жадные ханы приняли польских послов почти с насмешкой.
Девять сыновей Менгли-Гирея собрались на совет в шатре старшего брата – Магмет-Гирея. Послов Сигизмунда весь день держали за дверью шатра, не допустив на совет. К ним по очереди выходили Магмет-Гирей, Ахмат, Фети, Мубарек, Магмут, Буретв, Саип, Саадет и Алли. Молча выслушивали просьбы и жалобы и снова уходили в шатер. Пили кумыс, думали… Наконец позвали послов, и самый младший, Алли-Гирей, объявил решение братьев:
– Московский князь для нас не скупится, и, пока не будет нам видна выгода со стороны Сигизмунда и шляхты, кони наши не вспотеют.
Уклонился от похода и Плеттенберг. Он советовал подождать, пока передерутся между собою молодые князья – великий князь Василий со своим братом, димитровским князем Юрием.
Начинать одному войну было опасно. В Литве, как большая заноза посреди ладони, не дающая крепко сжать кулак, сидел Глинский с массой взбунтовавшихся хлопов и приставших к нему русских земян.
Узнав о том, что Глинский уже снесся с Москвой, Сигизмунд забеспокоился. Начались лживые переговоры. Литовские послы заверяли Василия, что Сигизмунд хочет с ним вечного мира при условии возвращения забранных отцом Василия волостей, и в то же время подбивали Юрия на восстание против брата.
«Узнали мы о тебе, брате нашем, – тайно писал Сигизмунд князю димитровскому Юрию, – что милостью божией в делах своих мудро поступаешь, великим разумом их ведешь, как и прилично тебе, великого государя сыну».
Польстив Юрию, польский король недвусмысленно предлагал:
«Готовы для тебя, брата нашего, сами на коня сесть со всеми людьми нашими, хотим стараться о твоем деле, все равно как и о своем собственном».
Но и здесь Сигизмунд обманулся в расчетах. Князь Юрий, почуяв беду для отечества, открыл брату Сигизмундовы подговоры. А еще до того, как в Москву приехали литовские послы, великий князь Василий пригласил послов из Казани и договорился о мире.
Дела Москвы требовали передышки. Недавний поход на Казань был неудачным. Крымский Менгли-Гирей мог каждый час изменить слову и соединиться со своим пасынком Магмет-Аминем, казанским царем, и Литвой против Москвы.
Литовским послам Василий ответил:
– Мы городов, земель и вод Жигмонтовых под собой не держим, а держим свою отчину и от прародителей наших. Вся русская земля – наша отчина. Коли мира хотите и доброго согласия, наши земли под собой не держите!
Он не торопился с войной. Мир пока еще был нужнее и выгоднее молодому государю. Однако дать понять Сигизмунду, что Москва не боится его, дать почувствовать русскую силу и заставить пойти на уступки при переговорах было необходимо.
Василий отправил к Глинскому своего посла, боярского сына Митьку Губу, наказав через него ждать помощи, сообщал, что «вскорости направляет к Литве двух воевод, а пока – в глубь Королевства Польского не ходить, а добывать города ближние и крови большой не разливать».
С тем же Губой Василий отправил письмо сестре своей, вдове покойного Александра Литовского.
«Ты пишешь, – говорилось в письме этом, – что прислал к нам бить челом князь Михайло Глинский, да не один он бьет к нам челом, а многие люди русские, которые греческого закона держатся. Сказывают, что теперь беда на них пришла большая за греческий закон, принуждают их приступать к римскому закону, и они били челом, чтобы мы пожаловали их, за них стали и обороняли их».
Приезд московского посла обрадовал Глинского. Час его возмездия наступил. Едва дождавшись того дня, когда к литовской границе подошли русские полки, он поднял туровский лагерь, оправдывая старую латинскую поговорку: «Кинжал длинен, а терпение коротко». Отобрав семьсот лучших конников, Глинский двинулся в глубь Литовского княжества. В Турове остался Андрей Дрожжин с обозами, пешим войском и небольшим количеством оснащенных для ратного дела стругов.
Переправившись через Неман, Глинский уже подходил к Гродно, когда ночью ему сообщили, что невдалеке от города, в небольшом неукрепленном имении, празднует день своего ангела злейший враг его Ян Забржзинский.
Вместо того чтобы, напав неожиданно на Гродно, захватить крепость, овладеть городом и укрепиться в нем, как предполагалось вначале, Глинский повернул конников и той же ночью окружил имение Забржзинского.
Схватка была короткой и жестокой. Жолнеры, охранявшие пана Яна, не успев выхватить сабли, были зарублены. Пользуясь темнотой, разбежались слуги и некоторые еще не захмелевшие гости. Сам пан Ян, запершись в верхних покоях вместе с несколькими шляхтичами, отстреливался, защищая согнанных в спальню визжащих паненок.
Дом обкладывали соломой, собираясь поджечь его. Возбужденный боем и легкой победой, Алоиз Шлейнц подскочил к Глинскому.
– Мы казним пана Яна по латинским законам, – смеясь, крикнул Шлейнц. – Он сгорит на костре со всеми своими грехами. Аутодафе!
Глинский схватил Шлейнца за руку:
– Подождите с огнем! Я хотел бы посмотреть в глаза пану Яну. Видит ли он теперь Сигизмундову силу?
– Гут, майн герр! – захохотал Шлейнц и, кликнув богатыря-татарина, вооруженного большим немецким мечом, бросился к дому.
Забржзинский, видя, что им не вырваться из дома и что их могут сжечь живьем, велел выставить в окно на пике белую простыню. Он приготовился к сдаче, надеясь договориться с Глинским, и сам распахнул дверь перед вбежавшим немцем.
Не слушая слов о милосердии к побежденному, Шлейнц, остановившись на пороге, выстрелил из пистолета. Забржзинский упал на колени. Бывшие в комнате шляхтичи побросали оружие и подняли руки. По знаку Шлейнца татарин взмахнул мечом, и голова пана Яна покатилась по ковру, брызгая кровью и часто моргая веками.
Схватив пику, на которой была выставлена в окно белая простыня, Шлейнц проткнул голову Забржзинского и поднес ее вошедшему Глинскому.
– Вот его глаза, майн герр, – сказал немец, – они еще видят тебя!
Даже мертвые глаза пана Яна были злы и ненавистны князю Михайле.
Зарево пылавшего пожара освещало конников на пути к Гродно.
Впереди всех ехал татарин с большим мечом. Он нес на пике мертвую голову врага и окровавленную белую простыню как символ мести, как знамя непримиримой вражды.
В Гродно звонили в набат. На городских стенах толпились люди. Город приготовился к осаде. Нападение на имение Забржзинского лишило Глинского возможности неожиданно захватить гродненскую крепость. Это был первый просчет опытного военачальника.
Глава IX
После бегства киевского воеводы к своему брату Михайле Глинскому власть в городе Киеве перешла в руки людей князя Константина Острожского, богатого магната и гетмана Литовского княжества.
Сигизмунд, не объявляя «всеобщего рушения», спешно собирал полки против «мужицкого князя» Глинского. По его приказу гетман Острожский повел войска на Припять и Днепр, преграждая дорогу казакам, волновавшим днепровский «низ» и пытавшимся присоединиться к восставшим. Коронные войска стремились расчленить отряды Глинского.
Небывалый зной, державшийся все лето, изнурял солдат. Не были подготовлены запасы продовольствия, не было единого плана военных действий. Среди польских жолнеров вспыхивали недовольства, нередко выливавшиеся в злобную и бессмысленную месть всему, что было связано, как им казалось, с причиной тягостного похода.
Это настроение находило отзвуки и в городе Киеве. Не только попытаться покинуть город, но просто не вовремя показаться на улицах Киева для многих русских было опасно.
Георгий жил в Киеве в Печерском монастыре. Это был тяжелый год его жизни.
Достигнув, казалось, цели, к которой он стремился, Георгий не почувствовал удовлетворения. Знакомство с прославленной Печерской лаврой разочаровало его. Стремясь в Киев, молодой ученый надеялся там обрести новые знания, обогатить себя встречами с мудрыми наставниками, найти то, чего не мог он узнать в схоластическом университете… Здесь же все оказалось иным, чем ожидал Георгий.
Отгородившись высокими стенами и аскетическими правилами от всего мирского, монахи Печерского монастыря не гнушались, однако, подношений горожан. Осторожное поведение монастырских владык ограждало жителей пещер от вмешательства светских властей. Потому при первых признаках смуты сюда спешил тот, кто не успел вовремя покинуть город, спасаясь от польской шляхты.
В дни волнений, поднятых в Полесье, Печерский, как и другие монастыри, приютил многих русских жителей Киева.
В монастыре было тесно. Мирян разместили в кельях иноков. Георгий жил в келье, такой же узкой и темной, как первая келья-пещера, выкопанная на берегу Днепра основателем монастыря Илларионом. Земляные стены, потолок, закопченный масляным светильником, жесткие лежанки из досок, едва прикрытые сухой травой и крестьянским рядном, грубо сколоченный стол, лампадка над ним, несколько икон, украшенных сухими цветами-бессмертниками, – таково было это жилище. Дневной свет едва проникал сюда через открытую дверь и небольшое запыленное оконце над ней.
Жизнерадостный и веселый юноша, жадный до всего нового, Георгий первые дни с интересом наблюдал жизнь монастыря. Его сосед по келье, монах Иона, охотно знакомил его с монастырским укладом.
Скоро Георгий узнал образ жизни и поведение печерских отцов.
Никто не заботился здесь о просвещении простого народа, облегчении его участи. Была в монастыре школа, но обучались в ней лишь нуждающиеся в грамоте монахи Печерского и соседних – Выдубицкого и Межгорского монастырей да несколько молодых попов из киевских церквей. Учили же здесь только тому, что необходимо было для отправления церковной службы.
Понадобилось немалое время, прежде чем эта школа Печерского монастыря, пережив лихолетья униатских реформ и разорений, отвоеванная в жестокой борьбе и возглавленная одним из образованнейших людей того времени – Петром Могилой, превратилась в «коллегиум» – академию, воспитавшую достойных памяти писателей и борцов за просвещение посполитого люда.
Иначе выглядела знаменитая Киево-Печерская лавра во времена Скорины.
Тесно и душно было Георгию в земляной келье. Днем и вечером слушая поучения Ионы, считавшего себя временным наставником молодого смышленого мирянина, Георгия поразили выработанные монастырским уставом понятия о нравственности человека, постоянное напоминание о ничтожестве земной жизни и необходимости скорби.
– Помни, ты хуже всех, человек, – поучал его брат Иона, – должен ты Христа ради смириться!
Георгий пробовал возражать.
– Я встречал немало людей, – с улыбкой отвечал он, – кои хуже меня… Я не вор, не лжец…
– Не смейся над словами моими, – прерывал его монах, – смеяться вообще грех, ибо смех не созидает, но погубляет. – И, воздев очи горе, Иона молил бога: – Отыми, господи, от меня смех и даруй плач и рыдания, его же присно ищеши от меня.
Но не только скорбь была обязательна в жизни монастыря. Покорность настоящему, отсутствие суждений и мыслей о жизни общества считалось достоинством.
– Зачем тебе рассуждать и умствовать? – сердито говорил юноше Иона. – Будь покорен духовным вождям своим великим и малым, но стоящим выше тебя, и ты спасешься!
Для примера Иона дал Георгию одну из имевшихся в монастырской библиотеке повестей, в которой рассказывалось об умершем и чудесно воскресшем монахе. Когда монастырская братия с законным любопытством спросила этого монаха, как следует содержать себя в загробной жизни, воскресший ничего другого не ответил, как только то, что и там следует быть покорным игумену.
Добившись от настоятеля монастыря разрешения ознакомиться с рукописными списками сочинений, хранившихся в круглой каменной башне, Георгий понял, что слава Печерской лавры, долетавшая к нему в Полоцк и Краков, была отблеском давно минувшего.
Здесь, в библиотеке, Георгий увидел, как высоко развита была грамотность в Киевской Руси и сколь пагубно отразился на ней распад великого государства. Подобно прекрасным творениям зодчества, еще сохранившим свои величественные очертания, – Золотым воротам, храму Софии и многим другим сооружениям, поруганным иноземцами, но таившим под обломками следы высокого творчества, в башне монастыря тлели ненужные трусливым монахам поэтические творения старых писателей и мыслителей.
Теперь Георгий большую часть дня проводил в круглой башне.
– «Взору его открылись мучения грешников. В огненну реку погружены проклинавшие мать и отца и те, что ложно клялись…» – негромко читал Георгий, низко склонившись над пергаментом.
Бледнолицый послушник со впалыми, окруженными синевой глазами слушал его.
– «В смоляном клокочущем озере кипят клеветавшие на ближних своих…»
Георгий поднял голову и улыбнулся.
– Так, именно так, – проговорил он и, закрыв глаза, продолжал: – «А то вижу я людей, что сырую землю жрут, давятся, кровь изо рта течет. То те, кто чужую землю забирали. По заслугам и плата…»
– Мати божья, помилуй нас! – испуганно перекрестился послушник.
Георгий оглянулся.
– Что, брат Грицько, страшно?
– Страшно! – дрожащим голосом ответил отрок. – А ты чего радуешься?
Георгий встал и, притянув к себе мальчика, ласково объяснил:
– Читал я это и раньше, давно… на своей родине. И не только читал, а еще слыхал, как старец слепой да хлопец малый на ярмарке пели…
– Про богородицу? – осмелев, спросил Грицько.
– Нет, только похоже очень. Понимаешь, слова эти о «хождении богородицы по мукам» более как двести лет тому написаны, а я такие же от неграмотного нашего певца слыхал.
– Так то же не про богородицу… – робко заметил Грицько.
– Про муки, про те самые муки, что народ наш бедный по темноте своей принять винен. – Георгий взял в руки листы. – И еще про то же читал у итальянского автора Данте Алигьери, в терцинах своих жизнь в аду описал… Похоже, и его народ в таких же муках был, как и наш… Изложить бы теперь про то, что на земле деется простыми словами, как Андронова песня… – задумчиво проговорил Георгий.
– Святые отцы в книгах про тот, а не про этот свет пишут! – сердито, с укором сказал мальчик.
– Так, хлопчик, – согласился Георгий, – святые отцы про тот, а нам, смертным, про этот надобно говорить. Пошто людям и там и здесь мучиться?
– Бог милостив, – привычно вздохнул послушник.
– Милостив, да ненадолго, – улыбнулся Георгий и, подняв листы, показал: – Вот, гляди!
Георгий прочитал в конце апокрифа:
– «По делам их буде тако!» – это богородица говорит, а господь облегчение дал: за многие слезы грешникам от великого четверга до дня всех святых. Посчитай-ка, надолго ли?
Мальчик отшатнулся от него и, схватившись за ручку двери, словно боясь, что Георгий не выпустит его из книгохранилища, задыхаясь, крикнул:
– Ты… ты… над господом насмехаешься! Меня искушаешь! Ты грамоте обещал учить, а сам…
– Постой, Грицько! – пытался остановить его Георгий.
Но мальчик хлопнул дверью, и только слышно было, как торопливо застучали по крутой лестнице его кованые сапоги.
«Теперь, поди, побежит исповедоваться, – с досадой подумал Георгий, – наговорит невесть что, а игумен рассердится и запретит пользоваться библиотекой…»
И зачем было высказывать свои мысли? Не первый раз ругал себя Георгий за неосторожную откровенность. На всякий случай он решил сходить за свечой и, оставшись в башне на всю ночь, прочитать как можно больше.
Направляясь к ближним пещерам, возле деревянного забора Георгий наткнулся на сидящего на земле Грицька.
– Послушай, хлопец… – хотел объяснить ему Георгий, но Грицько предостерегающе поднял руку.
– Дай мне крест, – прошептал мальчик, – что боле не будешь… так и я промолчу… бо дуже я грамотой заохоченный.
Георгий повеселел. Значит, не так уж сильна суровая монастырская святость, если смог Грицько решиться на мировую с ним, грешником. Да и ни над кем не насмехался Георгий. Это сам неизвестный автор, стремясь приблизить сочинение к простому народу, наделил своих божественных героев реальными чертами, взятыми из обихода или устных сказаний и песен. Оттого и наполнилось это произведение душевной простотой и лиричностью, выделившими его среди других «житий» и «сказаний».
За лето Георгий ознакомился со многими списками «слов», апокрифов и «повестей».
Теперь Георгий не жалел о том, что обстоятельства задержали его в Печерском монастыре. Поднимаясь на темные этажи «книжной башни», видя перед собой полки с пожелтевшими рукописными книгами и пыльными свитками пергаментов, просиживая над ними, пока не догорала свеча, он словно посещал давно забытый, но дорогой сердцу мир. Грудь его наполнялась желанием видеть близких людей, мчаться, бежать туда, где подхватят его радость, поймут его мысли и с любовью услышат родное, правдивое слово.
Напряженные дни, проведенные им в полутемной башне, жизнь в мрачной пещерной келье и скудная пища согнали румянец с его щек. Георгий стал походить на бледного и покорного инока. Он ослабел настолько, что, когда с Днепра подул первый осенний ветер, затрясся в ознобе и, мучимый злой полесской «теткой-лихорадкой», уже не поднимался со своего ложа. Борясь с болезнью, в редкие часы облегчения он перечитывал при свете лампады свои записи и делал новые.
«Как прекрасны и как богаты были сочинения ученых людей на Руси, – думал Георгий, – сколь велика была их любовь к своей земле, ее чести и судьбе народа! Как часто восставали они против корыстных князей, разрывавших единое тело русской земли „несытства ради, богатства и насилия ради“».
То было в древности. А что происходит сейчас? Разве не к сегодняшним людям относятся старательно переписанные им слова?
«Мужи смысленные, почто мы распря имати межи собою? А погани губять землю Русскую, иже беша стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрьством!»
Глава X
После знойного, засушливого лета и короткой осени небывало рано наступила в Полесье зима. Остановились заледеневшие реки. Белыми овчинами укрылись одинокие хаты прибрежных селений, сровнялись под снегом поля и мшистые болота, окостенели дороги.
Не слышно больше ни выстрелов, ни ржания коней, ни военной трубы. Все успокоилось, затихло, казалось, люди надолго покинули этот край.
Старый рыбак вышел из своей скрытой в лесу хаты и подошел к реке. Свирепеет мороз. Холодно старику, да все же надо пробить лед и через лунки запустить хоть малую сеть.
Неспокойно было это лето на Припяти, и хозяйство старика пришло в полный упадок. Разорили его военные люди. Много шаталось их тут – и своих, и чужих. Тот овцу возьмет, тот куренка. Весь огород вытоптали. Последнюю долбленку-душегубку и ту у бедного рыбака угнали. А осенью, в самое рыбное время, пришлось в лесу прятаться. По всей реке королевские жолнеры топили русских людей. Тех, кто стоял за князя Михайла, да не успел с ним уйти. Кое-кому удалось в леса убежать. Вот и у него на хуторе скрывается один. Да только ли у него? Поди, в каждой хате, в каждом лесном шалаше прячется кто-нибудь. Князь-то в Москву ушел, а они вот бедуют тут, как звери лесные.
Ждут, говорят, вернется еще. Может, и вернется. Кто их княжеские дела разберет? Пока тихо на Припяти. Старик вздохнул и только было ступил на лед, как с противоположного берега послышались голоса, конский топот. Старик стал за дерево.
Из-за бугра к реке выехала группа всадников на заиндевевших конях, укрытых цветными попонами. Дорогая сбруя поблескивала на морозе.
Впереди, видно, был самый главный. Белая кобыла играла под ним. Ярко выделялся на снегу темно-вишневый плащ, колыхалось белое перо на круглой шапке. Следом закованный в железо рыцарь вез белое с золотом знамя.
Всадники остановились на берегу. Как раз против старика.
«А вдруг через лед пойдут?»
Прячась за деревьями, старик побежал. Надо предупредить хлопца.
– Язэп, чуешь, Язэп! – шептал старик, увидев хлопца, притаившегося за стоящим у берега стожком сена. – Паны приехали. Важные, с белой хоругвей…
– Сам король, – объяснил Язэп испуганному старику, – Сигизмунд.
Глаза Язэпа горели жарким огнем. Пальцы крепко сжимали рукоятку кинжала.
– Ишь любуется, – шипел хлопец, – погоди, даст бог, еще повстречаемся…
Старик испуганно держал Язэпа за рукав.
– Борони бог, увидят паны.
Но король не видел ни Язэпа, ни старика. Перед ним расстилалась немая, застывшая Припять. Он был в прекрасном расположении духа.
Обидчивая шляхта, получив долгожданные новые привилегии, видит в нем умного повелителя. Литовские магнаты с ним заодно. Хорошо, что он вовремя отстранил от двора всем ненавистного Глинского, а теперь и вовсе выгнал его с братьями за пределы великого княжества. Пусть целуется с московским Василием. Недолог час, и туда достанет польская сабля.
Слаб еще молодой московский государь против него, короля Польши и великого князя Литовского. Обещание русских помочь изменнику Глинскому оказалось не крепче слова неверной паненки. Да и на что мог рассчитывать Глинский? У Василия самого горела земля под ногами. Нет, недаром Сигизмунд слал дорогие подарки Менгли-Гирею. Вовремя крымский хан потревожил Москву, и Василий вынужден был отозвать свои полки от литовской границы, а за ними, не взяв Гродно, ушел в Новгород Глинский. Правда, он увел с собой много людей и имущества, но то были люди, негодные для королевства, неспокойные хлопы. Тем лучше будет теперь.
– Вот и Туров… Надо бы стереть до дорожной пыли это гнездо презренной измены, – нахмурился Сигизмунд.
Он застал город пустынным и грязным, как базарная площадь после ярмарки. Повстанцы покинули его, уведя обозы и пушечный наряд. Разбежались шайки разбойных хлопов, а те, кого успели схватить, лежат на дне холодной реки. Так будет всегда!
Никто не смеет тревожить Литву и коронные земли. Зима – плохое время для ратного дела, но придет лето, и он сам поднимет славное рыцарство в поход на Москву!
Сигизмунд оглянулся. В нескольких шагах от него стояла нарядная группа придворных. Разноцветные перья колыхались на шлемах военачальников. В ровных квадратах стыли немецкие рейтары – королевская охрана. Все почтительно молчали. Сигизмунд почувствовал, что сейчас он должен сказать какое-то историческое слово, что стоящие на берегу дикой реки ждут от него этого слова, чтобы потом на сеймах и балах повторять его и гордиться тем, что они собственными ушами слыхали, как он, Сигизмунд, говорил.
Заученно величественным движением руки он сбросил подбитый соболем плащ и, сверкнув боевыми доспехами, легко соскочил с седла. Шагнул на лед. Придворные, быстро спешившись, заторопились к нему.
– Опасно, ваше величество, здесь лед бывает тонок.
Сигизмунд улыбнулся.
– Теперь он уже крепок, друзья мои! – И, повернувшись к свите, сказал громко, так, чтобы слышали и рейтары: – Как этот лед сковал реку и заставил ее покорно течь там, где указано господом богом, так сковали мы буйство хлопов неверных. Отныне покорна будет вся земля наша!
– О-о-о! – восхищенно отозвались придворные.
– Эх, – вздохнул за стогом Язэп, – коли голова не отсохнет, так вырастет борода…
Сигизмунд взмахнул белой перчаткой:
– Виват!
– Виват! – прокричали рейтары.
Сигизмунд стукнул по льду высоким точеным каблучком. Зазвенела серебряная шпора. Улыбаясь, довольный собой, король прислушался и стукнул еще раз. Еще раз зазвенела серебряная шпора.
Король слышал только звон своей шпоры, а чуткое ухо старого полесского рыбака слышало другое. Другое слышал и своим сердцем Язэп.
В глубине недр свершался вечный процесс обновления. Под ледяным покровом глухо роптала на перекатах Ясельда, вливаясь теплой струей в воды Пины. Обходя подземные скалы, пробиваясь сквозь наносы липкого ила и корни погибших деревьев, спешили навстречу друг другу Лань и Горынь, Птичь и Словечно. Гонимые вешними ветрами, десятки маленьких рек сбегались со всех сторон для того, чтоб раствориться, исчезнуть, потерять свое имя, но укрепить силу старшей сестры. Припять поглощала их, наполняясь и медленно приподымаясь с песчаного ложа, пробуя – не пора ли? Тогда слышны были тихий стон льда и тяжкие вздохи воды.
Шли дни. Поднималось солнце, посылая на помощь реке свои золотые мечи. Таял снег, расступаясь под узором ручьев. Обрывались и, зазвенев, падали с крыш ледяные сосцы зимы-мачехи.
И однажды, решившись, ударила Припять в ненавистный ей лед. Всей силой стрежи! Вздрогнули на берегах реки сосны, уронив на землю белые рукавицы с мохнатых лап. Эхо пробежало меж деревьев, оповещая о том, что началось…
Заскрежетали, зашипели ледяные обломки. Сбиваясь в груды, они кружились на месте, упирались в отмели и выступы, пытались сдержать кипящие струи, словно можно было остановить то, что уже почуяло солнце и волю. Освобождалась река! Поднимаясь все выше и выше, гоня прочь разорванный лед, она наполнялась до берегов и, не вместившись в них, хлынула на поля и в леса, подступила к селениям.
От холмов и курганов по оврагам весело бежали к ней, сверкая на солнце, ручьи талого снега. Припять увлекала их с собой в дальний путь. Встречный ветер мутил ее огромное зеркало, с шумом рушились подмытые глыбы земли, падали береговые дубы, словно пытаясь загородить путь реке, но Припять разбрасывала тяжелые стволы, продолжала идти и, повернув на юго-восток, соединялась с Днепром.
На Днепре весна была в полной силе.
Синее небо колыхалось на широких волнах его, шумела молодая листва на его берегах, и первые журавли уже протрубили ему высокую славу.
Дни и ночи уносил старый Днепро в далекое море то, что присылали ему полесские реки. То щепу разбитого струга, то пробитый пулями стяг, то алую кровь храброго воина. До кипящей пены днепровских порогов весенний ветер пригонял запах порохового дыма и пожаров.
А навстречу ветру, от речных островов, от Канева, от Триполья скользили легкие чайки. По неведомым протокам, среди камыша и деревьев, пробирались к Припяти вольные казаки Днепровского низа. Происходило то, чего не ожидал Сигизмунд.
Стояла весна 1508 года.
Обманчивое затишье зимы взорвалось событием, какого еще не видали, пожалуй, с тех пор, как литовские князья захватили земли Древней Руси. Как наполненная весенней силой река не могла вместиться в старые берега, так накопившийся гнев, вспыхивавший ранее небольшими восстаниями, захлестнул многие села и города, разлившись по земле Литвы и Польского королевства.
Теперь уже независимо от того, дождался бы или не дождался Сигизмунд помощи от магистра Ливонии и перекопского хана Менгли-Гирея, успели или не успели бы литовские послы обмануть московского государя, а королевскому войску пришлось оседлать коней. Шляхетские дворы пылали один за другим вдоль всей Припяти – и на Соже, и в верховьях Днепра.
Припять вновь огласилась грохотом пушек, звуками труб, литавр, криками военной команды.
Счастливый Язэп, стоя на носу нового струга, приближался к пылавшему Мозырю. Теперь это был не бедный детина с вечным страхом беглого хлопа, а старшой на военном судне, храбрый сотник полесского войска. И струг его вез не бондарные клепки да ободья, а воинов князя Глинского, вооруженных добрыми саблями и пищалями. У ног Язэпа стояла небольшая пушка-гаковница, лежали сложенные пирамидой ядра.
За стругом шли долбленые чайки-душегубки, на них – бывалые плотогоны-полешуки. Знатная голытьба! Не меньше чем сотня пищалей.
– Гей, дядька Панас! – крикнул Язэп своему кормчему, старому рыбаку, у которого он скрывался прошедшую зиму. – Бери круче к берегу, видать, нас уже ждут!
К сожженной пристани с горы, укутанной дымом пожаров, шли люди с топорами, рогатинами, вилами и церковными хоругвями. Впереди размашисто шагал седой поп, высоко подняв крест.
На чайках приготовились к бою, но Язэп остановил их. Приложив руки ко рту, он крикнул:
– Туров наш, и люди кругом за нас, князь Михайло за вами прислал! С кем вы будете?
– С вами, браты! С князем Михайлом! – дружно закричали с берега.
– А где ваши паны? – еще не доверяя, спросил Язэп.
– Вот он, староста, а боле нема! Побиты паны! – ответили из толпы и подтолкнули к самой воде связанного, с петлей на шее, толстобрюхого, с обвисшими усами человека.
Язэп держался строго и солидно, как и полагается настоящему предводителю войска. Сойдя на берег, он сначала подошел к попу под благословение, потом поклонился мозырянам, подал команду своим и уж только после этого с сияющим лицом обратился к дядьке Панасу:
– Ну, старик, говорил я тебе, что будешь закидывать свои сети до самого Мозыря!
– Говорил, говорил! – подтвердил старый рыбак, не перестававший удивляться перемене, происшедшей с тихим и набожным хлопцем, прожившим у него всю зиму. – Все сбывается, все по-твоему получилось…
– Эх, – улыбаясь, вздохнул Язэп, – нема моих побратимов – Андрейки да Георгия Лукича. Вот бы погуляли с победы.
* * * Далеко были его побратимы. Андрей – неизвестно где, а Георгий стоял на высоком берегу Днепра, прислонившись к каменной ограде Печерского монастыря. Он смотрел на речную даль, и никогда еще так тревожно не билось его сердце, как теперь.
На похудевшем, прозрачно-бледном лице то совсем потухали, то загорались лихорадочным светом глаза. Грудь жадно пила весенний воздух, губы тихо шептали что-то. Всю зиму Георгий боролся с жестокой болезнью, то выбираясь из тьмы мрачных видений к слабому свету тусклой монашеской кельи, то снова впадая в забытье. Раздвигались земляные стены пещеры, и с безбрежной дали разлива белой чайкой приплывала к берегу лодка. В лодке стоял Язэп и, смеясь, звал его.
«Заждался небось, побратим. Гляди, кого я привез тебе!»
Со скамьи поднималась одетая в черное, как монашка, Маргарита и, обливаясь слезами, протягивала к нему тонкие руки.
«Иди… ну, иди же, Франтишек! Мой Юрий… Ведь я поклялась… мужем моим будет только тот, кто носит это дорогое мне имя… Юрий».
Монах Иона еле мог удержать его, силой укладывая на жесткое ложе. Трижды в день он молился за Георгия, сначала прося у бога исцеления, а затем, потеряв надежды, прощения грехов. Вызванный игуменом из города врач определил сильный прилив крови к печени и не высказал надежды на выздоровление. Георгия окропили святой водой, причастили… И все же он вернулся к жизни. С помощью Ионы или послушника Грицько Георгий стал совершать небольшие прогулки.
Келья стала ненавистна юноше. Преодолевая слабость, он старался как можно дольше оставаться на тихом монастырском дворе или проводить одинокие часы возле каменной стены, отгородившей монастырь от Днепра. Выходить за ворота монастыря было теперь строго запрещено.
Георгия манила голубая даль половодья. Думы все чаще и чаще обращались то к дому, то к Припяти, к Турову. Днепр катил мимо мутные волны и редко когда приносил монастырским затворникам вести о событиях на Белой Руси.
Оттого и щемило сердце тоской, что доходили сюда только отблески взрывов, сверкавших вдалеке. Он не знал, найдет ли силы уйти отсюда, но хорошо знал, что оставаться здесь больше сил не было. Бежать, хоть на лодке, хоть вплавь, пешком по берегу, но бежать к ним… туда, на Припять!
– А ты крест целовал, что не побежишь! – услышал он чей-то голос.
Георгий вздрогнул и оглянулся. У ног его, под самой стеной, сидел Грицько.
– Слышал, – объяснил послушник, последнее время очень привязавшийся к Георгию, – как ты тихонько сам с собою говорил.
– Грицько, – Георгий присел с ним рядом, – не говори никому. Это у меня от хвори моей, от горячки… понимаешь?
Грицько утвердительно кивнул головой.
– Понимаю, – зашептал мальчик, – я и сам як в горячке… Побег бы до низу, до казаков… дали бы мне шаблюку добру, от я бы показал тем шляхтам…
– Ты ж монахом будешь, Грицько?
– Ну так что ж? За веру Христову, як те лыцари наши!..
– Ты храбрый, Грицько, – улыбнулся Георгий, – придет еще и твое время, а сейчас… помоги мне, браток!
– Як бог не поможет, что я зроблю? – тихо ответил мальчик.
Георгий осмотрелся. Вокруг никого не было видно.
– Достань мне, Грицько, одежду переодеться послушником.
Грицько посмотрел на Георгия, прикидывая, как будет выглядеть этот рослый человек в платье послушника. Мальчик чуть не рассмеялся, но быстро зажал рот рукой.
– Послушника за ворота не пустят, – таинственно зашептал он, – надо иноком, а то чернецом…
Возвращаясь к себе в келью, проходя мимо игуменской калитки, Георгий увидел, как игумен провожал какого-то не по-здешнему одетого гостя. Гость показался Георгию как будто знакомым, но калитка закрылась за ним, и Георгий не смог вспомнить, где он встречал этого человека.
Игумен поздравил Георгия с выздоровлением и позвал к себе на вечёру.
– Простите грешное мое любопытство, – осторожно сказал Георгий, когда вечера уже подходила к концу, – гость, которого вы сейчас проводили, будто б знаком мне.
– Вряд ли, сын мой. Вряд ли… – несколько насторожившись, ответил игумен. – Многих господь сотворил по подобию. Человек он не здешний и не из ваших краев.
– Откуда он?..
– Из Чехии, заезжий купец. Имени тебе его не открою, а кое-что сообщу. Только запомни, сие не для глагольства пустого, а для размышления.
Пребывая, как всегда после ужина, в миротворном состоянии духа, игумен рассказал, что купец этот чешский направлялся в Киев, да не доехал. Побоялся везти обоз в город. Остановился далеко на Днепре и по старому знакомству пришел в монастырь расспросить, своими новостями поделиться.
– Жалуется. Торговать, говорит, в нашей земле стало трудно.
Был под Минском, там неспокойно. Глинский у Борисова, московский Василий воеводу Шемячича ему в помощь прислал. Король им навстречу выступил. От дыма да пыли днем солнца не видно.
– Господи, – перекрестил игумен плаксивое лицо, – пошто не смиришь гордыню людскую? За грехи наши невинные муки имут… Кровь, аки воду речную, на земь выплескивают.
Глава XI
День, когда русские полки соединились с повстанцами, был наполнен всеобщим ликованием. Трудно было сдержать порывы буйной радости недавних подневольных хлопов, увидевших ратников московского государя. Молчаливые и суровые полешуки разрушили парадный строй. Не слыша окриков своих командиров, они бросились на ряды авангарда, сжимали стрельцов в медвежьих объятиях, кололи друг друга щетинистыми усами, кричали, плакали и плясали. Князя Василия Ивановича Шемячича, старого грозного воеводу, одним взглядом повергавшего в трепет своих воинов, ссадили с коня и на руках поднесли к князю Глинскому. Окруженные боевыми хоругвями, под радостный звон колоколов и восторженные крики народа Шемячич и Глинский трижды обнялись и по-братски облобызались. С треском вылетели днища у бочек с медом и крепким пивом. Задымили костры, наполняя весенний воздух запахом жареной баранины, лука и медового варева. До ночи не умолкали сурмы, волынки и хоровые воинственные песни. Слово «брат» слышалось в каждом углу военного лагеря. Воины обменивались железными и деревянными нательными крестами, клялись на веки веков не щадить живота за брата, за единую веру, за русскую землю. Теперь и смерть не разлучит их! Слепцы-лирники сложили новые песни. Про братьев московитян, про храбрых новогородцев, про больших воевод, что пришли освобождать землю Белой Руси.
А у поли, у поли
Зашумело жито,
Уродила земля,
Крывею полита.
А на той на земельце
Браты повстречались,
Браты повстречались,
хрестами менялись,
Хрестами менялись,
за шабли узялись
– пели старцы в селах, при дороге, встречая и провожая ратников. Певцы шли вслед за своими земляками. На привалах собирали вокруг себя усталых, изнуренных жарой, не привыкших к походам молодых воинов и седоусых московских стрельцов. Простыми словами прославляли их путь. Пели о том, чего уже не видели их потухшие очи, но что слышали уши и чуяло доброе крестьянское сердце.
Ах, и дым по дороге,
Ах, и пыль по широкой,
Князь Михаила иде, на войну нас веде!
Все люди дивуются, как Михайле воюется.
А нечего дивовать, не один он идет воевать!
С ним боярин Василий и московская сила!
Слушали воины, и сердца их наполнялись радостью долгожданного братства, верой в победу, в скорую волю. Молодые гордились тем, что идут бок о бок с войском московского государя, с завистью поглядывали на их пеструю, красивую одежду, на стрелецкое оружие. Старики жадно выспрашивали у стрельцов о жизни на московской земле. Рассказывали о своей. Шли по кривому Борисовскому шляху, по дороге на Минск, на Вильну. В мареве знойной коричневой пыли колыхались островерхие шапки стрельцов, поблескивали стволы ружей, пики. Плыли расшитые золотыми нитками боевые хоругви. Тянулись обозы. Скрипели низкие, тяжелые телеги пушечных нарядов. Раскачиваясь на ременных рессорах, грузно ныряли по ухабам воеводские кареты. Обочь, вспахивая копытами молодое жито, топча узкие полоски посевов, обгоняла обозы конница. Пожилые ратники глядели, как чернело поле там, где проходило войско. Молча вздыхали, хмурились, ни с кем не делясь своими мыслями. Лишь иногда скажет кто-либо:
Пахали – сеяли, на бога надеяли,
А жать – придется подождать.
И остальные еще больше нахмурятся. Шли… Вечерами небо освещалось заревами далеких пожаров, доносились глухие отзвуки коротких боев. Это разосланные вооруженные загоны охотников и крестьяне, проведавшие о движении русских полков, расчищали путь. Под самым Борисовом, не доходя до переправы через реку Березину, к воеводской карете подскакал конный дозор. Обнажив голову, перегнувшись с седла, сообщил что-то в затянутое кисеей окно. Грузный седобородый воевода Шемячич распахнул дверцу кареты и с неожиданной для его возраста легкостью выпрыгнул на дорогу. Стремянные подвели красивого, гнедого с лысинкой коня. Заиграла труба. Послышалась громкая и торопливая команда сотников. В рядах зашумели. Головной полк остановился, готовясь к бою. Окруженный телохранителями, вперед проскакал Шемячич. Еще издали он увидел, как с противоположного берега к реке спускалась беспорядочная серая масса людей. Их было несколько сот человек. Вооруженные пиками, крестьянскими косами и вилами, изредка и пищалями, они шумно входили в воду и, подняв над головой свое оружие, шли вброд. Иные, оттесненные товарищами, сбивались с брода, проваливались в ямы. Плыли, размашисто рассекая воду, поднимая каскады брызг. Далеко за ними, закрывая Борисов, к небу тянулись клубы черного дыма. Несколько рыбацких лодок, опередив пловцов, пристали к песчаной отмели возле группы стоящих всадников. Подъехав ближе, Шемячич узнал среди всадников князя Глинского. Рослый полуголый мужик с лохматой черной головой крепко обхватил одной рукой ногу Глинского, словно боясь, чтобы он не убежал, другой махал, зазывая. – Тута! Тута! – кричал мужик, чему-то радуясь и торопясь сообщить свою радость другим. – Все тута! Браты наши… Москва тут! Выбравшиеся из воды бежали на его голос. Возле Глинского быстро вырастала толпа. Спотыкаясь на неровном дне реки, падали, захлебывались водой, спешили отставшие. Стрельцы входили в воду навстречу им, помогая выйти на берег. На двух лодках вылавливали не умевших плавать, сбившихся с брода. Шемячич, отъехав к бугру, нависшему над рекой, молча смотрел, как мокрые, оборванные люди заполняли берег, обнимались с воинами, низко кланялись Глинскому, тянулись к его стременам и наперебой выкрикивали какие-то слова, тонувшие в общем шуме. Глинский, заметив Шемячича, тронул поводья. Толпа расступилась, освободив дорогу его коню, и сейчас же сомкнулась, двинувшись вслед. Полуголый мужик, все еще не выпуская ноги Глинского, шагал рядом. Князь что-то сказал ему, мужик засмеялся и отпустил руку. Пришпорив коня, Глинский на легком галопе взъехал на бугор. – Victoria!
– весело приветствовал он Шемячича. – Почитай, весь Борисовский повет нам навстречу поднялся… Шляхту, не дождавшись нас, сами разогнали. Бьют челом, в русское войско просятся! Вслед за Глинским двигалась толпа мокрых борисовских кметов. Теперь уже можно было разобрать отдельные выкрики. – Слава, князь! Защитникам нашим слава! – Челом боярину! – К тебе, батюшка! Все разом теперь! Почерневшие от солнца и копоти пожаров лица людей были радостно оживлены. Выкрикивая приветствия и кланяясь на ходу, они тянулись к глинистому обрыву, на вершине которого были воеводы. Шемячич хмуро приказал стоявшим позади телохранителям: – Черных на луг отвести… В сторону… Стрельцам быть в порядке. Несколько всадников перегородили дорогу толпе. Пешие стрельцы теснили людей, отжимая их влево, на широкий, пестревший ранними цветами луг. Слабо упираясь, толпа медленно отступала. Полуголый рослый и сильный мужик, позже других уступивший требованиям стрельцов, пятясь от бугра, кричал: – Не забудь же, князь! Слова своего не забудь! Меня Ригором, Ригором меня зовут… Семенов сын… – Но и его наконец оттеснили от воевод. Шемячич был недоволен. Воеводу беспокоили эти слишком частые встречи с бунтовавшими крестьянами на пути его войска. Немало провел он военных походов, но с такими войсками шел впервые. Старый боярин побаивался: не перешла бы зараза бунтарства и своевольства на его людей. Холоп, он и есть холоп. А стрелец – государев воин, и каждому от века свое положено. Сегодня они против своих панов топоры подняли, со стрельцами обнимаются, а завтра кого братами назовут? Мало ли на Руси воровского люда против бояр за пазухой камни держит? Лучше бы разделить войска. Он со своими, а Глинский со своими, с этой вот голытьбой. Многое в делах Глинского не нравилось воеводе. – Нынче гонец от герра Шлейнца был, – прервал размышления воеводы Глинский, – вся Копыльская волость под нами. Сказывал, трофеи богатые да пленных тьма. Воевода молчал. Воевать Копыльскую волость Глинский отправил своего немца с большим отрядом наемных конников, не посоветовавшись с Шемячичем. Дошел слух, что волость эту наемники совсем разорили, что люди там не от панов, а от «защитников», посланных Глинским, в леса убежали. Местная православная шляхта к нему, Шемячичу, челобитную прислала. Пока что воевода не говорил о том Глинскому. Его дела, его и победа, и суд. – А вот пану Дрожжину помочь надо, – продолжал Глинский. Шемячич скривил губы усмешкой. – Стало, не взял пан Андрей Слуцкого замка? Не по зубам орешек? Глинский с трудом потушил вспыхнувшую обиду. – Слуцкий замок укреплен изрядно… Я просил тебя, князь Василий, отдели хоть малый наряд. Сам знаешь, пушки мои непробойны. Замок же беспременно добыть надобно. – А я, князь Михайло, не спорю! – не торопясь ответил Шемячич. – Надобно, так добывай! Только как можно мне государев наряд разбивать? Упаси бог, ляхи наши пушки захватят, чем отбиваться станем? – И, помолчав, сурово заметил: – У Слуцка зря людишек тратишь. Отзови! Повеличь силы свои. Тебе к Минску идти, на Вильну. Крепкий кулак надо. Жигмонт, поди, тоже не спит. Кивнув в сторону луга, на котором расположились прибывшие борисовцы, он спросил: – Али на них надеешься? Глинский удивленно посмотрел на воеводу. – Разве на Минск не вместе идем? – Я здесь покамест останусь, – отведя глаза и легонько ударив коня шпорой, ответил Шемячич. – Повременю. Жду вестей от государя своего, великого князя Василия. Да и стрельцы притомились… – Вот оно что… – тихо промолвил Глинский. Шемячич медленно возвращался к своей карете. Глинский нагнал его. – Добро, князь. К Минску один схожу. Обещаешь ли поспешить, коли о нужде своей знать дам? – Обещаю, – едва скрыв радость, ответил Шемячич, довольный тем, что удастся без спора разделить войска. Глинский по-своему рассудил эту беседу. С самого начала его злила медлительность воеводы. То, что Шемячич ссылался на усталость стрельцов, было неправдой. Воины шли дружно, охотно. Соединившись с повстанцами, они рвались к победе. Воевода их сдерживал. Не ждет ли он мира между Василием и Сигизмундом? А что, если Василий послал в Литву свои полки лишь для того, чтобы Сигизмунд стал сговорчивей? И впрямь, видно, так… Чего доброго, не успеешь дойти до Вильны, как мир будет подписан. Тогда все труды Глинского горьким дымом развеются по Литве… Надобно торопиться. Сделать так, чтобы мир этот был пока невозможен. Чтобы никогда не простили паны магнаты князю московскому его поддержку Глинского… Не откладывая, Глинский послал гонцов к Дрожжину и Шлейнцу. Из примкнувших к нему беглых людей составил новые загоны, наказав разойтись по Литве как можно далее. Велел никому не давать покоя. Не щадить никого. Огнем и смертью пройти по литовской земле. Забыл только князь, что рядом с панскими хоромами стояли хаты бедных холопов, что огню не прикажешь, не остановишь… Среди отчаянной голытьбы охотников, ушедших в загоны, были такие, которым не жаль ни земли, ни посева, ни двора, ни скота, ни панского, ни мужицкого. Думал ли, нет об этом князь, только скоро он с удивлением стал замечать, что, приближаясь к какому-либо городку или селению, его отряды нередко находили хаты пустыми. Словно все вымерло. Не было больше шумных, радостных встреч, участились побеги крестьян, примкнувших к Глинскому еще в Турове. Некоторые, казалось раньше, надежные шляхтичи прямо отказывались помогать. Это злило Глинского и толкало его на действия, не всегда разумные в деле, уже принимавшем характер большой войны. * * * К концу месяца конники Шлейнца, выйдя на Виленскую дорогу, столкнулись с сильным заслоном польского войска и, не приняв боя, повернули на соединение с Глинским. Но помочь Глинскому они не могли. У Минска неожиданно выросли новые укрепления. Король Сигизмунд, спешно собрав шляхту и подняв коронное войско, успел перегородить все дороги. Литовский гетман князь Константин Острожский с двумя полками хорошо вооруженных рейтаров шел вдоль Днепра, не давая низовым днепровским казакам соединиться с восставшими. Дрожжин все еще топтался у Слуцка. Видя, что поддержка, оказываемая Глинскому вначале местными православными феодалами, постепенно уменьшается, боясь рисковать своими сравнительно небольшими силами, воевода Шемячич к Минску идти отказался. Снесшись с великим князем Василием, Шемячич увел стрельцов к Орше, где стал дожидаться отправленных ему на помощь русских воевод – князя Щеня из Новгорода и князя Григория Федоровича из Великих Лук. Глинский вынужден был отойти от Минска и спешить к Орше под защиту московских воевод.
Глава XII
Еще до того, как войска начали отходить к Орше, Язэп получил приказ собрать два десятка лодок и спуститься вниз по Припяти до Днепра, разрушать по дороге переправы, разбивать заслоны, расставленные князем Острожским. Плыть велено осторожно, не теряя из виду конных и пеших, шедших обочь, по суше, вдоль Припяти. Биться всем вместе. Язэп был рад этому поручению. Хорошо знакомая река и ватага храбрых, отобранных им молодых мозырян на легких дубках, да несколько бывалых, пришедших с низу казаков сулили удачу. Он не знал ни скрытых от него больших воеводских планов, ни сложных приемов ратного искусства, но хорошо понимал, что чем больше он уничтожит панов, тем будет лучше. Побывав в нескольких стычках с неприятелем и поступая так, как подсказывали ему чутье и врожденная сметливость, Язэп завоевал уважение не только среди молодых ратников, но и у старых полешуков-охотников. – Нашего Язэпа и пуля боится, и сабля об него щербится! – с гордостью за своего нового друга говорил старый дядька Панас. Сначала полушутя, а потом уже всерьез Язэпа стали называть на казацкий манер атаманом. Новое, никогда до того не ведомое чувство наполняло доброе сердце детины. В нем росла ненависть к врагам. Ответственность за молодых, набранных им в свой отряд бойцов и мысли о предстоящих опасностях делали Язэпа как бы старшим по возрасту. Появилась в нем и вдумчивая, мужская сдержанность, и строгий взгляд. Все плывшие с Язэпом на лодках охотно подчинялись новому атаману и верили в его удачу. Плыли ночью, не поднимая шума, не обнаруживая себя. Днем забирались в камыш или густые кусты и отсиживались до темноты. Их береговые спутники дважды натыкались на вражьи разъезды, и дважды Язэп с товарищами вовремя успевал на подмогу, неожиданно нападая на тех, кто пытался спастись вплавь через реку. Так, без потерь, в ненастную темную ночь лодки подошли к тому месту, где Припять встречалась с Днепром. Язэп плыл впереди на долбленке с одним гребцом. За ним вел струг дядька Панас, и дальше, связав свои чайки-душегубки по двое, чтобы не сбивала волна, шли мозыряне. Борясь с сильным ветром, прибивавшим лодки к берегу, пловцы наконец обогнули каменистый утес, нависший над бурлящей стремниной, и, круто свернув направо, вошли в воды Днепра. Теперь ветер гнал их вдоль реки, сообщая челнам большую скорость. Гребцы облегченно вздохнули, но тут Язэп подал сигнал, требуя пристать к берегу. Между песчаной косой и высоким обрывом на воде покачивались несколько плотов, связанных свеженарубленной лозой, и две еще не оснащенные большие лодки. Кустарник и широкие вербы закрывали берег от реки. Было ясно, что здесь готовилась переправа. Посланный лазутчик, низовой казак Иван Тихоня, входивший даже в свою хату на цыпочках, без шума, обнаружил за бугром оседланных коней и спящих вокруг потухшего костра польских жолнеров. Тихоня подошел совсем близко, успел даже отцепить саблю у крайнего спящего, но тут со стороны дороги послышался шум приближающегося обоза, и поляки проснулись. Тихоня едва успел скрыться. Странно, что отряд, идущий по берегу, не наткнулся на ждущих переправы поляков. Видно, лодки, пользуясь сильным ветром, вырвались вперед или сухопутные, сбившись с дороги, уклонились от реки. Так ли, иначе ли, а переправу надо сорвать. Мимо пройти нельзя. Послав назад по берегу двух молодых хлопцев, велев разыскать и поторопить отставший отряд, Язэп расставил лодки по обе стороны переправы. Кусты и прошлогодний сухой камыш скрывали их. Ветер усиливался. Тяжелые серые тучи, набегая одна на другую, укутали все небо. С верховья доносились глухие раскаты грома. Притаившиеся на лодках ждали знака атамана. Было холодно и тревожно. Скоро у места переправы оживились поляки. К плотам стаскивали какие-то мешки и ящики. В лодки садились закованные в панцири командиры. Ржали кони. Доносилась громкая польская и немецкая ругань. Поеживаясь на ветру, к воде спускались жолнеры. Уже можно было стрелять в них, не боясь промаха, но атаман чего-то медлил, не подавал сигнала. Выглядывая из-за куста, Язэп видел, что польских жолнеров было много. Слишком много, если не успеют подойти береговые товарищи, и медлил… Одна из больших лодок, отойдя от берега и продвигаясь к середине реки, оказалась против струга дядьки Панаса. Вдруг на лодке испуганно закричал латник и, выхватив пистолет, выстрелил в сторону струга. В то же мгновение со струга «гакнула» пушка-гаковница. Язэп увидел, как польскую лодку подбросило и опрокинуло. Из-за кустов, теперь уже не ожидая сигнала, выдвинулись дубки мозырских охотников. Стоя во весь рост, они стреляли по отчалившим плотам. Жолнеры, еще не отвечая на стрельбу, крича и толкая друг друга, прыгали в воду, спеша к берегу. Язэп, находящийся ниже всех по течению, помогал гребцу подняться вверх, ближе к стругу. Ветер крутил долбленку. На песчаной косе метались поляки, ловили коней. Еще раз ударила гаковница, теперь в тех, кто был на берегу. Струг выгребал на середину стрежи. Это была ошибка, и Язэп понял грозившую неповоротливому стругу опасность. Он кричал дядьке Панасу, но ветер и выстрелы заглушали его команду. С берега рассыпалась частая ружейная дробь. Отбежав за вербы, поляки стреляли по хорошо видному стругу. Булькали пули и вокруг долбленки Язэпа. Брызги обдавали лицо. Напрягая все силы, Язэп старался перекричать шум боя. Он больше не помогал гребцу. Следя за боем, он стрелял в перебегавших по берегу жолнеров. В воде барахтались сбитые с плотов и лодок рыцари. Железные панцири тянули их вниз, в бездонную тьму бурной реки. Вертелся на стреже, упираясь ветру, бросивший якорь струг дядьки Панаса. Ахала гаковница. Несколько мозырян, выскочив на берег, стреляли из-за укрытия. Но уже опомнились поляки… Один за другим закружились и безвольно поплыли по течению два подбитых дубка. Взмахнул руками и упал, даже не застонав, Иван Тихоня. Ветер подхватил его тихую славу и понес над Днепром, до родных мест… на Украину. Ударила пушка. Это била уже не гаковница струга, а большая пушка поляков. Возле струга взметнулся белый столб воды. – Панас, где ты? – крикнул Язэп. Кормчий не отвечал. Он ничего не мог ответить своему атаману. Упираясь одной рукой в мокрую палубу, оставляя за собой кровавый след, переползая через тела товарищей, Панас тянулся к пушкарю, застывшему между бочкой с порохом и раскатившимися ядрами. Пушкарь будто спал, уткнувшись головой в колени. Только зажатый в откинутой руке горящий фитиль змейкой извивался на ветру, разбрасывая короткие, гаснущие искры. Панас уже был близко от него, когда увидел, как совсем рядом из черной воды поднялись худые длинные руки и вцепились в борт струга. Старый рыбак на мгновение оцепенел. Сквозь волну показалось бледное с обвисшими усами лицо… потом голова, плечи, покрытые тускло блеснувшим панцирем. Панас оглянулся. К другому борту, хрипя и отфыркиваясь, быстро плыли двое польских жолнеров. Панас один был на струге. Один еще живой… Не отбиться ему от жолнеров. Рослые, здоровые, они уже лезли на струг. Собрав остатки своих сил, дядька Панас вырвал фитиль из мертвой руки пушкаря и, опираясь на бочку, поднялся на ноги. – До дябла!.. Пся крев! – отчаянно закричал выбравшийся на палубу жолнер и, выхватив кинжал, прыгнул к Панасу. Панас взмахнул рукой, фитиль описал быструю, как молния, огненную дугу и упал в пороховую бочку. Рыбак успел еще навалиться на него своим телом. Яркий громоподобный сноп огня взметнулся над стругом. Река осветилась огромным костром. Ветер рвал и разбрасывал пламя. Язэп увидел, как появились на берегу польские всадники. Сверкнув саблями, налетели они на засевших в кустах мозырян, по трое на одного. Брызнула кровь на молодую вербу. Зацвела верба красным цветом. Понял атаман, что не одолеть им поляков. Уцелевшие дубки Язэп отгонял на левый берег Днепра, сам продолжая держаться на открытой воде. Сильным порывом ветра сквозь шум боя донесло к нему дружный крик русских. По берегу, еще продолжая стрелять, поляки бежали от воды. Язэп выпрямился. – Слава богу! Браты! – радостно крикнул он и чуть не упал за борт от тяжести навалившегося на него гребца. Челн закружило. Язэп подхватил хлопца на руки, прижал к груди. – Василек, наши идут! Чуешь, Василек?.. Что-то тупое и горячее сильно толкнуло его в спину. Он разжал руки. Василек, будто сломившись, лег на борт, накренил лодку и медленно стал сползать в воду головой вперед. Потом лодка качнулась в другую сторону, и Язэп, не устояв, упал на колени. Он попробовал поднять голову и не мог. Ему так хотелось видеть, как наскочили конники на поляков… Но почему-то их крики и выстрелы уходили от него все дальше и дальше. Слабея, Язэп лег на дно узкой долбленки во что-то липкое, мокрое. Ему было все равно. Ему было хорошо на дне лодки. Тихо, спокойно. Неужели все кончено и можно уснуть? Вверху ревел ветер, вокруг били, набегая на челн, темные волны и гнали его вниз по реке, унося от шума, от последнего боя, от родной Припяти. * * * Ночь и день бушевал над Днепром ветер. И наконец пригнал с верховья грозу. Георгий шел по берегу, всматриваясь в темную даль, изредка прорезаемую золотисто-синими вспышками. Холодные струи остро секли воспаленное лицо. Длинная монашеская сутана намокла и отяжелела. Обходя размытые водой овраги, поднимаясь на скользкие бугры, Георгий делал усилия, чтобы не упасть. Идти становилось все трудней и трудней, но идти было необходимо. Он чувствовал, что стоит ему остановиться, и не хватит сил снова двинуться вперед. Потянет к себе мокрая, холодная земля, вернувшаяся лихорадка уведет в мрачную бездну небытия. Полдня он ехал на случайной подводе. Сердобольный хуторянин, видя, что молодой монах то трясется в лихорадке, то жадно хватает открытым ртом холодный воздух, предложил заехать к нему попариться в баньке и гнал коней, торопясь уйти от грозы. Георгий отказался. Пути их разошлись. Хуторянин свернул от реки влево, а Георгий пошел дальше по берегу. Непреодолимая сила вела его к тому месту, от которого год назад уплыл он на быстроходном струге. Там, впереди, за стеной косого дождя, где кончаются нависшие тучи, свершается великий подвиг. Это не молнии освещают темное небо, а зарницы пожаров. Не гром сотрясает землю, а проносятся над рекой раскаты пушечных залпов. Встает видение: всадники мчатся по холмистому полю. Появляются и исчезают какие-то люди. Гудит, умолкает и снова гудит большой колокол. – Господи, скорей бы дойти до того вон бугра… Ноги будто чужие. Неведомая тяжесть пригибает к земле. Теперь до той одинокой сосны… Непременно дойти. Обхватив ее крепкий ствол, опереться… отдохнуть… Как хорошо! Кажется, и дождь уменьшился. Нет, это широкая крона защитила его от невыносимых острых струй… Снова видение. Невдалеке огонек, другой. Люди. А может быть, и в самом деле? Все равно. Теперь нужно дойти до них, до огней. Шатаясь, выставив вперед руки, Георгий пошел. У самой воды освещенные смоляными факелами люди столпились вокруг вытащенного на берег челна. – Вот и служитель божий ко времени, – сказал кто-то. Оглянувшись на подошедшего, расступились, освободив проход к лодке. Георгий подошел, нагнулся. Два факела, поднесенные ближе, осветили лежащего на дне долбленого челна мертвого человека. – Язэп! – хотел вскрикнуть, но только прохрипел Георгий. Перед его глазами, как отблески далекого дня, поплыли разноцветные струи. Тело наполнилось тяжестью, совсем ослабело и начало падать, падать… * * * Когда Георгий открыл глаза, над ним колыхалось голубое небо. Плыли спокойные белые облака. Его мягко покачивало на неторопливо катящейся телеге. Георгий хотел приподняться, но чьи-то руки удержали его. – Лежи, сынок, лежи… Слава Христу, тут тебе все свои. К Георгию наклонилось суровое, с седыми усами лицо. – Вот как довелось повстречаться… ты уже монахом стал. Георгий с усилием мотнул головой. – Чужая одежда… бежал я… иначе нельзя было… – Ну и хорошо, что бежал, – ласково успокоил его старик. – Значит, и не монах?.. Нечего тебе тут, пан бакалавр, шататься. Добро, на моих людей напоролся, а то недолго и вовсе пропасть… Лежи, лежи, увезем теперь тебя к нам в золотую Прагу… – Пан Алеш? – тихо и удивленно спросил Георгий. – Узнал! – обрадовался Алеш. – Наконец-то узнал. А то все Язэпом каким-то именовал. – А Язэп где? – быстро заговорил Георгий, приподнимаясь и глядя по сторонам. – Или это чудилось мне?.. Там на берегу, в лодке… мертвый Язэп… – Так вот оно что, – догадался Алеш, – то хлопец тот, что с челном к нашему обозу прибило… Схоронили мы воина. По-христиански… крест на нем был. Православный, а платье вроде бы польское. – То мой крест, – прошептал Георгий, закрыв глаза. – Твой? – Да, брат он мне… Язэп. Побратим. * * * В сентябре 1508 года военные действия на Литве прекратились. Между великим князем Московским Василием и королем Сигизмундом был подписан мир. Напуганный событиями, разыгравшимися по Припяти и Днепру, не надеясь на помощь ливонцев и татар, Сигизмунд уступил силе русских полков и подписал мир на условиях, ранее казавшихся ему тяжелыми и оскорбительными. Князь Михайло Глинский с братьями ушел на службу к Василию. Был пожалован платьем, конями, доспехами и двумя городами – Медынью и Малым Ярославцем, да еще селами под Москвой. Получили государево жалование и посполитые, ушедшие с Глинским в Москву. «Кто на шубу овчину, кто денег полтину, а кто худую скотину». На несколько лет умолкли военные трубы на литовской границе. Лишь, как отблески прошедшей грозы, вспыхивали в глубине Белой Руси пожары да бродили по лесам бывшие туровские ратники. Как тени прошедшего и предвестники будущего.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПЕРСТЕНЬ ГИППОКРАТА
– Долго блуждал я, блуждал пустырями,
Всюду встречая невзгоды.
Смех и насмешки летели с ветрами,
Слышался ропот в народе.
Янка Купала
Глава I
Вице-приор падуанской коллегии докторов искусств и медицины маэстро Таддэо Мусатти был не в духе. Весь день он ходил по многочисленным комнатам своего дома, придирался к слугам и ворчал. За ужином он накричал на экономку Анжелику и потребовал от нее отчета о расходах, хотя месяц еще не истек.
– Как! – возмущался он, потрясая бумагой перед носом экономки. – Если заяц стоит всего десять кватрино, если за семь кватрино можно купить пару нежнейших голубей, а за полтора дуката
– целого теленка, как осмеливаешься ты тратить на один лишь стол пятьдесят дукатов в месяц? Знаешь ли ты, что этой суммы хватило бы, чтобы кормить целую семью в течение года?
Не в первый раз Анжелика подвергалась таким атакам и потому спокойно ответила:
– Возможно, и хватило бы, если бы эта семья не покупала гвоздики, инбиря, муската и прочих заморских пряностей, которые стоят кучу денег… И если не подавать к столу кипрские и хиосские вина…
– Мне вовсе не нужны твои чертовы пряности, – перебил ее Таддэо, – и греческие вина, от которых по ночам я испытываю изжогу и удушье…
– Мне они и подавно ни к чему, – ответила экономка, – но ваша дочь…
– Катарина?..
– Кто же еще? Сидя за своими книгами, вы и не знаете, что она ежедневно устраивает пирушки со своими подругами.
– Негодница! – воскликнул маэстро. – Расточать на пустые забавы деньги, которые достаются мне с таким трудом. Ей недостаточно того, что я оплачиваю ежедневные счета торговцев, башмачников, ювелиров… Нет, я ее проучу! Пришли ее ко мне сей же час.
Анжелика и не подумала выполнить его приказание.
– Вы только со мной да с вашими больными очень грозны, – ответила она почти насмешливо. – А войдет Катарина, и вы станете тише ягненка… Да ее и нет сейчас дома…
– Святая дева! – окончательно возмутился разгневанный маэстро. – Нет дома в такой поздний час!.. Осмелилась бы во времена моей юности девушка разгуливать по ночам…
– Теперь другие времена, – заметила Анжелика, убирая посуду. – Девушки из богатых домов только и знают, что наряжаться и проводить время в увеселениях.
Маэстро не стал продолжать этого разговора и в сильнейшем раздражении отправился в постель. Он твердо решил дать дочери примерную взбучку, но, когда сквозь открытое окно его спальни проникли отблески факелов, звуки шагов и веселой песенки, которую напевала вернувшаяся домой Катарина, подумал, что, пожалуй, лучше отложить объяснение. Сон успокоит его, и утром он сможет более справедливо разобраться во всем.
Однако сон не приходил к взволнованному Таддэо. Его беспокоили не столько поздние прогулки дочери, сколько ее мотовство.
Маэстро был скуп.
Некогда, будучи студентом, а затем молодым врачом, относился к деньгам почти равнодушно. Его занимала только наука, которой он предавался с истинной страстью, не оставлявшей места иным привязанностям.
Мусатти был одним из тех, кто пытался освободить науку от предрассудков и суеверий. Но здесь медицина встречала особенно яростное сопротивление, ибо попытки проникнуть в тайну человеческого тела, «сотворенного по образу и подобию божью», грозили поколебать незыблемые основы церковного авторитета. Тогда господствовали заимствованные европейцами у Востока теории, согласно которым не только судьба человека, но и состояние его организма определялись движением небесных светил.
Чума, черная оспа, страшный и разрушительный недуг, называемый в Италии то «неаполитанской», то «французской» болезнью, неведомые эпидемии, опустошавшие целые города и области, происходили, по утверждениям схоластов, из-за неблагоприятного сочетания планет. Любая болезнь зависела от созвездия, под которым родился заболевший. Лекарствами служили магические заклинания и молитвы. К хирургии ученые медики относились презрительно, предоставляя это занятие невежественным цирюльникам и шарлатанам.
Заодно с «ведьмами» и «чернокнижниками» святая инквизиция сжигала на кострах ученых, дерзавших вскрывать трупы.
И все же дух свободного разума давал себя чувствовать в медицине.
Ученые Падуанского университета Бартоломео Монтаньяна и Микеле Савонарола повели открытую борьбу против схоластической медицины.
За ними шел и Таддэо Мусатти. Уже в первые годы своей научной деятельности Мусатти прослыл выдающимся знатоком патологической анатомии. Его трактат о повреждении сухожилий изучался во многих университетах.
Слава его росла, а вместе с ней росли и его доходы.
В те времена труд ученых и художников оплачивался весьма скудно и условия существования даже самых выдающихся людей науки и искусства всецело зависели от щедрости меценатов. Но медицина и юриспруденция находились в привилегированном положении. В то время как профессору риторики или морали платили не более сорока – пятидесяти дукатов в год, что обеспечивало ему лишь самое скромное существование, Мусатти получал свыше тысячи дукатов, на которые мог вести жизнь знатного патриция. К тому же доктора медицины извлекали немалые доходы из лечебной практики. А маэстро Таддэо не ощущал недостатка в щедрых пациентах. К его помощи прибегали даже члены венецианской синьории.
Будучи уже известным ученым, Мусатти женился на дочери богатого ювелира из Венеции, которая принесла ему приданое, значительно увеличившее его состояние. С этих пор новая страсть появилась в душе Таддэо Мусатти. Теперь уже нередко он отдавал время, предназначенное для ученых бесед, подсчету своих доходов и расходов. Маэстро не позволял себе никаких излишеств ни в пище, ни в одежде. Правда, его новый дом, выстроенный искусным флорентийским зодчим, учеником знаменитого Микелоццо, не уступал по красоте фасада и изяществу отделки дворцам некоторых вельмож. Но дом способствовал увеличению славы и соответствовал положению маэстро, да и расходы на его постройку были не особенно велики. Архитектор, пользуясь врачебной помощью Таддэо, не много взял за свой труд.
Жена Мусатти умерла вскоре после родов, и ученый остался жить одиноким богатым вдовцом, поручив присмотр за домом Анжелике, занимаясь воспитанием маленькой Катарины, которую он любил больше всего в жизни.
Так шли годы. Состояние Мусатти увеличивалось, но восхождение его по лестнице науки, столь быстрое и триумфальное вначале, постепенно замедлялось и наконец вовсе остановилось. В течение последних десяти лет Мусатти, поглощенный страстью к наживе, не разработал ни одного нового метода лечения, не провел ни одной оригинальной хирургической операции.
Не отказываясь от своих прежних, передовых взглядов, но все же не желая навлечь на себя недовольство церковных властей и монашеских орденов, он прекратил свои опыты над трупами, что строго преследовалось инквизиторами и было воспрещено папой Бонифацием VIII, а также стал уклоняться от диспутов, на которых обсуждались острые вопросы.
Число его учеников редело. В университете появлялись новые профессора, и многие из прежних питомцев Таддэо покидали его.
Как ни старался Мусатти сохранять равнодушие, самолюбие его было уязвлено. Он почувствовал болезненную зависть к молодым, талантливым коллегам. Однажды маэстро уронил себя до недостойного поступка, добившись изгнания из состава коллегии своего лучшего ученика Федериго Гварони, чья бескорыстная страсть к науке была для Таддэо постоянным укором. Клика университетских схоластов и сам викарный епископ поддержали Мусатти. Гварони был изгнан. После этого многие из друзей и поклонников Таддэо отдалились от него.
Лежа один в своей спальне, старый ученый думал о прежней жизни. Ночь текла медленно, душная, тихая, насыщенная пряным запахом цветов. Бессонница мучила Мусатти, и мысли приобретали тревожную остроту.
Он вспомнил свои первые опыты, свои триумфы, своих учеников. Все это было…
Жизнь идет к концу. Что же оставит он после себя? Его труды, доставившие ему некогда громкую славу, давно превзойдены другими. Он не создал своей школы, не воспитал ни одного выдающегося ученого. Никто не посвятит ему своего первого исследования, никто не скажет миру с гордостью: «Я ученик Таддэо Мусатти…»
Федериго Гварони… тот мог бы стать достойным преемником его славы… Таддэо сам оттолкнул его.
Он вдруг отчетливо осознал свое одиночество и ужаснулся. Зачем он жил? Мысленно он окинул взглядом свой роскошный дом, золото и драгоценности, хранившиеся в тайниках. Он умрет, и Катарина быстро развеет все по ветру либо отдаст в приданое какому-нибудь знатному повесе или пьянице-художнику. Она даже не сохранит его имени, став женой безвестного, чужого человека… Да, впереди не было решительно ничего. Измученный бессонницей и мрачными мыслями, Мусатти уснул уже на рассвете.
* * * Под аркой городских ворот на каменной скамье дремали два стража; алебарды их стояли в стороне, мирно прислоненные к сторожевой будке.
Ни всадников, ни пешеходов еще не было видно в этот ранний час.
Но вот со стороны реки, омывавшей крепостную стену, показался одинокий путник. Он приблизился к воротам.
Один из стражников открыл глаза и, протянув руку, повелительно сказал:
– Два кватрино, приятель, с каждого, кто входит в наш город…
Путник уплатил две медные монеты и учтиво спросил:
– Не могут ли почтенные блюстители порядка указать, где живет Таддэо Мусатти, доктор Падуанского университета, который, несомненно, пользуется известностью и уважением среди своих сограждан?
– Мусатти?.. – переспросил стражник, позевывая, и толкнул своего товарища. – Что-то не слыхал я такого имени…
– Знавал я одного Мусатти, – равнодушно ответил второй стражник. – Только его сожгли…
– Сожгли?! – вскрикнул путник, и если бы стражники были наблюдательней, они заметили бы, как побледнело его лицо.
– На прошлой неделе, в пятницу, – продолжал стражник. – Придумал он взбираться по ночам на колокольню святого Антония Падуанского и оттуда блеять по-козлиному. Вот его отцы инквизиторы и пристукнули… Теперь, слава Христу, не блеет…
– Теперь не блеет, – подтвердил первый стражник.
Путник молча поклонился и пошел было в ворота, но его остановил окрик:
– Постой! А ты сам-то кто будешь? По одежде вроде крестьянин, а говоришь как-то чудно…
– Я иноземец, – ответил путник, – однако уже несколько лет живу в Италии.
– Француз, значит? – догадался первый стражник.
– Нет, – ответил путник.
– Немец, – авторитетно объявил второй стражник. – Немец или турок. По разговору слышу, что турок!.. – И оба стражника весело расхохотались. – Турок, турок. Конечно, турок! А может, и немец… Ха, ха, ха…
Путник тихо ответил:
– Я не турок и не немец. Я направлялся к доктору Мусатти. Мне нужна его помощь, но если его сожгли…
– Сожгли, говоришь? – переспросил стражник.
– Да ведь это ты, почтенный, сказал мне об этом, – заметил путник.
– Разве? – возразил стражник. – Помнится, я говорил не про доктора, а про шерстобита и звали его не Мусатти, а Луцатти…
– Как бы его ни звали, – заметил первый стражник, – раз уж поджарили, значит, туда ему и дорога. Не так ли, парень?
Путник ответил:
– Совершенно верно, приятели. Совершенно верно, – и быстро зашагал дальше.
Город начинал просыпаться. Площади и улицы наполнялись народом. Из церквей доносились звуки органа. В лавках уже шла бойкая торговля. Медленно двигались повозки, запряженные мулами, ослы, навьюченные корзинами и тюками. Громко переругивались водоносы, наполняя меха у фонтанов.
Пройдя по узким улицам, мощенным мелким булыжником, путник оказался на просторной пьяцца дель Санта-Антонио, в центре которой возвышалась медная конная статуя. Это была гордость падуанцев, памятник кондотьеру
Гаттемалате, изваянный бессмертным Донателло
в 1453 году.
Едва ли это было известно пришельцу, впервые посетившему Падую, но он залюбовался чудесным искусством ваятеля. Всадник, облаченный в рыцарские доспехи, свободно и твердо стоял в стременах; повелительным движением правой руки он положил жезл на гриву коня, словно указывая на высокую древнюю башню, некогда служившую городу колокольней. Сильная рука всадника сдерживала могучего коня, готового вырваться на просторы битвы. Чудилось, что на площади раздается его гневное ржание… Такой свободой и отвагой веяло от фигуры всадника, такая порывистая сила таилась в изогнутой шее и ступившем на ядро копыте коня, что невозможно было не ощутить прилива бодрости и радостного волнения, глядя на этот памятник. Глаза путника засияли, и сразу стало ясно, несмотря на обросшее бородой утомленное и запыленное лицо, что это был молодой человек.
Поглядев еще немного на статую, путник направился через площадь к перекрестку, где виднелись вывески аптекаря, портного и цирюльника, украшенные эмблемами их ремесла.
* * * Таддэо Мусатти проснулся поздно и чувствовал себя отвратительно. Слуга доложил, что явился неизвестный человек и просит допустить его к маэстро.
– Должно быть, пациент, – проворчал Таддэо. – Скажи, что я не могу оказать помощи, и направь его к доктору Луиджи.
Слуга покачал головой.
– Он говорит, что не нуждается во врачебной помощи, а хочет побеседовать с вашей милостью. Прибыл он, очевидно, издалека. Еще говорит он, что имеет письмо от вашего друга.
– Письмо от друга?.. – заинтересовался Таддэо. – От какого друга? Пусть войдет. Посмотрим, кто это из друзей вспомнил старого Мусатти.
Мусатти недоверчиво посмотрел на вошедшего, на его пыльные тяжелые башмаки, на пастушью куртку и сожженное солнцем лицо.
– Чего ты хочешь? – спросил он холодно.
– Стать учеником знаменитого магистра, доктора Таддэо Мусатти. – Пришелец почтительно поклонился.
Мусатти во все глаза глядел на странного юношу.
– Ты… грамотен?
– Кроме родного языка, который даровал мне господь при моем появлении на свет, я говорю, читаю и пишу на польском, чешском и немецком…
– Я не знаю ни одного из этих языков, – прервал его Мусатти. – Однако ты неплохо изъясняешься по-итальянски.
– Если маэстро позволит, – возразил пришелец, – я предпочел бы латынь, так как еще недостаточно владею итальянской речью.
– Где же ты изучил латынь?
– Я имею честь быть бакалавром семи свободных искусств достославного Краковского университета, – ответил пришелец по-латыни.
– Вот как! – Мусатти сам перешел на латынь. – Садитесь же, коллега. Ваше имя?
– Франциск, сын Луки Скорины. Я русский, из славного города Полоцка.
– Не слыхал я такого города… – Мусатти был явно смущен. – Мне сказали, что у вас письмо от моего друга. Кто этот друг?
– Николай Коперник, некогда учившийся в Падуе. Ученейший муж, которого я глубоко почитаю.
– Николай Коперник!.. – задумался Мусатти. – Да, да, припоминаю… Молодой, всегда задумчивый… польский ученый. Он, кажется, занимался здесь астрономией. Дайте же мне это письмо, я с интересом прочту его.
– Письма нет. Я утерял его.
Мусатти недоверчиво посмотрел на посетителя.
– Странно!.. А что же теперь поделывает Коперник?
– Я давно не имею сведений о нем, – ответил Скорина.
– Давно? Когда же он дал вам письмо ко мне?
– Пять лет тому назад.
– Что? – Маэстро подозрительно поглядел на гостя. – Пять лет назад?.. Однако…
– Прошу вас, уважаемый маэстро, – спокойно сказал Скорина, – дать мне возможность, и я все объясню вам.
Незнакомец казался подозрительным, но Мусатти невольно подчинился твердой и спокойной силе, исходившей от него.
* * * Георгий начал свой рассказ с того памятного дня, когда, простившись с друзьями, он выехал из Кракова.
Едва ли описания долгого пути и впечатления Скорины могли представлять интерес для итальянского ученого, имевшего самое смутное представление о славянских странах. Георгий не стал излагать их маэстро Таддэо, ограничив рассказ лишь упоминанием о происшествиях, связанных со смертью великого князя Александра и борьбой, начатой Глинским.
Мусатти слушал вяло и недоверчиво. Ни Александр, ни Сигизмунд, ни Глинский, как и события, разыгравшиеся на далеких землях Литвы и Польши, не интересовали старого профессора.
Только когда Георгий перешел к рассказу о жизни в Киевском монастыре и о сохранившихся там древних рукописях, в глазах Мусатти затеплился огонек любопытства. Еще больше заинтересовала его жизнь Скорины в чешской Праге и занятия в Карловом университете.
Георгий рассказал о том, как, проделав долгий и утомительный путь с обозом Алеша, он прибыл в Прагу, еще не избавившись от болезни.
Много дней провел Скорина в доме пана Алеша, окруженный отеческим вниманием и заботой радушной семьи, пока почувствовал себя здоровым и готовым к новым испытаниям.
Прага понравилась Георгию. Здесь, казалось, не было той фанатической нетерпимости, которая заставила его почти бежать из Кракова. Никто не попрекал его «восточной схизмой», никто не отзывался с презрением и насмешкой о его родине. Напротив, встречаясь в доме Алеша с членами общины «Чешских братьев» и пражскими студентами, он приобрел новых друзей. С интересом они расспрашивали о народе на Руси и радовались, когда находили в белорусской речи сходство с чешским языком.
Друзья выхлопотали для гостя разрешение посещать некоторые лекции, и Скорина с увлечением проводил дни в стенах старого чешского университета. Там, на одном из диспутов, он познакомился с профессором Ржегоржем из Елени, посвятившим остаток своих дней переводам книг с латинского на чешский язык. Сын профессора, Сигизмунд, молодой ученый, работал вместе с отцом. Он охотно принял предложение Скорины помочь в подборе и толковании некоторых славянских слов.
– Вы говорите, коллега, – перебив рассказ, спросил Мусатти, – что они переводили научные книги. Быть может, среди них были наши трактаты?
– Нет, маэстро, – ответил Георгий, – пока это была работа только по составлению сравнительного словаря. Имея такой словарь, наши ученые без ошибок смогут перекладывать на свой родной язык с греческого, латинского, немецкого, а также переводить свои труды на языки других народов.
Мусатти улыбнулся.
– Что касается медицины, – не без гордости заметил профессор, – то вряд ли есть надобность переводить с чешского на итальянский. Вы слыхали о каких-либо новых открытиях чешских ученых?
– В Праге я не смог познакомиться с ними, – уклончиво ответил Георгий, не желая вступать в спор.
– Конечно, – оживился Мусатти, – изучить медицину можно только в нашей стране. Скажу более, только здесь, в Падуе. Вы хорошо сделали, что для этого прибыли сюда.
– Печальные обстоятельства, – тихо заметил Георгий, – заставили меня покинуть прекрасную столицу Чехии и моих добрых друзей…
В Пражском университете снова, как было это во времена Сигизмунда IV, императора Священной Римской империи и убийцы Яна Гуса, наступили черные дни.
Старинная грамота, выданная университету, больше не признавалась. Управление университетом перешло в руки католической верхушки. Посещение лекций посторонними, особенно иноземцами, было настрого запрещено.
Усилились гонения и на общины «Чешских братьев».
Пан Алеш по доносу был исключен из купеческого сословия. На его имущество составлена «сторожевая опись», не позволяющая владельцу ничего ни продать, ни менять, ни самому выезжать за пределы города. Георгий понял, что его дальнейшее пребывание в доме Алеша будет лишь в тягость друзьям. И покинул Прагу…
– Да, – довольный своей мыслью, повторил Мусатти, – истинная наука может процветать только под небом нашей благословенной страны.
Георгий не ответил ему. Помолчав, он продолжил рассказ, коротко упомянув о том, как, пройдя через Богемский лес, он вынужден был надолго задержаться в городе Регенсбурге, пока скопил необходимую для путешествия небольшую сумму денег, работая огородником у немецкого помещика.
Он шел пешком, останавливаясь на ночь в деревушках и небольших немецких городах. Иногда ему удавалось пристроиться на крестьянскую телегу или проплыть часть пути в рыбачьей лодке. Потом Бавария осталась позади, начались горные селения Тироля. Здесь еще лежал глубокий снег, и тропинки подчас были непроходимы. Георгий по неделям жил в альпийских хижинах, помогая дровосекам и пастухам собирать хворост и загонять скот. Наконец он добрался до Бреннерского перевала и вскоре очутился в цветущей долине. Это была Италия.
Так он дошел до Виченцы. Всего три дня пути отделяли его от Падуи.
Был поздний вечер. Над городом бушевала гроза. В окне маленького домика, одиноко стоявшего на холме при входе в Виченцу, мерцал свет. Георгий пошел на огонек и постучал в дверь. Человек, живший в этом доме, радушно принял путника. Он развел огонь в очаге и разделил с Георгием свой скромный ужин. Завязалась беседа, затянувшаяся до рассвета.
– Мы говорили по-латыни, – пояснил Георгий, – ибо человек этот был врачом.
– Врач?.. – переспросил Мусатти. – Вы, кажется, сказали, что это было в Виченце? Этот врач очень стар?
– Нет, он был немного старше меня, – ответил Георгий. – Но мне редко приходилось встречать столь обширные знания. Я решил остаться у него.
Рассказ Георгия был прерван появлением девушки. Она вошла легким, быстрым шагом. Не обращая внимания на постороннего, она грациозно поклонилась старику и поцеловала его руку.
– Мне передала Анжелика, что вы приказали зайти к вам? – спросила она улыбаясь.
Длинное с высоким лифом платье из индийского шелка сидело на ней свободно и просто. Каштановые волосы спускались на уши плотными начесами. Высокая шея была украшена цветным ожерельем, придававшим зеленый отсвет ее глазам. Девушка была очень хороша собой.
Маэстро Таддэо ласково посмотрел на нее.
– Да, Катарина, мне нужно поговорить с тобой, – сказал он мягко. – Но, дочь моя, сейчас я занят.
– Заняты? – Она с недоумением взглянула на странного посетителя.
– Да, занят интересной беседой.
– Бог знает, что может прийти вам в голову! – Катарина расхохоталась. Она взглянула на незнакомца.
Тот смотрел в упор спокойно и серьезно. Девушка оборвала смех и, досадливо пожав плечами, вышла из комнаты.
Мусатти продолжил:
– Итак, вы остались у этого врача?
– Да, – сказал Георгий, – я пробыл с ним несколько месяцев и помогал ему в его занятиях. Мы жили почти впроголодь, ибо мой друг был немногим богаче меня. Днем мы посещали больных, большей частью бедняков, по ночам занимались нашими опытами. Приходилось работать с величайшей осторожностью, чтобы не привлечь внимания посторонних…
– Анатомические вскрытия не являются столь новыми опытами, как это кажется вам, юноша, – перебил его маэстро, догадавшись, о чем идет речь. – Они производились и производятся многими врачами. Я сам…
– О, знаю, – не дал ему договорить Георгий. – Я много слыхал о ваших трудах, высокочтимый маэстро, но… Мы делали нечто новое. Никто, как мне известно, не вскрывал еще черепа.
– Как! Вы решились? – воскликнул Мусатти.
– Мы не видели в этом ни преступления, ни богохульства. Разве не для спасения жизни человеческой нужны анатомические сечения? Так почему же можно вскрыть источник жизни – сердце и почему видят грех в изучении хранилища человеческой мудрости?
Рассказав о смелых догадках, родившихся во время этих опытов, Георгий тихо заметил:
– К сожалению, нам не суждено было довести свой опыт до конца…
– Что же помешало вам?
– Однажды я отправился в соседнюю деревню к больному крестьянину. Вернувшись, я нашел наш домик пустым. Дверь была распахнута, окна выбиты, на полу валялись обломки приборов. Ящики, в которых хранились рукописи, взломаны и опустошены. Нетрудно было понять, что произошло. Добрые люди посоветовали мне покинуть город как можно быстрей.
На следующий день моего друга предали сожжению. Я был там и видел все. Я не мог уйти, не взглянув на него в последний раз. Три костра были сооружены на площадке. На двух крайних сжигали каких-то простолюдинов, обвиненных в колдовстве. Когда средний костер разгорелся, монах-доминиканец бросил в огонь груду бумаг. Это были рукописи ученого. Он наклонился и поглядел на них, потом поднял голову и улыбнулся. Я понял значение этой улыбки. «Жалкие глупцы, – говорила она, – вы думаете, что, сжигая бумаги, вы уничтожаете мою мысль… А между тем десятки других ученых в разных концах земли думают о том же, о чем думал я…»
…Языки пламени уже лизали его колени, а он все улыбался спокойной и мудрой улыбкой. Потом клубы дыма закрыли его лицо, монахи запели «Dies irae»,
и в воздухе разнесся запах горящего тела. До сих пор меня преследует этот запах… Больше мне нечего было делать в этом городе. Я ушел ночью, переодевшись в платье крестьянина. И вот я перед вами, маэстро.
Георгий умолк и отер крупные капли пота со лба.
– Успокой, господи, душу этого человека. – Старик перекрестился. – Удивительно все же, что я никогда не слыхал об этом враче. Мне известны опыты Джиованни Виго в Риме, Марко Антонио делла Торре и Леонардо да Винчи в Павии, но я не знал ни одного выдающегося медика в Виченце. Как имя вашего учителя, мессере?
– Его звали… – Георгий смотрел прямо в глаза профессора Мусатти. – Его звали Федериго Гварони.
– Гварони? – Мусаттк вскочил, прижимая руки к груди. – Не ослышался ли я? Вы сказали… Федериго Гварони?
– Да, это было его имя.
Мусатти медленно отошел к окну.
– Я знал этого человека.
– Мне это известно, маэстро, – просто ответил Георгий.
Мусатти резко повернулся, пристально поглядев на собеседника.
– Он вам говорил обо мне? Тогда зачем же вы пришли сюда? Что мог он сказать вам?..
– Он говорил мне, – перебил взволнованного старика Георгий, – что если я, волею судеб, останусь один, то только в вас найду истинного учителя. Он говорил, что вы очень одиноки и что ему жаль вас…
На лице Таддэо появилось жалкое, растерянное выражение. В глазах его показались слезы, губы задрожали. Он подошел к распятию и упал на колени.
Георгий молча следил за ним.
Мусатти шептал:
– О, Федериго. Я знал, кем ты можешь стать, и я изгнал тебя… Ты погиб, и труды твои остались безвестными… На мне этот грех… Mea culpa… Mea culpa.
Глава II
Все, кто близко знал маэстро Таддэо, изумлялись происшедшей в нем внезапной перемене. Так после бурного ливня преображаются иссушенные зноем колосья. Старик помолодел, выпрямился, в его глазах зажегся задорный огонек. Теперь он редко ворчал и раздражался, и однажды Анжелика, явившаяся с обычным ежемесячным отчетом, услышала, что маэстро занят и не имеет времени заниматься разной чепухой вроде проверки счетов…
Мусатти проводил с Георгием большую часть дня, иногда они засиживались далеко за полночь. Уже три месяца прошло с того утра, когда Скорина впервые вошел в дом старого ученого. Приступив к занятиям, Мусатти скоро убедился, что перед ним не начинающий, неопытный юноша, а зрелый ученый муж, обладающий обширными знаниями и острым, пытливым умом. Маэстро не сомневался, что понадобится всего несколько месяцев, чтобы подготовить Георгия к экзамену на высшую ученую степень – доктора медицины.
«Сам бог послал мне этого юношу, – говорил себе маэстро, – разве не чудо, что он оказался звеном между мной и несчастным Федериго?.. Вот случай искупить то, в чем упрекала меня совесть. Я помогу ему стать великим ученым, и он прославит мое имя, как прославил гениальный Ланфранко имя своего учителя Салицетти. И быть может, мне суждено с его помощью украсить последние дни жизни новыми открытиями…»
С каждым днем старик все больше и больше привязывался к своему новому ученику. Занятия происходили то в подземелье, специально оборудованном для анатомических опытов, то в большой комнате, которую Мусатти отвел для Скорины. Как-то Георгий выразил желание послушать лекции в университете, но Мусатти, нахмурившись, возразил:
– Какая польза от лекций, излагающих то, что давно уже превзойдено тобой? Напрасная трата драгоценного времени! К тому же не стоит преждевременно привлекать к себе праздное любопытство. Многие добрые начинания были загублены человеческой завистью. Наступит день, и ты предстанешь перед коллегией докторов во всем блеске учености…
Старик выражался туманно, но Георгий понял, что по каким-то соображениям он не хочет вводить его в университетскую среду. Скорина не настаивал: занятия с Мусатти доставляли ему удовольствие.
…Глубокая ночь. Георгий сидит за высоким столом, заваленным рукописями и старинными рисунками. В раскрытое окно проникает слабый ветер и колеблет желтые огоньки двух свечей. Доносится легкий звон струн, девичий голос тихо запевает песню. Георгий откладывает перо и подходит к окну. Большие звезды сияют на черном небе. Безлунная прохладная ночь. Это поет Катарина, должно быть она вышла на балкон. Георгий идет в сад, опускается на скамью и слушает.
Он узнает сонет Петрарки, которым так восхищался покойный Федериго Гварони. Прислушиваясь к песне, Георгий медленно переводит слова итальянской канионы на родной язык:
«О, госпожа, осветившая своей улыбкой мое сердце, ты предстала предо мной, охваченным смятением чувств и мыслей. И в бледности склоненного чела, и в приветствии смиренном прочла обуревающее меня отчаяние… И взор твой был наполнен таким участием, что перед ним померкли бы стрелы Зевсова Орла…»
Перед Георгием возникает девичье лицо в сиянии золотых волос. Он видит большие серые глаза, наполненные слезами первого горя… Прекрасные тонкие руки… Такой она была в час последнего их свидания, такой не раз виделась ему во снах в долгие годы нескончаемых странствий. Маргарита, Маргарита!.. Где она теперь, далекая его невеста?..
«Я трепетал, – продолжал голос, – и был не в силах выслушать милостивое слово той, что проходила мимо, и не смел поднять глаза, чтобы увидеть ее… Но неведомая нежность ее очей озарила душу мою, излечив былую боль…»
Внезапно Георгий ощутил прилив неизъяснимого восторга. Отзвеневшая песня, сияющие звезды, шелест деревьев и смутная фигура девушки на балконе наполнили его огромным беспричинным счастьем. Прекрасна жизнь! И все на земле прекрасно и мудро. Ночь сменяет день, и потом снова заря торжествует над ночью. Зерно, брошенное во взрыхленную почву, дает буйные всходы, и слабые побеги превращаются в могучие деревья. Все растет, все движется. Непрестанно обновляется мир в безостановочном своем движении, и нет такой силы во Вселенной, которая могла бы остановить это движение.
Георгий запел, сначала тихо, потом все громче и громче. Это была внезапно вспомнившаяся белорусская песня, слышанная им в лесу, по дороге из Полоцка:
Темна ночка наступает,
Едет хлопец и вздыхает,
Где я буду ночку ночевать?..
Рожденная в лесах Белоруссии, песня легко и свободно звучала под звездным небом итальянской ночи, и любовное томление возвращающегося с чужбины хлопца слилось с возвышенной грустью воклюзского
отшельника.
Он умолк. С балкона послышалось тихое восклицание и всплеск рук.
– Катарина! – сказал Георгий. – Какая чудесная ночь!
Но девушка уже скрылась.
В последнее время Катарина вела себя несколько странно. Когда Георгий поселился в доме Мусатти, она не обращала на него никакого внимания. На его приветствия отвечала едва заметным небрежным кивком, а иной раз проходила мимо, как бы не замечая его присутствия. Но с некоторых пор все изменилось.
Георгий вернулся в свою комнату, не раздеваясь, лег и тотчас же уснул, как засыпают очень утомленные и счастливые люди.
Утром портной принес праздничное платье, сшитое для Георгия по заказу маэстро Таддэо. Георгий с удовольствием облачился в хорошо скроенный камзол тонкого флорентийского сукна, высокие шелковые чулки и синий бархатный плащ, отороченный мехом. В последнее время Георгий мало заботился о своей внешности, но тут проснулась в нем былая слабость к красивому платью: недаром в Полоцке он слыл одним из первых щеголей.
Спустившись в парадный зал, Георгий остановился перед венецианским зеркалом. В зеркале отразился статный красивый кавалер с пышными русыми кудрями и тонкими вьющимися усиками.
– А ей-богу же, важный… хлопец! – сказал Георгий вслух и рассмеялся. И в тот же миг увидел в зеркале Катарину.
Она остановилась, глядя на чудесное преображение. Георгий обернулся и отвесил поклон. Девушка окинула его с ног до головы удивленным взглядом и, небрежно кивнув головой, скрылась.
Зачем она приходила сюда? Георгий уже не раз чувствовал на себе ее внимательный взгляд, замечал ее кокетливые улыбки. Стоило ему выйти в сад, и Катарина, будто невзначай, появлялась на балконе. Он догадывался, что и прошедшей ночью она пела для него. Все это смущало юношу. Уже много лет живя замкнутой, почти отшельнической жизнью, Георгий не мог привыкнуть к той свободе нравов, которая царила в городах Италии. Не о такой подруге мечтал Георгий. Иной образ жил в его памяти. Образ далекой девушки из Кракова.
Он пронес любовь к Маргарите через годы скитаний и сберег перстень с дубовой веткой – залог верности…
Но если Катарина никогда не станет его невестой, его женой, то между ними не может быть иных отношений, кроме невинной, целомудренной дружбы. Ведь эта девушка – дочь человека, к которому Георгий мог чувствовать лишь уважение и благодарность.
Вошедшая в комнату служанка Луска прервала его размышления, сообщив, что Катарина просит мессера Франческо (так звали Скорину в доме Мусатти) прийти в ее покои по делу.
Георгий удивленно посмотрел на служанку. Впервые Катарина обращалась прямо к нему. Идти ли?..
– Хорошо, Луска, – ответил Георгий после некоторого колебания. – Скажи своей госпоже, что я тотчас же буду.
* * * Катарина сидела в глубине комнаты, прикрываясь большим кружевным веером. В глазах ее сверкнул лукавый огонек, когда вошел Георгий.
– Привет тебе, мессер Франческо, – ответила она на поклон гостя. – Подойди поближе!
Георгий ступил на ковер, по которому были небрежно разбросаны только что сорванные цветы. На позолоченном треножнике в плошке горело душистое масло, наполняя комнату пряным ароматом. Завешенные легкими тканями окна пропускали слабый свет, и только один чистый золотой луч падал на колени Катарины.
Георгий сравнил ее с Данаей и поймал себя на том, что любуется девушкой.
Быстрым движением Катарина отбросила веер и подалась вперед. Георгий остановился. Шея и плечи девушки засияли в луче. Смуглая кожа приняла золотистый оттенок. Довольная произведенным эффектом, Катарина не могла сдержать улыбки.
Георгий спохватился, сделал шаг и учтиво спросил:
– Вы хотели меня видеть, Катарина?
– Да, – ответила Катарина, не меняя позы. – Отец говорит, что ты так умен и настолько учен, что скоро разгадаешь все тайны мира. Правда ли это?..
– Я только ученик мессера Таддэо. – Георгий скромно поклонился.
– О, я верю отцу, – сказала Катарина, не сводя с Георгия глаз. – Так, может быть, ты разгадаешь и эту тайну… Зачем же я позвала тебя?
– Полагаю, затем, – улыбнулся Георгий, – чтобы узнать, какую песню я пел в саду этой ночью.
– Вот как?.. Ты уверен, что я слышала твою песню?.. Может быть, ты видел меня на балконе или в окне? Подумать только, разве я не в доме моего отца и не свободна делать, что хочу? Это ровно ничего не значит… Такая душная ночь. Я просто подошла к окну… Зачем же следить за мной?
– Я не следил…
– Ты все время следишь за мной… Только и делаешь, что следишь…
– Видит бог, – рассмеялся Георгий, – я занят в этом доме только наукой.
Катарина сделала гримасу:
– И потом в твоей песне очень печальная мелодия.
– У каждого народа, Катарина, есть разные песни: и печальные, и веселые.
– Это была песня твоего народа?
– Да, ее поют в моем родном городе Полоцке.
– Разве есть такой город? Он красив? Где это?
– Далеко на востоке, за землями польскими и литовскими. Мы зовем нашу родину Белая Русь.
– Белая Русь! – повторила Катарина. – Мне говорили, что у вас никогда не светит солнце, стоит вечная зима. Что же ты не сядешь?.. Вот сюда…
– Нет, Катарина! – Георгий опустился на подушки рядом с девушкой. – В нашем крае светит солнце, и зеленеют поля, и могучие деревья шумят в наших лесах, и в садах поют соловьи…
– Соловьи?.. Для кого же поют они?
Георгий удивленно посмотрел на нее.
– Соловей – друг влюбленных, – лукаво пояснила девушка. – Но ведь у вас не умеют любить… Или там не все такие, как ты?
– Катарина!..
– Нет, нет, скажи: умеют ли у вас любить так, как в Италии? Чтобы он… чтобы она это чувствовала каждый миг, чтобы он не спускал с нее глаз, следил за каждым ее движением… Чтобы его прикосновение было легким, как сон, и обжигало, как горящее масло…
Катарина наклонилась к Георгию, он слышал ее прерывистое дыхание. Он с трудом поднялся.
– Катарина… – сказал он тихо. – Не нужно этого…
Девушка открыла глаза. Георгий стоял перед ней выпрямившись. Катарина расхохоталась:
– Уж не подумал ли ты, мессер Франческо?.. Ха, ха, ха… Нет, в самом деле, ты, вероятно, решил, что с помощью своей науки можешь достичь того, чего не удавалось красивейшим юношам Падуи. Подумать только, какая самоуверенность!
– Я ничего подобного не предполагал, Катарина, – спокойно ответил Георгий. – И моя наука здесь ни при чем.
– Твоя наука! – Катарина вскочила. – Книжный червяк, вот кто ты! Книги и банки со зловонными смесями! Отвратительные трупы!.. Вы сами стали трупами из-за них – и ты, и мой отец. Вы не мужчины!.. Вы никогда не были мужчинами…
Георгий улыбнулся.
– Однако, Катарина… Если речь идет о маэстро Таддэо, то ты не права. Он, несомненно, был мужчиной, о чем свидетельствует рожденная им прекрасная дочь…
– Замолчи! – крикнула Катарина, охваченная яростью. – Я не хочу тебя слышать… Не хочу видеть! Уходи прочь!
Георгий не двинулся с места.
– Ты слышал? – повторила Катарина. – Поди прочь, или я позову слуг.
Георгий стоял неподвижно, нахмурив брови. Затем внезапно резким движением схватил девушку и, легко подняв ее в воздух, поцеловал в губы. Катарина отбивалась, тщетно силясь вырваться из этих железных объятий, потом замерла, обвив руками шею юноши. Георгий разнял ее руки и, осторожно опустив девушку на подушки, быстро вышел из комнаты.
Катарина лежала неподвижно, она поняла, что этот поцелуй был только доказательством превосходства Георгия.
– Франческо… – прошептала она. – Вы уходите, Франческо?
Да, этот первый поцелуй мог стать прощальным. Она не допустит этого. Катарина вскочила на ноги.
– Анжелика! Анжелика! – неистово закричала она. Вошла испуганная экономка. – Скорее, Анжелика!.. Плащ!.. Носилки!.. Ты отправишься со мной к старой Изотте.
* * * Георгий не подозревал, что на окраине города, в покосившемся домике, увитом сухими лозами плюща, за глухими ставнями решалась его судьба.
Старая Изотта внимательно выслушала рассказ Катарины, не упустив ни одной подробности.
– Не было ли кольца на руке его? – спросила она. – Волосяного или серебряного?
– Нет, Изотта, – ответила взволнованно Катарина. – Он не носит украшений.
– Единожды прочь, дважды ночь, будет утро, роса и дождь… – загадочно прошептала колдунья и повела за собой Катарину в заднюю комнату.
На клочке кожи ягненка она написала несколько слов и положила под медный котелок. Затем, бормоча невнятное заклинание, бросила в котелок три зерна ладана и высыпала голубой порошок.
Катарина следила за ней затаив дыхание. Колдунья вынула из тростниковой клетки двух белых голубей и быстрым движением пронзила стилетом сперва одного, потом другого. Подержав над котелком трепетавших голубей, чтобы кровь, смешавшись в одну струю, смочила зерна и порошок, она отбросила их в сторону. Катарина невольно посмотрела на птиц. Голуби умирали на глиняном полу, судорожно вздрагивая, силясь поднять головки.
Колдунья собачьей костью смешала содержимое и ткнула туда зажженный фитиль. Вспыхнуло голубое пламя. Изотта притушила его и извлекла из-под котелка пергамент.
– Возьми, синьорина, – сказала она, передавая пергамент Катарине. – Прочти его восемь раз вечером, восемь раз утром и ни разу днем. Сбудется все, что ты захочешь… если только нет у него кольца – волосяного или серебряного…
Высыпав в тряпочку пепел из котелка, она передала ее Катарине.
– В праздничный день брось это в его бокал. Пусть до конца выпьет, а ты сосчитай капли. Коли останется меньше, чем восемнадцать, он твой… Если только нет на его руке кольца – волосяного или серебряного…
Катарина дрожала, как в лихорадке. Теперь Франческо не уйдет от нее.
Все девушки Падуи знают, что никто так не помогает в любовных делах, как старая Изотта.
Вернувшись домой, Катарина с волнением развернула клочок кожи. На нем еле видны были слова. Катарина повторила восемь раз это бессмысленное заклинание, так и не поняв, что это всего лишь написанные наоборот итальянские слова, означающие: «Франческо будет моим. Аминь!»
Катарине пришлось много дней подряд повторять таинственные слова, написанные на клочке кожи. Она уже выучила их наизусть, а действие колдовства все еще не сказалось.
Георгий проводил дни и ночи в напряженных занятиях. Выходил только к общей трапезе. Да и в эти минуты он не находил ничего лучшего, как продолжать со своим учителем беседы о вещах, малопонятных и вовсе не интересных Катарине. Отец не отставал от своего ученика. Оба они временами казались одержимыми.
Так прошло два с лишним месяца. Наступил ноябрь. Уже облетели листья с деревьев, с гор по ночам дул холодный ветер, и небо стало серым и скучным. Катарина целыми днями бродила по дому, ища случая встретиться с Георгием. Однажды утром она направилась к его комнате, но не решилась войти.
– В пятницу, на этой неделе, соберется медицинская коллегия университета, – говорил отец.
– Не лучше ли отложить до следующего заседания, – услышала она тихий голос Георгия. – Я хотел бы должным образом проверить себя.
– Говорю тебе, ты вполне готов. Вот только…
– Что?
– Тебе, вероятно, известно, что всякий, кто желает быть допущенным к экзамену, должен внести определенную плату… десять дукатов…
– У меня нет такой суммы, – грустно сказал Георгий. – Может быть, вы… могли бы… Я верну все сполна, клянусь честью…
– Нет! На это я не дам ни одного кватрино!
Катарина чуть не вскрикнула от возмущения. Отказать в десяти дукатах, и кому? Франческо… Она готова была войти в комнату и предложить ему свои деньги.
Скупость отца всегда раздражала ее, но ведь с некоторых пор он стал как будто щедрее. Он сам подарил Франческо новое платье, приказал Анжелике подавать ему хорошую пищу и доброе вино. Почему же теперь?..
– Тебя удивляет, – послышался из-за двери голос отца, и Катарина снова прислушалась, – почему я отказываю тебе в десяти дукатах, которые, конечно, не разорили бы меня. Между тем я рассуждаю здраво. Я не хочу отдавать деньги этим скрягам, которые набивают себе карманы за счет стремящихся к науке юношей. Нет, этого не будет. Пусть вносят плату всякие посредственности, но ты, Франческо, ты – другое дело. Ты будешь допущен к экзамену бесплатно. Ибо твой экзамен будет праздником науки. Да, да, праздником науки!
Мусатти почти кричал, увлекаясь собственной речью, но Катарина из всего поняла только то, что предстоит праздник. Праздник Франческо! День, о котором говорила старая Изотта… В пятницу на этой неделе… Задыхаясь от волнения, Катарина побежала к себе.
Глава III
В пятницу, 5 ноября 1515 года, в университетской капелле святого Урбана собралась коллегия докторов искусств и медицины. В высоких резных креслах расположились члены коллегии, облаченные в бархатные мантии и большие четырехугольные береты. Это были ученые, имена которых везде повторялись с почетом и уважением, – маэстро Бартоломео Вольта, маэстро Франческо д'Эсте, братья де Ноале – Франческо и Николай, Аурелло Боветто, Бартоломео Боризони, Джеронимо Маринетто и другие маститые мужи, краса и гордость Падуанского университета. В центре полукруга, на председательском месте, восседал вице-приор коллегии маэстро Таддэо Мусатти. За окном густели осенние сумерки, но церковь была ярко освещена сотнями высоких свечей. Ровно в пять часов пополудни вице-приор поднялся, и заседание началось. – Славнейшие и почтеннейшие мессеры! – начал свою речь Таддэо Мусатти. – Я позволил себе пригласить ваши знаменитости для того, чтобы подвергнуть обсуждению высокой коллегии одну не совсем обычную просьбу. – Мусатти сделал паузу и, оглядев присутствующих, продолжал: – Явился к нам некий бедный, но, несомненно, ученейший юноша из страны, малоизвестной и отдаленной отсюда, быть может, более чем на четыре тысячи венецианских миль. Страна эта зовется Литуанией и населена народом христианской веры. Образование же свое сей юноша получил в Польском королевстве, в университете города Кракова, ученые труды которого, я полагаю, знакомы вашим знаменитостям, а пополнил свои знания в чешской Праге. Присутствующие слушали с интересом. Такие случаи происходили в Падуе не часто, и каждому хотелось увидеть странного пришельца из Гиперборейской земли. – Для чего же явился к нам этот чужестранец? – сказал Мусатти. – Удостоившись в Кракове степени бакалавра свободных искусств, он не почил на лаврах, но устремился далее, в горные высоты учености. Стремление познать благородную науку исцеления человеческих немощей побудило его совершить труднейшее, долгое странствование в наш город, слава которого распространилась до самых отдаленных земель… И вот ныне он просит разрешения высокой коллегии быть допущенным к экзамену на соискание степени доктора в науках медицинских. Мусатти остановился. Доктор Бартоломео Боризони, худой, высокий старик, попросил разрешения задать вопрос вице-приору. – Вы говорите нам, высокочтимый коллега, о стремлении этого юноши к науке, – сказал он, лукаво поглядывая на Мусатти. – Качество это похвально. Однако одного лишь стремления далеко не достаточно, нужны еще познания. Пусть этот чужестранец сведущ в области семи свободных искусств, об этом свидетельствует полученная им ученая степень, но мы ничего не слышали о его познаниях в медицинских науках… Мусатти бросил сердитый взгляд на Боризони. – Об этом, – сказал он, – вашим знаменитостям следует судить по ответам его на вопросы экзаменаторов. – Позвольте, коллега, – не унимался Боризони. – Прежде чем услышать ответы, мы должны решить вопрос о допуске к экзаменам. А для этого нам надобно знать, имеет ли он надлежащие данные. Ученые одобрительно закивали головами. – Он их имеет! – сказал Мусатти с некоторым раздражением. – Я это свидетельствую перед высокой коллегией. – Откуда бы это могло быть известно почтенному вице-приору? – ехидно усмехнулся Боризони. Мусатти побагровел. – Мне это известно, потому что юноша этот учился у многих уважаемых учителей и у меня. – О, тогда другое дело, – сказал Боризони с подчеркнутой учтивостью. – Вы, дорогой маэстро Таддэо, так строги и требовательны к своим ученикам, что они бегут от вас, словно ягнята от грозы… И если этот еще уцелел, то кто же рискнет усомниться в его познаниях. Ученые доктора не могли скрыть улыбки. Стычки Боризони с вице-приором были обычным явлением на заседаниях факультета, но на этот раз ему удалось особенно тонко поддеть старого ворчуна Таддэо. Вице-приор тяжело сопел на своем широком кресле, стараясь подавить в себе раздражение. Как всегда, его выручил седовласый Бартоломео Вольта. – Что ж, – сказал он, поднявшись со своего места, – постановим допустить к экзамену ученика почтенного маэстро Таддэо, и пусть он покажет нам плоды строгости и требовательности своего учителя. Мусатти был удовлетворен. Его раздражение против Боризони несколько улеглось. Снова обратившись ко всей коллегии, он сказал: – Благодарю, ваши знаменитости, за доверие и обращаюсь к вам еще с одной просьбой. Юноша, о котором идет речь, одинок и беден. У него нет средств, чтобы внести установленную плату за экзамен, и он почтеннейше ходатайствует о праве быть допущенным к экзамену бесплатно. В креслах послышался шепот и недоуменные восклицания. – Напоминаю, – продолжал Мусатти, – что устав нашего, а также и других университетов предусматривает такого рода исключения «из особой милости и любви к богу». – Пусть он войдет сюда, – предложил Вольта. – Пусть войдет… – согласились другие. Надо полагать, что почтеннейшие доктора ждали появления одного из тех странных полумифических существ, которые, по свидетельствам монаха Плано Карпини и венецианского купца Марко Поло, обитают в степях Великой Татарии. Интерес к испытуемому был так велик, что даже Боризони, который уже собирался спросить, почему маэстро Тзцдэо сам не уплатит установленного взноса за своего ученика, забыл об этом и устремил взор на дверь. Георгий вошел и остановился в отдалении. Он был в своем новом праздничном платье. Голова его была обнажена. Члены коллегии с изумлением увидели красивого молодого человека, ничем не отличающегося от других питомцев университета. – Имею честь, – произнес вице-приор торжественно, – представить вашим знаменитостям бакалавра Франциска, сына ныне покойного мессера Луки Скорины из города Полоцка, русского… Пусть он лично изложит свою просьбу. Георгий подошел к столу. – О знаменитейшие доктора, – начал Георгий на чистой и звучной латыни в том витиеватом стиле, который был тогда обязательным признаком высшей учености. – Из далекой земли русской прибыл я сюда. Отец мой, имя которого назвал почтеннейший вице-приор, был известным и уважаемым купцом славного русского города Полоцка. Ныне я остался сиротой и одинок на чужбине. Скромные мои сбережения были частью истрачены за время долгого пути, частью похищены бесчестными людьми. Ваш собрат, маэстро Таддэо Мусатти, приютил меня, предоставив возможность учиться у него и жить в его доме, не спрашивая за то с меня иной платы, кроме прилежания к науке, что делает честь его отзывчивому и человеколюбивому сердцу… Мусатти, очень довольный стройной и красивой речью своего ученика, победоносно взглянул на Боризони, но тот постарался не заметить этого. – Ныне я обращаюсь, – продолжал Георгий, – с почтительной просьбой допустить меня к соисканию степени доктора в медицинских науках без взноса платы. Честное и открытое лицо юноши, искусная латинская речь, в которой скромность и учтивость сочетались с мужественным достоинством, произвели должное впечатление. Мусатти поднялся и протянул руку к столу. – Вот две урны, – сказал он, обращаясь к синклиту. – Те из вас, которым угодно, чтобы мессер Франциск из Полоцка, русский, был допущен к испытанию бесплатно, благоволят класть шары в красную, утвердительную урну. Те, кому это не угодно, пусть опустят шары в зеленую урну, означающую отрицательный ответ. Один за другим поднялись члены коллегии, направляясь к урнам. Когда последний из них вернулся на свое место, вице-приор велел служителю вскрыть урны. Двенадцать шаров лежали в красной урне. Зеленая была пуста. * * * На следующий день, в субботу, шестого ноября, в тот же час, что и накануне, Георгий Скорина снова явился в капеллу святого Урбана, чтобы предстать перед экзаменаторами. Он был впущен не сразу. Сначала коллегия избрала промоторов, которым поручалось производить экзамен. Их было пять: Франческо де Ноале, Франческо д'Эсте, Джеронимо Амулло, Джеронимо д'Урбино и Бартоломео Боризони. – Мессер Франциск, сын Скорины из Полоцка! – провозгласил старший из промоторов, магистр Боризони. – Вам предстоит доказать, что вы действительно обладаете знаниями, дающими право получить высшую ученую степень. Готовы ли вы к этому испытанию? – Я готов, – тихо сказал Георгий. – Известны ли вам требования, которые предъявляет наш университет к ищущим степени доктора медицины? – Да. – Хорошо, – продолжал Боризони, – сегодня мы предложим вам некоторые вопросы из всей совокупности испытательного списка. Если ответы на эти вопросы не будут удовлетворительными, то ходатайство ваше о присуждении степени доктора будет отклонено. Если же, напротив, вы обнаружите надлежащие познания, то коллегия допустит вас к следующему, специальному экзамену, результаты коего окончательно определят вашу судьбу. Итак, вы готовы? – Да, – ответил Георгий. – В таком случае приступим. Первый предложенный вам вопрос изложен здесь. Служитель подал Скорине трубочку пергамента. – Повторите его вслух, – потребовал Боризони, – чтобы все присутствующие могли слышать, а затем, обдумав должным образом, отвечайте. Георгий развернул пергамент и громко прочел: – «Каковы главные органы человеческого тела? Какова деятельность каждого из них, в каком соотношении находятся они друг к другу и что узнаем мы об этом предмете из трактатов знаменитейшего Клавдия Галена,
которого по справедливости надлежит считать царем медицинской науки». Пергамент возвращен служителю, экзаменаторы не сводят глаз с Георгия. В зале напряженная тишина, слышно, как потрескивают восковые свечи. Скорина медленно поднимается на кафедру, обводит взглядом присутствующих. Вот полное, немного насмешливое лицо Боризони, вот сверлящие маленькие глазки маэстро д'Эсте. Бледный, взволнованный Мусатти. Скорина улыбается ему и говорит твердым голосом: – Славнейшие синьоры доктора!.. Был уже поздний час, когда члены коллегии расходились по домам. Медленно бредя по темной площади, старший промотор Боризони говорил своему спутнику Джеронимо Амулло: – Вам известно, мессер Джеронимо, что я не пылаю любовью к старому Таддэо, однако по чести должен признать, что на этот раз он, кажется, не промахнулся. Мессер Амулло бросил косой взгляд на коллегу. Он хорошо знал язвительный характер Боризони, нередко попадал сам в его неожиданно расставленные сети и потому на всякий случаи осторожно ответил: – Если послушать этого юношу, то от учения Галена останется немного… Боризони остановился. – Не совсем так, – сказал он с неожиданной горячностью. – Он признает многое у Галена: его учение о жилах и мозге, о показаниях и противопоказаниях, о значении крови, питающей организм… – Позвольте, мессер Боризони, – все еще осторожно вставил Амулло, – а отрицание печени, как основного органа, из которого исходит кровь? – Что же, – ответил Боризони, – быть может, в этом он прав, как прав и в том, что невозможно постигнуть функции органов, равно как и их заболеваний, только рабски следуя авторитету древнего ученого. Нужны все новые и новые опыты. – Это верно, – согласился Амулло. – Наши учителя, Мундино и Монтаньяна, утверждали то же… – Нет, этот юноша далеко пойдет… – заключил Боризони. – Говорю вам, мессер, старая лиса Таддэо не промахнулся… Нет, не промахнулся! * * * Специальный экзамен по медицине был назначен на вторник, девятого ноября. Георгий еще утром получил тему и мог заблаговременно обдумать ее и подготовиться к своей речи. Он должен был рассказать «о причинах наружных язв, злокачественных нарывов и гнойных воспалений у людей, не подвергшихся ранению оружием либо действию ядов, а также о наилучших способах излечения этих недугов». На этот раз заседание было назначено не в университетской капелле, а во дворце епископа, который от имени папского престола осуществлял надзор и попечение над Падуанским университетом. Поднимаясь в назначенный час по лестнице епископского дворца, Георгий невольно вспомнил о том, как восемь лет назад он с трепетом и волнением входил во дворец краковского епископа, мечтая поступить в университет. Теперь все было иначе. Иным был он, иным было и окружение. Не чувствовалось здесь той пугающей мрачности, которая отличала не только дом краковского епископа, но и университет. Итальянские прелаты жили свободнее, веселее и роскошнее своих польских собратьев. Залы дворца были уставлены мраморными статуями, изображающими древнеязыческих богов и античных героев, стены расписаны чудесными фресками, покои ярко освещены. В одной из пышных зал, в которой собрался синклит, на возвышении, похожем на трон, восседал сам епископ Паоло Забарелли, толстый, сонливый старик, облаченный в красную бархатную сутану. Подле него в огромном кресле сидел граф Фавентини, канцлер Падуанского университета. Вокруг расположились доктора и магистры. Их было значительно больше, чем на предыдущем экзамене, так как, помимо медиков, присутствовали и «артисты». Рассказы о первом экзамене вызвали всеобщий интерес к диковинному иностранцу. Епископу пришлось отказать многим, желавшим побывать на сегодняшнем экзамене. Исключение было сделано только для некоторых профессоров университета. Чувствуя на себе любопытные взгляды всех этих особ, Георгий занял место испытуемого. Он хорошо продумал вопрос, и теперь его беспокоило только одно: не окажутся ли приготовленные им примеры непонятными и неубедительными. Георгий объявил тему и начал речь. Он доказывал, что причины наружных язв и воспалений многообразны и что они связаны с состоянием внутренних органов. – Ибо, – говорил он, – опыт показывает, что во внутренностях людей, одержимых подобными болезнями, происходят изменения. Скорина указал, что большое значение имеют климат и почвы, а также пища и жилище людей. – Я приведу пример: в родной моей земле издавна существует тяжелая и мучительная болезнь кожи и волос на голове, именуемая в народе колтуном… – Вероятно, – неожиданно прервал его граф Фавентини, – недуг этот вызывается деятельностью невидимых злых сил или неблагоприятным сочетанием планет. А следовательно, и исцелять его можно лишь очищением от бесовского духа одержимой болезнью плоти. Скорина вспыхнул при первых же звуках скрипучего голоса Фавентини, угадав в нем церковного начетчика, ревностного блюстителя канонических истин, врага новой науки. Он умолк, опасаясь дать волю гневу. Профессор Мусатти, казалось, готов был вскочить с кресла и броситься на помощь своему ученику. Георгий видел его бледное напряженное лицо, лица докторов и магистров. Он знал, что от того, как он ответит на вопрос канцлера, зависит весь дальнейший ход экзамена. Длилась пауза. Граф Фавентини с улыбкой повернулся к епископу и тихо сказал что-то. Епископ поднял серебряный молоточек, Мусатти закрыл лицо руками. – Синьор! – громко сказал Скорина. – Не осмеливаюсь опровергнуть вашего предположения, но позволю себе лишь пояснить, что болезнь эта, как пришлось мне наблюдать, распространена в землях болотистых и редко встречается в сухих и возвышенных местностях. Кроме того, замечено, что одержимы ею главным образом сельские жители, пребывающие в крайней бедности и грязи, испытывающие недостаток в здоровой пище. – Ваше утверждение неубедительно, – возразил один из докторов. – Не только в вашей стране, но и повсюду встречается немало бедняков, однако мы не слыхали нигде больше о болезни, похожей на описанную вами. – Болезнь, о которой я говорю, существует не только на моей родине, – ответил Скорина. – Я должен сообщить вашим знаменитостям, что наблюдались подобные случаи и в Италии. Среди присутствующих послышались возгласы удивление и недоверия, но Скорина, чуть повысив голос, объяснил: – Здесь в народе она называется волосяной чесоткой, а медикам известна под латинским названием «Plica». – Ах, «Plica»! – вспомнил Мусатти. – Да, да, – неожиданно сказал Боризони. – Я знаю о такой болезни, мне приходилось наблюдать ее в некоторых деревнях Ломбардской низменности. – Совершенно верно, – подхватил Георгий, с благодарностью поглядев на Боризони. – Призываю вас в свидетели, уважаемый маэстро, в том, что и здесь преобладает болотистая местность и здесь крайняя бедность, грязь и скудость пищи. Я говорю о сочетании нищеты и голода с особенностями природы. Вспомним же, что еще Гиппократ
придавал большое значение влиянию внешней среды на человеческий организм. – Вы правы, – подтвердил Боризони, и Таддэо Мусатти облегченно вздохнул. Он не ожидал поддержки со стороны своего постоянного противника. – Вот почему, – продолжал Скорина, – я позволю себе допустить, что наилучшим исцелением этой болезни, как и многих других, является изменение условий жизни и пищи людей, в чем я убедился во время опытов, произведенных мною и моим… – Георгий на мгновение остановился, – и одним моим, ныне покойным, коллегой. – Георгий повернулся в сторону графа Фавентини и учтиво закончил: – Впрочем, это отнюдь не исключает предложенного здесь синьором канцлером метода духовного исцеления. Ибо очищение души от бесовских чар, то есть просвещение души и разума, искоренение невежества, злых нравов и мрачных суеверий, без сомнения, приведет к оздоровлению человеческой плоти от различных губительных недугов. Граф Фавентини одобрительно кивнул головой. Разбор этой темы следовало считать законченным. Однако едва Георгий умолк, как члены коллегии стали предлагать все новые и новые вопросы, уже не относящиеся к теме. Было очевидно, что ученым просто хотелось продолжить беседу с пришельцем, так искусно парирующим нападки, дающим оригинальное толкование поставленных вопросов. Экзамен мог бы тянуться бесконечно, если бы епископ не постучал своим серебряным молоточком. – Экзамен закончен, – объявил он. – Сын мой, удалитесь. Когда придет время, вас позовут. Георгий вышел в полутемную боковую комнату, похожую на церковный притвор, и опустился на низкую скамью. Только сейчас он почувствовал, какого напряжения сил потребовал от него экзамен. От изнеможения он не в состоянии был отчетливо восстановить в памяти все происшедшее. Так, словно в забытьи, он просидел до тех пор, пока не услышал голос служителя, приглашавшего его в зал. В зале царило торжественное молчание. Магистр Бартоломео Боризони стоял против епископа, держа в руках длинный пергаментный свиток. Едва Георгий остановился, щурясь от ослепительного сияния свечей, Боризони начал читать многословное и витиеватое постановление коллегии, гласившее, что «мессер Франциск, сын покойного Луки Скорины из Полоцка, русский, был строго проэкзаменован и на этом специальном экзамене держал себя в высшей степени похвально и хорошо, повторяя названные пункты и отлично отвечая на сделанные ему возражения, что ответы его были одобрены всеми присутствующими докторами единогласно и на этом основании он провозглашается почтеннейшим доктором в науках медицинских». – Приблизьтесь, доктор Франциск из Полоцка! – торжественно произнес Боризони. Георгий сделал нетвердый шаг вперед. – В качестве старшего промотора, избранного священной коллегией, я от имени всех присутствующих вручаю вам почетные знаки отличия, сопряженные с высокой ученой степенью, коей вы удостоены. Голос магистра Боризони звучит глухо и отдаленно. Георгий слушает безучастно, словно не для него собрались сюда все эти ученые и сам он будто где-то в стороне. Его мозг вяло воспринимает церемонию, будто она совершается ради кого-то другого. Служитель прикрывает его плечи черной шелковой мантией, водружает на голову четырехугольный докторский берет. Его опоясывают черным кожаным поясом и надевают на палец широкое серебряное кольцо – перстень Гиппократа. Весь синклит поднимается и по знаку епископа низко кланяется новому собрату, доктору Франциску из Полоцка. * * * Двери дома Мусатти широко распахнуты, лестницы украшены гирляндами цветов. В покоях сверкает извлеченная из сундуков золотая и серебряная утварь. В большом парадном зале столы уставлены кубками, дорогими амфорами и кувшинами. На блюдах высятся затейливые горы разнообразной дичи, фаршированные кабаньи головы, гигантские пироги в форме замков с башнями и крепостными стенами. Благоухают нежнейшие плоды. По залу плывут, неведомо откуда, звуки лютней, флейт и скрипок… Катарина носится по дому, давая распоряжения слугам и поварам, осматривая сервировку и кушанья. Это праздник Франческо, праздник, который должен решить многое. На торжество собрались все члены коллегии: доктора медицины и искусств, приоры и ректоры других коллегий, канцлер университета граф Фавентини и некоторые именитые падуанские граждане. Когда гости уселись за столы, Катарина ушла в комнату, примыкающую к залу, и, оглядевшись по сторонам, всыпала в бокал с ароматным лиссабонским вином заветный порошок. – Луиджи, – тихо позвала она одного из слуг. – Этот кубок ты поднесешь мессеру Франческо и скажешь ему так, чтобы никто не услышал, что я прошу его выпить в знак дружбы… Потом принесешь его мне, этот кубок… Не ошибись же, Луиджи. С нетерпением ждала она возвращения слуги. Наконец Луиджи вернулся, Катарина вырвала из его рук кубок и опрокинула его на полированную поверхность стола. – Пуст! – прошептала она с торжеством. – Здесь не будет и десяти капель… Поздним вечером, когда захмелевшие гости разъехались, доктор Мусатти позвал Георгия. – Мне нужно поговорить с тобой о серьезных делах, Франческо. Они поднялись в спальню маэстро. – Садись, мой друг, – ласково сказал старик, – и выслушай меня. Ты достиг того, о чем мечтал, и я испытываю радость, помогая тебе. Скорина поклонился: – Сотни раз, здесь и повсюду, я готов выражать вам мою глубокую признательность. – Я не к тому, – мягко остановил его Мусатти. – Ты преувеличиваешь мои заслуги… Мне не пришлось дать тебе многого. Ты явился ко мне уже зрелым ученым мужем. Я же благодарен тебе, ибо ты помог мне искупить грех, который мучил мою совесть… Понятно ли тебе, о чем я говорю? – Вы говорите о Федериго Гварони?.. – Да, о нем… И еще я благодарен тебе… Ты всколыхнул мою душу и разум. Месяцы наших с тобой занятий – может быть, лучшее время в моей жизни… Мне много лет. Но теперь мне кажется, что снова светла моя жизнь… что я снова способен на нечто полезное. – Разумеется, маэстро. В этом нет сомнения. – Пожалуй, – продолжал Мусатти. – Но одному мне не справиться с тем, что я… что мы с тобой начали… Я хочу тебе предложить… остаться у меня. Ты будешь моим помощником, другом. А когда я умру, займешь мое место в университете… Это – почетное место. Георгий слушал молча, избегая глядеть на старика. – Все, что я имею: этот дом, мои приборы, библиотека, рукопись и даже мои сбережения перейдут к тебе. Ты будешь моим наследником… Скажи, нравится ли тебе Катарина? – Ваша дочь, – тихо сказал Георгий, – одна из прекраснейших девушек, которых мне случалось видеть где-либо. – Ты станешь ее супругом. – Таддэо ласково положил руку на плечо Скорины. – Отдав ее тебе, я могу умереть спокойно. Что же ответишь ты мне? Георгий опустил голову. – Благодарю вас, учитель… Но… я не могу воспользоваться вашей добротой. – Как? – воскликнул в изумлении Таддэо. – Ты отказываешься? – Да… – Отказываешься от моего дома, от почета и богатства? – Да, – повторил Скорина. – Я покинул родину, чтобы найти знания, необходимые не только мне одному, но и моему народу. Я не постиг еще истинной науки, многое остается неведомым для меня… Но я знаю уж достаточно, чтобы начать дело просвещения моих братьев на Руси. Пора возвращаться домой. – Ты безумец, Франческо! – Мусатти взволновался. – Перед тобой открывается великий путь к науке и славе, а ты сворачиваешь в глухую чащу. Георгий попытался возразить, но старик не дал ему вымолвить ни слова. – Народ! – вскрикнул он. – Мессер Леонардо да Винчи, великий ученый и живописец, однажды рассказал мне мудрую притчу. Пойми ее!.. Большой камень лежал на холме, как раз там, где роща заканчивалась дорогой. Он находился среди трав, пестреющих цветами, и видел множество камней, лежавших внизу на пыльной дороге. И вот им овладело безумное желание очутиться среди камней, покинуть свою прекрасную возвышенность. «Я хочу жить одной жизнью со своими братьями», – сказал он и бросился вниз. И что же! Он оказался среди камней на дороге. По нему катились колеса телег, его топтали лошадиные копыта. Иногда он взлетал вверх, но падал и снова покрывался пылью и прахом. Тщетно он устремлял взоры вверх, на покинутое по нелепой прихоти место великолепного гордого одиночества. Подняться уже не было сил. Не так ли бывает с людьми? – Нет, маэстро, – сказал Георгий после некоторого раздумья. – Нет, не верна эта притча: нет в ней человеческой правды. Камень, бросившись вниз, не принес с собой братьям своим ничего, что могло бы изменить их участь. Я же стремлюсь опуститься с горных вершин науки в родной мне мир, не для того чтобы безучастно взирать на его бедствия. Решение мое неизменно. На глазах старика выступили слезы. – Я стар, у меня нет никого, кроме тебя… – Дорогой учитель, я скорблю о том, что невольно причиняю вам страдания. – Георгий обнял старика. Мусатти снова вспыхнул. – Нет! – крикнул он. – Ты не уйдешь… я отдам тебе все… все… Он подбежал к столу и схватил свитки рукописей, роняя их на пол. – Мои труды… Записи ценнейших наблюдений. Возьми их… Словно одержимый, он бросал к ногам Георгия рисунки, книги. Наконец вытащил из-под алькова обитую железом шкатулку. – Ты будешь богат… Тебя будут уважать и бояться, ты станешь прославленным ученым!.. Георгий почти силой усадил его в кресло: – Простите меня, дорогой учитель. Но я не могу. – А Катарина! – вскрикнул старик. – Неужели ты отказываешься и от нее? Скорина секунду помедлил. – Да, – тихо сказал он. – Я не свободен… – А… а… – вдруг послышался женский стон. Георгий быстро шагнул к двери и распахнул тяжелую портьеру: – Катарина!.. Девушка стояла, прислонившись к косяку двери, бледная как полотно. Взгляд ее упал на руку Георгия, смявшую край портьеры. – Кольцо!.. – прошептала Катарина. – У него на пальце серебряное кольцо… Все погибло!.. Георгий недоуменно поглядел на свой перстень Гиппократа. – Откуда оно? Кто дал вам его? – Это кольцо? – спросил Георгий. – Его дала мне университетская коллегия. Это – перстень Гиппократа. – Гиппократа? О, проклятый!.. Верните ему этот перстень! – Дочь моя, – пытался успокоить ее отец. – Это знак высокой учености… Каждый из нас гордится таким перстнем. – О, боже! – Слезы катились из глаз девушки. – Почему я не предупредила вас, отец! Изотта предсказала мне, что… что Франческо… если не будет на его руке кольца волосяного или серебряного… Георгий ласково взял девушку за руку. – Успокойся, милая девушка… Ты прекрасна и встретишь человека, достойного твоей любви… Да! – сказал он задумчиво. – Твоя Изотта права: кольцо лишило меня свободы. Но не это кольцо, а другое… Георгий расстегнул камзол, и Катарина увидела висевший на тонкой цепочке, рядом с маленьким нательным крестом, перстень с изображением дубовой ветки и латинской надписью «Fides».
Глава IV
Георгий не раскаивался в том, что отклонил почетное и заманчивое предложение Мусатти. Его решение вернуться на родину было твердым и окончательным. Но он успел уже привыкнуть к семье старого профессора, и разлука с ней была ему тягостной. Немало городов повидал он за время своих скитаний, и всегда города казались ему живыми, одухотворенными существами, способными чувствовать и переживать разнообразные события. Чем интересней была жизнь в городе, тем грустнее было расставаться с ним. В Падуе Георгию многое нравилось, и теперь ему захотелось проститься с ее улицами, площадями, чудесными постройками. Покинув дом маэстро Мусатти, Георгий пришел на пьяцца дель Санта-Антонио. В те времена Падуя, входившая в состав Венецианской республики, стремилась преобразиться, расширить свои пределы, украситься новыми сооружениями. Воздвигались величественные памятники, дворцы, соборы. На площадях устраивались новые хитроумные фонтаны, строилось большое здание университета. А рядом темнели старинные мрачные здания, помнящие еще жестокие битвы за власть императоров со сторонниками папства. Порожденные духом аскетической готики, они тянулись ввысь к небу, сурово и неодобрительно взирая на суету обитателей земли, на новомодные здания: просторные, светлые, украшенные скульптурами. Вот конная статуя, которой Георгий любовался в то утро, когда впервые вошел в Падую. В багряных отблесках вечерней зари она казалась еще величественней и еще более четко выделялась на фоне старинной башни. Башня стояла одиноко, никем не посещаемая, глухая и темная, покрытая сединой известковой пыли, поросшая мхом. Ее толстые стены, узкие бойницы и тяжелые ворота напоминали древние сооружения полоцких монастырей. Георгию захотелось подняться наверх. Он вошел в башню. В углах лестницы шла последняя борьба уходящего света с темнотой. Поднимаясь по истертым, как края колодца, каменным ступеням, Георгий то попадал в полосу света, проникавшего через амбразуры, то снова погружался во мрак. Эхо шагов гулко отдавалось под сводами. Пахло плесенью. Георгий медленно шел по спиралям лестницы, поднимаясь все выше и выше, и легкая, знакомая с детства отрада была в этом трудном подъеме. С каждым шагом взор его становился острее, и прошлое вставало перед ним в новом, неведомом освещении. «Не так ли и жизнь моя? – думал Георгий. – Бесконечное восхождение сквозь свет и тьму к неведомым вершинам. Сколько еще мне подниматься по извилистой лестнице и дойду ли до вершины ее? Или, быть может, свалюсь в бездну, как Федериго Гварони?..» Он вспомнил свой путь в Италию… Коперник говорил об этой стране как об очаге науки и чудесных искусств. Георгию Скорине пришлось увидеть наряду с чудесными произведениями живописцев, зодчих, ваятелей нищету земледельцев, убогие закоулки, тюрьмы, злобу тиранов, алчность ростовщиков, кровожадный фанатизм монахов, преследующих истинную науку. Он вспомнил Гварони и вновь с содроганием ощутил запах гари. Вдруг сильный порыв ветра ударил ему в спину. Георгий остановился. Он был на верхней площадке башни. На тяжелых балках спали колокола. В них еще сохранялся звон меди, как остается шум волн в раковинах, давно покинувших море. Георгий подошел к барьеру. С высоты город казался мертвым. Не было видно прохожих. Неподвижными были каналы, их воды никуда не стремились. Георгий нагнулся над ветхими перилами. Внизу, на дне бездны, последние отблески солнца озарили фигуру всадника. Статуя как бы отделилась от темной земли, стремясь взлететь к уходящему солнцу. Георгий выпрямился. На темном небе уже слабо обозначился серп луны. Послышался вздох… Георгий вздрогнул. – Ох, испугался было я… Уж очень вы наклонились, думал, самогубство, не иначе… Грех бы на мне… – Это было сказано на чистом русском языке, и Георгий, с удивлением оглянувшись, увидел молодого человека в русском кафтане и высокой шапке. – По-русски-то не понимаешь небось? – с сожалением спросил человек и добавил уже полупрезрительно: – Эх, латинская твоя душа! – По платью о душе судишь? – ответил Георгий тоже по-русски и улыбнулся. Человек ахнул, раскрыв от удивления рот. Встретить русского в ту пору в Италии было делом редким и необычным. Москва еще только начинала завязывать отношения с Западной Европой. Великий князь Иван III в 1499 году направил в Венецию своего посла Митрофана Карачарова, да посольство это было почти бесцельным: оно скорее являлось ответом на приезд итальянцев в Москву. Москва не очень нуждалась в дружбе с далекой Италией. Дела с беспокойными соседями занимали ее куда больше. Да и Митрофан Карачаров, посол московский, не одобрил латинских порядков. Домой вернулся и сильно ругал все. – Затея сия пуста и грешна. Об ней забыть надобно и на меня пост наложить в сорок дней! – говорил он самому великому князю. Однако преемник Ивана, Василий III, не оставил этой мысли. Росло и богатело Московское княжество. Нужны были ему не только почетные посольские связи с заморскими странами, но и торговые. Князь Василий под всякими благовидными предлогами рассылал своих людей за моря: «смотреть да примечать». К одной из таких «смотрельных компаний» и принадлежал молодой русский иконописец Тихон Захарович Меньшой, по прозвищу Тишка-богомаз, с которым встретился на башне Георгий. Тишка так обрадовался, услышав родную речь, что облобызал незнакомца, назвал земляком и любезным другом. Георгий не менее Тишки был рад этой встрече. Завязалась живая откровенная беседа. Впрочем, говорил больше Тишка. Он был возбужден и словоохотлив. Георгий с интересом слушал его. Тихон рассказал, что их «компания» везет подарки от великого князя венецианскому дуку – соболиную мантию, да шубу из пупков бобровых, да самоцветы, да птиц ловчих редких пород, и все невесть за что… Ехать сказано важно, не торопясь. Везде все присматривать да запоминать, что лепо… А от худого крестом и кулаком борониться. По каким причинам, ему то неведомо – вроде занемог в пути наистарший их, сам Никита Иванович Солод, – приказал он в Падуе передышку сделать. – «У меня, – говорит, – от ихнего теплого воздуха внутри все взопрело…» Да только причина, поди, не та. Не иначе как добрых муралей
высмотрел, теперь на Москву сманивает. Все пытал, – шепотом сообщил Тихон, – кто эту фигуру на площади сотворил и где сей Донателло проживает. А как сказали ему, что мастер уже сорок шесть лет как преставился, осерчал. «Дурачье! – кричит. – Поди, сожгли его!.. Тут, – говорит, – всякого умелого человека на кострах жгут…» – Да, жгут, – задумчиво повторил Георгий, глядя на погруженный в сумрак город. Тишка подошел к перилам и тоже поглядел вниз. – Стоял я на башне тут, – сказал он, – о мире думал. Вот надо такую икону выписать, чтобы святой людям и на земле чудился, и будто над всем миром вознесся. Лик его светлый, радостный, а земля темная, смутная, вот как сейчас… Кто же к святому приблизится, сам его светом озаряется. – Почему не выпишешь? – спросил Георгий. – На даль смотрю! – воскликнул иконописец. – Сколь проста отсюда она и сколь загадочна… Как понять?.. Как на одной доске весь мир охватить? Край земли и край неба… В красках ли дело? – Зовется сие перспективой, – объяснил Георгий. – Страшна она мне! – ответил Тишка. – Хорошее познать не страшно. Перспектива – дело полезное, – возразил Георгий. Тишка усмехнулся. – Сказано, есть в «подлиннике иконописном» святых изображать так и не иначе, – объявил он. – Я эту науку теперь, что «Отче наш», помню. – И, став в позу отвечающего ученика, Тишка-богомаз выпалил скороговоркой: – Какова телесным образом богородица? Росту среднего, вид лица как зерно пшеничное, волос желтый, взор острый, брови наклоненные, изрядно черные, нос не краток, уста сладковесия исполнены, весьма проста, смирение совершенное являет. Одежду носила темную. А по числу девятому месяца мая – день святого Христофора, изображать коего надлежит с песьей главой… – Вижу, – рассмеялся Георгий, – учен ты изрядно… Однако смотри, Тихон, вокруг. Учись, запоминай, на Москве, поди, такого не встретишь. – В Москве не меньше здешнего понимают! – вдруг вспыхнул Тихон, и Георгий увидел в глазах его гордый огонь. – Вот послали нас за моря муралей да механиков хитрых выискивать, что знают палаты ставить, воздвигать храмы, фигуры, посуду серебряную чеканить. Да, видать, у нас и свои мастера найдутся… – Дело, – одобрил Георгий, – коли своих мастеров выучили. Но Тихон не слушал его. – Вот! – почти кричал он, махнув рукой вниз на город. – Они на весь мир похвалились философией да алхимией, ан, поди, прав наш Никита… может, и Донателлу того сожгли, как прочих? По всей их земле смрад идет… – Тихон замолчал, отвернулся и горько вздохнул. – Только, может, мне одному все это чудится? А взаправду и у нас не лучше костров бывает… Георгий, приблизившись к нему, обнял за плечи и тихо спросил: – Ведома ли тебе притча о прутьях тоненьких, в одну вязанку связанных, что и богатырь обломать не мог? Тихон молчал. – Так и мы – люд слабый, – продолжал Георгий, – поодиночке. А кабы люди ученые друг другу помогали – не то было бы. Был я во многих городах земли. В Литве, и Белой Руси, и в Кракове, и в старом городе Пражском. Везде понимали меня, как брата, везде хороших людей находил. Вот теперь с тобой встретился, с московитом, и ты мне как брат. А захочешь поехать – поучить аль поучиться, ан князь, иль пан, иль рейтар сейчас же кричит: «Стой! Куда ты, зачем?» Кабы без князей да рейтаров… Тихон повернулся к Георгию, смотрел на него, широко раскрыв глаза, и душу иконописца наполнила радость, подобная ужасу. – А без князей… – прошептал он, – можно ли? – Искал я ответа, – продолжал Георгий, – в писаниях древних мудрецов. У Платона в книге «Республика», у славнейшего Аристотеля в трактате о политике, у блаженного Августина в «Граде господнем». И не нашел главного: законов естественных, управляющих жизнью народа по его собственной воле и стремлению. Всюду стены видны. Грани, секущие землю и людей, разделяющие рожденных от одного племени. Оттого вражда, насилие, зло и кровопролитие. – Как же разрушить стены эти? – воскликнул Тихон, захваченный его словами. – Как связать людей? – Стены эти подобны стенам Иерихонским, – ответил Георгий, – падут они от трубного гласа. Книга – вот что свяжет людей воедино! Вот что научит их отличать добро от зла. Она пройдет сквозь все преграды и возвестит зарю нового дня! Понятная людям книга. Не на чужой и мертвой латыни, но написанная на благословенном нашем славянском языке… Прочтет ее и чех, и поляк, и русский… Тихон не мог оторвать взгляда от прекрасного, охваченного порывом лица Скорины. На мгновение иконописцу захотелось поймать это выражение глаз, бледный свет на челе, легкий нимб волос вокруг головы… Быть может, сохранить его для задуманной им иконы. Но тут же Тихон отбросил эту мысль. Нет, это нечто другое. Слова Георгия всколыхнули душу художника, как ни один написанный им образ, как ни одна виденная картина… Это было нечто большее, чем икона. * * * Тихона Меньшого пленяло все, что относилось к области художеств. Ограниченный тесными рамками иконописных правил, он тайно предавался не только грешному любованию иноземными картинами и статуями, но и сам делал рисунки, похожие на те, что видел. Страсть эта особенно сильно проявилась во время поездки по Италии. Пригласив Георгия назавтра к себе в дом, Тихон показал ему книги. Это были древняя русская повесть «О Вавилонском царстве» и «Сказание о Белом Клобуке», позднее отосланное новгородскому архиепископу Геннадию и через него получившее распространение на Руси. – Книга эта весьма поучительна всем, – сказал Тишка восторженно. – Ибо предвещает она грядущее величие третьего Рима, сиречь царства Московского. Была у него и старая Псалтырь, писанная в Угличе в 1485 году. Георгий обрадовался этой книге, словно встретил родного человека. По этой Псалтыри, переписанной потом Матвеем, учился Георгий грамоте. – Стало быть, оба мы от одной книги грамотеями вышли, – весело объявил Тишка. – Правда твоя, что книга людей связывает… Затем, плотно прикрыв дверь и сделав Георгию таинственный знак, Тихон положил на стол рисунки, иллюстрирующие и поясняющие стихи Псалтыри. Богиня земли – Церера, в образе голой женщины, лежащей среди злаков, Аполлон на колеснице, запряженной огненными конями, бородатый старик с женщиной, сидящие на чудовище, вероятно Нептун с Нереидою, что подтверждала сделанная приписка снизу: «Благословите источники, моря и реки». Рисунки были робкими, наивными, но было в них какое-то свое, особенное чувство красоты, приковывавшее взор. Затаив дыхание Тихон следил за Георгием. Он видел, как не похож Скорина на других знакомых ему людей, и с трепетом ждал его отзыва. Но случилось иное. Дверь широко распахнулась, и в комнату шагнул невысокий плотный человек с чуть одутловатым лицом и маленькими острыми глазами. Человек был одет в русскую одежду, только куда богаче, чем у Тихона. Георгий понял, что это был сам Никита Солод. Никита Иванович подошел к столу, взял рисунки из рук Георгия и, едва взглянув на них, бросил на стол. – Ты? – спросил он, обращаясь к Тихону. Тишка ответил одним движением побелевших губ. Никита снова взял в руки рисунки и снова бросил их на стол, подходя к Тихону. – Дело твое, богомаз, все видеть и все изображать уметь. За тем и возим тебя с собой… Учись! Кровь густо прилила к лицу Тихона. – Был я вчерась в церкви ихней, – продолжал Никита, медленно прохаживаясь вдоль стола и ни на кого не глядя, – «Капелла дель арена» прозывается. Стены в ней разными картинами расписаны. Где зло, где добро… На самой большой изображен «Страшный суд», весьма натурально и поучительно… Не ведом ли тебе еще мастер такой? – спросил Никита Иванович, через плечо взглянув на Тихона. Тишка вздрогнул и торопливо ответил: – Не ведом… А этому имя Джотто. Итальянский мастер стародавний. Поди, боле ста лет как росписи сделал, а краски и по сей день… – Не о красках речь! – оборвал его Никита. Тихон замолчал, с тоской глядя в спину посла. Георгий с любопытством наблюдал эту сцену. Он видел, что Тихону трудно вести беседу с суровым и, вероятно, своенравным Никитой Ивановичем; у него даже мелькнула мысль перевести разговор на себя и тем выручить своего нового друга, но Никита Иванович неожиданно повернулся, мельком покосился на Георгия и, словно вспомнив, что в комнате находится гость, объяснил Тихону уже заметно другим, более ласковым голосом: – Только ли у Джотто твоего краски лепость свою сохраняют? Хитрость эта многим известна. А мастера такого у нас на Руси не встречал ли? Тихон боязливо качнул головой: – Нет… не встречал. – То-то, темень косматая, – снова готов был вспыхнуть Никита Иванович. – Вернемся домой, самолично свезу тебя к Троице Сергия. Увидишь, стены расписаны земляком нашим, Андреем, сыном Рублева. Есть там икона одна, «Троица». Слышал небось… Одной бы ее хватило вровень с итальянцем этим стать, а то и повыше. Да в Успенском соборе, во Владимире, сей Рублев разом с Данилкой Черным прямо на стене «Младенца Иоанна в пустыне» изобразили, очей не оторвешь… В голосе Никиты Ивановича была такая убежденность и такой гордый укор, что Георгий невольно почувствовал стыд, словно не Тишка, а он должен был знать о русском художнике Рублеве и не знал. Без всяких сомнений он поверил словам Никиты Ивановича и с радостью ожидал новых открытий. Но Никита Иванович по-своему истолковал происшедшее. – Молодо-зелено, – заговорил он, глядя на Георгия, как бы оправдываясь за своего подручного. – На заморское глаза пялит, на свое родное прищуривается. – И снова к Тишке: – Нет, Тихон, гляди на все, открыв очи. Все изучай да примеривай, кабы своего не обронить. Ты человек русский и должен русским мастером стать. В том и помощи нашей жди. – Никита кивнул на рисунки. – Другого я, может, за уши оттаскал бы, а на тебя надежду имею. Обрадованный Тишка бросился к Никите Ивановичу, схватил его руку и прижался к ней губами. – Будет! – ласково остановил его посол. – Я тебе отцом родным приказан, а ты хоронишься. От своего скрытничаешь, а чужому кажешь. – Никита показал глазами на Георгия. – Не чужой он! – горячо воскликнул Тишка. – Не чужой? – переспросил Никита с любопытством. – Русский он, – захлебывался Тишка, – и многому научить может… Я сперва к вам хотел его привести, да вот как получилось… Слава те господи. * * * В тот же день Георгий с радостью принял приглашение Солода отправиться вместе в Венецию. Никита Иванович был доволен, что встретил ученого человека, умелого лекаря и толмача. Он уже примеривался, как лучше, не переплатив лишнего, сманить этого доктора на Москву. Куда как выгодней будет он, чем иноязыкие латынцы. Георгию же приглашение Солода пришлось кстати. Средства его по-прежнему были ничтожны, а посетить Венецию, где в то время печатались лучшие в мире книги, было необходимо. Оказавшись среди посольской компании, Георгий вздохнул с облегчением. На душе было светло, словно он уже ступил на край родной земли. Тишка так привязался к своему другу, что не отходил от него ни днем, ни ночью. А однажды принес подарок – портрет доктора Франциска, писанный на обратной стороне старой иконы. Скорина был изображен в мантии и четырехугольном берете, за раскрытой книгой, в окружении всех известных Тихону атрибутов учености. Из-под книги свисало полотнище, на котором были изображены солнце и луна. В углу портрета Тихон Меньшой поставил свою подпись, хитро переплетя начальные буквы. Георгий был растроган подарком и решил сохранить его на всю жизнь как память о друге и брате. Много лет спустя другой художник и друг Скорины вырежет этот портрет на дереве, украсит его новыми символами творчества Скорины. Портрет станет общеизвестным, проживет века, но долго никто не разгадает переплетенные в углу славянские буквы, означавшие подпись русского живописца Тихона Захаровича Меньшого, по прозвищу Тишка-богомаз.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЛЮДЯМ ПОСПОЛИТЫМ
Земля моя, моя краина,
Я слышу твои призывный звон!
Якуб Колас
Глава I
В дыму и огне рождался день на краю Литовского княжества. Дрожали каменные стены Смоленска. Со свистом проносились через них легкие ядра. Юлой вертелись на пыльной земле кривых улиц.
Жители отсиживались в ямах и погребах. Ждали, когда пронесет дальше грозовую тучу, осыпающую город железным градом.
В дыму и пыли метались в крепости обреченные жолнеры Сигизмунда. Не было им от горожан ни помощи, ни сочувствия. Одна надежда на толстые стены, ограждающие город с четырех сторон, да на обещанное подкрепление.
К полудню все затихло. Трубы позвали бойцов на отдых. Жители высовывали головы и прислушивались.
Кончилось ли? Может быть, открыты уже ворота победителям? Нет, всюду тихо… Кто посмелей, вышел на улицу. Кто спасался в ямах, заторопился к дому: уцелел ли скарб да скотина домашняя, не пострадали ли пожитки от грабителей?
Хромой пономарь постоял на своем дворе. Подумал и отправился к соборной церкви отзвонить к запоздалой обедне.
Почти доверху поднялся он по шаткой лестнице старой колокольни, как вдруг… Словно толкнул кто всю землю, сдвинул с места. Огромный столб дыма, песка и камня взлетел к небу у крутого изгиба крепостной стены. Вздрогнул собор, и сами загудели колокола. Это московские воины зажгли в заранее подведенной тайной сапе
не одну бочку отборного зелья. В зияющий пролом, словно вода в прорванную плотину, хлынули москвитяне.
Это был конец многодневной битвы, томительных ожиданий. Понял это и оглушенный пономарь на колокольне и в радости рванул сразу все веревки колоколов, затрезвонил что было сил. В первый день августа месяца кровопролитного тысяча пятьсот четырнадцатого года в Смоленск вошел великий князь Василий. Владыка Варсонофий, в праздничных ризах, с крестом и иконами, в окружении всего церковного причта, вышел на мост встречать московского князя. Вышел с владыкой сдаваться на милость победителя и наместник короля Сигизмунда – Юрий Сологуб с малолетним сыном. Упал на колени.
Князь Василий сошел с коня. С радостной улыбкой подошел под благословение.
– Радуйся, православный царь Василий! Великий князь всея Руси! – возгласил дрогнувшим голосом Варсонофий. – Много крови пролито, земля пуста… Возьми город с тихостью и здравствуй на отчине своей, городе Смоленске, многие лета!
За Василием благословлялись братья его Юрий и Семен, воевода Данила Щеня и князь Репня-Оболенский.
Поодаль стоял со своими приближенными победитель смоленской битвы князь Михайло Глинский. Красивые разлетные брови приподняты, чуть раскосые глаза мечут молнии, он взволнован. Не то радуется, не то еще не остыл гневный пыл в груди воина. Хитрый советник его, немец Алоиз Шлейнц, стал рядом и тихо по-немецки спросил:
– Не видел, князь, как враг твой, Сологуб Юрий, с великим князем любезно разговоры вел?..
– Знать бы о чем, – ответил Глинский также по-немецки.
– Уши наши слыхали, – засмеялся немец. – Сологуб воли просит, к королю своему Сигизмунду уйти.
– Что же Василий? – быстро спросил Глинский.
– Согласен, – ответил Шлейнц. – Московский царь сегодня что именинник. Добр и тих. Хочешь, говорит, мне служить, я тебя пожалую, а нет – волен на все четыре стороны.
Глинский улыбнулся.
– Не простит Сигизмунд Сологубу Смоленска.
– Верно, князь, – подхватил немец. – Сологубу прощать незачем. Вот другому кому все простится…
– Сегодня забыть это надо, – нахмурился Глинский, – больше о Сигизмунде мне не поминай. Цель достигнута, и ныне с Василием дружба крепка будет!
Шлейнц вздохнул:
– Умен ты, князь, а подчас будто слепой. Как бы тот, что пиво варил, на пиру без ковша не остался…
Глинский взмахнул нагайкой:
– Эй, герр Алоиз! Не говори под руку… Пир еще не окончился!
Великий князь Василий медленно двинулся к соборной церкви. Улицы были полны праздничным движением и гулом. Черный люд и мещане, прорываясь сквозь цепь стражников, тянулись к московскому князю, хватали край его платья, прикладывались к стременам. Стаями разноцветных голубей взлетали брили и шапки. Молебен служили всенародно. А когда соборный хор запел «многая лета», подхватили его тысячи голосов на площади и на улицах. Весь Смоленск возвещал многие лета московскому царю. Гудели торжествующие колокола. Из подвалов выкатили бочки пива и меда. Быстро охмелевшие простолюдины в пьяном восторге выкрикивали то благословения, то ругань и лезли под копыта коней.
После молебна Василий отправился на княжий двор. Глинский отделился от свиты и поехал вдоль городской стены. Возле большого пролома его встретил иноземный пушкарь Стефан с помощниками. Пушкари любовались результатом своей работы. Вокруг еще дымились балки обгоревших креплений, валялась, косо уткнувшись в землю, разбитая московским ядром пушка, обезоруженные ратники Сологуба убирали трупы. Здесь царили смерть и печаль.
– Слава, князь! – приветствовал Глинского пушкарь. – Долго ты этого дня дожидался… Смоленск пал. Город твой!
Глинский бросил пушкарям горсть монет и, не ответив, поехал дальше. На мгновение слова пушкаря отозвались в груди Михайлы праздничным песнопением: «Город твой!» Но что же омрачало победу?
С момента вступления в Смоленск великого князя Василия все стало казаться Глинскому не таким, каким он ожидал увидеть. Словно и впрямь ему были дороги эти люди, солдаты короля Сигизмунда, теперь побитые ядрами и потоптанные его конем. Или вновь, как дурной хмель, засверлили сердце слова немца Шлейнца: «Как бы тот, что пиво варил, без ковша не остался»… Почему князь Василий не окликнул его, когда с братьями шел под благословение?.. Почему не оглянулся никто, когда он, словно непрошеный гость, отстал от свиты и повернул коня?.. Ведь это он, Михайло Глинский, был главным победителем. И разве не с ним первым должен был князь Василий разделить сегодня почести? А получилось, что он вроде наемника… Отвоевал, и получай расчет! Мало ли помог он Василию? Став вождем вольнолюбивых русских людей, он увел к московскому государю великое множество черного люда.
Польские магнаты проклинали «изменника» Глинского, высмеивали его: «Глинский-де якшается с холопами, пресмыкается перед Василием».
Завистники князя Михайлы, прежде грызшиеся друг с другом, теперь вновь объединились. Вдохновляемые королем Сигизмундом и его советниками, немецкими рыцарями Георгом Писбеком и Иоганном фон Рейхенбергом, они не пожалели ни трудов, ни денег. Уход Глинского на Москву значительно осложнял дело жесточайшего закабаления Белой Руси польскими магнатами и костелом.
Зато имя Глинского стало популярным в православных братствах. Простые люди искали пути в войско князя Михайлы. Из уст в уста передавались рассказы о том, как хорошо да вольно живется теперь людям Белой Руси, последовавшим за Глинским к московскому царю. То там, то здесь вспыхивали все новые и новые восстания. Польские воеводы требовали от короля Сигизмунда решительных действий. Предлагали подослать убийц к зачинщику небывалой смуты. Но на тайном совете у короля рыцарь фон Рейхенберг предложил другое… В костелах и монастырях больше не произносились грозные слова проклятия. И даже рассказывали, что каких-то пойманных простолюдинов, пробиравшихся за кордон к князю Михайле, отпустили на волю, не причинив им зла.
К Глинскому был подослан, будто ненароком, польский шляхтич из дома Трепков, который своими рассказами скорее успокоил, чем насторожил Михайлу. Глинский был полон лучших надежд. Не придавая значения шипению Сигизмундовой дворни, он уже снова видел себя вождем и собирателем сильного государства, способного помериться не только с ослабленным распрями королевством Сигизмунда, но и с европейскими странами. Недавно им получено было письмо из далекой Венеции.
«Ты, князь, – писалось в этом письме, – явил мужество, начав избавление братьев наших от чужеземного ига, что, как черная хмара, закрыла земли Белой Руси. Дело это свято, и в далеком потомстве имя твое повторится с благословением. Правое дело творишь ты, соединяя православный люд наш с Москвой.
Наступит час, когда брат подаст руку брату, и не токмо люди твои, но все, кто от одной веры рожден и от одного языка богом на свет пущен, в великой семье соберутся. Не будет семьи сильнее этой. Кому противно сие?.. Друзьям ли твоим и нашим?.. Но не зло связывает людей в сердцах их, а добро и разум, знанием освещенный…»
Подписано это письмо было доктором Франциском из города Полоцка и доставлено князю посольской компанией боярина Никиты Ивановича Солода из Венеции.
Никита Иванович сообщал: «Ученый сей муж, доктор Францишек, человек православной веры и ума весьма быстрого. Многое видел, многое знает. Родом он из Белой Руси, куда вскорости вернуться хочет, и можно от него немалой пользы ждать».
Глинский и не вспомнил бы об этом письме когда-то служившего у него бакалавра, если бы не несколько слов, заставивших его иначе осмыслить все происшедшее.
«Спешу к дому, – писал доктор Францишек, – дабы в меру сил своих помочь делу не твоему только, но общему. Есть на земле нашей православные братства. Они радеют о поспольстве денно и нощно. С их помощью соберем людей, пройдем все межи и грани, ибо дух наш свободен. Тебе же, князь, надобно с братствами союз заключить немедля. В них ты и помощь найдешь, и наставление. Иначе не мыслю, как сможешь народ привести к правде? Я и сам вскорости опять прибуду к тебе…»
Не в первый раз слышал князь Михайло о православных братствах. В самом начале пути Глинский подумывал о союзе с ними. Но жизнь постепенно меняла его замыслы. Не о свободном духе народа думал теперь князь Михайло. Теперь не то, что было в Турове. Иначе поведет дело князь. Он сядет господарем в Смоленске, будет держать в своих руках ключ от двух государств, Кто захочет идти на московского князя, у того на пути он, Михайло Глинский, в Смоленске. А пойдет московский государь походом на Литву, и ему не миновать этой крепости. Со Смоленска начнет, а там… бог поможет!
Вот ради чего так трудился он, воюя Смоленск. Не щадя людей своих, вел штурм крепости. И покорил Смоленск. Это признали все: и наместник смоленский Сологуб, и княжий воевода Щеня.
Теперь слово за великим князем Василием. Настал час, когда московский государь может уплатить за верную службу. Князь Василий по праву отдаст победителю город со всеми его людьми и имуществом. В этом Глинский не сомневался.
Глинский привык к лести и славе и теперь, войдя в княжьи палаты, принял как должное поклоны и сдержанный шепот придворных. С гордо поднятой головой он прошел мимо вставших ему навстречу бояр и направился к возвышению, на котором сидел великий князь меж двух своих братьев – Семена и Юрия.
– Дай руку, князь, – сказал Василий поклонившемуся Глинскому. – Спаси тебя бог за твою храбрость и службу.
Вот он, долгожданный час! Глинский опустился на одно колено.
– Великий государь! – сказал он, и голос дрогнул в сильном волнении. – Ныне я дарю тебе город Смоленск. Чем одаришь меня?
Василий ответил не сразу. Словно обдумывая награду, он смотрел на коленопреклоненного. Потом встал и, подняв Глинского, тихо попросил:
– Повтори, князь, слова свои!.. Ныне ты даришь мне город?..
– Город Смоленск… – повторил Глинский, смутившись.
– Нет, князь, не город, – ласково поправил его Василий и, подведя к окну, объяснил: – Не город, но крепость сильнейшую, какой лишь при великом умении овладеть удается.
Похвала окрасила щеки Глинского румянцем. Василий продолжал говорить, постепенно сам зажигаясь своими словами:
– А в крепости люди. Одной с нами веры, одного племени. Большую радость принесли им наши воины. Смотри, князь, в городе будто светлое воскресенье! – Василий распахнул окно, и в палату ворвались густой гул колоколов, многоголосое пение и пьяный шум. Лицо Василия озарилось радостью. – С ними и мы ликуем! Ликуем, что вернули отчину нашу стародавнюю, братьев наших от чужбины избавили… Только, думаю, дело наше еще не окончено.
Василий повернулся от окна ко всем стоявшим в палате.
– Король Жигмонт, как раньше наших уговоров не слушал, так и теперь, поди, не захочет мира. Ведомо нам, собирает король большую рать. Надо оборонять наш Смоленск!
И, шагнув на середину палаты, Василий заговорил быстро, повелительно:
– Боронить его будем не здесь, не за стенами. У Друцка, у Борисова… К Минску пошлем дружины. На все пути наши замки повесим. А ты, князь Михайло, направляйся к Орше не мешкая. Стань на Днепре!
Глинский чуть было не вскрикнул. Сердцем почуял: случилось злое, непоправимое. Еле сдерживаясь, спросил:
– А Смоленск?
– Бог милостив, – перекрестился Василий. – Князь Шуйский нашим наместником тут станет, досмотрит за городом. Вы же его там оберегайте, авось в дружбе и отстоите Смоленск… Поклонись, боярин, воеводам. Проси, не дали бы тебе одному с Жигмонтом биться.
Шуйский вышел вперед и, не сдержав улыбки, поклонился Глинскому. Князь Михайло стоял бледный, чувствуя, как кровь отливает от сердца. Ох, не прост оказался Василий, московский государь! Не знал Глинский, что лежат в московском тайном приказе перехваченные письма из Польши и сидят в темницах перебежчики, под пытками сознавшиеся, что посланы они самим королем Жигмонтом к князю Глинскому. Не знал он и того, что в самом доме Глинского его советник немец Алоиз Шлейнц вел двойную игру, помогая перехватить письма, им же самим подсказанные. Расчет у того был один: доверие московского князя к Глинскому постепенно ослабеет. Рано или поздно Глинский это должен будет почувствовать и пожалеть о своей измене Сигизмунду. А от раскаяния до желания вернуть былое путь недалек.
Расчет был верен. Василий, хотя не очень прислушивался к доносам тайного приказа, все же не решился отдать Смоленск Глинскому, и это была последняя капля, переполнившая чашу.
Еще до того, как обиженный и оскорбленный князь Михайло наконец согласился на уговоры Шлейнца и собственноручно написал королю Сигизмунду о желании вернуться, князь Василий уже расставил свои ловушки…
* * * – …Прямого пути тебе нет. Не стало прямого пути ни конному, ни пешему. Будто кто нарочно все перепутал. Едет человек в одно место, а попадает в другое. Бог знает куда, как далеко. Не то что шляхи проезжие – лесные тропы и те заставами перегорожены, волчьими ямами изрыты. Не ровен час – пропадешь. В своей околице с хутора на хутор не пройдешь. А коли заставит человека беда в город или еще куда отправиться, так прощается с семьей, словно за море путь держит. И скажи на милость, откуда их набралось, столько стражников да соглядатаев! Хватают каждого, откуда бы ни ехал, с русского аль с польского боку. Говорят, ищут какого-то князя беглого. Может, и брешут, только сказывают: князь этот везет волю крещеным людям. Вот его паны и ищут… А напрямик не проедешь. В объезд надо. Путь держи берегом вдоль речки. Что на ночь собрался, может, оно и лучше… А может, и хуже… Кто его знает!..
– Спасибо, отец…
– Храни тя господь!
Старик перекрестил всадника и долго смотрел вслед, пока тот не скрылся в сумрачной мгле перелеска. Незнакомый всадник казался старику человеком хотя и необычным, но, по всему видно, незлым. Никакого оружия старик при нем не заметил. И разговаривает, будто в соседнем селе родился. А с виду – пан. Подаренная же на прощанье монета и вовсе убедила рыбака, что человек тот не злодей. А все же хорошо, что он проехал… Старик вздохнул, поправил на плечах худой армячишко и побрел к шалашу, одиноко темневшему на песчаной отмели.
…Уже совсем стемнело, когда всадник устало склонился на седле и выпустил поводья. Голова его тяжелела, и по телу медленно расползалась сковывающая, томящая дремота. Всадник не заметил, как лошадь свернула в сторону и ровным неторопливым шагом углубилась в поросший мелким кустарником лес.
Тишина леса, монотонное чавканье копыт да мерное покачивание седла совсем усыпили усталого путника.
Вдруг что-то большое и темное навалилось на него. Послышался короткий свист. Конь, шарахнувшись в сторону, выбросил его из седла. На всадника бросились с разных сторон люди. Кто-то сильной рукой сдавил горло, зажал рот. Он застонал, чувствуя, как ему выворачивают, скручивая за спиной, руки.
Завязали рот и глаза и, грубо толкнув, повели. Он слышал, как следом вели его коня. Кто-то спросил:
– Что в сумах?..
Другой ответил:
– Бумаги.
И снова первый:
– Значит, опять от Жигмонта…
Всадник сделал попытку заговорить, но сильный удар в спину заставил его смолкнуть.
Так они дошли до оврага и, спустившись вниз, остановились. Невидимые люди подходили к пленному, щупали одежду. Хриплый голос приказал по-русски:
– Сумы подай сюда, а пана не трогать. Придет батька, сам разберется… Да развяжите его! Как бы не задохся раньше времени!
Пленника толкнули. Ноги скользнули по земляным ступеням. С него сорвали повязки. На мгновение мелькнуло высокое звездное небо в узком вырезе двери.
Захрипела сколоченная из толстых кольев дверь. Стукнуло бревно запора, и вокруг стало темно и тихо…
* * * Когда пленник очнулся, первое, что он услышал, были слова латинской молитвы. Сквозь щель пробивался рассвет, позволявший различить фигуру коленопреклоненного человека. Слабым голосом пленник окликнул молящегося. Тот замолчал, потом сказал по-польски, с сильным иностранным выговором:
– Я считал вас мертвым.
– Вы немногим ошиблись, – ответил пленник тоже по-польски, пытаясь приподняться и со стоном снова опускаясь на землю.
– Кто вы, – спросил молящийся, – и как попали сюда?
– Я несчастный скиталец, – с горечью ответил пленник. – Всему виной неразумная торопливость… Я спешил повидать одного человека с моей родины…
– О, теперь вы еще дальше от него, чем были. От него и от вашей родины… Да и вряд ли вообще нам с вами удастся попасть на польскую землю.
– Я не поляк, – возразил пленник.
Молившийся резко повернулся, пытаясь в темноте рассмотреть пленника.
– Вы назвали себя скитальцем, – осторожно заметил он. – Значит, родина ваша не здесь? И не в Польше?.. Где же она? Как ваше имя?
– Зовусь я доктором Франциском Скориной, а родился в городе Полоцке, – просто объяснил Георгий. – Побывал я и в Польше, и в чешских, и в немецких землях, и в итальянских городах.
– Я также бывал в этих странах, – вздохнул собеседник, – и, подобно вам, теперь горько раскаиваюсь, что покинул их…
– О нет, друг мой! – перебил его Георгий. – Люди, пленившие нас, скоро убедятся в своей ошибке… Мне удалось слышать их беседу. Если не ошибаюсь, мы в лагере русских?
– Да, – ответил собеседник, снова насторожившись, – это русские…
– Тогда все легко разъяснится, – с заметным облегчением сказал Скорина. – К ним я и направлялся, желая повидать нужного мне человека.
– Кто этот человек? – тихо спросил собеседник.
– Князь Глинский.
– Кто?
– Михайло Глинский. Разве вы ничего не слыхали об этом благородном рыцаре?
О дьявол! – простонал собеседник. – Вы назвали им его имя, и тогда они схватили вас?
– Увы! – возразил Георгий. – Я не мог им сказать ни одного слова: рот мой был завязан…
– Постойте! – Собеседник вскочил и схватил Георгия за плечи. – Вы сказали… вас зовут Франциском Скориной?
– Да, это мое имя.
– Не вы ли несколько лет назад были в канцелярии князя, в Турове, и потом… куда-то исчезли? Я не ошибаюсь?
– Вы не ошиблись. Я был отправлен с поручением князя в Киев, – пояснил Георгий, – моя болезнь помешала мне вернуться к Глинскому вовремя, а происшедшие затем события заставили и вовсе покинуть родину. Однако если мы с вами встречались в Турове…
– Оба мы были там в одно время, – чему-то обрадовавшись, быстро и торопливо заговорил собеседник, – видно, сам бог поставил меня на пути вашем. Значит, вы друг Глинского и поможете спасти его… Его и меня, советника князя Михайлы… Знаете ли вы немецкий язык?
– Я знаю многие языки, но что случилось с князем? Как ваше имя?
– Вы узнаете все, – шептал немец. – Верно ли то, что вы сказали о себе и… что вы все еще друг Глинскому? Поклянитесь!
– Клянусь… – ответил удивленный и встревоженный Георгий. – Клянусь, что я всем сердцем сочувствую князю Глинскому и его делу.
– Аминь! – закончил немец, опускаясь на колени. – Вы русский, – зашептал он в самое ухо Георгию, – быть может, вас отпустят. Слушайте! Они захватили бывшие со мной два письма, написанные по-немецки. Во что бы то ни стало их необходимо добыть и передать по указанному адресу. Только не говорите этим разбойникам, что вы ехали к Глинскому. И даже под пыткой не выдавайте, откуда получили письма.
– Что в этих письмах?..
– Я разрешаю вам прочитать их… Потом, когда вы будете далеко отсюда… Если вам удастся передать письма лично, это будет большим счастьем и для князя Глинского, и для вас. Вы скажете только два слова: «Перстень и ладанка». Всего два слова, и вас примут, как родного брата.
Снаружи послышались голоса. Дверь, скрипя, распахнулась, и бородатый вооруженный человек крикнул:
– Эй, немец! Выходи!
Немец поднялся на ноги. Колени его дрожали.
– О! Что бы я сейчас отдал за десяток моих всадников! – прошептал он, сжимая кулаки.
Оставшись один, Георгий попытался разобраться в том, что он услышал. Все было туманно и тревожно. Что-то произошло с князем Глинским, но что? Если это стан русских, то почему немец заклинал его не произносить имя Глинского? Князь Михайло в беде, сказал немец. Неужели снова Георгия постигнет неудача? Он мысленно окинул взглядом события последних месяцев. Проведя много дней с русским посольством на пути в Венецию, Георгий узнал то, что было скрыто от него и его соотечественников кордонами польского короля и воеводскими стражниками. Он узнал о жизни своих братьев в большом и могучем Московском княжестве, узнал о новых людях Москвы, борющихся за просвещение народа. Созрело решение во что бы то ни стало поехать туда. Венеция больше не задерживала его. Ему удалось повидать лучшие тамошние печатни и даже поработать в одной из них. Георгий заполнил несколько сшитков подробными записями: «Как литеры резать, краску накладывать, как листы тиснуть», «Что есть рисунок и для чего оный в книге применяется», а также «О механике устройства станков друкарских».
Желание как можно скорей вернуться на родину и оттуда отправиться в Москву было так велико, что Георгий, не дождавшись окончания посольства, распрощался со своими новыми друзьями. Казалось, наступил его час. Полоцкое братство поможет ему установить связь с просвещенными московскими людьми, сообща они откроют друкарню, и тогда доктор Францишек отдаст все, что собрал за годы учения, «братьям своим – Руси».
По дороге в Полоцк Георгий много раз слышал имя Глинского. Произносили это имя то с благословением, то с завистью, а то и с проклятием. Но одно казалось несомненным: Глинский был врагом польских и немецких поработителей, врагом латинских монахов, а стало быть, другом белорусского люда.
Еще не успев разобраться в сложной путанице политических событий, Георгий решил отправиться к князю Глинскому, надеясь, что Глинский окажет ему поддержку в печатном деле.
Снова скрип тяжелой двери прервал нить его размышлений. В темницу вбежал запыхавшийся ратник и, подталкивая Георгия, погнал его по оврагу к центру лагеря.
На небольшом холме, возле шалаша, сложенного из кольев и ветвей, окруженный вооруженными людьми, стоял немец. Георгия поставили рядом.
– Кто ты и откуда к нам прибыл? – спросил Георгия немолодой, крепкого тела человек, сидящий на обрубке дерева у самых дверей шалаша.
Висящая на перевязи дорогая польская сабля да короткие остроносые сапоги, какие носили тогда русские, несколько отличали его от пестро одетых вооруженных людей, стоявших вокруг. По повелительному голосу и свободной позе нетрудно было угадать в нем атамана. Лицо его было по-цыгански смуглым и, как почудилось Георгию, странно улыбалось. Вглядевшись пристальней, Георгий увидел, что лицо атамана перекошено глубоким шрамом от сабельного удара. Щека на месте шрама собралась морщинами, рот, растянувшись навсегда, покривился усмешкой.
– Что молчишь? Аль с перепугу язык проглотил?
– Батька! – раздался со стороны веселый голос. – Он же, поди, человечьего языка не понимает. Дозволь, я по-немецки спрошу?..
К Георгию подскочил маленький, с лисьей мордочкой человек и, взмахнув полами длинного кафтана, безобразно кривляясь, поклонился пленнику.
– Хурды-мурды, откуда и куды?.. Эйн, цвей, понимай, говори, не зевай!
По оврагу покатился веселый хохот. Смеялся командир, смеялся и сам лисьемордый шутник. Немец повернул к Георгию побледневшее лицо.
– Кажется, начались наши веселые похороны, – сказал он по-немецки.
Но Георгий не слышал его. Он по-прежнему пристально смотрел на атамана. Что-то далекое, забытое вновь вставало в его памяти. Словно когда-то он уже встречал этого смеющегося атамана, видел этот овраг, этих вооруженных чем попало людей. Георгий огляделся. Вокруг стояли франтоватые, не успевшие обноситься польские конники, и вооруженные бердышами русские бородачи, и белорусские крестьяне с косами и пиками, и обвешанные дешевыми украшениями бродяги, не знавшие ни роду ни племени. Словом, все это войско ничем бы не отличалось от обычной разбойничьей шайки, если бы не его многочисленность и порядок, царивший в лагере.
Едва только атаман поднял руку, смех прекратился и веселый шут отскочил в сторону.
– Говори, не зевай, – повторил атаман. – У нас кто зевает, того осина качает. Так, что ли, браты?
– Так, батька, так! – весело ответило несколько голосов.
Георгий шагнул к атаману и, не отрывая глаз от его лица, тихо спросил:
– Сымон?.. Батька Сымон?..
Атаман, в свою очередь, пристально посмотрел на Георгия.
– Сымон… А ты кто будешь?
Георгий вдруг радостно протянул к нему руки.
– Ну, здравствуй же, батька! Вот как нам довелось! Ты меня провожал, ты же меня и встретил… Купецкого сына из Полоцка помнишь? За наукой ехал, – торопился напомнить Георгий. – Еще пожар возле Радогостья. У епископа… Монаха на воротах повесили…
– Что монаха повесили, то не примета, – равнодушно ответил атаман, все еще не принимая руки Георгия.
Но Георгий уже осмелел. Он готов был совсем по-дружески обнять атамана.
– Лет десять тому ты с ярмарки ехал… Все мне загадки загадывал… Я тебя сразу узнал бы, да вот этот шрам. А так и не постарел даже… Вспоминал я тебя долго. Встретить надеялся…
– Постой! – остановил его атаман. – Не узнал ты меня, человече. Да и я тебя впервой вижу…
– Не узнал? – удивленно переспросил Георгий, отступая от атамана.
– Не узнал, – повторил тот, – а что Сымона вспомнил, царство ему небесное, – атаман осенил себя крестом, – на том спасибо.
Георгий не мог понять, шутит над ним атаман или он действительно ошибся. Георгий готов был поклясться, что перед ним стоит его старый знакомец, «собиратель дикого меда».
Нет, это была не шутка. Стоявшие вокруг них воины не улыбнулись, не засмеялись. Некоторые вслед за атаманом приподняли шапки и тоже перекрестились. Значит, Сымон мертв.
Немец, наблюдавший всю сцену, несколько оживился и шепнул Георгию:
– Слава богу, все идет хорошо… Вы хорошо начали, смелее, друг.
Атаман резко повернулся к немцу:
– Что ты там шипишь?
Немец вздрогнул и головой показал на Георгия: пусть, мол, переведет. Сам не зная почему, Георгий изменил смысл сказанного.
– Он сказал, – перевел Георгий, – слава богу, что мы оказались среди друзей, а не врагов.
Тот, понимавший по-русски, благодарно улыбнулся Георгию.
– Это еще будет видно, кто тут друзья, – крикнул атаман. – Эй, дьяк! Неси бумаги!
Худой высокий дьяк, вооруженный кистенем, подал свернутые трубкой измятые бумаги. Георгий понял, что это были письма, о которых говорил немец в темнице.
– Вижу – ты человек грамотный… – сказал атаман, обращаясь к Георгию. – За наукой ездил, вот и разберись.
Георгий протянул руку, желая взять бумаги, но атаман не дал их.
– Крестись, что правду скажешь.
– Я правду скажу, – ответил Георгий, перекрестившись, – но скажи и ты мне: верно ли, что я ошибся?.. Что не Сымон ты?..
– Верно, – словно нехотя ответил атаман. – Я брат его. Родной брат. Зовусь батькой Михалкой… Читай.
– «Брат Алоиз! – прочитал Георгий в первой бумаге. – Доказательством вашей преданности и умения будет ускорение дела. Не подвергайте превратностям судьбы то, что с таким трудом подходит к благополучному концу. Заставьте князя решиться немедленно. В противном случае прибегните к условленному средству. Это письмо дает вам на то разрешение, а оттиск святого перстня и ладанки отпускает вам сей грех.
Шлет вам благословение господне ваш брат – рыцарь Иоганн фон Рейхенберг».
Иоганн фон Рейхенберг!.. Так вот где привелось Георгию встретиться с этим давно забытым именем. Он взглянул на Алоиза. Тот, вероятно, решил, что Георгий не понял содержания письма. Заметно волнуясь, он быстро заговорил:
– Из второго письма вам все станет ясно… Но ради бога не читайте его сейчас, выиграйте время, скажите, что…
– Читай вторую бумагу! – потребовал атаман.
Никто не знал, как велико было для Георгия значение последней строчки письма. Он еще не понимал сути дела, но твердо знал, что там, где замешан Иоганн, нечего ждать добра. Георгий развернул второй лист.
– «Рыцарю Иоганну фон Рейхенбергу! Высокочтимому советнику всемилостивейшего короля Сигизмунда, с наилучшими пожеланиями успехов в делах вашего великолепия, молит о помощи Алоиз Шлейнц.
Тяжкие события заставили меня написать это письмо в надежде, что найдется добрый католик и согласится доставить его вам, пока еще не будет поздно и я, слуга и брат ваш, еще не расстанусь с жизнью…»
Георгий вдруг замолчал. Лицо его выразило крайнее удивление, даже испуг. Он быстро взглянул на Шлейнца и снова впился в письмо, не произнося ни слова.
– Читай! Читай все! – приказал атаман.
– Нет! – крикнул Шлейнц, задыхаясь от волнения.
По знаку атамана немцу заткнули рот тряпкой.
Георгий шагнул в сторону, как бы желая избавиться от мешавших ему людей. Десятки глаз следили за ним, видя, что происходит нечто важное и неожиданное. Атаман заглянул через плечо Георгия, словно надеясь что-то понять в острых немецких буквах. Прошло несколько томительных минут. Наконец Георгий сжал в кулаке письмо и поднял голову. Глаза его горели.
– Батька Михайла! – сказал он, кладя дрожащую руку на плечо атамана. – Я дал клятву этому человеку. – Он указал на Шлейнца. – Я дал клятву, что сделаю все для спасения его… Я отрекаюсь от клятвы, ибо человек этот подлый враг.
И так велико было испытываемое им волнение, что Георгий, сделав шаг, почувствовал, как ноги подкашиваются. Обессиленный, он опустился на траву.
Судьба Алоиза Шлейнца была решена скоро и справедливо.
– Эй, дьяк! – шутил лисьемордый, когда немца вели на казнь. – Благослови на прощание!
Молчаливый и мрачный дьяк только плюнул вслед.
– А ты не плюй! – не унимался шутник. – Пану кланяться надо, даже когда его на виселицу ведут. Чтобы, сорвавшись, не имел причины мстить.
– У нас не сорвется! – убежденно ответил дьяк.
Это были последние слова, которые слышал Шлейнц. Его повесили далеко за оврагом, на виду у проезжей дороги.
Георгий, хотя и отказался присутствовать на казни, но не испытывал ни раскаяния, ни жалости; он теперь уже не был тем миролюбивым, наивным юношей, который десять лет назад готов был спрятать от повстанцев католического монаха и выпрашивал ему помилование. За годы скитаний он повидал немало человеческих страданий и теперь по-иному относился к борьбе простых людей за свою жизнь. Да и предательство Шлейнца было очевидно. В письме к Рейхенбергу, которое Георгий читал с таким волнением, говорилось:
«…Пока еще не будет поздно и я, слуга и брат ваш, еще не расстанусь с жизнью… Слезы отчаяния падают на сей лист при вспоминании о наших трудах, принесших столь печальные плоды.
Когда было получено ваше письмо с заверением, что Глинскому будет возвращено прежнее положение при королевском дворе, мне удалось убедить князя не терять более времени и бежать в тот же день. Уговорам моим помогло взаимное недоверие между Глинским и московским государем, которое ваше великолепие с таким искусством углубляли. Василий посадил воеводой в Смоленске боярина Шуйского, недоброжелателя и соперника князя Михайла. Это решило все.
Мы бежали. Среди ночи нас схватили на старом Дубровенском шляху и привели к воеводе Челяднину. Глинского заковали в цепи и отправили, кажется, в Дорогобуж, где пребывает сейчас великий князь Василий. Меня же держали все время отдельно, и я не мог воспользоваться вашим разрешением, чтобы помочь Глинскому покончить все земные расчеты. Только на вторую ночь случайной хитростью удалось отравить стражу и бежать, за что приношу благословение всесильному господу, не покидавшему заботу о нас, грешных.
В пути я написал это письмо, ожидая случая переслать его вам. Сам же, верный нашему долгу и святой церкви, воспользуюсь доверием простолюдинов к Глинскому и буду повсеместно распространять слух о том, что князь Михайло обманут Василием, казнен в Москве, а люди его убиты. Это в некоторой мере приблизит нас к цели и остановит бояр и черный люд, устремившийся на сторону московитов… Знаю, путь мой опасен. Но надежда на вашу милостивую и скорую помощь поддерживает дух мой и придает силы усталому и разбитому моему телу.
Смиренный брат ваш
Алоиз».
Глава II
Георгий отправился в Полоцк через несколько дней. Снова, как десять лет назад, с ним ласково простился атаман вольного войска. Снова проводили его в путь лесные братья заботливо и душевно.
И снова, пробираясь оврагами и тропинками, Георгий думал о Сымоне. Вечно смеющийся Михалка, так удивительно похожий на своего веселого и умного брата, рассказал о смерти Сымона.
Долго гулял по лесам Белой Руси «собиратель дикого меда», надеясь пробиться через королевские кордоны на Москву. Жег усадьбы магнатов. Наделял бедных. Вершил справедливый суд и расправу. Наконец соединился с повстанцами Глинского. Казалось, начала сбываться мечта. Глинский поднимал вольнолюбивых людей против извечных врагов Сымона и вел их к Москве.
С войском князя Михайлы Сымон подошел к осажденному Минску. И когда, не взяв города, Глинский поспешно отступил, Сымон и его храбрецы прикрывали отход княжеских дружин. Здесь атаман и сложил свою голову. С Глинским ушли на Москву многие люди Сымона, а те, кто не захотел покинуть родную землю, собрались вокруг батьки Михалки.
Умный и дальновидный московский воевода Челяднин призвал к себе Михалку и, снабдив его оружием, поставил на службу великому князю Василию. Только служба эта почти ничем не отличалась от прошлых дней вольницы.
Дружина Михалки по-прежнему разгуливала по родным местам, наводила ужас на католических епископов и монахов. Время от времени приходили к Михалке гонцы, передавали приказ воеводы, и Михалка уходил «погулять» в новое место. Немало переправил он за кордон польских панов или бояр, «повязав крепко», не лишая, однако, «живого духу». Мечта Сымона не оставляла и брата его Михалку.
Он собирал бедных, обиженных, обездоленных, наделял их своими трофеями и переправлял на Москву.
Возвращаясь в Полоцк, Георгий далеко объезжал селения и проезжие дороги, по которым сновали королевские конники и воеводские люди. И чем дальше в глушь углублялся наш путник, тем чаще встречал он беглецов, одиноких и целыми семьями, иногда вооруженных, готовых принять бой или напасть на обоз неосторожного купца. Часто поводырями их были нищие старцы или отбившиеся от своей шайки разбойники.
– Куда вы, братья, идете?
– За волей! К атаману Михалке!.. До московского государя!.. К князю Глинскому! Он наш защитник, он за нас насмерть бьется…
Как объяснить им то, что уже стало ясно Георгию? Измена Глинского, на помощь которого так надеялся Скорина, повергла его в тоску, какой он не испытывал, даже живя вдалеке от родины.
«Родина! Ни годы странствий, ни красота чужих земель, ни вершина достигнутой цели не могут заставить забыть тебя… – думал Георгий. – Как встретишь сына своего?»
Все оказалось иным, чем ожидал Георгий.
Брат Иван еще не вернулся из Познани, куда отправился по торговым делам к купцу Клаусу Габерланду. Постаревшая и ставшая сварливой и раздражительной Настя, жена Ивана, встретила Георгия скорее испуганно, чем ласково. Ее малолетний сын Роман по настоянию отца учился грамоте. Бедная женщина пуще всего боялась, что он пойдет по стопам своего ученого дядьки, которого она в душе считала человеком пропащим, а тут еще этот самый дядька словно снег на голову свалился. В первый же день приезда Георгия, жалуясь на тяжкие времена, Настя вспомнила, сколько хлопот доставили их дому безбожные краковские дела Георгия. Снова дом их посетили воеводские соглядатаи, и снова Ивану пришлось немалыми деньгами «замаливать» грехи брата.
Георгий остался в отчем доме, не испытывая, однако, той радости, о которой мечтал прежде. Чуть только он входил в дом, две взрослые племянницы сейчас же скрывались в своей светлице, а Романа Настя торопилась услать к соседям, будто по делу.
Мальчик же готов был целыми днями слушать рассказы о заморских странах, не отрывая восторженных глаз от красивого и умного лица дяди. Редкие беседы с племянником были, пожалуй, единственными приятными часами для Георгия. Но как томительны, как одиноки были теперь его вечера… Когда-то в тесной келье университетской бурсы Скорина со своим другом Вацлавом мечтал о том дне, когда, вооруженный книжной премудростью, достигнув высокого ученого звания, он возвратится в родной ему город.
…Весть о его приезде соберет всех жителей Полоцка к дому Ивана Скорины. Брат Иван с гордостью примет почет и уважение сограждан.
…Потом войдет седой, постаревший отец Матвей. Георгий горячо обнимет своего первого учителя:
«Благодарю вас, отец Матвей, за науку и ласку. Живите долгие годы, а я буду вашим верным помощником в тяжком подвиге просвещения…»
Умер поп Матвей. Никто не пришел встретить доктора Франциска… Он сам разыскал некоторых старых членов братства и узнал от них неутешительные вести.
Братство по-прежнему все еще сытило мед, в престольные праздники собиралось за круговой чашей, но заботилось лишь о благолепии храмов, мало интересуясь просвещением мирян. Новый священник, ставший на место покойного отца Матвея, пьянствовал и занимался больше торговлей, чем службой. На предложение Георгия открыть свою книгопечатню он возразил:
– У всякого человека слов много, а душа одна! К чему же книги твои, если душа молитвы жаждет? А молитва отцами святыми сказана и немногословна есть!
Георгий пробовал убедить его, разъясняя пользу для народа книги на родном языке. Но поп Иннокентий имел свое представление о народе.
– Наука – дело мужей ученых, а грамота – грамотеев. От них и плодов жди. Поспольство же не к тому богом назначено. Сказано есть в святом писании: «Всякое древо познается по плодам его, и не снимают смокв с терновника и маслин с шиповника».
Там же, у попа Иннокентия, Георгий встретил Янку – внука покойного слепого лирника Андрона, взятого братством на попечение. В рослом, возмужалом юноше Георгий с трудом узнал боязливого хлопчика, с которым он когда-то пробирался по подземным катакомбам полоцких храмов, спасаясь от воеводских стражников. Янка и вовсе не узнал своего спасителя. Он служил теперь покручеником у попа Иннокентия и, пользуясь тем, что хозяин его постоянно пребывал во хмелю, извлекал для себя немалые выгоды.
С трудом удалось Георгию собрать вокруг себя немногочисленных сторонников из числа мелких купцов и мастеровых. Однако средств, собранных ими, не могло хватить на организацию печатного дела. На помощь братства в ближайшее время надеяться не приходилось. Скорина понял, что здесь нужно запастись терпением и осторожностью. Покуда же он занялся собиранием старых славянских рукописей, разыскивая их среди забытых книг и церковной утвари в полоцких монастырях. Это увлекло и несколько рассеяло его гнетущую тоску. Прежний замысел о сотрудничестве с Глинским рухнул. Нет, никогда более не будет он пытаться связать книгу с мечом. Ни измены князей, ни победы или поражения военачальников не смогут помешать его великому и святому делу – просвещению народа. Книга! Вот что прекратит братоубийственные войны, свяжет людей воедино! Она пройдет все грани и стены и возвестит зарю нового дня!
* * * 8 сентября 1514 года на левом берегу Днепра, возле города Орши, дружины русского воеводы Челяднина встретились с войсками короля Сигизмунда. Долго бились храбрые москвичи. Заходило солнце и снова всходило, а они все стояли между Дубровной и Оршей, против полчищ князя Острожского – Сигизмундова воеводы. Видно было: не сломить силы московской. Тогда лукавый князь прибег к хитрости. Выслав послов к московским воеводам Челяднину и Михаилу Голице, князь стал занимать их мирными предложениями, а сам тайно поставил новые пушки на заросших кустарником берегах небольшой речки Крапивны. Московские воеводы на мир не пошли, послов отправили обратно.
И вновь разгорелся бой. Ратники Сигизмунда побежали вдоль реки Крапивны, и русские, преследуя их, попали под небывалый еще тогда огонь новых, заморских пушек. Река Крапивна изменила течение, пробиваясь сквозь кусты по низким берегам, русло ее было запружено телами москвичей и поляков.
Ни до этого, ни много лет после никто не помнил такого страшного боя.
Один за другим три русских города – Дубровна, Мстиславль и Кричев – сдались королю Сигизмунду. Князь Константин Острожский двинулся на Смоленск. Однако ни многодневная осада, ни подосланные грамоты и увещевания не смутили смолян. Острожский был отброшен от города и, преследуемый дружинами Шуйского, потерял много ратников и возов с награбленным в других городах добром. Смоленск стал городом русским.
Злоба и ярость царили во дворце Сигизмунда. Преследовался каждый, кто не только делом, а словом или мыслью лишь вставал на защиту русских людей. Ксендзы и монахи прославляли победу короля, а воеводские люди не позволяли никому усомниться в этой победе.
Смутно стало в городах Белой Руси. Смутно было и на душе жителей Полоцка. Каждый день до Георгия доходили слухи то о закрытом православном храме, то о грабеже казны братства.
Настя причитала целыми днями. Брат Иван все еще был в Познани, и теперь неведомо, воротится ли? Дороги пуще прежнего стали непроходимыми от разбоя и стражников.
Иногда через Полоцк проводили закованных в цепи голодных и оборванных людей; женщины тихонько подавали им пищу и плакали.
Георгию тяжело было это видеть. Он запирался в своем покое или монастырской келье, проводя целые дни над изучением и сравнением старинных рукописей. Скорина работал много и упорно, подготавливая свой первый перевод Библии на родной язык. Неизвестно, когда его труд смогут прочитать те, ради кого он старался…
На организацию типографии средств еще не хватало. Георгий ждал возвращения Ивана, надеясь получить помощь от него и, если тот потребует, передать за это брату половину наследства. Он отправил письма в православные братства: витебское, могилевское и минское, приглашая братчиков объединиться «для общего заведения друкарского дела, начать друкарню свою фундовать и мастеров обучать вместе». На письмо Скорины ответило только минское, тогда еще молодое, братство. Но и его ответа Георгий получить не успел. Письма были перехвачены воеводскими соглядатаями и отправлены в великокняжескую тайную канцелярию как неопровержимые доказательства подготавливаемой измены и бунта. Не зная об этом, Георгий полагал, что иногородние братства отнеслись к его предложению так же, как и полоцкое.
Однажды Георгий поднялся на высокий холм старого вала и, как когда-то в юности, долго задумчиво смотрел на свой родной город. Казалось, ничто не изменилось в Полоцке. Так же сверкали на солнце его влажные деревянные стены. Так же высились над ним башни двух замков и шумел перевоз через Двину. Только не было больше веселых, пестрых ярмарок, не пели на улицах лирники и словно притаилась, попряталась молодежь.
Вспомнилась прошлая жизнь в Полоцке, вспомнились другие города. Почти ощутимо представил себе Георгий Прагу, куда привез его добрый и ласковый пан Алеш. Ему внезапно остро захотелось снова встретиться с людьми, ставшими в Праге его друзьями. Образ их мыслей, их свободолюбие и отзывчивость манили Георгия, мучительно стремившегося вырваться из того жестокого и бездушного круга панского насилия, в котором оказалась не только земля его родины, но и духовная жизнь простых людей. Найдет ли он в себе силы? Удастся ли ему хоть малым светильником указать путь братьям своим? Георгий искал ответа, терзаясь сомнениями.
Взволнованный думами, он направился к дому. От городской стены по узкой тропинке навстречу ему бежал племянник Роман. Мальчик так запыхался от быстрого бега, что не мог выговорить слова. Он испуганно оглядывался в сторону города.
– Что случилось, Роман? – тревожно спросил Георгий.
– Там… – проговорил наконец мальчик, показывая рукой в сторону дома. – Пришли стражники… Ищут тебя… Мамку пытали, где бумаги твои, что от русских получены… Они убьют тебя, дядя Юрий…
– Постой, Роман… Какие бумаги? Кто убьет меня?
– Беги, дядя Юрий! И я с тобой… Вместе убежим!
Георгий улыбнулся.
– Куда же мы побежим? Скоро вечер, пойдем-ка домой, Роман.
Мальчик вдруг вспыхнул и, ухватив Георгия за рукав, почти рыдая, заговорил:
– Не надо, не надо домой!.. Они ждут тебя… Не пущу тебя домой… Идем, я покажу куда. – Он потащил Георгия за собой, и тот, поддавшись, пошел за ним.
Солнце уже садилось. Багряные лучи окрасили верхушки редких деревьев. В овраге, куда они спустились, сгущались сумерки. Мальчик почти бежал, все еще не выпуская рукав дяди. Георгий шел молча, стараясь разобраться в том, что сообщил ему племянник. Едва обогнув излучину оврага, Георгий вдруг вздрогнул и остановился.
Перед ним на небольшой полянке, среди кустов и можжевельника, стоял горбун. Маленький, в белой рубашке, прикрываясь длинной рукой от закатного солнечного света, он смотрел на Георгия.
Георгий сразу узнал его. Это был тот самый горбун, который когда-то укрыл от преследователей его и хлопчика Янку.
Горбун вовсе не изменился. Те же добрые, лучистые глаза, то же спокойное, немного бледное лицо. Мальчик выпустил рукав Георгия и, тихо подойдя к горбуну, остановился.
Горбун улыбнулся Георгию и спросил тонким, почти девичьим голосом:
– Помнишь меня, брат Юрий?
Георгий наклонил голову. Горбун приблизился к нему и, взяв за руку, сказал тихо, но решительно:
– Беги отсюда, брат!.. Говорю тебе, беги! Быть может… потом вернешься… Даст бог, увидимся…
Георгий опустился на камень и закрыл лицо руками.
Роман плакал, уткнувшись в грудь горбуна.
Глава III
В майский день 1516 года по дороге к Праге пронеслись во весь опор пять всадников. Они миновали городские ворота, пересекли Староместскую площадь, Карлов мост и, сбив с ног зазевавшихся пешеходов, остановились у въезда в Градчинский замок.
Тотчас же по городу разнесся слух: умер король! Гонцы из Венгрии принесли известие о смерти Владислава, короля венгерского и чешского, и о вступлении на престол его десятилетнего сына Людовика. Чины трех Мест Пражских
были созваны в Градчин, чтобы обсудить послание нового короля, требовавшего ввести его в управление чешскими землями.
На площадях собирались толпы. Повсюду шли горячие споры. Многие опасались смуты бескоролевья, вторжения немецких князей. Находились и люди, настроенные более решительно. Слышались призывы к оружию, угрозы по адресу верховного бургграфа Зденека Льва из Розмиталя, ставленника панов, угнетателя и лихоимца.
Оживились сторонники князя Мюнстербергского, отпрыска славного чешского рода Подебрадов.
– Наздар внуку Юрия Подебрада! Прочь розмитальского разбойника!
Въехавший в Прагу в этот день Георгий Скорина с удивлением наблюдал охватившее город волнение.
«Не везет же мне! – думал он. – Кажется, и здесь начинаются бури, подобные тем, от которых я только что ушел, покинув родину…» Пробиваясь через толпы возбужденных горожан, он не без труда отыскал место, где должен был находиться дом купца Алеша. Но дома не было. Вместо него Скорина увидел пустырь, поросший травой…
«Несколько лет тому назад, – сказал ему хозяин соседнего двора, – пан Юрий из Копидла, будь проклято его имя, учинил погром пражским мещанам. Злодеи грабили лавки… Отрезали носы и уши… Жгли дома… Сожгли и этот дом…»
Сообщить же что-либо о судьбе семьи Алеша он не может, так как поселился здесь недавно. Должно быть, пан Алеш перебрался куда-нибудь в Новое Место или за Влтаву, на Малую Сторону… А может, и вовсе покинул Прагу. Лучше всего спросить о нем в магистрате, что на Староместской площади.
Прага встречала Георгия не более радушно, чем Полоцк. Впрочем, не все потеряно. Быть может, все-таки удастся разыскать Алеша.
Придя на Староместскую площадь, Георгий не смог пробиться к ратуше. Перед зданием собралась огромная толпа.
Какой-то человек с балкона ратуши оглашал постановление чинов.
– Чешский народ, – выкрикивал человек уже охрипшим голосом, – следуя древнему своему обычаю, может признать Людовика, сына Владиславова, лишь когда он даст присягу хранить верность законам чешского государства и не нарушать прав и вольностей чешских. А потому королю Людовику надлежит прибыть в Прагу для принесения такой присяги и для совещания с чинами государственными по важнейшим делам.
Из толпы послышались возгласы:
– А как с панами и владыками?.. Пусть новый король защитит горожан от шляхты и папистов!..
Человек на балконе поднял руку.
– Решено также, – крикнул он, – созвать общий сейм, дабы положить конец раздорам среди чехов и восстановить законные права для всех сословий и исповеданий!
Георгий стоял далеко и не мог разглядеть лица говорившего.
Вскоре толпа начала редеть, решение чинов, видимо, внесло успокоение. Георгий направился к ратуше. Из ворот навстречу ему вышла группа людей. Среди них был человек, только что державший речь с балкона, тучный мужчина средних лет. Он шел важно и неторопливо, как подобает людям, обладающим солидным положением в свете. Георгий внимательно посмотрел ему в лицо и обмер… Возможно ли?..
– Вацлав! – вскрикнул Георгий. – Ты ли это, друг мой?..
Человек остановился, с недоумением взглянул на Скорину, потом быстро отступил назад и поднял руки.
– Господи помилуй!.. – прошептал он. – Уж не Франек ли это?..
– Он самый! – рассмеялся Георгий, крепко обнимая друга…
* * * – Что же наш Николай? Где он? – нетерпеливо спрашивал Георгий, сидя в одной из комнат нового красивого дома на берегу Влтавы.
– Не знаю, – отвечал Вацлав. – Его судили, изгнали из университета, и он уехал из Кракова. Однажды я получил от него письмо. Там были стихи, умные и злые, но не было ни даты, ни адреса… Больше я о нем ничего не слышал.
– А пан Глоговский?
– Скончался. Вскоре после твоего отъезда…
Друзья помолчали.
– Пан Коперник также покинул университет, – продолжал Вацлав, – и поселился в каком-то небольшом городке… Кажется, во Фрауэнбурге. Он состоит там каноником.
– Как странно, – сказал Георгий задумчиво. – Неужели такие люди могут исчезнуть бесследно?
– Зато наш старый приятель, рыцарь фон Рейхенберг, процветает, – усмехнулся Вацлав. – Он теперь ближайший советник польского короля.
– Знаю, – тихо сказал Георгий. – Мне пришлось еще раз услышать об этом человеке.
Он подошел к раскрытому окну и стал смотреть на серые, сумрачные волны Влтавы. Потом спросил, не оборачиваясь:
– Не знаешь ли ты… о судьбе…
– Я ни разу не встречал ее, – не дал ему закончить Вацлав. – Говорили, будто она вышла замуж.
Георгий молча стоял у окна.
– С тех пор прошло десять лет… Разве ты все еще любишь ее, Франек?..
Георгий обернулся. Лицо его было спокойно.
– Эти десять лет я был слишком занят, чтобы искать новых привязанностей, – сказал он, грустно улыбнувшись. – И едва ли найду для этого время и впредь…
Он подошел к Вацлаву и вдруг расхохотался.
– Чего ты? – с недоумением спросил тот.
– Ох, Вашек, какой ты стал толстый и важный. Ты богат?
– Я женился пять лет назад на дочери известного пражского пивовара, – ответил Вашек застенчиво. – Она принесла мне небольшое приданое…
– Поздравляю тебя, приятель, ты всегда имел пристрастие к пиву. Где же твоя супруга?
– Марта уехала по делам за город. Видишь ли, я ведь состою старшим секретарем Староместского магистрата…
– Ого!
– Да… И общественные обязанности отнимают у меня много времени, так что Марте приходится самой вести торговые дела. Она очень достойная женщина.
– Есть у тебя дети?
– Нет, – вздохнул Вацлав. – К несчастью, детей у нас нет…
Вошел слуга с подносом, уставленным блюдами и жбанами. Друзья сели за стол.
Георгий с удовольствием принялся за угощение. Он с самого утра ничего не ел и порядком проголодался. Вацлав ел мало и неохотно. Вид у него был довольно кислый.
– Не понимаю, – сказал Георгий, запивая гусиный паштет холодным пивом, – откуда у тебя такое пренебрежение к этим яствам, достойным Лукулла?
– Да, – сказал Вацлав уныло, – я равнодушен к ним.
– Я помню времена, когда и во сне тебе грезились маковые лепешки.
– Маковые лепешки!.. – Вацлав покачал головой. – Вот чего бы я отведал! К сожалению, мне их не подают. Марта говорит, что эта грубая пища вредит здоровью.
– Пустяки! – рассмеялся Георгий.
– Так говорит Марта, – повторил Вацлав. – Однако, Франек, ты еще ничего не рассказал о себе…
Георгий стал рассказывать. Вацлаву казалось, что он вместе с другом бродит по знаменитым городам Италии, беседует на вершине падуанской башни с московским богомазом, сидит у костра повстанцев-мужиков в чаще белорусского леса. В памяти его воскресла убогая каморка краковской бурсы… Зимние сумерки, красноватые отблески углей в жаровне. Двое юношей, мечтающих вслух. Кажется, совсем недавно это было, а сколько переменилось с тех пор в их жизни. Как различно сложились их судьбы!
– Итак, ты решил поселиться в Праге? – спросил Вацлав, когда Георгий умолк.
– Да. В этом городе, мне кажется, я смогу сделать многое. Есть в чешской земле искусные друкарни и резчики, можно всякие славянские литеры изготовить. Пойми, Вацлав, ничто нынче не нужно так народу, как книга. Книга на языке, понятном простому люду. Помнишь мой краковский диспут?
– Еще бы!
– А я и подавно не забыл. Теперь настала пора осуществить то, о чем мечтали мы тогда. Вы, чехи, давно начали это дело. Я продолжу его. Сам переложу священное писание на русский язык, напишу пояснения, примечания, чтобы читателю легче было понять. Оттиснем книги, разошлем по всей Руси, а также в города чешские, польские, сербские – повсюду, где понимают славянскую грамоту.
– Да, да, – сказал Вацлав, – давно пора!
– Гравюры по дереву вырежем, – продолжал Георгий, не слушая. – Я этому мастерству в Венеции хорошо выучился. Приходилось тебе видеть вашу чешскую Библию, отпечатанную в Венеции?
Вацлав утвердительно кивнул головой.
– Хороша! – сказал Георгий с восторгом. – Чудесно! Что и говорить. И все же можно сделать еще лучше. И сделаем, верь мне! Пусть книга будет прекрасной, словно картина или статуя, пусть радует душу человеческую. Хочешь работать со мной, друг?
– Хочу! – сказал Вацлав, восторженно глядя на приятеля, совсем как в дни юности. – Конечно, хочу… – Он внезапно осекся. – А деньги?.. – сказал он. – Затея эта дорогая.
– Деньги?.. Я привез из Полоцка некоторую сумму. Один, конечно, не осилю. Я рассчитывал на помощь купца Алеша, да вот беда – исчез он. Не знаю, где и искать… Но теперь это не страшно. Я потерял Алеша, но, слава богу, нашел тебя. Разве ты не поможешь мне деньгами?
– Франек, – сказал Вацлав, с испугом глядя на друга, – я ничего не смогу дать тебе…
– Как! – воскликнул Георгий. – Ведь ты богат, ты сам сказал. Или ты уже не друг мне, как прежде, Вацлав?
– Я богат, Франек, это верно. И я люблю тебя по-прежнему. Но я не волен распоряжаться моим состоянием. Им ведает Марта. Я поговорю с ней, объясню ей… Не думаю, чтобы она согласилась, но все же я поговорю с ней, Франек.
Весь следующий день Георгий провел в поисках Алеша, но так и не нашел его следа. Вернувшись на постоялый двор, где по приезде в Прагу он снял комнату, Георгий нашел записку от Вацлава. «Моя жена вернулась, – писал Вашек. – Приходи завтра утром, попытаемся вместе ее убедить».
Когда Георгий явился в назначенный час, Марта Вашек сидела в небольшой комнате за конторкою. Перед ней стоял какой-то старичок, по-видимому приказчик.
– Дорогая моя, – сказал Вацлав нежно. – Я привел моего друга, доктора Францишка, о котором не раз тебе рассказывал.
Георгий учтиво поклонился. Марта ответила вежливо, но холодно.
– Здравствуйте, пан доктор, – сказала она. – Садитесь! – Она кивнула приказчику, тот сейчас же вышел.
Марта взяла лежавшую подле нее книгу и принялась внимательно разглядывать. Георгий заметил, что это было знаменитое венецианское издание чешской Библии.
Он с любопытством смотрел на супругу своего приятеля. Пышная, белотелая, сероглазая, необычайно мощного сложения, эта женщина напоминала ему жен и дочерей именитых полоцких купцов.
«Так вот кто пленил нашего робкого Вацлава!» – подумал Георгий.
Марта отложила книгу и посмотрела на Георгия испытующим взглядом.
– Вы хотите открыть друкарню, пан доктор? – спросила она, не отводя от него холодных глаз.
– Да, госпожа Марта, – сказал Георгий просто.
– Я уже говорил тебе, дорогая, – торопливо заговорил Вашек, – что печатные книги весьма необходимы не только для нас, чехов, но и для родственных нам народов. Книга является средством…
– Погоди, Вашек, – спокойно остановила его жена. – Пану доктору надлежит знать, что я занимаюсь пивоваренным делом. Кое-что я смыслю и в кожевенном товаре. В книгах я разбираюсь слабо, хотя покойный отец учил меня грамоте.
– Мне приходилось встречать книгопродавцев, – заметил Скорина, – которые не знали и грамоты. Однако же торговые дела их шли весьма успешно…
Марта опять взглянула на Георгия; видимо, ответ пришелся ей по нраву.
– По вашему мнению, это хорошая книга? – спросила она, указывая на венецианскую Библию.
– Это – чудо книгопечатного искусства! – восторженно воскликнул Вацлав. – Пойми, дорогая Марта, что самый факт появления печатной Библии на чешском языке имеет огромное научное значение. Не кто иной, как наш великий мученик, Ян Гус, впервые осуществил перевод…
– Я не могу вкладывать деньги в дело, которого не понимаю, – снова прервала она мужа. – Что до Яна Гуса, то он был мудрым и святым человеком, и все-таки его сожгли. Я женщина простая и немудреная и вовсе не хочу гореть на костре.
Вацлав бросил другу взгляд, полный отчаяния.
– Книга, лежащая перед вами, – сказал Георгий спокойно, – продавалась в Венеции по полдуката за экземпляр. На эти деньги можно купить почти два бочонка пива.
– Это очень дорогая цена. – Марта с удивлением посмотрела на книгу.
– Тем не менее, – продолжал Георгий, – не прошло и года, как все издание было распродано. И ныне невозможно приобрести эту книгу дешевле, чем за пять дукатов.
– А! – произнесла Марта, явно заинтересованная этим сообщением. – Вы могли бы издать книгу наподобие этой, пан доктор?
– Надеюсь, – ответил Скорина, чувствуя, что затронул самую отзывчивую струну этой женщины. – Я думаю, можно даже превзойти ее. С тех пор прошло десять лет, в печатном деле появились некоторые новшества. К тому же число резчиков и друкарей увеличилось.
– Вот как, – сказала Марта, – значит, теперь можно платить им меньше, чем раньше, и, стало быть, книга обойдется дешевле?
Георгий улыбнулся:
– Полагаю, что так.
– Вашек говорит, – продолжала Марта, – что вы хотите печатать книги на своем языке. Кто же здесь станет покупать их?
– Я буду посылать их на родину: в наших городах нет еще ни одной друкарни.
– К тому же, Марта, – опять вмешался Вашек, – многие образованные люди в Чехии, в Польше, в южных славянских землях с большим интересом прочтут эти книги. Ведь я объяснил тебе: наши народы – родня друг другу, и стремления у нас общие.
– Ох, Вашек, Вашек! – со вздохом сказала Марта и так взглянула на мужа, что тот сразу поник головой. – Скажите, пан доктор, – снова обратилась она к Георгию, – какие пошлины взимают в вашей стране за привезенные книги?
Георгий с удивлением посмотрел на нее.
– Книг из чужих стран к нам привозят совсем немного… Какой смысл взимать с них пошлины?
Марта задумалась. Оба мужчины тоже молчали.
Глава IV
В дни, когда Георгий Скорина начал устройство своей друкарни, печатание книг имело весьма ограниченное распространение. Если и появлялись отдельные печатные книги, преимущественно церковного содержания, то пока еще они ценились наравне с рукописными, которые вообще были малодоступны простым людям. Книгами пользовались те, кто держал в своих руках «земные и небесные блага». Князья церкви вкладывали в новые издания свое, угодное им содержание. Перестраивая и дополняя древние тексты, стараясь церковной проповедью и Евангелием оправдать насилие и грабеж, творимые феодалами, церковь грабила крестьян и мелких ремесленников не меньше, чем воеводы и шляхта. Однако влияние церковной «науки» было в то время велико. Религия была идейным обобщением феодального строя, а церковь, особенно католическая, с ее жадными епископами и попами, широкой сетью монастырей, шпионажа и инквизиции – могучим оружием в руках земных владык. Духовная жизнь человека еще находилась в тенетах религии и суеверия. Даже передовые люди той эпохи, восставая против вековой несправедливости, вынуждены были облекать свою борьбу в религиозную форму. Не избавился от этого и Георгий Скорина. Живая и пытливая мысль, разумение лживости церковных догм привели его к сомнениям неожиданным и страшным. Изучая древние рукописные тексты, подготовляя их к печати, Георгий задумывался над описанием некоторых «божественных явлений». «Море расступилось перед Моисеем, и он прошел по дну его, как по суше… Солнце остановилось на небе, и удлинился день… Звезда указала путь…» Правда ли это? Кого призвать в свидетели? Кто подтвердит? Кто при сем присутствовал? Нет, не в чудодейственной силе бога причина этих явлений земного мира. Но как объяснить их? Георгий сделал на полях текстов пометки и сам ужаснулся: как далеко зашел он в своих размышлениях. Но правильно ли будет, если с первых же шагов он посеет сомнение в сердцах людей, много веков проживших с этой неправдой. Не отвратит ли тем он людей от своих книг? Георгий видел, как со времени присоединения Белой Руси и Литвы к Польше ожесточилась борьба православной церкви с католической. Римский первосвященник вел широкое наступление. Ксендзы и монахи заполонили города и села Западной Руси. За ними шли иноземные поработители: польские магнаты, немецкие бароны. Городские просвещенные люди, купцы и ремесленники, организовав православные братства, поддерживали народ в его сопротивлении насильственному окатоличиванию. Братства восставали не только против исконных врагов – католических магнатов и немецких поработителей, но и против владык православной церкви, соглашавшихся на унию. Польские магнаты вынуждены были считаться с силой православных братств из боязни открытых восстаний и частых «отъездов» к московскому царю. Однако они всячески старались затруднить их деятельность. По приказу римского папы в Литовском княжестве распространялись церковные католические книги. Все другое объявлялось ересью. Народ, не знавший чуждой ему латыни, должен был либо оставаться темным, либо отказаться от своей веры, а значит, и от своего языка, обычаев, культуры. Потому так настойчиво заботились православные братства о распространении грамотности, о просвещении на родном, русском языке. * * * «Отдых от трудов и суеты, старикам потеха и песня, женам набожная молитва и удовольствие, детям малым початок всякой науки…» – так писал Скорина в своем предисловии к Псалтыри. Георгий взял в руки первые пробные оттиски. Да, это то, чего он добивался. Ровные красивые строки, набранные крупным полууставом. Эти славянские литеры представляли собой превосходный образец кирилловского письма полоцких, смоленских, туровских старинных рукописей, созданного искуснейшими каллиграфами Белой Руси. Но в то же время было здесь и новое: узорные заставки в заглавных литерах, украшения затейливым орнаментом, изображающим цветы и травы, птиц, животных и людей. Итак, все готово! Завтра начнется печатание книги. Он перелистал несколько страниц приготовленного для печати сшитка. Заученные с детства стихи Давидовых псалмов мелькали перед глазами… «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых…» Недаром это стало народной поговоркой. Выраженная выспренними ветхозаветными словами, мысль эта предостерегает от всяких сделок с совестью, от участия в злых делах. Нет, он не совершил ошибки! Пусть будет первой печатной книгой эта нехитрая древняя Псалтырь! Пусть учатся по ней посполитые люди грамоте, привыкают любить и ценить книжную премудрость! Он постарался сделать все, чтобы облегчить простому человеку понимание книги. Из многочисленных славянских текстов Псалтыри он избрал тот, что вошел в знаменитый Библейский кодекс, составленный новгородским архиепископом Геннадием в 1490 году. Этот текст был наиболее понятен русским людям. Скорина, решив печатать Геннадиеву Псалтырь, все же во многих местах обновил и усовершенствовал письмо. К каждому стиху дал заголовки. На полях книги он сделал примечания, поясняющие некоторые церковнославянские слова, вовсе непонятные простому народу: «меск» – мул, «стакт» – ладан, «вретище» – власяница, «тымпан» – бубен, «онагры» – лоси, «геродеево жилище» – соколиное гнездо… Книга будет понятной и красивой. Шрифт вышел на славу. Недаром резал его старый Стефан, долго работавший в краковской друкарне Святополка Феоля. Хороши и краски, и бумага. Месяца три-четыре уйдет на печатание, брошюровку, и к осени пойдет его Псалтырь по дальним дорогам в города русской земли. А потом немедля возьмется он за главное свое издание – за Библию. Первая Библия на языке Белой Руси!.. Взяв зажженную свечку, Георгий вышел из комнаты и по узкой деревянной лестнице спустился в подвал, приспособленный под друкарню. Уже целый год он жил здесь при своей типографии, на одной из кривых улочек Старого Места. Работая дни и ночи, он редко выходил на прогулки и не встречался ни с кем, кроме Вацлава и старого профессора – чеха Корнелия Вшегрда, с которым познакомился еще в свой первый приезд в Прагу и которого высоко ценил за его юридические и литературные труды на чешском языке. В друкарне было тихо. Старый Стефан спал в углу на жестком тюфяке. Тускло поблескивали приготовленные для тиснения наборные полосы. Чаны с краской и стопы аккуратно нарезанной бумаги были уже подвинуты к большому деревянному станку. Георгий, опустив кисть, попробовал краску на клочке бумаги. Несколько минут он простоял, высоко подняв свечу, глядя на ждущий работы типографский инвентарь, потом, тихо ступая, вышел и поднялся к себе. Как только взошло солнце, Георгий снова спустился в друкарню Стефан уже возился у станка, устанавливая на доске полосы набора, которые печатники называют тагером. На лестнице послышались шаги, и в подвал спустился мальчик лет четырнадцати. – Доброе утро, Гинек, – ответил Скорина на его почтительное приветствие. Гинек был учеником Стефана и служил подручным в друкарне, но жил отдельно, в доме своих родителей. – Я готов, господин доктор, – сказал Стефан. – Можно начинать… – Погодите чуточку, друг мой, – остановил его Скорина. – Я хочу подождать господина Вашека… А вот и он. Вацлав почти скатился по ступенькам в подвал. За ним медленно вошел старый и, очевидно, больной человек, закутанный в теплый шарф. – Я не опоздал! – радостно вздохнул Вашек. – Пан профессор ни за что не хотел отпускать меня одного. И мне пришлось немного задержаться. Георгий пожал руки Вашеку и Корнелию Вшегрду. – Приступим! – сказал он. – Господи благослови! – перекрестился старый профессор. За ним перекрестились остальные. Гинек окунул в чан кожаные мацы и, осторожно отряхнув их, накатал краску на полосу набора. Потом положил лист на узкую раму, обтянутую материей, и опустил раму на тагер. Мастер подвел тагер под массивную гладкую доску – пиан – и сильным рывком притянул к себе рукоятку станка. Пиан опустился на тагер, придавив его своей тяжестью. Стефан отвел назад рукоятку, тагер снова поднялся, и мальчик, ловко сняв мокрый оттиск, подал его Скорине. Вацлав, профессор, Стефан и Гинек окружили Георгия, рассматривая оттиск. Скорина долго читал его, не говоря ни слова. Было видно, как мокрый лист дрожал в его руках. Никто не решался нарушить тишину. Георгий закрыл глаза и молча протянул оттиск профессору. Тот взял его и, подняв к лицу, торжественным и громким голосом прочитал: – «Я, Францишек, Скоринин сын из Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел сию Псалтырь тиснуть русскими буквами и славянским языком ради приумножения общего блага и по той причине, что меня милостивый бог с того языка на свет пустил…» * * * Работа шла безостановочно. Скорина нанял еще двух искусных мастеров, и пока одни заканчивали печатание Псалтыри, другие составляли набор книг Ветхого Завета. А сам он тем временем готовил новые переводы и старательно проверял прежние. В августе 1517 года Псалтырь была уже пущена в продажу. Месяц спустя закончилось печатание книги Иова. Двадцать восьмого сентября, в день святого Вацлава, Георгий отправился поздравить Вашека, праздновавшего свои именины. – Вот! – сказал он, вручая другу большой, тщательно завернутый пакет. – Погляди на этот плод трудов моих. Вацлав развернул пакет. Это был специально изготовленный экземпляр только что отпечатанной книги Иова в превосходном переплете свиной кожи. На титульном листе помещалась резанная по дереву гравюра, изображающая многострадального Иова, преследуемого дьяволом. Под гравюрой заголовок: «Книга святого Иова… Зуполне выложена доктором Франциском Скориной с Полоцка», и посвящение: «Людям посполитым к доброму научению». Вацлав медленно перелистал книгу, внимательно разглядывая каждый лист. – Это чудо, Франек, – сказал он тихо, – настоящее чудо! – Я рад, что тебе нравится, – улыбнулся Георгий. – Мне кажется, что книга действительно неплоха. Давно я не испытывал такой радости, как теперь. Даже в тот день, когда закончил Псалтырь… Все же в Псалтыри я сохранил старый церковнославянский текст. И еще до меня подобную Псалтырь напечатал в Кракове Святополк Феоль… А это, – он указал на лежавшую перед Вацлавом книгу, – это первая печатная книга на родном моем языке. Нет больше в живых моего наставника, отца Матвея, нет и Яна Глоговского. Не увидят они этой книги, не порадуются вместе со мной. Исчез и наш Николай… Из всех, кого любил я в дни юности, остался только ты один, Вацлав. Прими же ее в знак нашей дружбы. Этот экземпляр сделан специально для тебя. – Марта! – воскликнул Вацлав. – Полюбуйся, Марта! Это чудо! Марта осмотрела книгу со всех сторон. – Исправная работа, пан Францишек, – сказала она серьезно, – вы сдержали свое обещание: эта книга, пожалуй, не уступит чешской Библии… С улицы донеслись крики толпы. Вацлав распахнул окно. С противоположного берега Влтавы, от стен Градчина, по Карлову мосту и набережной двигалась процессия. «Наздар! Наздар! Слава сейму! Мир! Мир!» – кричали люди и бросали вверх шапки. – Сегодня день святого Вацлава, покровителя Чехии, – объяснила Марта. – Как всегда, у нас будет народное празднество… – Нет, – покачал головой Вацлав. – Должно быть, произошло важное событие. Они кричат: «Слава сейму!» Но ведь сейм еще не закончился. – Сейм закончился! – послышался голос, и в комнату вошел Корнелий Вшегрд. – Сейм закончился сегодня, в день святого Вацлава, – повторил он, – и принял важнейшее решение о прекращении распри между панством и городами. – Значит, мир? – спросил Вашек. – Каковы же его условия? – Отныне, – сказал Вшегрд, – горожане получают голос в сеймах наравне с панами и владыками, а также могут приобретать земли вне городской черты. – Добро! – перекрестилась Марта. – Слава святому Вацлаву! – Однако, – продолжал старый Корнелий, – города, в свою очередь, согласились поступиться своей старинной привилегией. Панам и шляхтичам будет разрешено варить пиво в своих владениях. – О, нет! – сказала Марта. – Торговым людям не поздоровится от этого решения. Лучше бы уж нам не иметь голоса в сейме… Вопрос этот с давних пор являлся причиной смут и неурядиц. Пиво было одним из самых доходных промыслов чешских городов, и городское сословие бдительно охраняло свою привилегию от посягательств шляхты. Не раз на этой почве вспыхивали драки и междоусобицы. – Нет, дорогая Марта, – возразил Вацлав. – Право голоса в сейме – это большая радость для городов. Без него мы беззащитны перед лицом могущественного панства: ни в делах, ни в жилищах своих не чувствуем себя спокойно. Паны и владыки, заправляющие в сеймах, творят что хотят. Они вертели старым королем да и нового стараются прибрать к рукам. Но знаете ли вы, пан Корнелий, что сегодня праздник ознаменовался еще одним торжеством? Он подвел старого ученого к столу, где лежала книга Скорины. Корнелий долго рассматривал ее. – Поистине, – сказал он, – это событие знаменательное. Книга на языке, понятном народу, – это больше, чем победа на поле битвы, важней, чем голос в сейме, чем договор, заключенный государственными мужами. Победы сменяются поражениями, договоры вероломно нарушаются. Книга же остается навеки. – Вы правы, господин Корнелий, – сказал Скорина задумчиво. – Веками живет народ во тьме и бедности, не вкушая плодов труда своего, веками терпит произвол и насилия. Придет время, когда книга станет людям что хлеб насущный, когда простой человек постигнет больше, чем ныне знают немногие ученые. Тогда без крови и страданий падет царство зла. Ведь злые не сотворены такими от природы, а лишь по невежеству своему творят зло. Корнелий покачал головой: – В этом я сомневаюсь. Пани Вашек пригласила гостей к столу. Наполнив кубки, Корнелий сказал: – Доктор Францишек, сын близкого нам народа, пришел к нам, в старую Прагу, и здесь создал первую печатную книгу на своем языке. Не есть ли это перст божий, указывающий путь детям великой славянской семьи? Осушим же кубки в честь брата нашего, доктора Францишка, и его трудов! В этот день до поздней ночи продолжалось в городе веселье. На Староместской площади под звуки дудок и барабанов юноши и девушки вели хоровод. Улицы были полны оживленных горожан. Покинув дом Вашека, Георгий шел не спеша, с наслаждением вдыхая свежий осенний воздух. На одном из перекрестков он остановился, залюбовавшись танцем. Окруженные тесным кольцом восхищенных зрителей, двое дюжих парней плясали, держа на голове кружки, наполненные пивом. Искусство танцора состояло в том, чтобы до конца танца не расплескать ни капли жидкости. Окружающие всячески подзадоривали танцоров. – Нет, этих не собьешь, – сказал кто-то, стоящий рядом с Георгием, по-польски. – Важно пляшут… Георгий оглянулся. Это был человек средних лет, одетый в платье, какое носили обычно зажиточные мещане польских городов. Его голубые глаза были с восхищением устремлены на танцующих. Один из парней споткнулся и еле успел подхватить свою кружку, из которой выплеснулось пиво. Его противник поднял свою полную кружку. Толпа заревела от восторга, бросилась к победителю и, подняв его на руки, понесла по улице. – Пан прибыл из Польши? – спросил Георгий своего соседа. – Из Вильны, – охотно ответил тот, видимо радуясь случаю поговорить. – Не знаете ли, любезный пан, по какому случаю это празднество? Георгий коротко объяснил причину народной радости. Незнакомец кивнул головой. – Понятно, – тихо сказал он, – только не рано ли ликовать?.. Обманут чехов те магнаты… У них и договор не договор, и присяга не присяга, нам ли не знать того… Георгий внимательно посмотрел на незнакомца, ожидая услышать нечто важное, но… стремительный хоровод налетел на них и, чуть не сбив с ног, закружил, увлекая за собой. Георгий озирался по сторонам, стараясь отыскать своего собеседника. Да где тут было найти его среди мелькающих лиц, танцующих фигур, в вечернем сумраке освещенных плошками улиц? Не без труда выбравшись из толпы, Георгий пошел к своей друкарне. – Пан доктор, – сказал ему старый Стефан, – вас тут спрашивал некий иностранец. Кажется, он прибыл из вашего края. – А не назвал ли он своего имени? – живо спросил Георгий. – Нет, не назвал. Верно, еще раз зайдет. На следующий день пришел в друкарню Вацлав и, сияя гордостью, рассказал, что все издание Псалтыри вчера было распродано. Все до единой книги скупил неизвестный человек. Книгопродавец говорит, что это был иностранец, не то поляк, не то русский. Однако странный незнакомец так и не появлялся.
Глава V
Вацлав с зажженной свечой вошел в спальню. Марта лежала в постели, но еще не спала.
– Что ты все бродишь, Вашек? Порядочные люди давно уже спят…
– Я был у Францишка, дорогая, – виновато ответил Вацлав.
– Уж конечно, у него, – язвительно заметила Марта. – Завертелась у тебя голова от этой друкарни. А я одна… Все время одна… Разве я вдова либо незамужняя девка?..
– Марта! – воскликнул Вацлав. – Ведь ты же сама отстранила меня от всех дел. И потом, ты же знаешь: Франек – друг моей юности…
– Что из того? – перебила его Марта. – Слава Христу, ты теперь не юноша, а человек женатый.
– Франек – великий ученый, – робко заметил Вацлав.
– Я доктора Францишка не хулю, – сказала Марта, – однако у него одна дорога, у тебя другая. И не пристало тебе увлекаться пустыми затеями.
– Как – пустые затеи?! – возмутился Вацлав. – Все ученые Праги, все друкари и книгопродавцы восхищаются книгами Францишка.
– Книги хорошие, – вяло заметила Марта.
– А с какой быстротой он готовит их! – взволнованно подхватил Вацлав. – Он начал весной, теперь декабрь, и уже вышло пять книг.
– Какой мне прок от этого? – усмехнулась Марта. – Много ли из них удалось продать, если не считать того, что тот приезжий чудак скупил всю Псалтырь?
– Дорогая Марта! – Вацлав присел на край супружеского ложа. – Со всей польской и литовской земли будут приезжать люди за этими книгами. Теперь важно, чтобы не остановилось печатание… Нужно дать ему еще хотя бы тысячу коп пражских грошей… Не пройдет и года, как эти деньги окупятся.
Марта приподнялась на подушках.
– Вот что, Вашек, – заговорила она серьезно. – Раз уж ты начал, так скажу тебе прямо: больше денег я не дам!
– Марта, опомнись! – воскликнул Вацлав.
– Да, да, Вашек! Этот Святовацлавский договор, как я и думала, причинил нам изрядные убытки. Шляхтичи стали варить пиво сами и продают его не только в селах, но и в города ввозят беспошлинно. Если будет так продолжаться, мы разоримся. Я, слава богу, еще не лишилась рассудка, чтобы тратить деньги на пустяки. Не за тем покойный мой отец трудился, чтобы мы с тобой развеяли все по ветру. Больше я не дам ни гроша!
– Подумай, Марта! – прошептал Вацлав, охваченный отчаянием. – Великое начинание погибнет… Нет, ты не поступишь так жестоко!
– Что решено, то решено, – сказала Марта твердо. – Твой Франек, кажется, не ребенок и не баба. Как-нибудь извернется.
Вацлав сидел на краю постели, опустив голову, сжимая подсвечник. За окном свистел декабрьский ветер. Остывали уголья в камине. В спальне было тепло и уютно. Марта прижалась к мужу.
– Дурачок, – шепнула она, – тебе-то что горевать?
Она задула свечу и обвила шею Вацлава своей пухлой горячей рукой.
* * * – Не могу передать тебе, Франек, как я огорчен, – сказал Вацлав, прощаясь с другом, – совесть мучает меня.
– Бедняга Вашек, – ответил Георгий, ласково обнимая его. – Я не таю обиды. Мне просто очень жаль, очень жаль. – Георгию не хотелось говорить, и он почти выпроводил Вацлава, испытывая чувство гнетущего одиночества, которое охватывает людей в час нового несчастья.
Положение было отчаянное. Кроме Псалтыри и Иова, он успел выпустить в свет еще две книги: Исуса, сына Сирахова, и Притчи Соломона. Три следующих: Екклезиаст, Премудрость, Песнь Песней были уже полностью набраны и частью отпечатаны. Он подсчитал свои средства. Оставшаяся сумма была ничтожна. Ее не могло хватить даже для того, чтобы закончить печатание этих уже совсем готовых книг. А нужно еще расплатиться с поставщиками бумаги, домовладельцем, уплатить Стефану и другим друкарям… Кто же выручит его из беды? Он вспомнил о Корнелии Вшегрде. Старик горячо интересовался делами Георгия. Но едва ли можно рассчитывать на его помощь. Корнелий небогат… Да, видно, придется закрыть друкарню. Он окинул взглядом груды рукописей, которым так и не суждено увидеть свет. Прямо перед ним лежали свежие оттиски первых листов Екклезиаста.
«Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует, – все суета!..» «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, – и нет ничего нового под солнцем…»
«Какая мрачная мудрость! – подумал Георгий. – Какая мрачная и безнадежная!.. Неужели всегда будет так, как было, и тщетны все труды человека и надежды его?..»
Он продолжал читать:
«…И предал я сердце свое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это – томление духа… Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познания – умножает скорбь…»
«Во многой мудрости много печали!.. – размышлял Георгий. – Разве только потому, что невежда подобен животному. Потребности его грубы, несложны его радости и печали. А истинная мудрость рождает великую тоску о правде, скорбь о несовершенстве земной жизни и человеческих знаний…
Однако эта тоска, порожденная мудростью, разве не направлена на то, чтобы сделать жизнь людей разумнее, чище, счастливей? И не заключена ли в такой великой печали и великая радость? Разве не всемогущ человек?»
А Екклезиаст твердил свое:
«И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа!»
– Ложь! – сказал вдруг Георгий громко. Охваченный волнением, он зашагал по комнате. – Ложь! Не для того ли трудится и созидает человек, чтобы на смертном одре с удовлетворением сказать: вот я приумножил достояние мое, и выстроил это, и сделал то, чтобы сыны мои, и внуки, и правнуки наследовали мне и продолжили дело мое… Нет! Ты не прав, древний пророк израильский! Не суета дела наши! Не напрасно живет человек на земле, трудясь для пользы тех, кто будет после него. Много зла на земле, но еще больше добра, и растет мудрость человеческая от века к веку… Много ли ты знал о мире, в котором жил, и о себе самом? А сколько уже тайн с тех пор вырвал человек у природы!..
Бессмертна мудрость, и есть у нас память о прошлом, как и у далеких наших потомков будет память о наших делах…
Ты был мудр, но ты не любил людей и жил только для себя. Оттого-то старческая немощь и чувство близкой кончины поселили в душе твоей отчаяние и мрак. Не так стареют те, кто посвятил жизнь поискам истины и заботе о счастье народа. Нет у них страха смерти, и старость их светла. Такой и на костер взойдет с улыбкой, ибо он знает, что его дела переживут его и мысль его, подхваченная другими, восторжествует над глупостью и злом!..
Спор с древним пророком пробудил у Георгия прежнее упорство и волю к борьбе. Нет! Не все потеряно, думал он. Он поедет со своими книгами на родину, в Полоцк, в Вильну, в Московию… Быть может, брат Иван даст денег, чтобы продолжить дело, наладить новую печатню. Не здесь, так в другом месте.
В комнату вошел Стефан.
– Пан доктор, – начал старик, – я пришел…
– Хорошо, что ты пришел, Стефан, – перебил его Георгий. – Мне нужно сказать тебе нечто важное.
Стефан впервые видел своего хозяина в таком возбуждении. Скорина быстро шагал по комнате.
– Видишь ли, друг мой, – говорил он, – я вынужден закрыть друкарню. У меня нет больше денег. Я задолжал тебе за прошлое. Тебе и всем остальным. Но пусть никто не опасается. Я уплачу все до гроша.
Георгий торопился высказать свою мысль, словно боясь изменить принятое решение.
– Уплачу, как только продам все… Станки, книги.
– Вы не сделаете этого, пан доктор, – едва смог вставить пораженный Стефан. – Там внизу ждут вас.
– Ах, да, да, – снова не дал ему договорить Георгий. – Сейчас я объясню им.
И Георгий быстро сбежал по лестнице в друкарню.
– Друзья мои! – позвал он рабочих, толпившихся в углу около стопок готовых книг. – Вы свободны. Я закрываю друкарню…
Рабочие удивленно повернулись к нему, и тут Георгий увидел двух чужих. Одного из них он сразу узнал. Это был книгопродавец Зденек, а второй?.. Георгий удивленно вскрикнул. Второй был тот самый приезжий из Вильны, с которым он встретился в день святого Вацлава на улице.
– Этот пан, – объяснял книгопродавец, поклонившись Георгию, – однажды скупил у меня всю вашу Псалтырь. Теперь он забрал и прочие ваши книги. Он пожелал увидеть пана доктора, и я привел его к вашей милости.
– Так вот он каков – доктор Францишек из Полоцка, – весело сказал приезжий. – Кажись, мы уже однажды видались.
Георгий крепко пожал его руку.
– Давно я хотел повидать вас, – продолжал приезжий, – да все разъезды мешали. Таковы наши торговые дела. А все же нашел-таки земляка.
– Кто вы? – спросил Георгий, охваченный волнением.
– Виленчанин я. Роду белорусского и православной веры, а зовусь Богданом, Онковым сыном. Радец места Виленского.
Богдан улыбнулся доброй, немного хитроватой улыбкой.
– А пришел-то я, кажись, вовремя. Гляди, на день опоздал и поцеловал бы в пробой, да и назад домой… Так, что ли?
– Да, – тихо ответил Георгий, – друкарню я закрываю…
– Ну, это не к спеху, – возразил Богдан. – Да, что ж мы стали на пороге? Али я не гость у тебя? – И Богдан, словно он тут был хозяином, сам увел Георгия по лестнице наверх.
Наблюдавший эту сцену Стефан весело подмигнул рабочим и засмеялся.
– А ну, братья, за дело! – крикнул старый друкарь и, взобравшись на свой высокий табурет, негромко запел.
Глава VI
Два следующих года прошли, как один день. Пока заканчивалась одна книга, другая, заблаговременно набранная, ждала очереди. Скорина жил замкнуто, мало общаясь с внешним миром. Только Вацлав по-прежнему навещал его, хотя и не так часто, как прежде. Другой его друг, профессор Корнелий Вшегрд, был прикован к постели длительной и тяжелой болезнью. Но теперь, поглощенный работой, Георгий не ощущал одиночества. Он стремился закончить печатание Библии как можно скорее.
Обстоятельства складывались благоприятно, и нужно было ими воспользоваться. Богдан Онкович не только уплатил сполна за закупленные книги, но и передал Георгию значительную сумму на расходы по следующим изданиям.
С тех пор на книгах, отпечатанных в типографии Скорины, появилась надпись: «Издано на средства Богдана, Онкова сына, радца Виленского». Заслуга щедрого белорусского купца была увековечена в памяти потомства. Редкие часы отдыха Георгий проводил в беседах с Богданом, радуясь возможности говорить на родном языке.
Богдан рассказывал о событиях, происшедших на Руси, о жизни в Литве и особенно подробно и горячо о виленском православном братстве.
– Верил и я когда-то, что братства станут великой силой… – заметил Георгий, охваченный чувством обиды, возникавшим в нем всегда при упоминании о родине. – Вот в Полоцке предлагал я братству друкарню открыть, так не о том их думы сейчас… Попы пьянствуют, блуд творят, с прихожан деньги выжимают…
Георгий, словно споря с самим собой, говорил сердито, раздраженно. Он уже знал, что полоцкое братство, прогнав пьяницу попа Иннокентия, снова стало крепнуть, однако не хотел признать этого, еще не изжив чувства горькой обиды и разочарования, испытанного тогда в Полоцке.
Богдан пристально посмотрел на Георгия и уклончиво ответил:
– Не в попах дело сейчас. Мещане наши далеко опять бывать стали. В Новгороде, в самой Москве. А недавно посадские люди из Пскова книги прислали нам.
– Какие книги? – живо заинтересовался Георгий.
Богдан ждал этого вопроса.
– Рукописные книги, – ответил он словно нехотя. – Теперь о своей друкарне думаем. Да тебя добрым словом вспоминаем. Ехал бы к нам…
Георгию было радостно услышать эти слова.
– А дадут ли мне на Литве работать? – спросил он, хотя про себя подумал другое: «Правда ли, что ждут меня?» – и тут же, словно оправдываясь, добавил: – Разве не пытался я начать в Полоцке… Так ведь один я, один…
– Неверно судишь, брат! – почти сердито возразил Богдан. – Был один, а теперь с тобой книги твои, а за ними друзья да защитники. Нет, не один ты. Ждем тебя и надежды не теряем. Книги твои у нас из рук вырывают.
Беседы с Богданом вывели Георгия из того замкнутого мира, в котором он жил здесь, в Праге. Мечта о возвращении на родину не покидала его, но он не представлял себе, как сможет она осуществиться. Теперь родина сама пришла к нему в образе виленского купца. Возвращение казалось возможным, близким. Так, значит, соотечественники нуждаются в нем, ждут его!
Когда Богдан пришел прощаться, он расцеловался с Георгием и сказал взволнованно:
– Трудись спокойно, земляк, и помни: мы тебе всегда поможем. А решишь вернуться, приезжай в Вильну, как в отчий дом…
* * * К концу 1519 года были отпечатаны книги Судей, Юдифи, Эсфири, Иеремии, Даниила и Пятикнижие. Пятикнижие было первой книгой Ветхого Завета, и Георгий хотел его издать особенно торжественно и красиво. На титульном листе большими красными литерами в черной рамке было напечатано заглавие: «Библия Русска, выложена доктором в лекарских науках Францишком, сыном Скорининым, из славного града Полоцка, Богу ко чести и людям посполитым к доброму научению».
Поверх заглавия, посредине листа, – пустой щит; внизу, с обеих сторон, – два таких же щита и в одном из них, в правом, – изображение солнца и месяца, которые семь лет назад нарисовал ему Тихон Захарович Меньшой, в левом щите – затейливая монограмма с ясно различимыми литерами ТЗ-М – дань уважения московскому живописцу.
Десять гравюр, помещенных среди двухсот пятидесяти листов текста, изображали различные сюжеты Пятикнижия.
Предисловие к Пятикнижию, изложенное на двадцати двух страницах, было по глубине содержания самым значительным из всех предисловий, написанных Скориной к отдельным книгам Ветхого Завета. В его основу были положены мысли, которые когда-то Георгий высказал в своем первом публичном выступлении на диспуте в Краковском университете. С тех пор прошло тринадцать лет. Юноша стал зрелым ученым, многое повидал и пережил. Но убеждения, с которыми вступил он в жизнь, не поколебались.
«Не только для себя рождаемся мы на свет, но наиболее для служения общему благу», – писал он в своем предисловии.
Простыми и трогательными словами поведал он будущим своим читателям о том главном, что наполняло всю его жизнь: «Как звери, от рождения бродящие по пустыне, знают свои норы, птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда свои, рыбы, плавающие в море и в реках, чуют виры свои, пчелы и им подобные оберегают ульи свои, так же и люди, где родились и вскормлены были, к тому месту великую любовь имеют…»
Переводя и печатая библейские книги, он хотел их сделать первыми рассадниками грамотности и науки на Руси. Для того-то так подробно он разъяснял в предисловии к Пятикнижию, что Библия, которую духовенство объявило божественным откровением, недоступным разуму простых смертных, есть книга, созданная людьми, книга, в которой собраны всевозможные сведения научного и практического свойства, полезные народу.
«Захочешь ли познать грамматику, или, говоря по-русски, грамоту, дабы уметь правильно читать и говорить, найди в сей полной Библии Псалтырь и читай ее. Если пожелаешь понять логику, которая учит, как при помощи доказательств отличить правду от кривды, обратись к книге святого Иова либо к посланиям апостола Павла. А помыслишь об изучении риторики, то есть красноречия, читай книги Соломоновы… Из книг Исуса Навина узнаешь ты многое из геометрии, или, по-русски, землемерия. И по астрономии найдешь у Исуса Навина – как неподвижно стояло солнце на одном месте целый день; а в книгах Сираха – как солнце отступило назад на несколько ступеней. А это и суть семь свободных наук».
Понятие «семь свободных наук», широко распространенное в Западной Европе, в чешских и польских университетских городах, впервые прозвучало на белорусском языке.
Работая над предисловием, Георгий испытывал порой мучительные сомнения. Ему вспоминались беседы с Коперником, споры в кружке Яна Глоговского, занятия с Гварони и Мусатти.
Пятнадцать долгих лет он учился, размышлял, общался с великими учеными. Мысль его витала в заоблачных высотах, доступных лишь немногим. Смелые догадки рождались в его мозгу. Он мог бы обессмертить себя замечательными открытиями. И вот теперь он приходит к людям с этими наивными объяснениями, даже не пытаясь раскрыть смысл тех явлений природы, которые представлялись библейским авторам непостижимыми чудесами. Неужели же все было напрасно? Неужели его познания должны праздно лежать взаперти, словно сокровища в сундуке скупца? «Но простой человек не поймет научных рассуждений, – возражал он себе. – Чтобы книга нашла дорогу к сердцам людей, она должна быть понятной, привычной православной книгой. Только таким безыскусным языком и можно начинать общение с посполитым русским людом… Это укрепит их единство, поможет в борьбе».
Итак, к концу 1519 года большая часть Ветхого Завета была выпущена в свет. Печатание рукописей теперь шло так быстро, что опередило работу Скорины по переводу последующих текстов. Понадобился длительный перерыв, пока Георгий смог подготовить новые переводы.
Осенью 1520 года друкарня Скорины остановилась.
Целыми днями просиживал Георгий над фолиантами и свитками старинных рукописей, делая выписки, сопоставляя тексты и готовя новые переводы. Ничто не мешало ему, но работа подвигалась медленно. Снова и снова сомнения одолевали его. Это были самые тоскливые месяцы его жизни.
После долгой болезни умер Корнелий Вшегрд. Теперь из друзей у него остался только Вацлав. Но дружба с Вацлавом, то ли не выдержав испытания временем, то ли под влиянием Марты, заметно ослабела. Встречи с ним уже не рождали в душе былой юношеской радости. Георгий все чаще и чаще ощущал свое одиночество. Иногда он бросал работу и подолгу без цели бродил по городу или просиживал часами на каменной скамье, глядя на островерхие кровли пражских домов.
Он избегал встреч с людьми и, даже возвращаясь домой, старался незаметно пробраться по лестнице, чтобы не отвечать на мучительные для него вопросы Стефана и Гинека: «Когда же, пан доктор, мы снова начнем работу?»
Так прошла осень, наступила зима, а с ней и новый 1521 год.
В первый день нового года приехавший из Вильны поляк привез письмо от Богдана Онковича. Богдан извещал Скорину, что немецкому купцу Генриху Зайцу, проживающему в Праге на Малой Стороне и находящемуся в деловых отношениях с ним, Богданом, и другими виленчанами, дано распоряжение выплатить доктору Франциску Скорине одну тысячу коп пражских грошей.
«…Получив сумму сию, – писал Богдан, – благослови православное братство виленское, от коего эти деньги взяты для покупки друкованных тобою по-русски книг. А книги новые, что изготовишь, с надежным человеком в Вильну пошли. А еще лучше бы тебе, Францишек, самому их привезти. Ныне имя твое людям книжным на Руси ведомо, и многие люди твои книги чтут и тебя добром поминают. Что и говорил тебе прежде, лучше бы здесь книги друковать, нежели на чужой земле. А друкарню наладить можно, и братство всякую помощь даст. Пишу не от себя только, но и от пана Якуба Бабича, наистаршего бурмистра виленского, и пана Юрия Адверника, домовластника и купца именитого, и от прочих, кои о делах братства радеют. Как решишь, просим нам отписать».
Родина опять протягивала Георгию свою ласковую руку. Он схватил со стола рукопись. Почему она все еще здесь? Почему не в печатне? Разве не десятки раз он проверил каждую строку? Что может прибавить он к этим текстам, составленным из множества рукописей и источников? Чего еще ждать?.. Быстро сбежав по лестнице, он вошел в друкарню. Там было темно и тихо. Давно замолкшие станки сиротливо прижались к стенам. Аккуратно сложенные доски и шрифты покрылись пылью. На полу не было ни обрывков бумаги, ни стружки. Даже привычный запах краски уступил место затхлому воздуху подземелья.
Георгий положил на большой стол рукопись и рядом поставил наборную кассу. Пусть завтра старый Стефан сам поймет, что наступил долгожданный час. Скорее, скорее отпечатать книги и увезти всю типографию в Вильну.
Покинув подвал, Георгий побежал на Малую Сторону к Генриху Зайцу. Немец встретил его почти торжественно.
– О, господин доктор! – заговорил он, едва Георгий назвал себя. – Я много слыхал о вас. Я так польщен, что буду считать сегодняшний день праздником.
Георгий, несколько отвыкший от людей, смутился и протянул письмо от Богдана Онковича. Немец письма не взял.
– Я также получил письмо от моего друга, господина Богдана из Вильны. Очень рад служить. Деньги я уже приготовил, но… сегодня мне хочется воспользоваться одной счастливой случайностью… Если господин доктор не возражает, я познакомлю его с одним человеком. С ним можно начать дело. Очень выгодное дело, господин доктор…
Словоохотливый немец ввел Георгия в просторную, скромно обставленную комнату. На стуле с высокой спинкой сидел угрюмого вида мужчина с массивным лицом, обросшим курчавой черной бородой. Хозяин назвал Георгия. Мужчина поднялся и, протянув руку, заговорил густым низким голосом:
– Прежде я занимался скорняжным ремеслом, но, повинуясь велению свыше, теперь проповедую слово божие. Сограждане зовут меня Матвеем Пустынником.
Георгий с любопытством посмотрел на него.
– Как относитесь вы, доктор Франциск, к учению Мартина Лютера? – в упор спросил Пустынник.
Скорина пожал плечами.
– Я мало знаком с учением Лютера. Люди, приезжающие из Виттенберга, рассказывают, что он сурово обличает распутство и алчность прелатов римской церкви…
– Да! – прогремел Пустынник. – И порицает постыдную торговлю индульгенциями. Он проклял папу и сжег его буллу, запрещающую наши проповеди!
– Если все это правда, – заметил Георгий, – то доктор Мартин Лютер – человек честный и желает блага своему народу.
– Лютер не только честный человек, – сказал сурово Матвей, – господь наделил его пророческим даром, возложив на него святую миссию: очистить род людской от скверны.
– Возможно, – ответил Георгий спокойно. – Я уже сказал, что не знаком с сочинениями Лютера. Однако я полагаю, вы хотели беседовать со мной не о виттенбергском проповеднике?
– О нем! – сказал Пустынник. – Дело в том, что чешские паны и богатые горожане, принадлежащие к утраквистской церкви,
именуют себя последователями Яна Гуса. На деле они давно отступились от учения Гусова и немногим отличаются от католических попов. Они готовы примириться с восседающим на римском престоле наместником дьявола, чтобы с помощью его слуг владеть душами и телами бедняков. Я, Матвей Пустынник, по гласу божию приступил к проповеди Лютерова учения среди заблудших и невежественных моих братьев в Чехии.
Он говорил глухо и монотонно, словно повторяя давно заученную речь. Маленькие глазки под нависшими черными бровями горели мрачным огнем.
Скорина слушал его, все еще не понимая цели беседы.
– Доктор Францишек! – продолжал Матвей Пустынник. – Господь повелел мне проповедовать истину не только речью, но и книгой. А как мне исполнить это, если все печатни пражские находятся в руках либо католиков, либо утраквистов? Все печатни, кроме вашей, доктор Францишек…
– Теперь понимаю, – сказал Георгий. – Но я иноземец и стою в стороне от происходящих здесь распрей. Живя в Праге, я печатаю книги для моего народа.
– Разве те, на которых восстал Лютер, не являются врагами вашего народа?
– Да, это так, – согласился Георгий, – однако у нас свой путь и своя вера.
– Доктор Мартин Лютер объявил войну латинской тарабарщине. – Матвей в упор смотрел на Скорину. – Он занят теперь переводом Библии на народный немецкий язык.
Ход был рассчитан правильно.
– О! – проговорил Скорина, оживившись. – Это заслуживает одобрения.
– Ведь и вы делаете то же, доктор Францишек, – значит, пути ваши не так уж различны, – вкрадчиво заметил хозяин дома.
Георгий задумался.
– Сожалею, – сказал он, – что не имел возможности ранее познакомиться с учением Лютера. Есть у вас его книги?
– Вот! – почти выкрикнул Матвей и резким движением вытащил из-за пазухи небольшой томик. – Это – книга на немецком языке, – объявил Матвей, – но вы сможете ее отпечатать на русском, на польском, на чешском… Вы дадите своим братьям духовный свет.
– Я печатаю только те книги, которые перевожу или сочиняю сам, – сказал Георгий.
– О, это неважно! – заметил хозяин дома, внимательно следивший за беседой. – Мы оплатим всю работу. Это очень выгодно, господин доктор.
– Господин Зайц ошибается. Речь идет не об оплате. – Скорина улыбнулся. – Но прежде чем дать окончательный ответ, я должен прочитать это.
* * * Придя домой и ознакомившись с книгой, полученной им в доме Генриха Зайца, Георгий увидел, что это было сочинение не Лютера, а самого Матвея Пустынника, или, как он именовал себя на заглавном листе, «Достопочтенного Матвея из Жатца». Это была скучная проповедь, где в нагромождении выспренних сентенций, славословий Лютеру и проклятий папистам трудно было найти мало-мальски живую мысль.
Георгий быстро потерял интерес к творчеству Матвея Пустынника и, бросив немецкую книгу в угол, с увлечением занялся работой в друкарне.
Пустынника, явившегося как-то в типографию, Георгий не принял, сославшись на крайнюю занятость. Больше тот не являлся.
Однако лютеране, по-видимому, действовали небезуспешно. До Георгия доходили слухи о многолюдных сборищах, в которых Матвей из Жатца и его единомышленники выступали с проповедью церковной реформы, подвергая ожесточенным нападкам не только католиков, но и утраквистов.
Новое учение находило своих последователей. По словам Вашека, чины и магистры всех трех Мест Пражских были не на шутку встревожены брожением в народе. В Чехии уже в течение некоторого времени не происходило больших религиозных распрей; теперь же не раз случалось, что толпа, возбужденная лютеранскими проповедниками, врывалась в католические и утраквистские храмы, разбивая иконы и церковную утварь. Власти стали преследовать лютеран, а тайные католические агенты, конечно, воспользовались этим в своих целях. Опасались, как бы возбуждение не распространилось на сельские местности: призрак грозной крестьянской войны прошлого столетия все еще жил в памяти землевладельцев и зажиточных горожан, а знаменитое таборитское движение еще и по сей день вспыхивало на чешской земле.
Глава VII
Однажды в субботний вечер Георгий вышел прогуляться перед ночной работой. На потемневшем небе громоздились тяжелые тучи. У Вифлеемской часовни, прославленной проповедями Яна Гуса, собралась многолюдная толпа. Люди старались протиснуться внутрь, хотя церковь была уже переполнена.
– Лютеране! – объяснил кто-то из толпы.
Георгию захотелось послушать лютеранскую проповедь, и, поработав локтями, он кое-как добрался до входа. В глубине часовни на кафедре стоял незнакомый проповедник. Одетый в грубую монашескую рясу, он, однако, не походил на католического монаха. Черные волосы были нестрижены и свободно падали волнами на плечи. Небольшая светлая бородка обрамляла его лицо. Широко расставленные серые глаза сияли вдохновенным огнем.
Толпа состояла почти сплошь из простолюдинов. В переполненной часовне пахло человеческим потом, чесноком, пивным перегаром. Задыхаясь от жары и давки, люди жадно вслушивались в речь проповедника.
Георгий стоял далеко от оратора, и к нему доносились только отдельные фразы, произносимые особенно громко. Проповедник говорил страстно, порой доходя до экстаза.
– Доколе будете вы терпеть нечестие слуг дьявола? – восклицал он, простирая руки к слушателям. – Развратные попы и подражающие им обезьяны торгуют словом божьим, глумятся над бедняками, обирают народ до нитки, пот и кровь вашу обращают в золото, коим набивают сундуки свои. Словно язычники, водворили они в домах молитвы идолов! – Широким жестом он указал на раскрашенные статуи святых и живописные фрески. – О, братья мои! Очнитесь от долгого сна! Вооружитесь мечом, дабы истребить идолопоклонников! Отвергните латинскую мессу! Вспомните, это говорил вам и замученный инквизиторами Ян Гус, проповедовавший некогда на том месте, где ныне стою я. Восстаньте на злых и нечестивых, упивающихся златом и распутством!..
Он умолк на мгновение, подняв голову вверх, как бы прислушиваясь к голосу, доносящемуся с неба.
Напряженная тишина, царившая в церкви, прерывалась вздохами и стонами. Среди слушателей, близ кафедры, Георгий увидел угрюмое лицо Матвея Пустынника и, как ему показалось, невдалеке от него своего старого печатника Стефана.
Проповедник снова заговорил:
– Близится Страшный суд. А за ним наступит тысячелетнее царство божие, где не будет ни угнетателей, ни притесняемых, ни князей, ни простолюдинов, ни богачей, ни нищих. Торопитесь же очистить себя и братьев ваших от скверны, чтобы непорочными предстать перед грозным судьей…
Окна внезапно осветились снаружи ослепительным синим светом, и в тот же миг мощный удар грома потряс здание.
– А-а-а! – раздался многоголосый вопль в толпе.
Новая вспышка молнии и вслед за ней новый оглушительный громовой раскат… Проповедник стоял неподвижно с простертыми к толпе руками.
Георгий, находившийся у самого входа, поспешил выбраться наружу.
Гроза усиливалась. Зигзаги молний поминутно прорезали черное небо, удары грома следовали один за другим. На землю низвергались тяжелые потоки ливня.
Георгий укрылся под выступом верхнего этажа соседнего дома, намереваясь переждать дождь. Толпа из часовни хлынула на улицу, но, задержанная грозой, остановилась. Придя в себя, люди снова стали проталкиваться внутрь церкви.
Когда новая вспышка осветила улицу, Георгий увидел группу ландскнехтов, расположившуюся на противоположной стороне, прямо против входа в часовню. Они стояли под проливным дождем, видимо ожидая чего-то.
«Эге! – подумал Скорина. – Это неспроста… Здесь что-то затевается. Надо уходить…»
Он вышел из своего укрытия и поспешно зашагал по направлению к дому.
Развешивая подле зажженного очага мокрую одежду, Георгий думал о неизвестном проповеднике. Он резко отличался от угрюмого и туповатого Матвея и других лютеран, с которыми Скорине приходилось встречаться. Видно, недаром пражский бургграф послал стражу к Вифлеемской часовне.
Переодевшись, Георгий спустился в друкарню. Как всегда по субботам, работа была окончена раньше времени.
Гинек убирал остатки бумаги.
– Где же Стефан? – спросил Георгий.
– Он ушел сегодня раньше всех, – объяснил мальчик, – кажется, приехал кто-то, кого ему непременно нужно повидать.
Георгий направился было к себе, но вдруг кто-то громко и торопливо застучал во входную дверь.
Георгий открыл и с удивлением посторонился. В подвал вошел совершенно мокрый Стефан. За ним следовали Матвей Пустынник и человек, одетый в монашескую одежду. Низко опущенный капюшон закрывал его лицо.
Увидев Скорину, Стефан смутился. Первым заговорил Матвей Пустынник.
– Доктор Франциск, – сказал он, – этот добрый старик, ваш мастер, согласился дать приют одному из наших братьев… Его преследуют, чтобы предать смерти!
Скорина, все еще не понимая, в чем дело, поглядел на Стефана. Старый печатник стоял, опустив голову.
– Пан доктор! – наконец робко проговорил Стефан. – Это правда… за ним гнались ландскнехты… Я подумал, что вы простите меня…
– Вы честный человек, доктор Франциск, – перебил старика Матвей, – и должны спрятать его.
Незнакомец поднял капюшон. Это был проповедник, которого только что слушал Георгий в Вифлеемской часовне.
Скорина подошел к нему и взял за руку.
– Останьтесь, друг мой, – сказал он. – Поднимитесь в мою комнату, там горит очаг, и вы сможете просушить ваше платье.
Проповедник улыбнулся. Лицо его, такое грозное и вдохновенное на кафедре, теперь было добрым и простодушным.
– В этом нет нужды, брат мой, – сказал он, – я не раз проводил ночи под открытым небом в бурю и непогоду.
– Но теперь вы под кровом, и огонь уже разведен, – возразил Георгий. – Пойдемте же и побеседуем. Прошу и вас также, пан Матвей.
Матвей покачал головой.
– Нет, я пойду к своим. Теперь я спокоен. Прощайте, доктор Франциск.
И, быстро повернувшись, он скрылся. Стефан закрыл за ним дверь на засов и направился в свой угол.
Георгий повел гостя наверх и усадил подле очага. Он сидел молча, задумчиво поглядывая на пылающие поленья.
– Я был сегодня в Вифлеемской часовне, – сказал Георгий.
– А! – Проповедник поднял голову. – Ты не одобряешь моей проповеди?
– Я не принадлежу к числу последователей Лютера… – начал Георгий.
– И я также, – неожиданно сказал гость.
Георгий удивленно посмотрел на него.
– Разве не от имени Лютера проповедуете вы здесь?
– Я проповедую от своего имени, – сказал тот с внезапной резкостью.
– Как же ваше имя?
– Меня зовут Томас Мюнцер, но это ничего не скажет тебе, – ответил проповедник. – Прежде я действительно во многом сходился с Мартином Лютером. Он неплохо начал. Но теперь… Теперь наши пути различны.
– Почему же? – заинтересовался Георгий.
– Потому что он изменил народу, снюхался с немецкими князьями да с разбойниками-рыцарями. Потому что он, восставший против папы, сам стал папой. Ха-ха-ха, – рассмеялся проповедник. – Видно, мало было нам одного папы, так теперь у нас стало два: один в Риме, другой в Виттенберге!.. Нравится тебе это, брат мой? – Он заговорил вдруг горячо и торопливо. – Властолюбивый монах, злоречивый обманщик, славословящая плоть из Виттенберга! Он обманывает бедняков, внушая им смирение и покорность, вместо того чтобы звать их на борьбу.
– На какую борьбу? С кем? – спросил Георгий. Этот человек вызывал в нем все больший интерес.
– С кем?.. Неужто ты не знаешь их, врагов рода человеческого? Князей и герцогов, баронов и рыцарей, ростовщиков-кровопийц… Только уничтожив их, добьемся мы царствия божия. Не к смирению надо звать народ, а к мечу.
Он порывисто встал с места и подошел к столу. Поверх груды книг и рукописей лежал первый том русской Библии – Пятикнижие. Проповедник раскрыл его.
– Что это? – спросил он.
– Пятикнижие. Одна из напечатанных мной по-русски книг священного писания…
– Ты перевел Библию на свой родной язык? – спросил гость и, не дожидаясь ответа, снова торопливо заговорил: – Это великая заслуга, брат мой. Только не делай из этого кумира. – Он указал на книгу. – Не уподобляйся Мартину Лютеру, боготворящему мертвую букву… Словно книжные черви, эти лицемеры грызут писание и препираются между собой из-за пустяков, вместо того чтобы пробуждать в человеке разум…
– Я согласен с тобой, – сказал Георгий, – и в моих предисловиях пытаюсь объяснить людям истинное значение Библии.
– А! – сказал проповедник. – Переведи мне это!
Георгий вкратце изложил по-немецки содержание предисловия к Пятикнижию.
– Мало! – воскликнул проповедник. – Здесь верные мысли, но этого мало. Почему ты не решаешься порвать с церковью и разоблачить ее преступную ложь, как это делаю я?
– Для того чтобы судить меня, – сказал Скорина серьезно, – тебе нужно знать жизнь моего народа. Я хорошо знаю ее и действую так, как почитаю более полезным. Придет время, пойду и дальше…
– Дальше! – громко повторил проповедник. – Иди дальше! Огнем и мечом надо пройти по всей земле, дабы истребить князей и господ. Они обращают в собственность рыбу в воде, птиц в воздухе, растения на земле. И после этого они имеют смелость проповедовать бедным заповедь: не укради… А сами берут себе все, что найдут, дерут шкуру с крестьянина и ремесленника. Когда же бедняк совершит малейший проступок, его отправляют на виселицу. И на все это католическая церковь вкупе с Лютером говорят «аминь»…
Мюнцер умолк. Крупные капли пота выступили на его лбу.
– Знавал я одного человека у себя на родине, – сказал Скорина, – он говорил то же, что и ты. Вы оба правы, но не во всем. Огнем и мечом пройти по земле – мыслимо ли сие? И есть ли в том надобность? Смел ты и душою чист, но подумай, сколько людей пойдут за тобой и сколько погибнет их? Смоешь ли их кровью зло с лица земли? Нет! Не настало время еще.
Георгий встал, взволнованный.
– Не кучке храбрецов суждено дать волю народам, а всему посполитому миру, в едином братстве собравшемуся. Для того и тружусь денно и нощно, чтобы народ мой пришел к знаниям и через то осмыслил задачи свои. Понял бы, кто ему брат, а кто недруг извечный. Молясь, на восток обращается наш простой человек. Оттуда и солнце светит ему… оттуда и братний голос начал уже слышаться…
Сильный стук внизу прервал его речь. Кто-то изо всей мочи колотил во входную дверь. Георгий вышел в сени. Стефан и Гинек были уже там. За дверью слышались крики и немецкие ругательства.
Георгий мигом понял, кто эти непрошеные гости и для чего они явились.
– Не открывайте двери, Стефан, пока я не скажу, – шепнул он старику и, обратившись к Гинеку, тихо спросил: – Можешь ты оказать мне услугу?
– Любую, хозяин, – ответил мальчик тоже шепотом.
– Пойдем! – Он втащил Гинека в комнату и прикрыл за собой дверь.
Мюнцер сидел у очага, по-прежнему глядя на пылающие дрова.
– Это за мной? – спросил он.
Георгий кивнул.
– Пойдешь с ним. – Он указал на мальчика. – Ты, Гинек, проводишь этого человека к Зденеку – книгопродавцу. Пусть переоденет его и на рассвете отправит за город. Скажешь, что это мой друг. Понял?
– Да, хозяин.
Мальчик сиял от гордости.
– Ступай!
Георгий задул свечу и распахнул окно.
– Прыгай, Гинек!
Мальчик легко спрыгнул вниз.
Проповедник вскочил на подоконник.
– Прощай, Франциск! – сказал он и улыбнулся своей прекрасной доброй улыбкой. – Благодарю тебя, брат мой.
Он исчез за окном, Георгий зажег свечу и вернулся в сени. Дверь трещала под неистовыми ударами.
– Откройте им, Стефан, – сказал Скорина.
Шестеро немецких ландскнехтов, вооруженных алебардами, ворвались в сени. Они были разъярены и пьяны.
– Где лютеранский поп? – заорал рыжебородый великан, видимо старший из них.
– Не знаю, кого вы ищете, почтенные господа, – ответил Георгий. – Я – владелец печатни, а это – мой рабочий. Ни он, ни я не являемся лютеранскими попами. Кроме нас двоих, в этом доме нет никого.
– Врешь! – крикнул бородач. – Он у тебя, его выследили.
Он взбежал по ступенькам в комнату Георгия. Убедившись, что комната пуста, вернулся.
– А там что у тебя? – Он показал на лесенку, ведущую в подвал.
– Моя печатня, – сказал Скорина, – но и там нет никого.
Рыжебородый сделал знак ландскнехтам, и они ринулись вниз. Георгий и Стефан последовали за ними.
Стражники принялись обыскивать помещение. Они заглядывали под столы, освещали темные углы, открывали шкафы.
У стены лежали сложенные в два ряда отпечатанные книги. Ландскнехт толкнул их сапогом. Сорвав полог, он перевернул кровать Стефана. Из-под подушки также выпало несколько книг. Одна из них, падая, раскрылась. На титульном листе была гравюра, изображавшая в профиль человека в облачении монахов августинского ордена. Это был портрет Мартина Лютера, гравированный знаменитым Лукой Кранахом в начале 1521 года. Над портретом значилось немецкое двустишие:
Пусть тело Лютера когда-нибудь истлеет,
Его христианский дух навеки уцелеет.
Рыжебородый поднял книгу и принялся разглядывать портрет. Георгий вздрогнул. Он узнал книгу, принесенную им от купца Генриха Зайца. Откуда она у Стефана?
– Эге! – произнес рыжебородый. – Кажется, я еще не совсем разучился разбирать немецкие буквы. Пусть гром разразит меня на месте, если этот монах не есть проклятый святым отцом еретик Мартин Лютер… Что скажешь ты на это, печатник?
Стефан шагнул было вперед, но Скорина задержал его.
– Возможно, – ответил он, – книги эти случайно забыты здесь незнакомым книгопродавцем. Я за него отвечать не могу.
– Все ты врешь, – сказал бородач. – Эй, солдаты! Забирайте эти чертовы книги отсюда!
Ландскнехты принялись швырять книги, сваливая их в угол.
Старый Стефан стоял у противоположной стены, где были сложены оттиски и уже готовые книги Скорины.
Рыжебородый заметил это.
– Вон там еще книги. Бери их, ребята, в такую ненастную ночь недурно погреться у хорошего огонька.
Солдаты двинулись по направлению к книгам.
– Господа! – сказал Георгий, и голос его дрогнул. – Это книги мои. В них нет ни слова о Лютере и его учении. Это – православные книги, они напечатаны на русском языке.
– Мне-то что за дело! – захохотал ландскнехт. – Мы снесем их куда следует.
– Это – Библия! – воскликнул Стефан. – Если вы христиане, то не осмелитесь надругаться над священным писанием.
– Мы-то христиане, – сказал ландскнехт и набожно перекрестился, – а вот ты, видать, еретик… Берите книги, ребята!
Стефан стоял с распростертыми руками, преграждая солдатам дорогу.
– Не пущу! – крикнул он. – Не дам тронуть ни одной книги!
– Прочь! – заревел бородач.
Стефан не двигался с места.
– Прочь! – снова загремел ландскнехт и наотмашь ударил его алебардой по голове.
Старик как подкошенный упал ничком.
Георгий бросился на ландскнехта и могучим ударом швырнул его на землю. Падая, рыжебородый выронил алебарду. Скорина подхватил ее на лету. Оправившись от изумления, ландскнехты с ревом двинулись на него. Георгий взмахнул алебардой, и здоровенный немец, приближавшийся к нему, со стоном свалился. Остальные отступили. Георгий стоял у стены.
Бешеная ярость клокотала в нем. В грубых и свирепых немецких наемниках, казалось, воплотилось все то зло, которое пришлось ему встретить в жизни. Перед его взглядом вихрем пронеслись сцены полоцкой ярмарки, безбровая харя воеводского шпиона, надменное лицо рыцаря фон Рейхенберга… В его ушах звучали слова: «Убивать их, убивать без милосердия».
Ландскнехты снова двинулись на него с алебардами наперевес. Георгий прыгнул вперед, схватил конец направленной на него алебарды и с силой дернул к себе. Солдат, потеряв равновесие, упал. Георгий пригвоздил его копьем к полу и снова отступил к стене. Трое уцелевших немцев прыгнули в стороны. Один из них схватил увесистую книгу из сваленной на полу кучи и метнул в Георгия. Книги летели одна за другой, с глухим стуком ударяясь в стену. За книгами последовали наборные доски и типографские кассы. Шрифты со стуком рассыпались по полу.
В исступлении Георгий бросился вперед на немцев. Один из солдат быстро забежал ему за спину и ударил копьем меж лопаток.
Георгий зашатался и рухнул на землю. Не прошло и нескольких мгновений, как вокруг него уже была лужа крови.
Глава VIII
– Все комнаты заняты, друг, – сказал трактирщик, окинув приезжего недоверчивым взглядом. – Поищи ночлега в другом месте, пока не стемнело. Хозяин гостиницы «Два голубя», посещаемой почтенными гражданами города Виттенберга, дорожил репутацией своего заведения и принимал постояльцев с осторожностью. Одежда приезжего была изношена и забрызгана грязью. Обросшее густой, всклокоченной бородой лицо выглядело простым и грубым. По всему было видно, что это не бог весть какая птица… Время было смутное. По дорогам бродили отряды восставших крестьян, тревожно было и во многих германских городах. – Все комнаты заняты, говоришь? – переспросил приезжий и спрыгнул с седла на землю. – Все до единой. – Надеюсь, кроме той, что предназначена для господина из Праги? – сказал приезжий, пристально глядя на трактирщика. – О! – воскликнул хозяин. – Так вы и будете тот самый господин? Тогда другое дело. Пожалуйте же, сударь! Приезжий, отряхнув с сапог комья грязи, пошел в трактир. Там было тепло и уютно. В очаге пылал веселый огонь. Над огнем, на вертеле, поджаривалась кабанья туша. Жена трактирщика, добродушная толстуха, хлопотала у стойки. – Комната ваша находится наверху, милостивый господин, – сказал трактирщик, – я посвечу вам. – Ты хочешь вести меня в комнату, заказанную для пражского гостя? – Именно. В ту самую. Это чистая и просторная комната. – А ты уверен, что я тот, кого ты ждешь? – спросил приезжий с угрюмой усмешкой. Хозяин в недоумении поглядел на него. – Но… мне кажется, вы сами сказали… – Тебе почудилось, – опять усмехнулся приезжий. – Ничего подобного я не говорил… Впрочем, особа, для которой ты приготовил комнату, скоро прибудет. – Ты что же, находишься в услужении у этого пражанина? Хозяин снова перешел к прежнему пренебрежительному тону. – Тебе до этого дела нет, – отрезал приезжий. – Вместо того чтобы болтать пустое, дай-ка мне поесть и промочить горло. Осмотрев помещение, он выбрал столик в дальнем, слабо освещенном углу. – Ишь ты! – с возмущением проговорил трактирщик. – Моя гостиница открыта не для всякого сброда, и беру я с постояльцев недешево. Приезжий развязал кошель и бросил на стол золотой дукат. Хозяин быстро сгреб монету и ухмыльнулся. – Прошу прощения, милостивый господин, – заговорил он медовым голосом. – Ужин готов, и, клянусь небом, вы не раскаетесь в вашей щедрости. Не угодно ли вам чего-нибудь? – Мне угодно, – проворчал посетитель, – чтобы ты держал язык за зубами… Кто бы ни явился сюда, не упоминай обо мне ни слова. Понял? А теперь давай ужин. Трактирщик низко поклонился и рысцой побежал к стойке. Не прошло и пяти минут, как перед незнакомцем появился поднос с едой и кувшин пенящегося пива. В этот момент дверь отворилась, и в трактир вошел человек, по внешности похожий на зажиточного бюргера. – Добрый вечер, Кунц, – сказал он, приблизясь к стойке, – прибыл уже господин из Праги? – Здравствуйте, господин Юст, – почтительно ответил трактирщик, – нет, он еще не прибыл, но, по-видимому… Звон разбитой посуды прервал его на полуслове. – Я, кажется, разбил кувшин, – послышался голос из дальнего угла. – Подай сюда другой! Кунц бросился исполнять приказание. Когда он возвратился к стойке, бюргер передал ему свернутый в трубку небольшой лист бумаги. – Как только господин из Праги явится, передайте ему. Это от доктора Филиппа. Надеюсь, вы не забудете, Кунц!.. – Что вы, господин Юст! Могу ли я забыть о поручении почтенного доктора Филиппа? Бюргер кивнул трактирщику и вышел. – Эй, хозяин! Кунц снова поспешил на зов беспокойного посетителя. – Он передал тебе письмо для пражанина? – спросил тот. – Да. – Дай это письмо мне. – Отчего бы мне давать его вам, если оно предназначено другому? – сказал трактирщик. – Оттого, что я так хочу. – Ну, уж это слишком, – возмутился Кунц. – За ваши деньги я могу приготовить роскошный ужин. Я готов устроить вам удобный ночлег, хотя это и не так-то легко. Но вы требуете большего… – Требую. И ты исполнишь это. – И не подумаю, – пожал плечами трактирщик. – Ваши деньги не заставят меня обмануть доверие такой почтенной особы, как доктор Филипп Меланхтон… – А я тебе и не собираюсь предлагать денег. – Тем более… – Но, – продолжал странный гость, – зато я покажу тебе нечто иное… – Он протянул руку и разжал кулак. На его широкой грубой ладони лежал тоненький золотой перстень и маленькая ладанка. Трактирщик отпрянул, словно наступив на змею. – Трудхен, – обратился он к жене, – сходи в кладовую и отбери несколько копченых окороков. Женщина вышла. Кунц опустился на колени. – Простите, господин мой! – прошептал он. – Мне и в голову не могло прийти… – В глупую голову редко приходят умные мысли. Разве не учили тебя в любом обличье угадывать наставников твоих?.. Итак, я жду этого письма. Трактирщик поклонился и передал бумагу незнакомцу. Тот развернул бумагу и прочитал ее. – Умеешь ты читать? – спросил он. – Да, – сказал Кунц. – Тебе приходилось видеть почерк Меланхтона? – Несколько раз. – Погляди сюда! – Он протянул бумагу трактирщику. – Это его рука, – подтвердил Кунц. Незнакомец подумал. – Я оставлю письмо у себя, – сказал он, – оно может понадобиться впоследствии. – Значит, я не должен выполнять поручения? – спросил трактирщик робко. – Напротив. Ты должен исправно выполнить его. – Как же мне быть? – Письмо могло затеряться. Ты извинишься и передашь поручение на словах… А вот, кажется, и он сам пожаловал. Снаружи послышался топот лошадиных подков и голоса. Трактирщик открыл дверь. На пороге стояли двое мужчин. Один из них сказал: – Меня известили, что в гостинице «Два голубя» для меня приготовлена комната. – Откуда вы, сударь? – осведомился Кунц. – Из Праги, столицы Богемии, – ответил новоприбывший, – меня зовут доктор Франциск Скорина. – Добро пожаловать, господин доктор… Комната ваша находится наверху. Приезжие вошли в трактир. – Гинек, – сказал Скорина своему спутнику, – присмотри, чтобы накормили коней! – И, обратившись к трактирщику, спросил: – Не справлялся ли обо мне господин Меланхтон? Я несколько задержался в пути… – Как же!.. – воскликнул трактирщик. – Один из его друзей только что приходил узнать о прибытии вашей милости в Виттенберг. Он оставил для вас письмо от доктора Филиппа. Сию минуту я вручу его вам. Он принялся шарить под стойкой. Скорина сидел, ожидая, пока хозяин разыщет письмо. – Ума не приложу, – бормотал Кунц, – куда оно запропастилось. Уж не натворила ли моя дура опять беды?.. Трудхен!.. Куда ты девала бумагу, которую принес мне господин Юст? – Чего ты врешь, муженек, – откликнулась трактирщица из кладовой, – не трогала я твоей бумаги. – Как же не трогала, когда я вижу обгорелые клочки! – заорал Кунц. – Ты бросила ее в огонь. О, Трудхен, ослиная голова, разрази тебя гром!.. Прошу вас, милостивый господин, не гневайтесь на меня… Георгий поднялся. – Экая досада! – молвил он, нахмурившись. – Придется тебе самому, хозяин, сходить к Меланхтону и уведомить… – В этом нет нужды! – воскликнул трактирщик. – Я случайно прочел это письмо. – Гм!.. – проговорил Скорина. – Ты имеешь обыкновение читать письма, адресованные твоим постояльцам? – Боже меня сохрани, сударь! Но эта бумага не была запечатана, и в ней не было ничего, кроме приглашения от доктора Филиппа… – Куда же приглашает меня господин Меланхтон? – спросил Скорина. – К себе в дом, завтра после полудня. Он предупреждает вас, что в это время к нему пожалует сам… – он благоговейно поднял глаза к небу, – достославный наш учитель, доктор Мартин Лютер… – Хорошо, – сказал Скорина, – завтра я явлюсь к нему в назначенное время… Если у тебя найдется ужин, пришли его в мою комнату, хозяин! Он быстро взбежал по ступенькам. – Неплохо, – сказал незнакомец, продолжавший сидеть в своем темном углу. – Оказывается, ты не так глуп, как можно было думать. Рядом с его комнатой живет кто-нибудь? – Да. Вербовщик рекрутов. Он мертвецки пьян и храпит во всю мочь. Кажется, и иерихонская труба не разбудила бы его. – Отлично! – сказал незнакомец. – Снеси его куда-нибудь. Проснувшись, он решит, что спьяна заблудился. Эта комната нужна мне. * * * Больше двух лет минуло с той памятной читателю ночи, когда пражская типография Скорины подверглась нападению ландскнехтов. Около месяца Георгий в беспамятстве пролежал в доме Вашека, куда в ту же ночь перенес его Гинек с помощью соседей. Пани Вашек сперва поворчала, боясь, что присутствие Скорины навлечет на их дом гнев властей. Но тут Вацлав впервые проявил решимость. Прикрикнув на жену, он заявил, что никакая опасность не заставит его покинуть друга в несчастье. Марта была настолько изумлена этим внезапным преображением всегда мягкого и нерешительного супруга, что беспрекословно повиновалась и сама стала ухаживать за больным. Рана оказалась очень тяжелой. «Обычно после такого удара, – заметил врач, осмотрев раненого, – люди без промедления переселяются в надзвездный мир…» Тем не менее и на этот раз Георгий вышел победителем из поединка со смертью. Месяц спустя он очнулся от горячечного забытья, а еще через месяц уже мог сидеть в кресле и, опираясь на палку, ходить по комнате. Только тогда он узнал все подробности постигшего его несчастья. Погиб старый Стефан, его преданный друг и искусный помощник. Печатный станок был исковеркан, другие типографские приборы разбиты в щепы, большая часть шрифтов бесследно исчезла. Унесенные ландскнехтами книги и оттиски были сожжены. Только ранее отпечатанные издания, находившиеся в лавке книготорговца Зденека, уцелели. Друкарни больше не существовало. Теперь не было ничего, что бы удерживало его в Праге. Георгий решил ехать в Вильну. Но… над Скориной тяготело обвинение в убийстве ландскнехтов, в связях с возмутителями спокойствия. Его разыскивали, и Вацлаву пришлось принять все меры, чтобы сохранить в строжайшей тайне местопребывание друга. Он не позволял ему выходить из дома и даже появляться у окна. Лишь глубокой ночью ему разрешалось погулять по садовым аллеям. Возможно, кое-кто и подозревал о том, где скрывается мятежный русский печатник, но Вашек был человеком почтенным и влиятельным, и ворваться к нему в дом без достаточных оснований было не так-то просто. В конце мая 1522 года в Праге произошли события, нарушившие это мучительное затворничество. Король Людовик, прибыв из Венгрии, торжественно короновался в чешской столице и, созвав общий сейм, принял сторону городского сословия, все еще враждовавшего с панами. Зденек Лев из Розмиталя был смещен. Король поставил верховным бургграфом Карла Минстербергского, потомка Юрия Подебрада Произвол чиновников и бесчинства ландскнехтов несколько утихли, равно как и гонения на лютеран и «чешских братьев». Благодаря усиленным хлопотам Вацлава судебное дело, поднятое против Скорины, было прекращено. Георгий снова обрел свободу. Можно было наконец отправиться в путь. Но Скорина не был уверен, сможет ли он в Вильне достать необходимое типографское оборудование, найдет ли там опытных резчиков. Не лучше ли изготовить все здесь и перевезти на родину исправную печатню, с тем чтобы тотчас же возобновить работу? К счастью, деньги его не истрачены и есть чем оплатить работу мастеров. К лету 1523 года все было готово. Изломанный печатный станок был восстановлен, наборные доски, кассы и шрифты изготовлены заново. Правда, новые литеры заметно уступали по изяществу художественным изделиям покойного Стефана, но все же они были достаточно хороши. Однажды его навестил Матвей Пустынник, о котором он долго ничего не слыхал. Еще более угрюмый, чем прежде, он молча протянул Георгию письмо. Доктор Филипп Меланхтон, ближайший сподвижник Лютера, писал о том, что слух об изданиях Скорины дошел до Виттенберга и пробудил в нем и в Мартине Лютере желание лично познакомиться с автором этих книг. «Возможно, – писал Меланхтон, – что господь вдохновил нас одними и теми же стремлениями, и тогда мы сможем соединить наши усилия для борьбы за общее дело». Георгий задумался. Приглашение было заманчивым. Ему было интересно узнать поближе человека, имя которого все громче и громче звучало в европейских землях, сотрясая устои папского престола. Кто он, этот новоявленный пророк? Мудрец или фанатик? Подвижник или лицемер? Народный вождь или «виттенбергский папа», как называли его многие противники? Чего он ищет, к чему стремится? Быть может, и впрямь он, Георгий Скорина, найдет в Мартине Лютере союзника для борьбы с общим врагом. Быть может, народ немецкий, освобожденный от ига светских и духовных тиранов, обновленный Лютеровой проповедью, не пойдет вслед за своими князьями и рыцарями, и тогда оба народа будут жить, как добрые соседи. – Напишите господину Меланхтону, – сказал Георгий, – что я скоро покину Прагу. И хотя ехать мне в другую сторону, я все же смогу посетить Виттенберг. Через некоторое время Матвей Пустынник сообщил Скорине о том, что Меланхтон будет ждать доктора Франциска Скорину в Виттенберге начиная с пятнадцатого дня октября и к его приезду будет приготовлена комната в гостинице «Два голубя». В конце сентября все сборы были закончены, и Скорина простился с Вашеком. – Вот я снова провожаю тебя, – сказал Вацлав, и опять, как некогда, по щекам его потекли слезы, – только чувствую, что больше нам никогда не свидеться. – Как знать, – ответил Георгий задумчиво, – как знать!.. В первый день октября 1523 года Скорина отправил обоз с имуществом печатни прямо на Вильну, обещав догнать его еще в пути. Сам же в сопровождении одного Гинека, верхом на добрых конях, направился кратчайшим путем в Виттенберг. Георгий не рассчитывал задерживаться долго у Лютера. Пока обоз медленно будет продвигаться по большим дорогам, он успеет догнать его еще до Вильны. Привыкший к странствиям по чужим землям, Георгий отважно углублялся в лесные чащи, пересекал пустынные местности, сокращая расстояние. Гинек с восторгом смотрел на своего учителя, удивляясь его способности предвидеть опасности и умению обходить их. Но не видел Георгий, как вслед за ним из Праги выехал всадник и, то держась далеко позади, то обходя стороной и опережая, не терял из виду наших путешественников. * * * Рыжий слуга снова наполнил кубки баварским пивом. Но теперь оно оставалось нетронутым. Беседа принимала все более острый характер. Филипп Меланхтон ерзал на стуле. Его тощее лицо с жидкой русой бородкой вытянулось. Маленькие глазки тревожно бегали. Все получилось не так, как он ожидал… Гость из Праги, доктор Франциск, оказался человеком несговорчивым и насмешливым. Это выводило из терпения и без того вспыльчивого и резкого Мартина Лютера. Скорина сидел спокойно, положив руки на стол, и с чуть заметной усмешкой слушал своего собеседника. Во время болезни в Праге Георгий успел познакомиться с некоторыми сочинениями прославленного реформатора, но почему-то тогда они не вызывали в нем такого протеста, как теперь, при встрече с самим автором, хотя Лютер и сейчас почти слово в слово повторял написанное им раньше. Лютер был в облачении августинских монахов, его грузное тело, казалось, с трудом помещалось в длинной сутане, перехваченной широким кожаным поясом. Лицо его, багровое, с мясистым большим носом, было чуть тронуто оспой. Из полуоткрытого рта с трудом вырывалось хриплое дыхание. Иногда казалось, что взгляд его пронизывал собеседника насквозь и, не задерживаясь, устремлялся к невидимой другими цели. – Папа лишил Германию ее былого величия! – говорил он, встав из-за стола. – Он подчинил себе дикое, неукротимое немецкое племя, изгнал германского императора из Рима, завладел именем, честью и жизнью немецкого народа. С тех пор как возвысились папы, более миллиона немцев пролили за них свою благородную кровь. Но я пробудил немецкий народ! Мое учение снова свяжет разорванное тело Германии, и снова станет она во главе европейских народов. Подумай, Франциск, кому ты служишь! Разве не является единственным законным властелином Европы император германский, наследник Карла Великого! Скорина нахмурился. Пока Лютер касался только богословских тем, стараясь убедить приезжего в достоинствах своего учения, Георгий слушал его, все еще пытаясь решить, возможен или невозможен союз с этим человеком? Но теперь все было ясно. Доктор Мартин Лютер больше не был для него загадкой. – Я не совсем понимаю, – медленно сказал Георгий, глядя прямо в глаза собеседнику, – какая корысть славянским народам от того, что вместо римского папы их властелином станет германский император? Ты печешься только о благе немецких властителей. – Нет! – вскрикнул Лютер, подняв руку. Лицо его покрылось серыми пятнами. – Я забочусь о спасении душ человеческих!.. Кто не примет моего учения, тот идолопоклонник и нечестивец! – И католические монахи твердят нам о том же, – спокойно возразил Скорина, – однако не вижу я блага и для вашего народа от осуществления твоей мечты. Проезжал я ныне по саксонским землям. Всюду неспокойно. Мужики за вилы берутся, рыцари замки свои укрепляют. А в Тюрингии да в Швабии, говорят, и того хуже. – Чернь! Мужицкий сброд! – вдруг крикнул Лютер визгливым голосом. – Это сатана поднимает восстание плоти, чтобы заглушить духовное восстание, возглавляемое мной! Бунтовщиков, безусловно, следует душить, бить, колоть, словно бешеных собак. Скорина покачал головой, в глазах его зажегся гневный огонек. – Простые бедные люди терпят зло не только от монахов и папистов, но и от светских господ… от курфюрстов и маркграфов, императорских ландскнехтов и вельмож. Лютер, тяжело сопя, подошел вплотную к Скорине и сказал, как на проповеди: – Верховная власть поставлена небом. Короли, князья и рыцари являются законными господами крестьян и городских мещан, а сами, в свою очередь, подчиняются императору. Если государи чинят несправедливость, то обязанность духовных проповедников вразумлять их. – А если злые господа не послушают увещаний? – с усмешкой спросил Скорина. – И тогда подданные обязаны покорно выполнять свой долг. Бог послал человека в мир не для блаженства, а на скорбную жизнь страдальца. Безвинно страдающий обретет спасение души. Скорина засмеялся: – Видно, не весь немецкий народ согласен с тобой… Лицо Лютера исказилось яростью. Меланхтон подбегал то к Лютеру, то к Скорине, пытаясь их успокоить: – Братья!.. Молю вас подавить гнев в сердцах ваших… Лютер отшвырнул бокал, который поднес ему слуга. – Народ? – шепотом повторил он. – Бунтовщики!.. Да знаешь ли ты, какому князю они служат?.. – О каком князе ты говоришь? – недоуменно спросил Скорина. – О нем!.. – словно в горячечном бреду говорил Лютер. – О князе тьмы! Он повсюду преследует нас, опутывает своими сетями. Все мы постояльцы в обширной гостинице, хозяин которой дьявол!.. В его власти воздух, пища, одежда… Черти летают в воздухе в виде облаков. Шмелями роятся вокруг нас. В лесах и в воде прыгают козлами. Топят в болотах людей. Принимают облик свиней, обезьян, усопших… Дьявол похищает младенцев и кладет в колыбели своих детенышей… Насылает на землю войны и болезни, бури и град. – Ха-ха-ха! – раздался веселый смех. Лютер вздрогнул и попятился, подняв руки. – Ха-ха-ха! – Георгий смеялся от души, глядя на перепуганного пророка. – Дьявол! – заревел вдруг Лютер. – Я узнаю тебя! Ты вновь явился, чтобы искушать меня. Изыди, сатана! Сгинь! Сгинь! * * * Проснувшись среди ночи, Гинек ощутил мучительную жажду. «Должно быть, от вчерашнего ужина, – подумал он, – немец не жалеет перца». Рядом слышалось сонное дыхание. Георгий спал. Гинек накинул плащ и босиком вышел из комнаты. Спустившись вниз, он направился в сени, где обычно стоял бочонок с водой, как вдруг услышал негромкий разговор, доносившийся из-за дощатой перегородки. – Так ты говоришь, Лютер убежал из дому? – спрашивал грубый мужской голос. – Провалиться мне в преисподнюю, если я лгу, – отвечал другой, тонкий и скрипучий. – Запустил в него стулом, проклял и убежал… Словно бешеный. – Это хорошо, что им не удалось столковаться, – сказал первый, – но и один этот человек нам опасен. Продолжай! – Доктор Филипп сообщил чиновникам курфюрста, что этот пражанин приехал, чтобы бунтовать мужиков. Утром сюда придут ландскнехты, чтобы схватить его. – Ты уверен в этом? – Как в том, что я говорю сейчас с вами. Не пройдет и пяти часов, как они явятся. Вы сами сможете увидеть… – Мне незачем присутствовать при этом. Стало быть, он не доедет до Вильны… Что же, если наши враги – лютеране сами избавят нас от него, тем лучше. Ты хорошо выполнил свой долг. Ступай! Дверь скрипнула. Гинек стоял за выступом, прижавшись к стене, сдерживая дыхание. С зажженным огарком в руке вошел бородатый мужчина, которого Гинек уже однажды встретил в трактире. Он поднялся по лестнице. Гинек быстро скользнул в сени и приоткрыл дверь. По освещенному луной двору удалялась фигура человека в черном камзоле. Он был незнаком Гинеку. Но если бы пришлось ему присутствовать на сегодняшнем обеде, он, без сомнения, сразу узнал бы молчаливого слугу Меланхтона. Гинек уже хотел вернуться в залу, когда снова услышал шаги на лестнице. Он огляделся: в углу стояла большая бочка. Юноша легко перепрыгнул через нее и присел на корточки. Бородатый мужчина прошел через сени и вышел во двор. Гинек вылез из своего тайника и, осторожно приоткрыв дверь, поглядел в щель. Бородатый вошел в конюшню. Затем появился снова, ведя на поводу оседланную лошадь. Он распахнул ворота, легко вскочил в седло и выехал со двора. Гинек опрометью бросился наверх. Скорина по-прежнему крепко спал. – Хозяин! – шепнул он, тормоша Георгия. – Проснитесь! Нужно уезжать! – А? Куда уезжать? Зачем? – пробормотал сонно Георгий. – Это ты, Гинек? Что случилось? Юноша торопливо рассказал о том, что ему пришлось услышать и увидеть. …Ландскнехты явились в трактир вскоре после восхода солнца, но, когда они ворвались в комнату Скорины, там уже не было никого.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ВИЛЕНСКОЕ БРАТСТВО
Более в науке и в книгах оставить славу и память свою, нежели в тленных царских сокровищах.
Г. Скорина
Глава I
Редкий из виленских мещан не знал дома наистаршего бурмистра Якуба Бабича. Правда, были тогда в Вильне дома куда богаче и красивее. Вельможи и богатые купцы, перенимая иноземные моды, воздвигали себе пышные палаццо, отделывая фасады лепными фигурами, колоннами, галереями, украшая покои мрамором, цветными стеклами, картинами и зеркалами. А дом Бабича, хоть и помещался на видном месте, возле ратуши, был прост и построен по старинному обычаю из дерева, с гонтовой кровлей. Таким остался дом от покойного отца, и Якуб продолжал жить в нем, лишь несколько расширив его новыми пристройками. И все же ни в одном доме не бывало столько гостей, сколько у Якуба Бабича.
С утра до вечера не закрывались двери бурмистрова дома. Приходили сюда купцы и радцы магистрата, попы да церковные старосты. Приходили нищие и убогие, приезжали иноземные гости по своим торговым делам.
Собирались к Якубу и члены виленского православного братства.
Однажды, когда гости чинно уселись вокруг большого стола и чаши были наполнены крепким медом, Якуб разгладил пышные усы и попросил:
– Расскажи, пан Юрий, как Москва тебя приняла, что видел, что от людей слыхал?
Пан Юрий Адверник, уже немолодой мужчина, с болезненным, землистого цвета лицом, поднялся и, откашлявшись, тихо начал:
– Приняла, братья, Москва меня, будто сына родного. Зла на нас, православных людей, никто не имеет, и все помочь хотят. Кто добрым словом да советом, а кто и другим чем. Книги мне свои показали, искусными монахами писаны, да обещали недолгим временем в дар прислать. Одна беда – мало их. Сами ждут не дождутся, когда друкарни наладить сумеют. Нам бы тоже о друкарнях подумать пора, в Вильне и других городах…
Адверник остановился. Тяжко вдохнув воздух, он закрыл глаза и вытер мелкие капли, оросившие большой лоб. Видно было, что ему тяжело говорить.
– Ты сядь, пан Юрий, – мягко сказал Якуб, – не стоит так себя утомлять.
– Это у меня от перемены воздуха, – как бы оправдываясь, ответил Адверник. – Пока в пути – ничего, дышу вольно, а стану где, оно и давит меня, словно медвежья лапа.
– Тебе ездить более не след, – неожиданно громко и сердито заявил тучный густобровый Оникей Прошкович. – Есть в братстве люди и подюжей тебя. А коли самим друкарню ладить, так книги те московские надо бы с собой выпросить.
– Жадный ты! – улыбнулся ему Богдан Онкович. – Нет, братья, я так мыслю: не все нам у Москвы просить, надобно и самим чем-нибудь поделиться. За то спасибо, что не забывают нас, только ведь сиротами жить – дела не будет. Им, поди, и своих забот хватит.
– Будет и у нас чем других порадовать, – многозначительно сказал Якуб Бабич и поднялся из-за стола. Он подошел к стоявшему у стены кованому сундуку и, подняв его тяжелую крышку, торжественно обратился к друзьям: – Приберег я для вас добрую весть… Прибыл недавно человек из места Пражского и привез нам сердечный дар от славнейшего собрата нашего, доктора Скорины.
Якуб вынул из сундука и понес к столу небольшой четырехугольный пакет, завернутый в шелковую материю. Все с любопытством обступили его. Якуб развернул материю.
– Три книги пророка Даниила, друкованные доктором Францишком, с его собственноручной надписью и печаткой. Одна Богдану Онковичу, другая пану Адвернику, третья мне.
Книги переходили из рук в руки, и каждый с одобрением и восхищением осторожно перелистывал страницы, рассматривал рисунки, заставные литеры. На первом листе книги стояла надпись Скорины, скрепленная печатью, изображающей дубовую ветку и латинское слово «Fides».
Глаза Якуба Бабича сияли гордостью. Целую неделю он таил этот дорогой подарок и теперь был доволен произведенным эффектом.
– Книги эти, – сказал Богдан Онкович, – стар и млад прочитает. Загремит имя нашего Скорины по всей земле!
– Да и теперь, поди, в каждом городе знают его, – добавил Адверник. – Даже глупый полоцкий поп и тот мне говорил: «Коли, говорит, сей Скорина полочанин родом да нашим попечением в чужих землях науки постиг, пусть к нам приезжает и детей малых учит!»
Раздался громкий смех.
– Ишь что выдумал!
– Не худая затея! – засмеялся Бабич.
– Когда к ним Скорина возвратился, – напомнил Онкович, – они отвергли его, чуть в колоду не бросили, а теперь вишь… в лекарстве и свободных науках доктор, пусть вместо дьячка детей азбуке обучает!
– Нет, дела более важные ждут славного доктора! – серьезно сказал Якуб.
– Дождутся ли? – снова почти сердито спросил молчавший все время Оникей Прошкович. – Поди, хватит ему скитаться, словно безродному…
– Скоро, скоро! – прервал его Бабич. – Доктор Францишек уже выехал к нам. Прибыло сообщение, что едет не быстро, с обозом. Всю печатню свою везет. Еще намеревался по пути заехать в какой-то немецкий город. Но теперь уж со дня на день ждать надобно.
* * * В тот же вечер в одном из мрачных покоев нижнего виленского замка тихо беседовали два человека. Одного из них, бородатого угрюмого мужчину, мы видели в виттенбергском трактире «Два голубя». Он все еще был в дорожном платье и выглядел очень утомленным. Другой – знатный вельможа, одетый в богатый бархатный камзол с высоким кружевным воротником, сидел в широком кресле возле камина и грел руки у огня.
– Ты присутствовал при этом? – спросил вельможа.
– Нет, – ответил бородатый, стоя в почтительной позе в некотором отдалении, – я уехал ночью, чтобы не привлекать ничьего внимания. Он крепко спал, не подозревая ни о чем. Ручаюсь, что на рассвете его схватили.
– Не следует ручаться в том, чего не видел своими глазами! – сухо сказал вельможа.
– Господин барон прав. И все же здесь нет сомнений…
– Хорошо! – оборвал его тот, которого назвали бароном. – Где бумага?
Бородатый вынул из-за пазухи свернутый лист. Это было письмо Меланхтона Скорине. Барон бегло пробежал его.
– Оно останется у меня на всякий случай, – молвил барон, – ты свободен. Возвращайся к тем, кто послал тебя, и передай мою благодарность. Прощай!
Низко поклонившись, посетитель исчез за плотной портьерой. Барон продолжал сидеть, задумчиво глядя на пламя камина. Затем медленно встал и, подойдя к стене, толкнул одну из мраморных плит. Плита легко подвинулась, открыв небольшое углубление, в котором лежали бумаги. Порывшись в них, барон извлек пожелтевший листок… «Я, Отто Штольц из Любека, купец города Кракова, заявляю, что служивший у меня приказчиком схизматик и вор Франциск…» – было написано на потускневшей от времени бумаге. Барон присоединил этот листок к только что полученному письму Меланхтона и, положив обе бумаги на дно тайника, водворил на место мраморную плиту.
* * * Супруга Юрия Адверника проснулась поздно. Она провела тревожную ночь, дожидаясь возвращения мужа. Здоровье пана Юрия в последнее время все чаще беспокоило ее. Упаси бог, если с ним случится что-либо дурное! После смерти родителей не осталось в целом свете никого, кто был бы ей ближе мужа. Он добр, честен, благороден, окружает ее роскошью, заботится, словно о ребенке. Можно ли не любить такого человека? Она вздохнула. К чему обманывать себя? Однажды ей привелось испытать то, что называют любовью. То было совсем другое чувство, совсем другое… Но это было так давно. И никогда более не повторится, как не повторится юность. Незачем вспоминать, незачем…
Боже мой, как скучно! Пятнадцать лет промелькнули, как один день. Год, похожий на год, и день, похожий на день. Нет у нее ни детей, ни забот…
Она прошла по анфиладе богато убранных комнат. В иных полы были сложены из мозаики, в других покрыты дорогими коврами. Тяжелые бархатные драпировки, картины, венецианские зеркала в золоченых рамах… Тишина. Она одна в своем красивом, просторном доме. Даже голоса слуг не доносятся сюда, в парадные покои. Пани подошла к клетке дрозда, поиграла с птицей, хлопотливо подбиравшей зерна. Постояла у окна…
Серый день. Медленно падают снежинки.
Незачем вспоминать… незачем… Пани принялась переставлять безделушки. На высоком резном столике лежала роскошно переплетенная книга. Раньше ее не было здесь. Вероятно, пан Юрий вчера принес эту книгу. Строгая вязь славянских литер была непонятна ей. Полька и католичка, пани знала только латинские буквы. Гравюра… Должно быть, что-то из священного писания. А это что?
– Святая дева! – вскрикнула пани.
На заглавном листе книги, в маленьком кругу печати, была отчетливо оттиснута дубовая веточка и слово «Fides». Ей стало трудно дышать. Книга задрожала в ее руках.
– Что случилось, Маргарита? – спросил вошедший в комнату Юрий Адверник. – Ты нездорова? – Он ласково обнял жену.
– Нет… Просто я плохо спала эту ночь, – пыталась улыбнуться Маргарита. – Откуда здесь эта книга, пан Юрий?
– О, эта книга! – Юрий торжественно поднял ее. – Она подарена мне знаменитым ученым мужем, коим вправе гордиться Русь!
– Кто он?
– Доктор Франциск Скорина из города Полоцка… Но что с тобой, дорогая?
– Это пройдет… Немного кружится голова… Он здесь, этот доктор Францишек?
– Нет, он печатает свои книги в Праге, чешской столице. Разве ты знаешь его?
– Нет, – быстро ответила Маргарита. – Нет, я впервые слышу его имя…
– Чем же могла взволновать тебя эта книга?
– Я увидела это… – Она указала на печать Скорины. – Когда-то у меня был перстень с такой же точно печатью. Мне подарила его покойная мать, и… я его потеряла. Теперь вдруг все вспомнилось…
Пан Юрий ласково улыбнулся.
– Но, дитя мое… Вероятно, такой перстень был не только у твоей матери… Тебе нужно развлечься. Хочешь, я велю заложить санки?
Маргарита кивнула, силясь сдержать подступившие слезы.
* * * Обоз Георгия Скорины въехал в город через Трокские ворота. На нескольких крестьянских санях везли поклажу. Георгий сидел впереди в небольшом возке, укрытый пологом из волчьих шкур. Он с интересом глядел по сторонам, рассматривая здания и прохожих, прислушиваясь к родной речи, свободно звучавшей на улицах красивого города.
Правда, раздавался здесь и польский говор, и непонятная Георгию и ехавшему с ним Гинеку литовская речь, но все же оба чувствовали, что прибыли не в чужую землю.
Подъехав к дому Якуба Бабича, обоз остановился. Георгий приказал Гинеку разгружать поклажу, а сам пошел в ворота.
…Легкие закрытые санки, похожие на лодочку, весело летели по снежным сугробам улицы. Полулежа на меховых подстилках, Маргарита с наслаждением вдыхала морозный воздух. Мимо мелькали деревянные дома, заснеженные сады, колокольни.
Так, значит, он жив!.. Знаменитый ученый муж…
Торговые ряды. Пестрая рыночная толпа, грохот, лязг, звон металла в кузницах и скобяных лавках. Крики разносчиков, брань пьяных мужиков, песни убогих слепцов…
Далеко ли эта Прага? Сколько дней нужно ехать до нее?.. У него, наверно, есть жена… Но ведь и она замужем, а разве забыла она его? Нет, нет… Нужно забыть. Нужно!
Площадь у ратуши. Возле бурмистрова двора разгружают какой-то обоз. Возницы поднимают заснеженные тюки, тащат в ворота.
– Гей! – кричит кучер пани Маргариты, взмахивая кнутом.
Гинек едва успевает посторониться. Сани проносятся мимо.
«Весело жить Бабичам, – думает Маргарита. – Всегда дом их полон гостей. Шумно, людно…»
Ах, зачем она солгала мужу? Зачем сказала, что не знает Франциска? Почему бы не рассказать пану Юрию о том, что случилось в ранней юности и с чем давно уже покончено?
В том-то и дело, что не покончено. Оттого и солгала. Но Прага – это, кажется, очень далеко…
– Поворачивай, Стах! – крикнула она кучеру. – Пора домой!..
Глава II
Итак, конец многолетним скитаниям… Теперь Георгий действительно обрел свою родину.
Десять лет назад, приехав в Полоцк, он ощутил вокруг себя пустоту и равнодушие и должен был снова пуститься в неведомую даль. Вильна же встретила его, как дружная семья встречает любимого сына, возвратившегося с чужбины. Один за другим являлись братчики в дом бурмистра, чтобы приветствовать знаменитого доктора Францишка. А Богдан Онкович был так счастлив и горд, словно не Скорина, а он, Богдан, был истинным виновником торжества.
Богдан настаивал, чтобы Георгий поселился у него, но Бабич не отпустил гостя.
– Решил я освободить дворовые строения под друкарню… Так доктору Франциску при деле своем жить удобнее.
И сам Якуб, и супруга его, пани Варвара, и малолетние их дочери, и вся бурмистрова родня окружили Скорину вниманием и заботами.
Георгий чувствовал, что прием, оказанный ему виленчанами, означал нечто большее, чем обычное белорусское радушие. Простые люди – попы и миряне – знали его. Многие заходили к нему выразить благодарность за книги, услышать его речь, а то и просто поглядеть, каков собой доктор Францишек. Не раз, проходя по улицам, он замечал на себе любопытные взгляды, слышал почтительный шепот.
Это была истинная слава.
Часто и подолгу беседовал Скорина с Якубом Бабичем, с Богданом, с Юрием Адверником. Все они были разные – по внешности, по характеру, по образу жизни.
Якуб – статный, крепкий, с пышными черными усами, с проницательным взглядом – воплощение мужественности, властности, твердой воли. Он был нетороплив в решениях и ко всякой новой затее подходил осторожно. Но раз убедившись в чем-либо, стоял на своем, не отступаясь, не виляя из стороны в сторону.
«Неглупо поступили виленчане, избрав Якуба наистаршим бурмистром», – думал Георгий.
Богдан Онкович… Тот был совсем иной: подвижный, горячий, с умом восприимчивым и быстрым… «Чистый порох!» – говорили о нем степенные купцы.
А Юрий Адверник не был похож ни на того, ни на другого. Он выглядел старше своих лет, казался всегда печальным, то ли здоровьем был слаб, то ли была у него какая-то глубоко запрятанная душевная боль.
Георгию нравилась его тихая мягкая речь, учтивость манер, благородный образ мыслей. По внешнему виду и обхождению он больше походил на человека науки, чем на купца.
– Пан Юрий долго ездил по чужим краям, – объяснял Георгию Богдан Онкович, – и многое перенял от иноземцев. В доме у него все по польской моде и женка у него из Кракова, ляшского рода и латинской веры. А вот, поди ты, души в ней не чает.
Георгию не казалось это удивительным. На Литве браки между православными и католиками не были редкостью, особенно после женитьбы покойного государя Александра на московской княжне Елене Ивановне. Иногда один из супругов принимал веру другого, но не возбранялось мужу и жене принадлежать к различным религиям.
Георгий был подробно посвящен в дела виленского братства. Из задушевных бесед со своими новыми друзьями он смог составить себе ясное представление о положении на Литве и на Руси.
С радостью услышал он, что городское мещанство все упорнее отстаивало свои права, не боясь перечить могущественным магнатам и даже самому королю.
Крепла сила Московского государства.
Поражение, понесенное московским войском десять лет назад под Оршей, не принесло королю Сигизмунду того перелома в ходе борьбы, на который он рассчитывал. Все старания короля добиться возвращения Смоленска, вызволенного московским оружием, не привели ни к чему.
Пришлось королю пойти на уступки. По договорной грамоте, подписанной в 1522 году, постановлено было обоим государям пять лет меж собой не воевать, городов, волостей и земель друг у друга не отнимать, а городу Смоленску с волостями оставаться у московского государя… Но все хорошо понимали: то не был конец войне.
Сигизмунд не терял надежды вернуть Смоленск, да заодно прихватить Вязьму, да еще Псков и половину Великого Новгорода. Московский же государь стремился отвоевать у поляков древние русские города: Киев, Полоцк, Витебск.
Возрастающая мощь великого князя Московского воодушевляла народ Белой Руси надеждой на освобождение. И купечество, и посполитый люд склонялись на сторону Москвы.
Однако наряду с отрадными вестями услышал Скорина и другое.
Враги не дремали. Король Сигизмунд, готовясь возобновить борьбу с Москвой, всеми силами старался укрепить шатающиеся устои своей власти на Литве. Не в пример покойному своему брату Александру Сигизмунд жил постоянно в Кракове, лишь изредка навещал Вильну, либо посылал сюда своих доверенных. Литовское и белорусское дворянство постепенно оттеснялось от королевского двора. Теперь здесь задавали тон даже не польские магнаты, а пришлые с Запада люди, прибывшие со свитой новой королевы Боны, дочери миланского герцога Джиан Галеаццо Сфорца, просватанной за Сигизмунда в 1517 году.
Особое же влияние на короля оказывал немецкий барон Иоганн фон Рейхенберг.
Разные толки ходили об этом человеке. Одни высказывали догадки, что немец завладел какой-то важной Сигизмундовой тайной и тем крепко держит короля в своих руках. Другие говорили, что Рейхенберг облечен особыми полномочиями папы римского и тесно связан с инквизицией.
Это второе предположение показалось Георгию близким к истине. Он хорошо знал, как велико было влияние тайных агентов папского престола при многих европейских дворах.
Католическая церковь издавна служила могущественной опорой польским королям. Теперь же, когда на литовско-русских землях стало тревожно, союз этот еще больше укрепился.
Сигизмунд рассчитывал с помощью прелатов и монахов насадить на Руси иноземную веру, обычаи, язык, помешать сближению православного люда Белоруссии, Украины и Литвы с Москвой.
Бернардинцы и доминиканцы наводняли Вильну и другие города. Появлялись неведомо откуда взявшиеся соглядатаи, зорко следившие за деятельностью схизматиков и еретиков.
– Нашу православную веру католики, известно, именуют схизмой, сиречь расколом… А кто же еретики? – спросил, улыбнувшись, Скорина.
– Как же, – сказал Бабич, – а лютеране?
Георгий удивился.
– Так и здесь уже завелись лютеране?..
– Прибыл недавно некий итальянец, по имени Лисманини. С него и началось. А ныне приверженцев Лютеровых здесь немало. Есть меж них и знатные паны – польские и литовские.
Георгий внимательно слушал. Очевидно, магнаты, побуждаемые старинным соперничеством с королевской властью и князьями церкви, видели в лютеранстве недурное оружие. Король же Сигизмунд оказывал ксендзам и монахам всемерную помощь в истреблении лютеранской ереси, быстро распространявшейся на Литве.
Бабич рассказывал, что король строго запретил читать лютеранские книги, ввел строжайшую церковную цензуру, наказав воеводам бдить, чтобы запрет не нарушался. Ксендзам было разрешено обыскивать частные дома и уничтожать обнаруженные там еретические книги. Шляхте было объявлено, что всякий, кто окажется изобличенным в связях с лютеранскими проповедниками, будет лишен шляхетского достоинства.
Воевода виленский, Альбрехт Гаштольд, не пользовался ни милостью Сигизмунда, ни доверием католического духовенства. Принадлежавший к кругу высшей литовской знати, он казался ненадежным. Хотя король, опасаясь обострять отношения с литовскими магнатами, не отнимал воеводства у Гаштольда, однако наблюдение над ним поручил виленскому епископу. А недавно в Вильну прибыл сам барон фон Рейхенберг, должно быть с какими-то особыми полномочиями.
– Мне пришлось однажды встретиться с этим человеком, – молвил Скорина задумчиво. – Я хорошо знаю, на что он способен… Однако нелегко одолеть нас, друзья. С нами народ… многотерпеливый, но страшный в гневе своем.
– Истинно! – вскричал Богдан Онкович, мгновенно зажигаясь.
– К тому же есть у нас добрые союзники, – сказал Скорина, поглядев на собеседников.
– Пан Францишек говорит о лютеранах? – спросил Адверник.
Скорина отрицательно покачал головой.
– Повидал я самого Мартина Лютера, толковал с ним. Он бы не прочь нас под свою руку принять, да нам-то проку немного. Не о воле нашей он помышляет, но о владычестве германском над всеми землями. Нам, братья, – продолжал Скорина, – не туда глядеть надобно, где садится солнце, а туда, где восходит.
– Да, – проговорил Бабич задумчиво, – мудрые слова сказал ты сейчас, пан Францишек… Туда, где солнце восходит, а там Москва!
Якуб поднялся.
– Многие сейчас на Москву с надеждой взирают, и, кажется, наступает для нас новая пора… Мне, простому торговому человеку, ноша сия не под силу. Францишку Скорине и надлежит стать во главе братства.
Богдан и Адверник посмотрели на Георгия, ожидая ответа.
Георгий подошел к Бабичу, обнял его.
– Нет, пан Якуб! Лучшего главы виленскому братству не сыскать. Я же человек книжный, управлять не умею. А знания мои и так ваши. Для чего же иного возвратился я на родину?
* * * С того дня, как Маргарита узнала, что Георгий в Вильне, мир, в котором она жила до сих пор, преобразился.
Дни наполнились ожиданием чего-то неведомого, лихорадочное возбуждение охватывало ее с самого утра. Обессилев от напряжения, она несколько раз готова была рассказать мужу все, надеясь тем облегчить свою муку, но что-то удерживало ее. Маргарита стала замкнутой и рассеянной. Она могла бы увидеть Георгия в любой день, но страшилась и избегала этой встречи. Пан Юрий часто рассказывал ей о докторе Францишке увлеченно, почти восторженно. Она слушала молча и, казалось, безучастно. Это огорчало Адверника, уже успевшего полюбить Скорину. Однажды, придя домой, он, сияя, объявил Маргарите:
– Приношу тебе радостную весть, дитя мое. Доктор Францишек завтра посетит нас.
В эту ночь Маргарита не сомкнула глаз.
Не лучше ли сейчас, пока еще есть время, упасть на колени перед паном Юрием и умолять: «Не надо, не надо впускать в дом наш этого человека… Нет у меня более сил скрывать от тебя, и нет у меня надежды, что эта встреча будет достойна твоей доброты. Не позволяй же мне видеть его…»
Утром Маргарита, сославшись на внезапную головную боль, сказала мужу, что не сможет выйти к гостю. Пан Юрий очень огорчился, но не стал настаивать.
Георгий явился вскоре после полудня. В спальню Маргариты доносились звуки шагов, голоса. Ей казалось, что она узнает его голос. Впрочем, быть может, это только казалось.
Приподнявшись на подушках, она открыла шкатулку из слоновой кости, стоявшую у ее изголовья… Вот первая его записка, переброшенная через садовую ограду… Вот его письмо, написанное после встречи в грозу… Еще и еще письма. Она сохранила их все до одного. Сколько раз, в часы одиночества, она перебирала эти пожелтевшие листки!..
Теперь он здесь… рядом. Стоит только сделать несколько шагов… Там, внизу, беседовали долго. А она все сидела, облокотившись на подушки, с полуистлевшими листками в руках… Наконец послышались отдаленные шаги, стук двери… Она подбежала к окну, отдернула кружевную занавеску… закрыла глаза и… вдруг, решившись, взглянула.
От ворот их дома быстро отъехали сани. Мелькнула фигура седока, одетого в зимний, отороченный мехом плащ, изогнутая спинка саней… Сани повернули за угол и скрылись. Она так и не увидела его, но теперь она знала твердо, что бессильна сопротивляться своей любви. Она знала, что рано или поздно встретит его, и уже не избегала этой встречи, а сама искала ее. Чуть ли не каждый день она навещала пани Варвару, надеясь увидеть его в доме Бабичей. Но Георгий, поглощенный оборудованием друкарни, редко появлялся на людях.
* * * На четвертой неделе великого поста, в субботу, Маргарита, как всегда, поминала отца, умершего десять лет назад в этот день.
Маргарита долго молилась, стоя на коленях на холодных каменных плитах. Но молитва не приносила облегчения. Она поднялась, отерла мокрые от слез глаза и вышла из костела.
Снег уже таял, и камни площади, нагретые весенним солнцем, были сухи. На деревьях набухали первые почки.
Маргарита медленно брела по пустынной набережной, глядя на вздувшиеся воды Вилии. Кружась и сталкиваясь, неслись по реке грязно-бурые льдины.
Стаи ворон и белоклювых грачей, каркая, копошились в кучах нанесенного полой водой мусора. Далеко у излучины реки рыбак переправлял свой челн на другой берег, ловко лавируя между льдинами.
Воспоминания о детстве нахлынули на нее. Лица отца, матери, старой няни, лукавой и веселой служанки панны Зоей… Маргарита вздрогнула и остановилась…
На мосту, облокотись о деревянный парапет, стоял Георгий.
Она сразу узнала его, а он не видел ее, задумчиво всматриваясь в даль.
Без колебаний Маргарита подошла к нему и коснулась его руки. Несколько мгновений он смотрел на нее в упор остановившимися глазами. Потом лицо его осветилось радостной, почти детской улыбкой.
– Франек! – прошептала она. – Ты… ты не забыл меня?..
Он взял ее руки и поцеловал пальцы.
– Я всегда верил, что нам еще суждено встретиться. Всегда верил…
Крупные слезы дрожали на ее ресницах.
– Ах, Франек!.. Я ведь не свободна теперь.
– Я знаю, – сказал Георгий просто.
– Прости меня, Франек!
Он нежно погладил ее голову.
– Я не осуждаю тебя… Прошло столько лет. Разве могла ты дожидаться?
– А ты?
– Я никого не любил с тех пор, Маргарита. Но жизнь моя была полна. У тебя же не было ничего.
– Франек! – несмело прошептала она. – Теперь у меня есть ты… снова ты.
Георгий отпустил ее руку. Лицо его стало почти суровым.
– Нет, Маргарита… С этим покончено… У тебя есть муж… Пан Юрий Адверник – благородный человек. Он мой друг, Маргарита…
Маргарита смотрела на него глазами, затуманенными от слез.
– Лучше бы нам не встречаться, – прошептала она. – Я не смогу больше так жить.
Огромным усилием Георгий преодолел приступ слабости.
– Прощай, Маргарита, – сказал он твердо и, низко поклонившись ей, быстро пошел прочь.
Глава III
Наладить друкарню в Вильне оказалось нелегким делом. Главная беда – не было искусных мастеров. Гинек старался в меру своих сил, но он был молод, неопытен и нуждался в хорошем руководстве. Только год спустя Скорине удалось найти подходящего человека. Это был уже немолодой мастер по имени Войтех, который прежде работал в познанской печатне Мельхиора Неринга и обладал необходимыми знаниями и сноровкой. Все же ему было далеко до старого Стефана. Он охотно выполнял все, за что ему платили, но не было в нем того огня и вдохновения, которые отличали старого чешского мастера. Осенью 1524 года приступили к набору Деяний Апостолов. Это был единственный из переведенных Георгием текстов, уцелевший после разгрома пражской друкарни. Переводы Нового Завета погибли все до одного. Чтобы восстановить их, требовалось немало времени, и Георгий рассчитывал приступить к этой работе позже, когда дело вполне окрепнет. Хоть и медленно, печатание все же подвигалось. В один из пасмурных осенних дней Георгий вошел к Якубу Бабичу, держа в руках светло-желтую резную шкатулку. – Полюбуйтесь, пан Якуб, – сказал он, ставя перед Бабичем осторожно, как драгоценность, свою шкатулку, – сколь радостный дар мы получили. – Глаза Скорины светились счастливым волнением. Бабич раскрыл шкатулку. В ней несколькими рядами лежали большие заглавные буквы, вырезанные из дуба. Георгий осторожно вынул несколько букв, расставил их на столе и, улыбаясь, посмотрел на Бабича. – Видать, умелые руки сделали это, – сказал пан Якуб, чувствуя, что Скорина ждет похвалы. – Уж не друзья ли из Чехии прислали эти литеры? – Сделаны они на нашей родине, – с нескрываемой гордостью ответил Георгий, – и присланы из города Орши… Славным мастером Андреем… Встречался я с ним когда-то в Пинске. Был он тогда бедным подмастерьем. А теперь вот… Лучше покойного Стефана вырезал… Литеры действительно были сделаны с большим мастерством. Они отличались от тех, которыми располагал в Вильне Скорина, тонкостью и сложностью резьбы. Каждый лепесток цветка, каждая еле различимая глазом травинка орнамента были тщательно обработаны. Гармоничный рисунок служил выгодным фоном для прописной славянской буквы. Вместе со шкатулкой мастер прислал короткую записку с просьбой «принять в дар сделанные литеры, и коли малым трудом сим, – писал он, – удостоюсь помочь делу, что, слышно, почал доктор Францишек на земле нашей, детям и внукам своим, приведет бог, с гордостью о том рассказывать стану». Подписано просто: «Андрей. В резьбе мастер из Орши». Георгий не сомневался, что это его старый знакомый. Видно, не пропадает бесследно доброе дело. В благодарность мастеру за столь вовремя полученный дар Георгий сам вырезал новую заставку для подготовленного издания Апостола, поместив в центре рисунка «райскую птицу», пленившую его в День первой встречи со знаменитым теперь оршанским резчиком. Братство с нетерпением ждало появления Апостола. Якуб, Богдан, Юрий Адверник почти ежедневно приходили в печатню поглядеть, как идет работа. Приходили и прочие братчики, расспрашивали, подавали советы. Враги тоже интересовались. Недаром сам воевода, пан Гаштольд, вынужден был однажды вызвать к себе Бабича, а также архимандрита Троицкого монастыря и других старших пастырей православной церкви, чтобы расспросить о друкарне и о Скорине. В марте 1525 года книга вышла в свет. Отпечатанная червлеными литерами надпись на первом листе гласила: «Починается книга деяния и послания Апостольская, зовимая Апостол, справлена доктором Франциском Скориной из Полоцка…» Переведенный с Вульгаты
текст, хотя по-прежнему пестрел церковнославянскими словами и оборотами, все же без труда был понятен всякому грамотному белорусу. Перед каждой главой Скорина поместил небольшое примечание, в котором кратко пояснялось содержание главы. В заключении было отмечено, что книга изготовлена «в дому почтивого мужа, Якуба Бабича, наистаршего бурмистра славного и великого места Виленского». Спустя немного времени по выходе книги несколько ее экземпляров лежали на столе перед Иоганном фон Рейхенбергом. Вокруг восседали воевода, князь Альбрехт Гаштольд, епископ виленский и двое католических аббатов – один в доминиканском, другой в бернардинском облачении. Воевода, повертев в руках переданную ему Рейхенбергом книгу и погладив небольшую острую бородку, сказал: – Я вызывал однажды к себе старшин братства и предупреждал, чтобы в печатаемых ими книгах не было ничего оскорбительного для католической церкви, равно как для особы нашего милостивого короля… Видел я эту книгу и не нашел в ней ничего предосудительного. – Так пан воевода не нашел там ничего предосудительного? – язвительно усмехнулся доминиканец. – Ну, тогда незачем и тревожиться. Пусть себе печатают схизматики свои невинные книжки. Гаштольд сердито взглянул на доминиканца, но смолчал. – А что скажет пан воевода, – обратился к нему бернардинский аббат, – о ехидных вопросах, поставленных суесловным Францишком в его предисловии, а именно о том, кто присутствовал при вознесении господнем на небо, кто свидетельствовал о сем… и тому подобных? Не является ли это возмутительным богохульством? Тут вмешался епископ. – Сын мой! – сказал он Гаштольду медоточивым голосом. – Всякая схизматическая книга, да еще печатанная на русском языке, само по себе есть оскорбление нашей святой церкви и власти королевской. – Да простит мне его преосвященство, – возразил Гаштольд почтительно. – Не вижу я, как можем мы воспретить подобные книги в крае, где множество жителей, в том числе и родовитых шляхтичей, исповедуют сию веру. Свобода веры дарована православному населению Великого княжества Литовского самим королем. Рейхенберг, до сих пор молчаливо слушавший, движением руки остановил воеводу. – Мы не запрещаем схизматикам совершать их богослужения, – сказал он сухо. – Но из этого не следует, что можно потакать укреплению схизмы. Наша цель заключается в ином: склонить здешний народ к унии с римской церковью, привести его под благодетельную сень папского престола. Злейший враг нашего короля, коварный московит, князь Василий, всячески помогает здешним схизматикам, рассчитывая с их помощью отторгнуть литовские земли от польской короны. Стало быть, деятельность мирского сообщества, именуемого виленским братством, вредна и опасна. – Король дозволил быть сему братству, – проворчал воевода. – Его королевской милости приходится иной раз дозволять то, чего в душе своей он не одобряет… Добрый слуга должен читать в сердце своего господина и угадывать затаенные его желания, – молвил немец, сверля воеводу холодными серыми глазами. – Впрочем, – продолжал он, – не только о братстве веду я речь, но главным образом о человеке, напечатавшем эту книгу. Францишек Скорина – закоренелый еретик и преступник, неоднократно бежавший от суда. Он является не православным, а тайным приверженцем Лютеровой ереси. – Мне об этом ничего не известно, – пожал плечами Гаштольд. – Жаль! – жестко сказал немец. – Воеводе виленскому надлежало бы знать сие… Однако я готов помочь вашей мосци. Он извлек заранее припасенное письмо Меланхтона и прочел его вслух. – О! – проговорил епископ. Доминиканец, хихикнув, воззрился на воеводу. – Из письма этого явствует, – торжествующе заключил Рейхенберг, – что Францишек Скорина прибыл в Вильну по поручению Мартина Лютера для проповеди его сатанинского учения. – Тогда другое дело, – сказал Гаштольд. – Уж этого я не допущу. – Надеюсь! – кивнул Рейхенберг. – Ибо за последнее время некоторые виленские магнаты весьма склонны прислушиваться к речам виттенбергских отступников… Он встал и учтиво поклонился Гаштольду. – Не смею далее задерживать ясновельможного пана, который, вероятно, спешит вернуться к своим делам. Гаштольд отвесил присутствующим поклон, притопнув каблуком, по старинному шляхетскому обычаю. Когда тяжелая дверь захлопнулась за воеводой, епископ, сокрушенно покачав головой, сказал: – Сколь тяжко блюсти веру господню, когда и сильные мира сего равнодушны к ней… – И, внезапно покинув высокопарный тон, спросил просто: – Однако что же нам делать с Франциском Скориной? – От него следует избавиться поскорее и без шума, – сказал доминиканец. – Его святейшество папа не возбраняет применять некоторые верные средства, чтобы заставить молчать навсегда врагов церкви Христовой… – Нет, – сказал Рейхенберг, – об этом следовало думать раньше. Теперь же имя Скорины окружено ореолом славы, книги его распространяются повсюду. Чего мы добьемся, подослав к нему убийц? Только того, что сделаем его в глазах народа мучеником, святым… Нет, здесь нужно действовать более осмотрительно. И немец принялся неторопливо излагать созревший у него план. * * * Юрий Адверник собирался ехать в дом Бабича, где в этот вечер братчики праздновали выход в свет первой виленской печатной книги, когда слуга передал ему небольшой пакет. – От кого это? – спросил пан Юрий. Слуга пояснил, что письмо принесено неизвестным человеком, который наказал передать его пану в собственные руки. Адверник не удивился: ему ежедневно приходилось получать различные деловые послания. Он отложил письмо в сторону, намереваясь прочесть его на следующее утро. Но пани Маргарита, одевавшаяся в своей спальне, все не появлялась, и пан Юрий, чтобы скоротать время, вскрыл пакет. Письмо было без подписи. Автор письма, именовавший себя неизвестным другом, сообщал, что супруга пана Юрия еще в Кракове, до вступления своего в брак, состояла в тайной связи с неким схоларом Францишком Скориной и, разлучившись со своим возлюбленным по настоянию ее отца, была заключена в монастырь для исправления. Ныне, по прибытии в Вильну, оный Францишек возобновил свою связь с пани Маргаритой, которая, пользуясь легковерием мужа, преступно нарушает супружеский долг и… – Я готова ехать, пан Юрий… – Маргарита вошла, шурша шлейфом шелкового платья, расшитого серебряными узорами. Пышные белокурые ее волосы были украшены диадемой из сапфиров. Адверник скомкал письмо. Он был бледен, на лбу выступили капли пота. Маргарита посмотрела на него с беспокойством. – Может, пан Юрий нездоров?.. Тогда не нужно ехать. Он улыбнулся через силу. – Нет, дитя мое… Я немного устал, не больше. Они ехали молча. Маргарите уже не раз приходилось встречаться со Скориной и у Бабича, и в своем доме. Но все же перед каждой встречей она испытывала волнение и должна была напрягать все свои силы, чтобы никто не заметил этого. Пан Юрий был поглощен своими мыслями. Он перебрал в памяти всех людей, которых знал, и не нашел среди них врага, способного на подобную низость. Быть может, это сделала какая-нибудь женщина, побуждаемая завистью к Маргарите?.. Он искоса поглядел на жену. Она сидела рядом с ним в коляске молчаливая, немного грустная. Они приехали к Бабичам, когда все гости уже были в сборе. Скорина любезно приветствовал новоприбывших. Маргарита ответила ему вежливым поклоном и отошла к женщинам, весело беседовавшим в дальнем углу. При всем желании здесь нельзя было обнаружить ничего подозрительного. Скоро хозяин дома пригласил гостей к столу. Все двинулись шумно и весело, предвкушая обильное угощение: дом Якуба Бабича славился хлебосольством. Но не успели еще гости усесться, как вдруг из сеней послышался шум и громкие голоса. В зал вбежал насмерть перепуганный слуга. Следом за ним, грохоча тяжелыми сапогами, показались два рейтара с обнаженными саблями. Гости с изумлением и страхом глядели на это странное явление. Якуб Бабич пошел им навстречу и спросил: – Что вы за люди и по чьему приказу ворвались в дом мой? Один из рейтаров, нимало не смутившись, ответил по-польски: – Мы воеводские люди и явились сюда по приказу ясновельможного пана воеводы. Кто из вас, панове, именуется Францишком Скориной? Тревожный ропот пронесся по залу. – Это мое имя, – сказал Георгий, выйдя вперед. – Что вам от меня угодно? – Нам угодно, – сказал рейтар, – чтобы ты отправился с нами. – Куда? – крикнул Богдан, сжав кулаки. – Куда вы ведете его? Рейтар смерил его презрительным взглядом. – Потише, купец! – сказал он. – Уж не тебе ли мы должны давать отчет?.. – Я – наистарший бурмистр виленский, – обратился к нему Бабич, – Скорина – мой гость. Если он в чем-либо виноват, пусть пан воевода позовет меня. – Бурмистр – глава мещанам. А над нами ты не волен, – ответил рейтар нагло. – Идем же! – Он схватил Скорину за локоть. – Прочь! – Георгий оттолкнул руку рейтара. Он поклонился присутствующим: – Вины за мной нет, стало быть, скоро вернусь к вам. Твердой поступью Скорина вышел из залы. Рейтары последовали за ним. – Пани Маргарита, что с вами? – послышался чей-то возглас. Пан Юрий бросился к жене, но было уже поздно. Маргарита пошатнулась, протянула руки, как бы ища опоры, и рухнула на ковер. Понадобилось немало усилий, чтобы привести ее в чувство. Никто, однако, не увидел в этом случае ничего особенного, все присутствующие и особенно женщины были потрясены арестом Скорины. Якуб немедля отправился к воеводе, гости остались дожидаться его. Адверник же повез домой внезапно заболевшую жену. * * * Никогда еще Адвернику не было так тяжко, как в эти последние несколько дней. Письмо «неизвестного друга», к которому он вначале отнесся с презрением, после того, что произошло в доме Бабича, пробудило в нем тревогу. А что, если и в самом деле Маргарита?.. Он старался отогнать от себя эту назойливую мысль. Он больше не мог встречаться с женой, не мог смотреть в ее красивые, казалось, такие честные глаза. Нет, он не верил… не хотел верить письму Давно следовало бы уничтожить эту грязную бумажку… А все-таки… Разве не должен он, муж и глава семьи, разобраться в том, что происходит с его женой с того дня?.. Со дня появления в городе Георгия Скорины. То она печальна, молчалива, рассеянна. То вдруг становится беспричинно веселой. И оживление это какое-то необычное. Не так веселятся здоровые, спокойные люди… А этот обморок? Все любят Скорину, дорожат им. И сам он, Юрий Адверник, не менее других печется о его спокойствии. Однако почему арест доктора Францишка взволновал Маргариту больше, чем всех присутствующих? Если бы он мог пойти к жене и заставить ее сказать всю правду… Но как это сделать? Если она могла обманывать раньше, что помешает ей солгать теперь? Пан Юрий опустился на колени, глядя сквозь слезы на мерцающую зеленоватым светом лампаду. Тусклые лики святых загадочно взирали на коленопреклоненного человека. Полумрак и безмолвие царили в горнице. Не произнося молитвы, не крестя лба, Адверник думал о том, что не в силах больше бороться с самим собой, что смятение, охватившее душу, приближает его к концу. Мысли его путались, обгоняли друг друга. Вдруг вспомнилось, что икона, висящая справа, прислана ему московским другом, священником. Насколько она лучше, ясней и понятней работ здешних мастеров. Братство решило послать его в Московию. Это хорошо… Только сможет ли он доехать до Москвы? Пожалуй, уже не много дней осталось ему жить на этом свете. А надо бы, ох как надо поехать! Свет исходит оттуда, где солнце восходит, а не заходит… Кто это сказал? Это сказал Георгий Скорина. Какое эго счастье, что он прибыл сюда. Но как тяжело сейчас думать об этом, вспоминать его имя… Вот она, медвежья лапа его болезни. Давит и давит грудь… Вздохнуть бы!.. Маргарита!.. – Я здесь, пан Юрий!.. Адверник вздрогнул. – Ты пришла? – спросил он. – Разве я звал тебя? – Я пришла сама, – ответила Маргарита, помогая ему подняться. – Я хотела говорить с вами, рассказать… – Завтра, завтра, дитя мое, – торопливо перебил ее Адверник, направляясь к постели, и вдруг, сам не ожидая того, тихо спросил: – О чем рассказать? – Мне тяжело, пан Юрий, – ответила Маргарита, закрывая лицо руками. – Я не в силах более таиться от вас… Адверник крепко сжал спинку кровати. – Никогда не следует говорить того, – сказал он, с трудом произнося слова, – о чем, возможно, придется пожалеть. Маргарита опустилась перед ним на колени. – Никогда, никогда не покину я вас, пан Юрий! – услышал он и не мог найти в себе силы, чтобы протянуть ей руку. Он почувствовал странное, нежданное облегчение. Боль отпускала его, но вместе с ней, казалось, уходила и жизнь.
Глава IV
С того дня, когда праздник выхода в свет первого виленского издания был нарушен приходом воеводских людей, для Георгия Скорины начались новые мытарства. Теперь над ним нависло бог весть откуда взявшееся обвинение в связях с лютеранами и в распространении их еретических книг.
Воевода потребовал залог за Скорину в четыреста злотых и согласился отложить суд над ним на один месяц, чтобы дать возможность обвиняемому представить доказательства его невиновности.
Виленское православное братство, внесшее залог, должно было поручиться, что он не покинет город до окончательного решения. Пока же типография была закрыта.
День ото дня дело принимало все более и более запутанный оборот. Находились какие-то «свидетели», будто бы присутствовавшие при беседе Лютера со Скориной. Отыскивались «очевидцы», утверждавшие, что видели, как Скорина и итальянец Лисманини тайно собирали народ и проповедовали учение Мартина Лютера.
Ни Георгий, ни его друзья не могли понять причины начатого преследования. Братство не жалело денег на подарки канцелярским писцам и подкупы судейских людей, но все это пока не давало результатов.
Тоска снова охватила Скорину. Неужели и здесь, на родной земле, среди близких ему людей, не удастся спокойно и честно служить тому делу, ради которого он скитался так много дней на чужбине?
Как доказать воеводскому суду, что его свидание с Лютером окончилось решительным разрывом? Кто этот лютеранский проповедник Лисманини? Так размышлял Георгий, бродя по окраинам города, ища тишины и одиночества.
А Лисманини в это время стоял на шатком столе дымной корчмы и, обращаясь к подвыпившим слушателям, пророчествовал.
– Все от него! – кричал итальянец на ломаном польском языке. – Говорю вам, все от сатаны. Не верьте ксендзам, не верьте попам и монахам, в их обличий таится сатана. Это говорю вам я, верный ученик добродетельного Мартина! Изгоните же дьявола из плоти вашей!
– Аминь! – раздался веселый голос, и из-за дальнего стола поднялся полный, со встрепанной курчавой головой мужчина. – Ты говоришь, чужеземец, – переспросил толстяк, – что сатана обретается в каждом из нас?
– Истинно так! – ответил Лисманини.
– Тогда не скажешь ли ты, о достойнейший потомок Цицерона, не дьявола ли ты изгоняешь, ежедневно заполняя до краев свои внутренности вином и пивом?
Окружающие захохотали.
– Не смейтесь, панове, – поднял руку толстяк. – Пусть ученик Лютера разъяснит нам. Возможно, дьявол и впрямь обитает в его чреве.
– Замолчи, богохульник! – Итальянец рассвирепел. – Я докажу вам, что опасность близка… – Он выхватил из кармана лист мятой бумаги.
На секунду присутствующие затихли, ожидая продолжения поединка между проповедником и веселым толстяком.
– Вот доказательство! – торжественно провозгласил Лисманини. – Доказательство того, что в ваш город прибыл служитель сатаны, богоотступник и злодей, проклятый доктором Лютером! Он слывет ученым лекарем и печатником. Зовется он Францишек Скорина!
– Что? – вскрикнул толстяк.
– Истинно так, – повторил проповедник, потрясая бумагой, – здесь изложено все.
С неожиданной легкостью толстяк вскочил на скамью.
– Покажи!
Теперь всем было видно его лицо, чуть оплывшее, окаймленное курчавой бородой, большие, немного навыкате, хитрые и веселые глаза, толстые губы.
– Дай бумагу!
– Прочь! – Лисманини отступил на шаг.
Толстяк прыгнул на стол, стол затрещал, толстяк взмахнул руками и, ухватившись за проповедника, вместе с ним полетел на пол.
Звон разбитой посуды, отчаянный крик итальянца, шум вскочивших посетителей наполнили корчму. Итальянец крепко зажал в руке бумагу. Противник навалился на него своим грузным телом и впился зубами в кисть руки. Лисманини взвизгнул и разжал руку. Выхватив бумагу, толстяк вскочил на ноги.
Несколько мужчин двинулись было на него. Толстяк схватил тяжелый табурет и, подняв его высоко над головой, заревел:
– Ни с места! Я размозжу голову каждому, кто осмелится дотронуться до отпрыска польских рыцарей – Николая Кривуша из Тарнува.
Люди попятились, и Кривуш, отшвырнув табурет, ринулся к двери.
– Лови его! Держи! – закричал кто-то…
Лисманини, а за ним вся пьяная компания бросились в погоню. Насколько Кривуш был находчив в споре и ловок в рукопашном бою, настолько он оказался слабым в беге. Полы его засаленного плаща путались между короткими ногами, тучное тело раскачивалось из стороны в сторону. Он задыхался. Преследователи настигали его. Спасли его темнота и извилистые лабиринты улиц. Нырнув в какую-то подворотню, он притаился, дожидаясь, пока погоня пронеслась мимо.
* * * В небольшом одноэтажном флигеле бурмистрова двора тускло светилось крайнее окно. Несмотря на поздний час, Георгий сидел у стола за своими рукописями.
В дверь вошел Гинек.
– Хозяин, – сказал мальчик взволнованно, – сторож поймал вора!
– Какого вора, Гинек? – удивился Георгий.
– Он заглядывал в окно друкарни и пробовал открыть дверь, – объяснил Гинек.
– Странно! Что ему там могло понадобиться?
– Уж этого я не могу вам сказать, хозяин, – развел руками Гинек. – Он отказался отвечать нам и потребовал отвести его к вашей милости.
– Где же он?
– Он здесь. Не стоит вам и смотреть, его следует просто передать страже.
– Нет, Гинек, – остановил его Георгий. – Думаю, что это не простой вор. Приведи-ка его сюда.
Гинек с явным неодобрением крикнул в дверь:
– Веди сюда, Юзеф!
Сторож втолкнул в комнату вора. Георгий поднял свечу и осветил его. Перед ним стоял грязный и оборванный, но с веселым выражением лица Николай Кривуш.
– Боже мой! – воскликнул Георгий. – Неужели это ты?..
Кривуш грациозно поклонился.
– Да, это я… – произнес он хриплым голосом. – Впрочем, понятие «я» весьма относительно и неточно, ибо то, что некогда было «мною», претерпело за два десятилетия столь существенные изменения в своей субстанции, что нельзя с уверенностью утверждать, что я – это именно «я». Пан же доктор, безусловно, прав в одном: существо, пойманное вашим могучим стражем, носит звучное и благородное имя Николая Кривуша…
Прервав эту тираду, Скорина крепко обнял и расцеловал друга. Сторож и Гинек во все глаза глядели на эту странную сцену.
– Как я рад, что снова вижу тебя! Как часто я вспоминал о тебе! – говорил Георгий, когда они остались одни.
Кривуш, видимо, был очень растроган. Громко сморкаясь и кашляя, он старался скрыть свое волнение.
– Откуда ты? Где ты живешь? – спрашивал Георгий.
– Где живу? Гм… На этот вопрос ответить не так-то легко. Я всегда считал, друг мой, что постоянное жилище сковывает человеческий дух, и оттого стараюсь не задерживаться подолгу на одном месте.
– Я тоже немало скитался эти годы, – сказал Георгий.
– Все учился? – спросил Кривуш.
– Все учился…
– К чему же привела тебя наука?
– К сознанию того, как мало мы знаем, – улыбнулся Георгий.
– Я об этом догадался значительно раньше, а потому не стал напрасно тратить время.
– Что же ты делал?
– О, многое! Я исходил вдоль и поперек то, что именуется Королевством Польским. Я встречал разных людей, веселых и грустных, бедных и богатых, пьяниц и трезвенников. Кажется мне, я узнал о жизни человеческой больше, чем из всех мудрых книг. Впрочем, иногда я сочинял кое-что в стихах и прозе. И, уверяю тебя, некоторые из этих творений были не совсем дурны…
– О, Николай, – сказал Георгий, – я мечтаю когда-нибудь собрать твои сочинения и напечатать их в большой прекрасной книге.
Кривуш расхохотался:
– Представляю себе: толстая, красиво переплетенная книга, размером «ин фолио», содержащая пикантные притчи и рифмованные богохульства!
– Ты все тот же, Николай, – смеялся и Георгий.
– Да, Франек… Но вот беда, у меня нет плодов моего вдохновения. Одни я сочинял по заказу влюбленных шляхтичей, другие для потехи странствующих торговцев. Самые бесстыдные из них откупали у меня на корню ксендзы и монахи. К чему я стал бы хранить все это? То, что сочинено сегодня, завтра становится неинтересным. Но, Франек, мне не терпится услышать рассказ о твоей одиссее.
– Охотно, – сказал Скорина. – Однако прежде… Я думаю, ты голоден?
Не дожидаясь ответа, Георгий крикнул Гинека и велел подать жбан меда, мяса и пироги.
– Франек! – воскликнул Кривуш при виде яств. – Ты всегда был щедр, но прежде тебе не хватало богатства. Теперь, я вижу, ты обрел его.
– Я не многим богаче прежнего, – засмеялся Георгий, – однако в состоянии накормить друга. Скажи же, Николай… – Георгий замялся, не решаясь прямо задать вопрос. – Как ты нашел меня?
– Вернее, – поправил его Кривуш, – как поймал меня твой сторож? Не бойся, Франек, вором я еще не стал. Итак, слушай! Приехав в Вильну, я, разумеется, посетил все места, где за скромную плату можно получить кружку любимого с дней моего невинного детства напитка. В одном из таких мест я встретил приятеля, по имени Лисманини…
– Лисманини? – воскликнул Георгий. – Это лютеранский проповедник?
– Что не мешает ему быть порядочным пьяницей и отчаянным плутом. Он-то любезно и сообщил мне имя доктора Францишка Скорины – владельца виленской печатни. Ну, а остальное было легко. Я разыскал твою печатню только к концу дня, застал там твоего цербера, и он проводил меня сюда.
– Постой! – Георгий пристально посмотрел на друга. – Ты сказал, что Лисманини твой приятель? Не можешь ли ты свести его со мной?
– Боюсь, что нет, – засмеялся Кривуш. – Видишь ли, Франек, прощаясь сегодня вечером с этим потомком Сенеки и Цицерона, я, кажется, не рассчитал силу своих объятий… Возможно, что сейчас он предстал перед князем тьмы, по которому он так долго тоскует.
– Ох, Николай, – поморщился Георгий. – Признаюсь, мне не до шуток.
Он коротко рассказал другу все, что произошло с ним с тех пор, как он покинул Вацлава Вашека.
– Нам повезло, Франек! – весело сказал Кривуш, выслушав рассказ. – Я не хотел тебя огорчать, ибо в письме, которое мне удалось вырвать из рук итальянца, о тебе отзываются не слишком лестно. Но именно это письмо и послужит доказательством твоей невиновности.
– Что за письмо?
– Вот оно! – Кривуш вытащил из-за пазухи измятый листок и поднес его к свече. Это было письмо доктора Филиппа Меланхтона к виленским приверженцам Лютерова учения, предостерегавшее последних от зловредного влияния Францишка Скорины, осужденного и преданного проклятию самим Мартином Лютером.
– Благодарю тебя, друг мой, – радостно и взволнованно сказал Георгий.
– Клянусь прахом моей тетушки, – торжественно заявил Кривуш, – я никогда не читал чужих писем, но коль скоро этот итальянец сам выболтал его содержание, то я решил, что не будет грехом добыть это письмо и… уничтожить. Верь мне, Франек, оно уцелело только случайно.
Друзья провели всю ночь за оживленной беседой. Они подробно обсудили, как использовать спасительное письмо Меланхтона, чтобы раз навсегда снять со Скорины обвинение в лютеранстве.
– Да, – сказал Кривуш грустно. – Вот уже второй раз мне приходится первому читать письма, нужные тебе. Помнишь, в Кракове мы с Вацлавом утаили записку перед диспутом. Мы боялись, что ревность помешает тебе выйти победителем.
Георгий опустил голову. Кривуш с любопытством поглядел на друга.
– Ты все еще помнишь эту панночку?..
– Да, – сказал Георгий тихо. – Я помню ее.
– Не знаешь ли, что с ней сталось?
– Она здесь, Николай.
– О! – воскликнул Кривуш. – Не колдовство ли это? Так, может быть, с ней и панна Зося?
Георгий поднялся.
– Николай, – сказал он сухо. – С этим покончено. Маргарита замужем… И я прошу тебя…
В окно постучали.
– Пан доктор, пан доктор! – донесся со двора чей-то взволнованный голос. Было слышно, как Гинек отодвигал засовы двери.
Георгий распахнул окно.
– Пан доктор, – крикнул запыхавшийся посыльный, – пан Юрий умирает! Он просил пана доктора поспешить к нему.
Георгий повернулся к Николаю. Он был очень бледен.
– Умирает Юрий Адверник… Муж Маргариты.
* * * Две свечи горели у изголовья постели. Адверник лежал высоко, приподнявшись на подушках. Он улыбнулся вошедшему Георгию и слабым движением руки попросил его подойти поближе.
– Благодарю вас, друг мой, – сказал пан Юрий почти шепотом. – Я умираю и хотел поговорить с вами…
Георгий ласково взял его за руку.
– Прогоните мрачные мысли. Может ли больной предугадать исход недуга? Позвольте мне, лекарю, помочь вам…
– Ни один лекарь уже не поможет мне… и не для того я звал вас, Францишек. Можете ли вы выслушать меня?
– Говорите, пан Юрий.
– Мне нужно сказать вам нечто важное… не о делах братства, в них вы и без меня разберетесь… Я хочу поговорить о Маргарите.
Георгий вздрогнул. Больной посмотрел ему прямо в глаза и снова улыбнулся спокойной, тихой улыбкой.
– Я знаю все, Францишек.
Георгий выдержал его долгий взгляд и ответил:
– Нет ничего, что заставило бы меня покраснеть перед вами, Юрий. Я ничем не оскорбил вас.
– Верю, друг мой, – сказал Адверник. – Верю и благодарю… Я всегда только хотел, чтобы она была счастлива… Вас, Францишек, я полюбил, как брата… Я хочу… чтобы вы… чтобы вы не покидали ее…
Георгий протестующе поднял руку, но больной продолжал:
– Это моя последняя просьба, Францишек…
Георгий молча смотрел на его бледные, почти прозрачные руки.
– Я не беден… близких родных у меня нет, разве один беспутный племянник, скитающийся бог знает где… Все унаследует Маргарита… Я умру спокойно, коли буду знать, что она с вами… Пусть и богатство мое будет с вами, для нашего общего дела…
Ему становилось все труднее и труднее дышать. Вдруг Адверник оживился, лицо его будто осветилось. Георгий оглянулся. В дверях стояла Маргарита.
– Маргарита! – позвал умирающий. – Подойди…
Маргарита приблизилась к постели.
Юрий откинулся на подушки, руки его быстро и мелко дрожали, он искал что-то. Маргарита протянула свою руку, он сжал ее.
– Не покидайте ее, Францишек, – прошептал Адверник.
Капли мелкого пота выступили на его лбу.
– Прощайте…
Два дня спустя многочисленная толпа и все виленское православное духовенство проводили прах усопшего Юрия Адверника на кладбище Троицкого монастыря.
Николай Кривуш, пришедший на похороны вместе с Георгием, поклонился Маргарите и почтительно поцеловал ей руку. Но она не узнала его. Горе ее было неутешным.
* * * Запрет воеводы был снят с печатни Франциска Скорины. Письмо Меланхтона, так счастливо принесенное Кривушем, было подвергнуто тщательному исследованию.
Лисманини разыскивали, чтобы допросить его, но итальянец исчез. Это послужило новым доказательством невиновности Скорины.
Скрепя сердце воеводскому судье пришлось снять обвинение.
Виленское братство торжествовало победу.
Николай Кривуш чувствовал себя именинником. Скорина немедля принялся за работу. Теперь он готовил к печати «Малую Подорожную Книжицу», предназначенную для чтения посполитым людям во время путешествия.
Глава V
Георгий спустился по ступенькам в сад. Полуденное солнце жгло немилосердно. Щебетали птицы, жужжали шмели. Деревья стояли недвижно, отягощенные спеющими плодами.
На каменной скамье под старой яблоней он увидел Маргариту. Она спала, опершись на бархатные подушки. Георгий остановился затаив дыхание. Пчела, с низким гудением кружившая над спящей, уселась на ее щеку.
– Ах, Франек!
Маргарита открыла глаза. Он поцеловал ее руку и присел на край скамьи.
– У тебя был кто-то? – спросила она сонным голосом.
Георгий, помедлив, ответил:
– Он привез письмо из Познани… Брат Иван тяжко занемог. Просит приехать к нему.
Она всплеснула руками:
– Так ты уедешь?
– Не хотелось бы, – сказал он, – да придется. Повидать надобно. И дела уладить, сама знаешь…
Спустя ровно год после смерти Юрия Адверника Георгий и Маргарита обвенчались и с тех пор не расставались ни на один день.
Неделя за неделей, месяц за месяцем продолжалась самая счастливая пора в их жизни.
Издав «Малую Подорожную Книжицу», Скорина не стал печатать новых книг. Теперь, достигнув полного счастья, он решил осуществить давнишнюю мечту. Пора перейти к созданию собственных сочинений, в которых его обширные знания и плоды долгих размышлений будут приложены к пользе и просвещению его братьев на Руси. Первым таким сочинением должна стать «Большая Подорожная Книга». В ней он даст подробное описание Белой Руси, Литвы и Польши, а также чужих земель, в которых пришлось ему странствовать. Он расскажет о лесах и горах, озерах и реках. О том, как живут люди в селах и городах, каковы их жилища и обычаи, какие сеют растения и каким промыслом добывают себе пропитание.
Не бесстрастным языком летописца напишет эту книгу Георгий Скорина, мысль его обретет широкий простор. Он будет восхвалять труд человека, бичевать деспотизм властителей и религиозную нетерпимость. Он благословит свободу мысли и братство людей, прославит истинную науку.
Георгий хотел издать эту книгу с особенной тщательностью. Понадобятся новые шрифты с красивыми заглавными литерами и заставками, художественные гравюры и карты. Все это потребует больших расходов.
Виленское братство оказывало Скорине денежную помощь, но ее размеры были недостаточны по сравнению с его широкими планами. К тому же братство было заинтересовано только в издании обычных церковных книг, а Георгий стремился к большему, и ему не хотелось целиком зависеть от денежной помощи братства. Брак с Маргаритой, казалось, сделал Скорину богатым. На деле же это было далеко не так. Для передачи Маргарите имущества, завещанного покойным Адверником, требовалось специальное постановление суда. По существующим в то время литовским законам, вдова могла наследовать от мужа полностью только деньги. Что же касалось недвижимости, то ей полагалась всего лишь третья часть. Прочее отходило к другим наследникам: сыновьям и родичам супруга. Если же вдова вторично выходила замуж, то и полученная ею часть так же становилась спорной.
Адверник не имел родни, которая могла бы оспаривать права Маргариты, кроме племянника, давно исчезнувшего из виду. Все же суд отказал издать соответствующее постановление, ссылаясь на то, что наследники могут объявиться.
Георгий и его друзья догадывались, что судебная волокита возникла не случайно, что снова чья-то умелая рука держит и направляет все это дело. Чтобы ускорить дело, нужно было потратить немало денег на подкупы и взятки. Наличных же денег было немного. Большая часть состояния покойного Юрия Адверника находилась в долгах, торговых складах, товарах. Маргарита всеми силами старалась помочь своему мужу, но много ли могла она сделать?
Однажды – это было вскоре после их свадьбы, – гуляя в саду, Маргарита услышала голос Георгия. Она быстро пошла ему навстречу и вдруг остановилась, пораженная…
По солнечной дорожке шел юноша. Это был Георгий, но чудесно преображенный, совершенно такой же, каким он был тогда, в Кракове. Она даже вскрикнула, но в тот же миг увидела за спиной юноши другого, сегодняшнего Георгия.
– Гляди, какого гостя я привел к тебе, дорогая, – улыбаясь, пояснил он. – Это Роман, племянник наш. Сын брата Ивана.
Маргарита, не отрываясь, смотрела на Романа. Действительно, это было поразительное сходство.
Маргарита приняла Романа, как сына. Он был умным и сообразительным юношей и деятельно помогал своему отцу в делах. В Вильну он приехал по отцовскому поручению.
«Стал я слаб, – писал брату Иван из Познани, где задерживали его торговые дела, – только и отраду вижу в сыне Романе, помощнике и советчике моем. Ты право имеешь на наследство. Доколе мне твою долю у себя хранить? Разделимся, брат. Коли умру, совесть моя будет чиста…»
Из рассказов племянника Георгий узнал, что дела Ивана Скорины сильно пошатнулись. Немало пострадал он от последней войны, да и теперь отношения между Польшей и Москвой весьма препятствовали торговым связям Полоцка с иными городами. К тому же король, собирая средства для новой войны, все сильнее прижимал белорусское купечество.
По поручению отца Роман предложил Георгию вложить некоторую сумму денег в предпринятое им торговое дело. Георгию было не вполне ясно, о чем заботился Иван, предлагая ему вступать в компанию: о пользе ли младшего своего брата, либо о пополнении недостающих на закупку большой партии товара средств. Но, поразмыслив, согласился. Деньги были взяты из наследства Маргариты, и расписка, подписанная Романом, была выдана на ее имя.
Юноша пробыл в Вильно около двух недель. Георгий и Маргарита сердечно полюбили племянника за его доброту, веселость и открытый, честный нрав. И он, в свою очередь, крепко привязался к ним. Перед дядей, чья слава разнеслась теперь по всем русским землям, он испытывал восторженное преклонение. Но когда Георгий предложил Роману переселиться в Вильну и заняться науками, юноша отказался, объяснив, что не может покинуть отца и что сам больше чувствует склонность к торговому делу. Георгий не стал уговаривать его.
После отъезда Романа Георгий со дня на день ждал брата в Вильну, но тот все не приезжал. А теперь прибыло известие о тяжкой его болезни.
Как ни горько было Георгию разлучаться с женой, а все же ехать в Познань было необходимо. Помимо желания увидеть брата, может быть в последний раз, нужно было подумать о делах.
Георгию так и не суждено было свидеться с братом. Дней за пять до его приезда Иван Скорина скончался. Вместе с осиротевшим Романом Георгий посетил тихое кладбище и отслужил заупокойную службу на могиле Ивана. А дальше начались хлопоты по разделу имущества. Положение оказалось еще худшим, чем Георгий предполагал.
Вся наличность покойного была вложена в большую партию кож, хранившуюся на складе у познанского купца Якова Корбы. Здесь было двести шестьдесят больших кусков отличной тонкой кожи по одному злотому штука, пятьсот кусков такой же кожи, только поменьше, именуемой кожевниками «чимче», десять рысьих шкур по три с полтиной каждая, да еще сорок семь тысяч кусков простой кожи, оцененных в двадцать злотых за тысячу.
Стоимость всей партии немногим превышала тысячу семьсот злотых. Товар оставался непроданным, ибо цены на кожу, как разъяснил Роман, несколько понизились, и нужно было выждать время, чтобы не потерпеть убытка. Расходы, понесенные покойным, были высоки, а сумма его долгов составляла около половины стоимости товара. Немец Клаус Габерланд, который вел дела еще с покойным Лукой Скориной и которого Георгий помнил с детства, предъявил иск к наследникам Ивана на пятьсот злотых, жена Якова Корбы – на тридцать да слуга покойного Ивана, Ешко Стефанович, – на пятьдесят.
После раздела, произведенного познанским магистратом, наследникам достались жалкие крохи. Правда, оставались еще отчий дом и лавка в Полоцке, но Георгий не счел себя вправе забирать долю этого скромного имущества у семьи покойного брата, который всю свою жизнь вел дело. Поэтому он заявил Роману, что отказывается от наследства и удовлетворится только расчетом по вложенной в дело от имени Маргариты сумме. За неимением наличных денег племянник предложил отдать ему двадцать пять тысяч кусков простой кожи.
– Что стану я делать с этой кожей? – в недоумении спросил Георгий.
Роман пояснил, что и свою партию кожи он намерен везти в Гданск, так как в Познани ее продавать невыгодно, а стало быть, сможет взять с собой и дядин товар и, продав его в Гданске, вернуть Георгию долг с прибытком. На том и порешили. Покончив с судебными формальностями, Георгий и Роман покинули Познань. Проехав вместе часть пути, они распрощались. Роман направился в Гданск, Георгий – в Вильну.
Дома его ждала новая неприятность. За время его отсутствия к Маргарите явился незнакомец, назвавшийся Михасем Адверником. Он заявил, что пан Юрий приходился ему дядей и что, поскольку вдова покойного вступила вторично в брак, он является единственным законным наследником. На другой день после приезда Скорины он явился снова. Это был человек уже не первой молодости, неопрятно одетый, с нехорошими, бегающими глазами. Говорил он тихим, глухим голосом, и Георгий обратил внимание на то, что он неправильно, на польский лад, произносит белорусские слова. Михась объяснял это тем, что с давних пор живет в польских городах и отвык от родной речи. Георгию он показался подозрительным. Единственным доказательством его родства с паном Юрием было письмо покойного к нему. Однако доказательство это могло быть признано судьями убедительным. Георгий предложил Михасю полюбовно уладить спор, но тот нагло отказался, требуя наследства полностью.
Все оборачивалось как нельзя более скверно. Деньги таяли, предстояла запутанная, долгая, разорительная тяжба. А тут еще явился шляхтич со двора воеводы с извещением о том, что пан воевода требует доктора Франциска к себе. Сердце у Скорины вовсе упало. Он не сомневался в том, что на него свалится новый удар. Не сказав жене ничего, Георгий отправился к воеводе.
Однако на этот раз он испытал приятное разочарование. Пан Гаштольд принял Георгия милостиво и объявил ему, что владетель Пруссии, герцог Альбрехт, прослышав об учености и типографском мастерстве доктора Франциска Скорины, приглашает его к своему двору в Кенигсберг для устройства большой печатни, обещая щедро вознаградить его. Георгий быстро взвесил выгоды и невыгоды этого предложения. Получив вознаграждение, он вернется в Вильну, освободится от опутавшей его паутины тяжб и денежных затруднений, расширит свою друкарню, издаст «Большую Подорожную Книгу»… К тому же у немцев, говорят, есть ныне разные новшества в печатном деле и кое-что можно от них заимствовать, а может, удастся найти там и добрых мастеров.
Поблагодарив воеводу, он изъявил свое согласие.
Гаштольд остался доволен ответом Скорины, видимо радуясь случаю сбыть с рук этого беспокойного друкаря, из-за которого ему не раз уже приходилось сносить укоры епископа и барона фон Рейхенберга.
Прощаясь с Георгием, Маргарита, улыбнувшись, тихо шепнула ему:
– Возвращайся скорее, Франек… Я жду ребенка…
* * * Прусский герцог Альбрехт Гогенцоллерн в те времена был одной из восходящих звезд на европейском небосклоне. Сын Фридриха, маркграфа Ансбахского, и племянник по матери польского короля Сигизмунда, он в возрасте двадцати лет был избран гроссмейстером Тевтонского ордена. Альбрехт Гогенцоллерн был не менее жаден, чем его предки, и решил продолжить наступление немцев на земли восточных славян, начатое разбойничьими немецкими рыцарскими орденами много веков назад. Но самонадеянный и надменный, как большинство его предшественников, новый гроссмейстер все же оказался способным понять ту очевидную истину, что немецким полчищам никогда не одолеть объединенных сил славянства, особенно теперь, когда за польскими и литовскими землями встала могучая славянская держава – Москва. Альбрехт решил прибегнуть к другим средствам, зная, что там, где подчас бессильно оружие, хитрая уловка и коварная интрига могут сделать многое. А по этой части он был великим мастером. Гогенцоллерн стал настойчиво вести политику раскола славян. Пользуясь своими родственными связями с Сигизмундом, он то пытался урвать от Польши всякие выгоды, то заговаривал о союзе с великим князем Московским, обещая помочь ему в борьбе с польским королем, то вероломно изменял обязательствам.
В 1519 году Альбрехт начал войну со своим дядей Сигизмундом. Не добившись победы, он, однако, сумел выговорить у короля предоставление ему в качестве лена Прусского герцогства. Это было далеко не то, о чем мечтал Альбрехт, ибо не вассалом польской короны стремился он стать, а господином Польши. И все же это был первый шаг.
Альбрехт отдавал себе отчет в слабости Тевтонского ордена. Могущество немецких псов-рыцарей безвозвратно ушло. Орден теперь влачил жалкое существование. Папа дорожил дружбой короля Сигизмунда, и Тевтонский орден не мог рассчитывать больше на помощь римского престола в борьбе с Польшей. Немецкие рыцари-разбойники были навсегда опорочены в глазах православного населения Литвы и Руси, и одно имя их вызывало в народе лютую ненависть.
Нет, Тевтонский орден не мог привести Альбрехта Гогенцоллерна к заветной цели. И он обращает свой взор в другую сторону. Все громче звучит в Германии имя Лютера. Не только горожане, но и немецкое рыцарство и многие владетельные князья пристают к виттенбергскому реформатору. Это заслуживает серьезного внимания.
Приехав в Нюрнберг, Альбрехт близко сходится с одним из видных лютеранских деятелей Андреем Осеандром. Несколько позже герцог отправляется к самому Лютеру и ведет с ним долгие беседы. Наконец решение принято. Альбрехт круто меняет курс. Он издает постановление о секуляризации
Тевтонского ордена и из фанатичного католика внезапно превращается в ревностного протестанта. Он стремится насадить лютеранство не только в пределах Пруссии, но и в Польше и Литве. Подобно самому Мартину Лютеру, прусский герцог надеялся, что послужить целям германского натиска на Восток способна скорее реформация, нежели пошатнувшийся и ненавистный восточным славянам воинствующий католицизм. К тому же, став лютеранином, он мог рассчитывать на союз с прочими протестантскими князьями Германии и таким образом обрести более значительный вес и независимость в отношениях со слабеющим Польским королевством. И ему удалось достигнуть немалых успехов. Король Сигизмунд вынужден был считаться с Альбрехтом и даже искал его дружбы. Этим и объясняется та предупредительность, с которой виленские власти выполнили просьбу Гогенцоллерна.
Георгий до сих пор мало интересовался Пруссией и имел самые отрывочные сведения о герцоге Альбрехте. Но и то немногое, что пришлось ему слышать, внушало опасения. «Чего хочет от меня этот человек? – думал Скорина дорогой. – Хорошо, если только того, о чем писал он воеводе».
Герцог принял Скорину немедленно. Он сидел в высоком золоченом кресле. На его строгом черном платье не было ни драгоценностей, ни украшений. Так же просто и строго были одеты вельможи и лютеранские пасторы, окружавшие герцога. Они беседовали долго. Альбрехт говорил, что стремится всемерно содействовать просвещению своих подданных и для этой цели создает школы и печатни.
– Известно нам, – сказал герцог, глядя на Скорину холодными голубыми глазами, – что и ваш народ немало пострадал от монахов и ксендзов польских и весьма враждебен римской церкви.
Георгий подтвердил это. Герцог сказал, что имя доктора Франциска Скорины и его книги, напечатанные на понятном народу языке, стали известны в Кенигсберге и вызвали всеобщий интерес и сочувствие к трудам ученого мужа виленского. Затем он осведомился об отношении Скорины к Лютерову учению.
Георгий, помня о своем решении соблюдать осторожность, ответил уклончиво:
– Некоторые люди считали меня последователем Лютера. Однако в действительности я не принимаю участия в распрях между католиками и лютеранами. И с учением Лютеровым знаком недостаточно хорошо…
«Знает ли он о моей встрече с Лютером?» – пытался угадать Георгий. Но тот, видимо, удовлетворился ответом и, кивнув головой, повторил, что добрая молва о деятельности доктора Франциска внушила ему мысль пригласить его к себе для помощи в деле книгопечатном.
– Я хочу, чтобы доктор Франциск был моим главным помощником в книгопечатании. Вы осмотрите имеющуюся здесь типографию и сами увидите, что нужно… – сказал герцог.
– У вашей светлости нет ни одного печатного мастера?
– Есть, и, кажется мне, довольно искусный. Он также является и врачом. Но человек этот принадлежит к отверженному иудейскому племени, и я не могу вполне доверять ему. Особенно же в печатании священных христианских книг… Сейчас вы увидите его. – И герцог приказал привести Товия.
Еврея ввели в зал. Это был пожилой тощий человек, одетый в черный длиннополый кафтан. Курчавые волосы, выбивавшиеся из-под ермолки, и длинная борода были перевиты серебряными нитями. Большие черные, глубоко сидящие глаза глядели испуганно и тоскливо.
– Товий! – сказал герцог. – Приехавший к нам из Вильны доктор Франциск отныне будет твоим хозяином. Будь покорен и не перечь ему ни в чем… Вы же, доктор Франциск, можете распоряжаться иудеем по вашему усмотрению. Советую не проявлять в обращении с ним излишней мягкости, ибо это способно еще больше развратить его грешную душу.
Глава VI
Уже три месяца прошло с того дня, как уехал Георгий, а от него все еще не было никаких известий. Маргарита никуда не выходила из дому, проводя дни в тревожных размышлениях. Гинек трогательно заботился о жене своего учителя. Ее часто навещали друзья: супруга Бабича, Богдан и другие деятели братства, но посещения их не могли рассеять чувства одиночества.
Как-то раз, когда Гинек ушел в друкарню и Маргарита была одна в доме, к ней снова явился Михась Адверник. Ей не хотелось оказаться наедине с этим неприятным и подозрительным человеком, но она считала себя обязанной принять родственника пана Юрия.
Михась осведомился о том, когда должен возвратиться доктор Францишек, и сказал:
– Обстоятельства мои таковы, что более ждать не могу. Сегодня я подал мою жалобу в суд… Однако если пани Маргарита окажется более сговорчивой, то можно будет дело прекратить… – И многозначительно добавил: – Я думаю, что для пани будет полезнее поладить мирно. Ибо на суде могут открыться некоторые не совсем выгодные для пани и ее нового мужа подробности…
Маргарита удивленно взглянула на него.
– Не понимаю, о чем ты ведешь речь… Ни мне, ни мужу моему нечего скрывать от людей…
– Как знать? – усмехнулся Михась. – Найдутся в Вильне люди, которые смогут рассказать судьям о тайной связи, существовавшей с давних пор между пани Маргаритой и Францишком Скориной. И возможно, судьи сочтут, что… безвременная смерть несчастного моего дяди…
Маргарита выпрямилась:
– Как ты смеешь!
Михась невозмутимо усмехнулся:
– Не гневайтесь, прекрасная пани, некогда приходившаяся мне теткой…
Она дрожала от бессильного гнева… В этот миг, отстранив растерянного слугу, вошел Николай Кривуш.
– О, пан Николай! – обрадовалась Маргарита.
Опустившись на одно колено, Кривуш галантно приложился к руке пани.
– С глубокой грустью я наблюдаю, – сказал Николай, – что с отъездом моего друга пани развлекается с другими кавалерами.
– Что вы, пан Николай! – воскликнула Маргарита. – Это Михась Адверник, племянник покойного пана Юрия. Он явился по делу…
Она взглянула на своего неприятного посетителя. Тот поднялся с места и, глядя в сторону, сказал:
– Мне пора идти. Приветствую любезную пани.
Кривуш пристально посмотрел на Михася.
– Так это ваш племянник? – спросил он. – Вы говорите, его зовут Михась?
Племянник быстро пошел к двери. Кривуш преградил ему дорогу.
– О, юноша! – сказал он насмешливо. – Не стыдно ли тебе забывать старых знакомых?
– Я вас не знаю, – пробормотал Михась, пытаясь пройти мимо толстяка.
– «Спеши медленно» – гласит латинская пословица, – сказал Кривуш, распростерши руки. – Присядь, мой друг, и побеседуем.
Михась опустился на стул.
– Давно ли, пани Маргарита, вы знаете вашего племянника?
– Я не знала его прежде, – ответила Маргарита, все больше удивляясь. – Он появился только теперь.
– Для чего же он явился к вам? – продолжал Кривуш свой допрос. – Только для того, чтобы изъявить свои родственные чувства?
– Нет, он требует наследства пана Юрия.
– О, алчность! – Кривуш воздел руки к небу. – Во что превратила ты этого благородного и тихого юношу!.. Однако, пани Маргарита, почему вы, никогда не видев прежде сего пана, поверили тому, что он является племянником вашего покойного супруга?
– Он показал мне письмо, писанное рукой пана Юрия.
Кривуш похлопал Михася по плечу:
– Недурно придумано, дружок!
И, обратившись к Маргарите, сказал:
– Не сочтите за труд, любезная пани, оставить нас наедине на несколько минут. Нам с паном нужно серьезно потолковать.
Окончательно сбитая с толку, Маргарита вышла из комнаты.
– Итак, Криштоф Дымба, тебе надоело твое благозвучное имя и ты решил взять другое? – спросил Кривуш. – Какие причины побудили тебя к этому?
– А тебе что за дело? – Он стоял, сжав кулаки, с перекошенным от злобы лицом.
– Сейчас объясню, – серьезно сказал Кривуш. – Мне действительно не было дела до твоих плутней в Кракове, ибо об этом надлежало бы тревожиться королевским судьям. Что касается ограбления тобой монастыря близ Люблина, то я вовсе не собирался выступать на защиту отцов францисканцев… Но теперь, Криштоф, ты захотел ограбить и опорочить моих друзей. Вот этого-то я не допущу…
– А что можешь ты сделать? – спросил Криштоф.
– Очень немногое: сообщу судьям о твоих прошлых подвигах.
– Так они тебе и поверили!
– О, не беспокойся, друг мой. Кроме меня, найдутся люди, хорошо знающие тебя, например люблинский аббат Амвросий, начальник краковской стражи и другие.
– У меня есть могущественные покровители, – сказал Криштоф.
– Догадываюсь, – невозмутимо ответил Кривуш, – но, когда ты будешь разоблачен, кто захочет опозорить свое имя связью с вором, мошенником и святотатцем?
– Кривуш! – сказал Криштоф смиренно. – Я мог бы поделиться с тобой.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Кривуш. – Ты, видно, шутник, братец мой… Быть может, Николай Кривуш грешен в том, что водит знакомство с проходимцами, подобными тебе. Но он никогда не похищал чужого и не покидал в беде друзей… Криштоф, друг мой, тебе не повезло… Однако как попало к тебе письмо, адресованное Михасю Адвернику?
– Мы были друзьями и жили вместе…
– Понимаю. Ты убил его?
– Что ты! Клянусь святым крестом, он умер от болезни… После его смерти остались лишь жалкие лохмотья.
– И среди них – письмо?
– Да.
– А затем ты решил отправиться с этим письмом в Вильну, чтобы, разжалобив Адверника болезнью Михася, выудить несколько сот злотых?
Криштоф молчал.
– Понятно… Приехав сюда, ты узнал о смерти пана Юрия, и тут в голову тебе взбрела блестящая мысль… Ты решил выдать себя за умершего Михася, которого пани Маргарита никогда не видела в глаза. Это – рискованное дело. Ведь на суде потребуют свидетелей, знавших в лицо бедного Михася.
– Мы были немного похожи друг на друга, и… мне обещали…
– …что суд будет благосклонен и найдутся свидетели, утверждающие, что ты – это не ты?
– Ну да…
– Как видишь, не зря Николай Кривуш изучал логику в Краковском университете… Продолжаем наше рассуждение… Увидев, что пани заупрямилась, ты пригрозил судом. Но долго не решался привести в исполнение угрозу, потому что питаешь к судам природную неприязнь…
– Еще бы! – буркнул Криштоф.
– Все же через некоторое время ты обратился в суд. Что же случилось?.. Ясно: этого потребовали твои могущественные покровители.
Криштоф с почтительным удивлением слушал.
– Кто же эти покровители, вернее, покровитель? Отвечу и на этот вопрос. Его имя – барон Иоганн фон Рейхенберг.
– Уж не колдун ли ты? – воскликнул потрясенный Криштоф.
– Я и сам подозреваю, – ответил Кривуш, приняв величественную позу, – что господь наградил меня пророческим даром. И потому не советую тебе ссориться со мной.
– Что же я должен сделать?
– Ты пойдешь в суд и в моем присутствии возьмешь обратно свою жалобу. Покончив с этим, ты не позже завтрашнего дня покинешь Вильну.
– А мои расходы? Кто оплатит их?
– О, жалкое подобие человека! – негодующе воскликнул Кривуш. – Ты тревожишься о деньгах, когда я тебе дарую самое ценное из сокровищ земных – твою свободу. Стоит мне пожелать, и ты сегодня же очутишься в темнице и получишь не менее ста плетей в придачу. Впрочем, иногда в таких случаях с успехом применяются не менее приятные вещи. Итак, я жду ответа.
Понурив голову, Криштоф тихо сказал:
– Лучше бы нам поделиться…
Кривуш распахнул дверь и пригласил Маргариту.
– Этот пан страдает тяжким недугом, – сказал он. – Во время припадков он способен перепутать все на свете. Неоднократно ему случалось принимать чужое имущество за свое, теперь же он забыл имя Криштоф, коим нарекли его при святом крещении, и назвался именем усопшего Михася Адверника. Но Николай Кривуш, обладая редким искусством исцеления подобных недугов, привел пана в полное сознание. Пан Криштоф Дымба, – обратился он к проходимцу, – вы свободны!
* * * Через крошечную отдушину в подземелье проникал слабый серый свет. По холодным, заплесневевшим стенам ползали мокрицы. Воздух каземата был насыщен сыростью и зловонием. В углу на кучке соломы, скорчившись, сидели двое мужчин. Ноги их были скованы одной цепью так, что если бы один захотел подняться, то другой должен был следовать за ним. Одежда их была разодрана и грязна, лица обросли густой щетиной, глаза ввалились. Это были братья Лазарь и Моисей, принадлежавшие к одной из богатейших семей Варшавы. Их схватили в собственном доме, увезли в Вильну, и вот уже который день они томятся в этом ужасном подземелье.
Заключенные сидели безмолвно. В первые дни они вопили, плакали, проклинали своих тюремщиков. Теперь они молчали.
Послышался лязг засовов. Дверь распахнулась, в глаза заключенным ударил свет. У входа появились два привратника с зажженными факелами. Между ними, нагнув голову, в подземелье спустился высокий человек, закутанный в черный плащ. Лицо его было скрыто под бархатной маской. Его сопровождал другой, одетый в черную сутану, какие носили судейские чиновники или правители канцелярий…
Заключенные зашевелились.
– Что же, евреи, – сказал человек в маске, – не надоело вам еще томиться здесь?
– Клянусь свитками Торы, ясновельможный пан, – проговорил Моисей слабым голосом, – не ведаем мы, в чем наше преступление.
– Полно притворяться!.. Но не об этом сейчас речь. Знаете ли вы купца Скорину из Полоцка?
– Как же! – сказал Лазарь. – Мы вели дела с Иваном Скориной. Только он уже теперь на том свете.
– Правда, что он не уплатил вам долга?
– Он остался нам должен около тысячи злотых… Но сын его был у нас, заплатил хорошие проценты и просил отсрочить выплату, пока он выручит деньги за товар. Хороший сын у Ивана Скорины! – сказал Лазарь. – Дай бог всякому честному человеку такого сына.
– И вы исполнили его просьбу?
– А почему нам не исполнить ее? У нас есть расписка, проценты внесены. Надо же дать молодому человеку передохнуть.
– Слушайте же меня! – молвил человек в маске. – Над вами тяготеет тяжкое обвинение. Вы умертвили христианского младенца, дабы использовать его кровь для ваших пасхальных опресноков.
Вопль ужаса вырвался у обоих заключенных. Обвинения евреев в ритуальных убийствах, нередко применявшиеся властями и духовенством для разжигания религиозного фанатизма и национальной вражды, влекли за собой страшную казнь обвиняемых и жестокие преследования всех их единоверцев. Никто не мог оправдаться, так как обвиняемый был уже заранее приговорен. Это был один из самых отвратительных законов средневековья.
– Преступление ваше доказано и подтверждено, – сказал человек в маске. – Но…
Евреи затаили дыхание.
– Но, – продолжал он, помолчав, – если вы будете покорны и старательны, то сможете спасти вашу жалкую жизнь. Завтра явится некто и разъяснит, что надлежит вам выполнить.
Он скрылся, сопровождаемый своей свитой. Снова с лязгом опустились засовы. Подземелье погрузилось во мрак.
Выйдя наружу, замаскированный сказал своему спутнику:
– Ты будешь следить за каждым их шагом, Генрих. Но если они улизнут от нас, подобно мнимому племяннику Адверника, то – клянусь гробом господним – я помещу тебя в такое место, по сравнению с которым этот каземат покажется тебе райским чертогом.
Глава VII
Приняв на себя управление герцогской печатней, Скорина добросовестно вел дело. Началось печатание Евангелия и лютеранского катехизиса на немецком языке.
Скорина заботился о том, чтобы эти издания находились на должном уровне книгопечатного искусства. Он тщательно следил за разнообразием и четкостью шрифтов, не видел в этой работе ничего зазорного для себя и выполнял только обязанности печатника, не касаясь содержания издаваемых книг. Книги эти были написаны на немецком языке и предназначены для немцев. К его народу они не имели никакого отношения.
Герцог платил щедро, и заработанные деньги Скорина рассчитывал обратить не только на свои личные нужды, но главным образом для пользы виленского братства и печатни.
В Товии Георгий нашел неоценимого помощника. Уже из первых бесед с ним он убедился в обширных знаниях и незаурядном уме этого человека. Старик отлично знал не только еврейскую духовную литературу, но, владея греческим языком и латынью, изучил Гомера и Аристотеля, Гераклита и Платона, Горация и Вергилия, Сенеку и Тацита. Георгий испытывал подлинное наслаждение от бесед с Товием. Они обсуждали вопросы философии, богословия, медицины, астрономии.
Товия восхищала широта взглядов Скорины, его разносторонние знания и благородство чувств.
Старик был глубоко растроган отношением к нему доктора Франциска. Здесь, в Кенигсберге, все, начиная с самого герцога и кончая последним дворцовым лакеем, презирали Товия и помыкали им, как невольником. Приезжий виленский ученый был первым, кто оценил достоинства старого еврея, кто увидел в нем человека и говорил с ним, как с равным.
Георгия же поразило искусство старика в типографском деле. Вырезанные им немецкие литеры и заставки отличались изяществом и тонким вкусом: Георгию пришлось иметь дело с мастером, не уступавшим покойному Стефану.
Однажды, когда Скорина похвалил его изделия, Товий таинственно улыбнулся и сказал:
– Вы еще не знаете, господин доктор, на что способен старый Товий…
Оглядевшись по сторонам, он осторожно открыл старательно замаскированный стенной шкафчик и, вынув оттуда небольшую книгу, подал ее Георгию. Это был отрывок из гомеровской «Илиады» из нескольких песен, выбранных самим печатником. Только такой знаток книгопечатного искусства, как Скорина, мог по достоинству оценить эти художественные гравюры, резанные по дереву, эти чудесные заставки, этот великолепный переплет, украшенный кружевной резьбой, превосходивший знаменитые переплеты итальянца Майоли.
Георгий долго и сосредоточенно разглядывал книгу.
– Товий, – сказал он, – вы великий мастер!
Старик выпрямился. Лицо его было торжественно и строго.
– Да, – сказал он. – Я – мастер! И я горд и счастлив, что услышал это из ваших уст. Мне не нужно иного вознаграждения. Никто, кроме вас, не видел этой книги.
– А герцог? – спросил Георгий.
Товий презрительно усмехнулся:
– Герцог!.. Что смыслит этот надменный тиран в истинном искусстве? Поощряя печатание книг, он заботится не о людях, а лишь о своих честолюбивых целях. Нет, герцог не получит этой книги. Я работал над чей украдкой, долгими бессонными ночами, остерегаясь нескромных взглядов. Я делал ее для себя. Часто, оставаясь один, глядел я на эту книгу. И тогда великим весельем наполнялось мое сердце, и я говорил: ты – большой мастер, Товий! Пусть глумятся над тобой кичливые невежды, они бессильны унизить тебя, ибо ты – мастер… Так говорил я себе. А теперь повторили это вы, доктор Франциск. Пусть же эти несколько песен останутся у вас в воспоминание о старом Товии. Я дарю их вам.
Скорина крепко обнял старика.
– Благодарю вас, мой друг, – сказал он. – Благодарю и с радостью принимаю драгоценный дар ваш. Но объясните мне, Товий, что заставляет вас покорно сносить унижения, которым вас подвергает герцог и его челядь?
Георгий никогда прежде не задавал Товию подобных вопросов, щадя его самолюбие.
– А что я могу поделать? – с горечью ответил Товий. – Я побывал во многих городах Германии, но отовсюду меня изгоняли церковные власти. Потом я поселился в Кракове, но и здесь католические монахи травили меня, как зверя, называя чернокнижником и колдуном. Ни один друкарь не пожелал взять меня к себе, опасаясь гнева духовенства. Единоверцы также отвернулись от старого Товия, которого раввины объявили вероотступником и эпикурейцем. Приехавший в Краков герцог Альбрехт позвал меня к себе на службу, пообещав хорошую плату. И я поехал в Кенигсберг.
– Я могу понять это, – сказал Скорина, – но потом, когда вы очутились в таком тяжком положении, почему не покинули вы герцогского двора?
– Ах, господин Франциск, – вздохнул Товий, – куда деваться мне? Кто захочет приютить старого еврея? Да и найду ли я в другом месте что-нибудь лучшее? К тому же невозможно мне покинуть Кенигсберг. Я здесь узник. За каждым моим движением зорко следят.
Он подошел поближе к Георгию и сказал шепотом:
– Боюсь, доктор Франциск, что и вас ждет недобрая участь. Герцог расточает вам ласки, но не верьте ему. О, я хорошо знаю этого коварного властителя. Ему нужно от вас что-то. Добившись своего, он заговорит с вами другим языком.
Скорина покачал головой:
– Многие пробовали сделать меня рабом либо исполнителем злых помыслов. Никому еще не удавалось это, не удастся и герцогу Альбрехту.
Но Скорина, однако, понимал, что опасения Товия не лишены оснований. Он почти не сомневался в том, что герцог пригласил его не для руководства немецкой печатней. Для этого нашлись бы в Германии более подходящие люди. По-видимому, истинные намерения Альбрехта были другими.
Наступил день, когда наконец все стало ясным.
Посетив однажды печатню, герцог, всячески расхваливая Скорину, вручил ему кошелек, туго набитый золотыми талерами. Потом, отозвав его в сторону, сказал:
– Доктор Франциск! Желая способствовать просвещению не только моих подданных, но и соседних народов, я намерен печатать книги на языках польском и русском. Вы провели долгие годы в трудах на этом поприще и, стало быть, будете мне незаменимым помощником.
Вот оно то, чего все время опасался Скорина! Еще лет десять назад он ответил бы герцогу гордым и решительным отказом. Опыт, приобретенный с годами, научил его осторожности.
– Вашей светлости, должно быть, угодно издавать лютеранские книги?.. Я же… православный, – сказал он.
– Не беда! – возразил герцог. – Я не уговариваю вас отступиться от своей веры. Ведь вы печатаете здесь лютеранские книги на немецком языке, не видя в том греха.
У Георгия не могло быть сомнений в том решении, которое он должен принять. Никакие богатства и награды не могли заставить его содействовать тому, что считал он опасным и вредным для своего народа. Нужно было во что бы то ни стало покинуть Пруссию, и как можно скорей. Но как это сделать, чтобы не разгневать Альбрехта, который мог круто расправиться с непокорным? Приходилось прибегнуть к хитрости.
На другой день Георгий явился к герцогу и заявил о своем согласии. Альбрехт был в восторге. Он предложил Скорине еще денег.
– Благодарю вашу светлость, – сказал Георгий, – я уже получил вознаграждение и вполне удовлетворен. Но чтобы осуществить ваше намерение, необходимы славянские шрифты, коих здесь нет. Предлагаю вам, государь, воспользоваться теми, что имеются в моей виленской друкарне.
– Отлично, – сказал герцог. – Я заплачу за них, сколько вы назначите.
– Не сомневаюсь, ваша светлость. В таком случае мне надлежит отправиться за ними в Вильну.
– Гм… – молвил герцог. – Не лучше ли послать одного из моих слуг с вашим письмом?
– Никто, кроме меня, не сможет отобрать то, что необходимо. К тому же, государь, приехав в Вильну, я смогу закончить тяжбу о наследстве, которая вот уже сколько времени причиняет мне беспокойство, а также увезти с собой супругу, ожидающую рождения ребенка.
– Так вы предполагаете привезти в Кенигсберг вашу жену? – спросил герцог обрадованно. – Что же, мы рады принять ее к нашему двору. Я выдам вам пропускной лист и напишу письмо к воеводе виленскому. Однако… упаси вас бог обмануть меня. Со своими врагами я свожу счеты сполна.
Вечером, оставшись в типографии наедине с Товием, Георгий рассказал ему все.
– О, господин Франциск! – сказал старик, и голос его дрогнул. – Так вы уезжаете, чтобы никогда больше не вернуться сюда… Я знал, что этим кончится. Знал, что снова наступит для Товия непроглядная ночь.
– Товий, – сказал Скорина, – хотите вы ехать со мной в Вильну? Не могу обещать вам ни богатства, ни почестей, но ручаюсь, что вы сможете свободно трудиться не ради прихоти владык, но для пользы простых людей. Здесь вы узник и раб, там вы будете человеком и творцом.
Старик был потрясен.
– Повторите… повторите, пан доктор! – залепетал он. – Я знаю, что вы шутите…
– Я не шучу, Товий! – ответил Георгий.
* * * Два оседланных и навьюченных дорожными сумами коня стояли во дворе друкарни. На рассвете Георгий должен был отправиться в путь. Ночью, когда мастера разошлись, Георгий тщательно запер двери и ставни и принялся переодевать своего спутника. Сбросив лапсердак и ермолку, Товий надел потертый польский кунтуш, сапоги со шпорами и войлочный капелюш. Свою длинную бороду и седые пейсы Товий тщательно спрятал.
Ранней зарей два всадника остановились у сторожевой будки восточных ворот Кенигсберга. Георгий показал караульному начальнику герцогский пропуск, и тот почтительно поклонился, пожелав доктору Франциску счастливой дороги.
Следом за Скориной ехал его слуга. И конечно, ни караульные, да и никто другой не могли узнать старика Товия в этом человеке, похожем не то на промотавшегося шляхтича, не то на странствующего цирюльника.
Путешествие было долгим. Старик утомлялся от верховой езды, и Георгий, жалея его, вынужден был часто останавливаться на отдых. Опасаясь герцогской погони, путники, как правило, ехали проселками, а для ночлега выбирали самые глухие селения или сторожки, затерянные в лесных чащах.
Наконец, к исходу двадцатого дня, они доехали до невысоких гор и внизу, в котловине, увидели Вильну.
– Вот она – Вильна! – сказал Георгий весело. – Пусть будет эта земля вам новой родиной, Товий!
Когда кони, замедлив шаг, стали подниматься по песчаному шляху Замковой горы, Георгий оживленно начал объяснять Товию названия пригородных селений, холмов и ворот городской стены.
Товий слушал, улыбался, кивал головой.
Проехав мост через стремительную Вилию и миновав Остру Браму, Товий спросил Георгия:
– У пана Франциска было, наверное, хорошее детство? Иначе почему бы человеку так радоваться, возвращаясь домой.
– Нет, Товий, – ответил Георгий. – Родина моя еще не здесь, а в детстве разве в том лишь счастлив я был, что жил на великом шляху и от разных людей любовь к наукам приобрел.
Приехав домой, Георгий узнал о новом постигшем его ударе. Недавно Маргариту вызывали в суд и объявили, что наследство покойного Адверника признано за ней. Одновременно правитель канцелярии сообщал, что в городе Познань двумя варшавскими евреями предъявлен иск к Францишку Скорине на крупную сумму. А поскольку сам ответчик, Скорина, пребывает в безызвестном отсутствии, укрываясь от суда, то на имущество его и его супруги налагается секвестр впредь до вынесения судебного решения. После этого судейские чиновники опечатали друкарню. Скорина ничего не мог понять. Он никогда не имел дела ни с одним варшавским евреем. О каком же иске могла идти речь? Мало-помалу волнение его улеглось, и, спокойно поразмыслив, он сказал жене:
– Нет сомнений в том, что произошло недоразумение. Чтобы выяснить его, нужно мне отправиться в Познань и разыскать этих варшавских евреев.
Маргарита пришла в отчаяние. Она едва дождалась мужа, и вот он снова покидает ее.
– На этот раз я задержусь там лишь на несколько дней, – говорил он, покрывая поцелуями ее лицо.
Якуб и Богдан тоже советовали поскорее съездить в Познань, чтобы разъяснить явную ошибку. Только Кривуш недоверчиво покачал головой.
– К сожалению, Франек, я не уверен в том, что это только недоразумение, – сказал он, улучив момент, когда Маргарита вышла.
– Но я не знаю никаких варшавских евреев, – возразил Скорина.
– Для того чтобы люди замышляли против тебя дурное, вовсе не требуется знать их. Достаточно, чтобы они знали тебя.
– А для чего им замышлять против меня дурное? – спросил Георгий, пожав плечами.
– Вот этого-то я пока не могу объяснить, – сказал Николай, – но если ты решил ехать, то, пожалуй, мне следует сопровождать тебя. Среди всех городов польских и литовских Познань наименее знакома мне, и я не прочь побывать там.
Георгий с радостью согласился. Нужно было еще позаботиться о Товии. Старик был смущен и подавлен всем происшедшим.
– Некстати вы взяли меня с собой, пан Франциск, – сказал он уныло, – видно, не принесу я вам счастья.
Скорина успокоил его. Он представил Товия своим друзьям и попросил жену позаботиться о старике. Заметив на лице жены недоумение, Георгий сказал серьезно:
– Людей нужно оценивать не по вере, не по языку их, но по душе и разуму. Этот человек будет моим другом и помощником.
Маргарита взглянула ему в глаза.
– Хорошо, Франек, я сделаю так, как ты хочешь.
Предвидя, что герцог станет разыскивать сбежавшего еврея в Вильне, Георгий не оставил его у себя, а поселил в небольшом домике на одной из глухих улиц, куда Гинек должен был приносить ему пищу и все необходимое.
Накануне отъезда некий странник, пришедший из московской земли, принес Скорине письмо. Георгий вскрыл пакет и радостно улыбнулся. Письмо было от Тихона Меньшого. Богомаз писал, что дошли до него книги, оттиснутые Францишком Скориной, и повергли его в изумление великой лепостью своею. «А коли не забыли меня, Юрий Лукич, – писал Тихон, – то отпишите, я во град виленский явлюсь, станем вместе трудиться. Авось уменье мое для вас без пользы не останется…»
Еще бы! Не раз вспоминал Скорина о чудесном искусстве московского живописца. С такими двумя помощниками, как Тихон и Товий, можно смело смотреть в будущее.
Георгий с легким сердцем отправился в дорогу вместе со своим другом. А через две недели Кривуш вернулся в Вильну с печальной вестью о том, что Скорина, обвиненный в умышленном бегстве от суда, взят под стражу и заключен в познанскую тюрьму.
Глава VIII
Друзья Георгия не теряли времени. Собрав членов братства, Якуб Бабич поведал им о случившемся:
– Все дело сие затеяно по наущению сильных и злобных врагов, ненавидящих Францишка Скорину и весь народ наш. Они рассчитывают, лишив нас главы, отнять у братства могучее орудие просвещения. Им надобно не только замучить и убить Францишка, но и опорочить его перед народом и духовенством, представить славного и благородного мужа вероотступником, алчным плутом, присвоившим богатство покойного нашего брата Юрия Адверника. Для того барон Рейхенберг возвел на Скорину поклеп о мнимых связях его с Лютером, пытался навлечь на него позор судом о наследстве, а ныне замыслил новую напраслину… Не позволим мы этого! Все города русские на ноги поднимем, до самого короля Жигмонта дойдем, а Скорину вернем. Помните, братья, не о судьбе одного человека идет речь, но о судьбе всего дела нашего.
По призыву Якуба каждый из братчиков внес свою лепту в это дело. Отправлены были люди в Витебск и Могилев, в Полоцк и Минск, чтобы побудить местное купечество и духовенство писать королю челобитные об освобождении Скорины.
По просьбе Георгия, переданной через Кривуша, Богдан Онкович был послан в Гданск, дабы разыскать Романа Скорину и получить от него подтверждение, что Георгий отказался от наследства, оставшегося по смерти брата Ивана.
Якуб Бабич сам решил везти в Краков, к королевскому двору, челобитную от виленского братства. Николая же Кривуша с крупной суммой денег послали в Познань для сношений с тамошними судьями и с тюремщиками Георгия.
Маргарита… Нужно ли говорить, в каком состоянии находилась она! Друзья окружили ее нежной заботой, утешали как могли, уверяли, что Георгий скоро вернется домой целым и невредимым. Но тревога и тоска не покидали ее.
Когда Маргарите становилось особенно тяжело, она думала о ребенке, который скоро должен родиться, о своих обязанностях матери, и спасительная эта мысль облегчала душевные муки…
Чем ближе подходил срок родов, тем сильнее напрягала она свою волю, чтобы обрести столь необходимое спокойствие.
«Наше дитя не должно погибнуть… Франек увидит его живым и здоровым», – говорила она себе.
Выполняя наказ мужа, Маргарита заботилась о Товии и не раз сама, превозмогая усталость, навещала его. Мало-помалу, знакомясь с Товием, Маргарита стала глядеть другими глазами на этого тихого, доброго и, по-видимому, очень несчастного человека. Она, конечно, не могла должным образом оценить его знания и глубокий ум. Но она убедилась в том, как был Товий предан ее мужу, как горячо любил он его. Этого было достаточно, чтобы старик стал для нее близким другом. Товий почти безвыходно сидел в своем ветхом домике, но никогда не оставался праздным. Маргарита доставляла ему некоторые инструменты, и он по целым дням вырезал по дереву, готовя гравюры для будущих изданий Скорины.
* * * А Георгий все томился в познанской темнице, ничего не зная ни о течении его дела, ни об участи близких. В сером сумраке крошечной каморки он не мог читать и писать. Зато у него оставалась возможность думать. Никакие тюремщики не могли лишить его этой последней радости. Сперва мысли его были сосредоточены на поисках пути к освобождению. Вскоре он оставил это. Бесполезно было ему, узнику, пытаться придумать выход. Он знал, что друзья не оставят его в беде, не сомневался в том, что они делают все возможное для его спасения. Бежать? Без посторонней помощи это невозможно. Да и к чему привело бы бегство? Нет, он предстанет пред судом, чтобы разоблачить козни низких врагов… И он думал теперь не о себе и даже не о семье своей, а только о них, врагах своих. Он не испытывал ни горя, ни тоски. Гнев наполнял его душу.
Вся жизнь прошла перед ним в эти тягостные дни. Он снова и снова с удивительной ясностью видел перед собой то покойного лирника, замученного воеводой, то лицо Иоганна фон Рейхенберга, то Федериго Гварони в дыму и пламени костра, то зверские рожи пражских ландскнехтов… И все это один и тот же жестокий, неумолимый, подлый враг!.. В звенящей тишине он слышал голос давно умершего своего учителя:
«Мир объят войной более страшной и беспощадной, нежели все войны между королями и народами…»
«Да, война не на живот, а на смерть! И не должно быть в такой войне милости и сострадания к врагам. Уничтожать их! Разить мечом и словом, топором и мыслью, не колеблясь и не щадя. Ты был прав, Сымон, и в делах твоих больше мудрости, чем в обманчивых речах проповедников!..»
Четверть века взбирался Георгий Скорина к вершинам знания. Спотыкался, падал, вновь карабкался вверх по трудным, скользким ступеням. И казалось, уже добрался до цели и познал истину… А на самом деле все то, что почерпнул он из книг и научных опытов, было только половиной истины, и лишь теперь, во мраке темницы, постиг он ее всю целиком… Как поздно пришло это к нему, и все же хорошо, что пришло!..
На исходе второго месяца заключения Георгия неожиданно перевели в другое, несколько более светлое и просторное помещение. Два дня спустя привратник передал ему записку, написанную по-латыни, в которой коротко сообщалось о хлопотах виленчан и о том, что Маргарита здорова и находится в безопасности. Записка не была подписана, но Георгий без труда узнал руку Николая Кривуша. А еще через две недели сам Николай в сопровождении тюремщика вошел в каземат и горячо обнял друга.
Хлопоты виленского братства сделали своё. Король Сигизмунд, избегавший ссоры с белорусским купечеством, не мог не посчитаться с челобитными многих городов. К тому же Роман Скорина, лично приехав в Краков, засвидетельствовал, что дядя его отказался от наследства и ответчиком по всем долгам покойного Ивана Скорины является он, его сын и наследник.
Королевская грамота об освобождении доктора Францишка была вручена Якубу Бабичу, который немедленно и с верным человеком отправил ее в Познань.
Наконец Георгий был свободен и через десять дней вернулся в Вильну. Он поднялся по лестнице, поддерживаемый друзьями и слугами, чьих лиц не мог различить. Наверху стояла Маргарита с крошечным свертком на руках, и он видел только ее.
– Сын? – спросил Георгий задыхаясь.
Она кивнула ему, слезы мешали ей говорить.
Георгий взял ребенка, развернул покрывало. Красное личико младенца сморщилось, послышался пронзительный, звонкий крик.
– Голосист! – сказал Георгий. – Как зовут?
– Еще не крещен, – ответила Маргарита. – Тебя дожидалась…
Младенец кричал, размахивая крошечными кулачками.
– Эге, Франек, – смеясь, сказал прибежавший Кривуш, – это настоящий разбойник!
– Разбойник?.. – задумчиво повторил Георгий и, не отрывая глаз от ребенка, тихо сказал: – Мы назовем его Сымон… Это доброе имя для честного человека.
Глава IX
«Упомянутый выше доктор Франциск Скорина, отправляясь отсюда с полученным от нас письмом к вашему великолепию по своим делам, которые, по его словам, были у него в Вильне, заманчивыми уговорами тайно увел с собой иудея – нашего типографа и врача. Вследствие этого здоровье многих несчастных, больных и недужных, наших подданных, коих этот иудей начал лечить, потерпело ущерб.
Немалый убыток понесли мы и в наших трудах, которые собирались напечатать… А потому просим дружески ваше великолепие проучить сего доктора Франциска Скорину за нанесенную нам лично и подданным нашим обиду. Упомянутого же иудея как можно скорее возвратите нам. За это мы готовы отплатить любой услугой. Шлем пожелание наилучшего здоровья вам с супругой и детьми вашими.
Дано в Кенигсберге 26 мая. Года от рождения господа нашего Исуса Христа 1530…»
Прочитав это письмо, привезенное гонцом из Пруссии, пан Гаштольд немедленно отправился к Рейхенбергу. Он встретил его на полдороге. Немец сидел на кровном арабском жеребце, покрытом красным чепраком. Хрипя и кося глаз, конь шел танцующим шагом, сдерживаемый властной рукой всадника. Слуги и приближенные сопровождали Рейхенберга. Барон любезно приветствовал воеводу.
– Я собирался посоветоваться с вашей мосцью, – сказал воевода.
Рейхенберг улыбнулся.
– Не о том ли письме, которое ясновельможный пан получил от прусского герцога? – осведомился он.
Воевода оторопел. Ему и в голову не могло прийти, что слуги барона частенько перехватывали у застав въезжающих в Вильну гонцов и насилием либо подкупом узнавали содержание адресованных Гаштольду посланий.
– Откуда это известно пану? – спросил воевода.
– Слуга короля, облеченный его доверием, обязан знать все, что происходит в государстве, – сказал немец уклончиво. – Что же намерены вы ответить герцогу?
Гаштольд погладил усы.
– Я напишу, что Скорина и так уже понес примерное наказание – заточен в познанскую тюрьму. Что до иудея, то в Вильне его, по-видимому, нет, но мы примем меры к его розыску и возвращению в Кенигсберг.
– Зачем же вводить в заблуждение прусского владетеля? – ласково сказал Рейхенберг. – Хотя герцог Альбрехт и не проявляет подчас должной покорности нашему королю, вассалом которого является, однако не следует ссориться с ним.
– Я сообщаю только истину, – возразил воевода, постепенно раздражаясь, как всегда в разговоре с Рейхенбергом.
Немец притворно улыбнулся:
– Ах, пан воевода… Ужели же вы, законный хозяин Вильны, не знаете о том, что Францишек Скорина освобожден согласно королевской грамоте и уже несколько дней находится здесь?
– Королевская грамота? – удивился воевода. – Но почему же вы не помешали его освобождению?
– Если милостивому королю угодно было освободить этого человека, стало быть, к тому были причины. Не мне судить о решениях моего государя. Итак, к вашему сведению, пан воевода, Францишек Скорина снова здесь.
– А еврей? – спросил растерянно воевода.
– Тоже.
– Где же он скрывается?
– Это я как раз и хотел узнать от ясновельможного пана воеводы, – сказал немец. И, поклонившись любезнейшим образом, поехал дальше.
Час спустя Иоганн фон Рейхенберг подробно рассказывал его преосвященству епископу о новых планах Скорины: о тайной его друкарне, в которой скрывается кенигсбергский иудей, о подготовляемой к печатанию новой книге уже не церковного, но светского содержания и, надо полагать, наполненной богохульными и бунтарскими мыслями.
– Королевский указ, – сказал епископ, – освободил схизматика от одного обвинения, но теперь мы можем возбудить новое. Обращение прусского герцога, хоть он и проклятый еретик, поможет нам…
– Нет! – прервал его Рейхенберг сухо. – Пришло время нанести смертельный удар. Пора покончить и со Скориной, и с виленским братством.
– Но как обнаружить эту тайную печатню?
– Не тревожьтесь, ваше преосвященство, – усмехнулся Рейхенберг. – Мои люди многочисленны и искусны. Иные из них близки к нему и пользуются его доверием…
* * * Сведения, сообщенные Рейхенбергом епископу, были правильны. Предвидя, что запрет с друкарни будет снят не скоро, братство решило оборудовать временную тайную типографию в домике, где скрывался Товий. На средства братства были заказаны новый печатный станок и наборные доски. Старик принялся резать заставки и заглавные литеры. К счастью, один запасной набор шрифтов, хранившийся в доме Георгия, уцелел. Эта мера предосторожности, заведенная Скориной после разгрома пражской типографии, оказалась весьма полезной.
В помощь Товию был нанят прежний мастер Войтех.
Когда Скорина возвратился из Познани, Войтех явился к нему и осведомился, не найдется ли для него работы.
Георгий был не особенно расположен к этому человеку, но считал его сведущим друкарем, да других и не было.
Георгий тотчас же принялся за работу над «Большой Подорожной Книгой». Он писал легко и быстро, гнев, закипавший в душе, направлял его перо. Размышления и выводы, родившиеся в мрачные дни заточения, должны были прозвучать в этой книге.
По вечерам в тайной друкарне Георгий читал Бабичу, Богдану и Товию отрывки написанного. Часто приходил сюда и Николай Кривуш. Скорина предложил включить в книгу стихи и притчи, в которых Кривуш высмеивал монахов и епископов, вельмож и судей, бичевал царящие в королевстве пороки: лицемерие, невежество, подкупы, притеснение народа. Толстяк, по обыкновению, отшучивался, но нетрудно было видеть, что он польщен и обрадован предложением. Георгий обещал перевести их на белорусский язык, сохранив манеру и остроту польского оригинала.
– Ну что же! – воскликнул Николай. – Надо воспользоваться случаем, чтобы изобразить в надлежащем виде Иоганна фон Рейхенберга и его друзей.
Через несколько дней он принес первое свое сочинение. Прочитав его, Георгий сказал серьезно:
– Ах, Николай! Сколько таких сокровищ расточил ты напрасно в те годы!
Георгий внимательно наблюдал за своим другом. Он с радостью заметил, что теперь Николай живо интересуется печатней, вникая во все подробности дела, что он с увлечением работает над своими стихами. По приглашению Георгия и Маргариты Кривуш переселился к ним. Он все реже предавался обычным попойкам и иногда целые дни проводил за работой, запершись в своей горнице.
Казалось, все опять складывалось счастливо для Георгия: любимое дело, безоблачная семейная жизнь, тесный круг преданных друзей…
Хотя розыски Товия в Вильне, казалось, прекратились, Георгий постоянно напоминал друзьям о сохранении тайны и принимал всевозможные меры к тому, чтобы маленькая печатня не была никому известна.
Помещение печатни было тесным и темным. Вряд ли проникал сюда когда-нибудь солнечный свет. Товий работал и жил здесь. По совету Георгия, он выходил на прогулку только ночью, в сопровождении Гинека, Кривуша или самого Георгия. Тогда на уснувших улицах города велась тихая беседа о будущем. Теперь старого мастера и Георгия связывала истинная, крепкая дружба.
Иногда Георгий шутил:
– Не правда ли, Товий, я дал вам королевские условия. Моя темница ничем не хуже альбрехтовой!
– О, пан доктор, – улыбаясь, отвечал старик, – когда я беру в руки листы нашей новой книги, стены этой печатни раздвигаются и мне светит солнце так, как оно никогда не светило королю!
Товий был счастлив, работа спорилась. Каждый оттиск листов новой книги носил следы его высокого мастерства.
– Когда же люди смогут насладиться прекрасным творением сим? – спросил как-то Бабич, разглядывая рисунки.
– Скоро, – ответил Георгий. – Теперь уже скоро.
– Если позволит пан доктор, – робко заметил Товий, – я покажу переплет.
– Разве он готов? – удивился Георгий.
– Да, – как всегда улыбаясь, ответил старик и, открыв ящик, достал сафьяновую папку, еще пахнувшую клеем и кислотой.
Георгий почти выхватил ее из рук Товия.
– Что это? – спросил он, видя неизвестный ему рисунок на фронтисписе.
– Это образ доктора Франциска из славного города Полоцка, – ответил Товий.
Внутри кожаного переплета, на первом листе книги, в овале, был тончайше исполнен портрет Скорины – автора и создателя книги. Гравюра была сделана Товием по портрету Георгия, написанному московским иконописцем Тишкой-богомазом. Скорина изображался в докторской мантии и берете, со «ефера-мунди» и прочими почетными регалиями, тогда только робко намеченными Тихоном Меньшим. Теперь к портрету были прибавлены еще другие символы его творчества: летящая пчела, свеча, изливающая свет на книгу, карта земли…
Смущенный Георгий попробовал было возражать, но все бывшие в печатне друзья согласились со старым Товием.
Люди, изучающие грамоту, должны видеть лицо Скорины и показывать детям своим в пример.
В этот раз позже обычного Георгий с друзьями вышел из печатни. Над городом бушевал свирепый северо-восточный ветер, вздымавший тучи песка и пыли. Друзья простились, Георгий направился домой. Ветер крепчал. В воздухе носились солома, обрывки пакли, мелкая щепа. По небу стремительно пробегали тяжелые серые тучи. На миг из-за туч блеснула луна, и в ее неверном свете Георгию показалось, что какие-то тени мелькнули из-за выступа старой, полуразвалившейся башни. Он остановился, прислушиваясь. Все было тихо вокруг. Свистел только ветер да глухо постукивала о чью-то крышу сломанная ветка дерева. Георгий быстро зашагал к дому.
– Шел бы ты спать, Товий, – угрюмо сказал Войтех, когда все ушли из печатни, – время позднее.
Старик молча спрятал листы, переплет, запер ящик и ушел в соседнюю комнату. Войтех подождал, пока в щели двери Товия не исчезла полоска света, потом вышел в сени и осторожно отодвинул засов. Бешеный порыв ветра рванул дверь. Войтех негромко свистнул.
В переулке послышался тяжелый топот. Войтех шагнул за порог. К нему подошли шесть дюжих молодцов, закутанных в темные плащи…
Глава X
Георгий лежал с открытыми глазами, тщетно стараясь уснуть. Ветер гудел в трубе, стучал в ставни окон. Что-то тревожило Георгия. То ему вновь мерещились тени людей за выступом башни, то в завывании ветра чудился человеческий вопль.
Он долго лежал, прислушиваясь к звукам ночной бури. Потом, стараясь не разбудить жену, тихо оделся, накинул плащ и вышел из дому.
Повернув на Замковую улицу, он быстро пошел в сторону тайной типографии. Еще не добежав до знакомого домика, он ощутил запах гари.
Возле печатни стояла карета, запряженная пугливыми конями. Какие-то люди вталкивали в карету Товия, скручивая ему руки. Товий оглянулся и застонал. Из дверей шел густой дым, и острые языки пламени рвались к окну, заваленному деревянной рухлядью. Товия уже подняли на ступеньки кареты, когда сквозь вой ветра он услышал крик.
– Товий! Товий! – кричал Георгий.
– Пан Францишек! – завопил старик и, рванувшись изо всех сил, оттолкнул стражников со ступенек.
Эта задержка дала возможность Георгию добежать почти до кареты. Но Товия уже втолкнули внутрь повозки.
– Товий, брат мой! – Георгий задыхался от быстрого бега, ветра и волнения.
– Прощайте, Франек! – успел крикнуть старик. – Спасайтесь!
Дверца захлопнулась, колеса быстро застучали по камням. Георгий бросился назад, к типографии:
– Войтех! Где ты, Войтех?
Никто не отозвался. Здесь все уже было объято пламенем. Георгий бросился в дверь. Едкий дым горящего клея, бумаги и кожи поднимался кверху. Внизу еще можно было дышать. Георгий увидел корчившиеся в огне дорогие ему оттиски. Он двинулся к ним ползком и стал сбивать огонь. Пламя вырывалось из-под его пальцев, на нем загорелась одежда. Схватив несколько обгоревших листов, Георгий выполз из дома.
Мимо бежали люди. С площади доносилось тревожное гудение набата, крики. Георгий побежал вслед за людьми, прося их:
– Помогите! Люди добрые, помогите!
Но голос его потонул в звуках начавшегося бедствия. Уже полыхало зарево еще одного пожара. Люди бежали туда.
Внезапно страшная догадка осенила его. Они бежали по направлению к ратуше. Так оно и есть! Деревянный дом Якуба Бабича со всеми дворовыми строениями ярко пылал.
Толпа быстро заполняла площадь и прилегающие улочки. Протолкавшись к воротам, Георгий увидел Якуба.
Одежда его была разорвана, лицо покрыто грязью и копотью, на лбу кровоточила ссадина. Якуб командовал людьми, передававшими из рук в руки ведра с водой. Но пламя, подгоняемое ветром, бушевало все сильней и сильней.
– Якуб! – окликнул Георгий.
Якуб махнул головой.
– Не одолеем, – крикнул он Георгию. – Горе нам!..
– Горит и наша друкарня! – сказал Георгий.
Якуб на секунду остановился, опустив ведро.
– Одна рука! – сказал он не своим голосом. Потом быстро шагнул туда, куда слуги выбрасывали из горящего дома мебель, домашние вещи.
Кто-то схватил Георгия за руку.
– Франек, я ищу тебя! Горит твой дом!
Это был Николай Кривуш.
– Я вывел Маргариту с ребенком в сад… в беседку… С ними Гинек… Скорее, Франек!
Они побежали. Вокруг пылавшего дома Скорины тоже толпился народ. Но стража не подпускала людей к воротам. Пламя бушевало, развеваясь над домом, как гигантский багровый плащ. Охваченная огнем крыша накренилась; вдруг сильным порывом ветра ее подняло на воздух. Затрещали и рухнули балки креплений. Крыша, словно на крыльях, поднялась вверх и огненным покрывалом опустилась на маленький окруженный высоким забором сад. Загорелись деревья, доски забора. Ветер расшвыривал горящие обломки по соседним крышам. Люди, толкавшиеся возле дома, бросились врассыпную, спасаясь от летящих бревен. Сад, в котором Кривуш оставил Маргариту, теперь был опоясан огненным кольцом пылавшего забора. Деревья горели, как огромные факелы, протягивая скрюченные ветви к черному небу. На месте садовой беседки высился столб огня. Георгий стоял, закрыв руками лицо.
– Их нет здесь, – сказал Кривуш, дрожа от волнения. – Я приказал слугам, если пожар усилится, увести Маргариту…
– Куда? – спросил Георгий.
– В тайную друкарню, – ответил ничего еще не знающий Кривуш.
Георгий застонал. Черные хлопья сажи падали на его непокрытые волосы. Огонь перебрасывался с одного дома на другой. Загорались все новые и новые строения, заборы, улицы. Уже били в набат колокольни всех виленских церквей и костелов.
* * * Стоящий у двери слуга сделал знак, и друкарь Войтех осторожно шагнул в обширный полутемный кабинет. Барон Иоганн фон Рейхенберг стоял у высокого стрельчатого окна, глядя на багровое зарево, нависшее над городом.
– Приказ вашей мосци исполнен, – сказал почтительно Войтех, – иудей схвачен и брошен в колоду. Обе друкарни и дом схизматика горят.
Барон не обернулся. Вынув из-за пояса кошелек, он швырнул его через плечо. Войтех на лету поймал кошелек.
– Ступай! – молвил барон.
Друкарь на цыпочках вышел. Рейхенберг быстро обернулся и хлопнул в ладоши.
– Этот человек, – сказал он вбежавшему камердинеру, – не должен выйти из замка. Пусть его схватят и запрут в подземелье.
Камердинер замешкался: видимо, он был озадачен.
– Он виновен в поджогах и заслуживает строгого наказания, – пояснил барон. – Беги же и помни: он не должен выйти из замка.
Камердинер мгновенно исчез за портьерой. Рейхенберг снова повернулся к окну. Пожар все разрастался. Набат, не переставая, гудел над пылающим городом. Якуб Бабич, давно уже покинувший сгоревший дотла двор свой, носился с гурьбой братчиков и приставших к ним добровольцев, пытаясь остановить бедствие. Увидев, что все их старания тщетны, бурмистр приказал выводить из города стариков, женщин и детей. Свою семью он отправил с провожатыми к реке, в рыбачью слободу.
Но выполнить бурмистрово распоряжение было нелегко. Толпы обезумевших людей устремились ко всем пяти городским воротам. На узких улицах началась страшная давка. Там и сям раздавались вопли, проклятия, мольбы о помощи. Кто-то крикнул, что воевода закрыл Медницкие ворота и поставил там стражу, что Трокские ворота горят и подойти к ним невозможно. Бурный человеческий поток повернул назад к Рудницким воротам. Люди задыхались в дыму. У иных от жары лопалась кожа на лице и руках.
– К замку! – раздался чей-то отчаянный призыв. – К замку воеводскому!
Тут многие сообразили, что обширный пустырь перед замком может оказаться надежным убежищем от огня.
– В замке – сам Гаштольд. Пусть спасает воевода виленчан, пусть держит ответ! – И толпа ринулась к замку.
Пану Гаштольду доложили о приближении огромной толпы. Воевода, и так уже насмерть перепуганный грозным бедствием, вовсе впал в уныние.
Дверь отворилась, и на пороге появился Рейхенберг. За поясом его торчал большой охотничий нож, на левом боку висела длинная итальянская шпага. Воевода был настолько растерян, что не удивился этому внезапному появлению. Волнуясь, он сообщил немцу о приближении толпы.
– Вся стража и рейтары разосланы к городским воротам или для охраны присутственных зданий, костелов, панских имений. В замке осталась лишь горсточка солдат. Бог знает, чем может это кончиться…
– Чего вы опасаетесь? – спросил холодно Рейхенберг.
– Они станут требовать, чтобы я выдал им виновников.
– А почему бы вам не выдать виновников, пан воевода? – спокойно спросил немец.
– Но я не знаю их… – пробормотал воевода.
– Зато я знаю, – сказал Рейхенберг. – Повинно в злодействе православное братство, а главный зачинщик всему Францишек…
Воевода вздрогнул.
– Это… невероятно… Где доказательства?
– Пожар начался от друкарни Скорины и от его дома. На месте пожара был схвачен мастер, служивший у Францишка, по имени Войтех. Он сознался в том, что был подкуплен братством. Каких еще нужно вам доказательств, пан воевода?
Через окно доносился гул прибывающей на площадь толпы. Рейхенберг продолжал:
– Вот к чему привело ваше милостивое отношение к схизматикам! Разве я не предостерегал вас?
Воевода вздрогнул.
– Мое милостивое отношение? Но ведь вам хорошо известно, как ревностно я стоял на страже престола и церкви. Я никогда не был их другом. Я всегда ждал от этих людей и… и от самого Скорины…
– Воеводу! – ревела толпа.
– Пусть выйдет к нам воевода!
Иоганн схватил воеводу за руку и, потащив к окну, властно сказал:
– Хорошо! Скажите об этом им! Они ждут вас, идите!
В окно было видно, как огромная, волнующаяся, грозная толпа заполняла площадь перед замком. Люди все прибывали и прибывали.
Георгий тоже оказался здесь. Волосы его развевались на ветру, глаза блуждали по сторонам.
Кривуш крепко держал его за руку.
Они медленно продвигались сквозь толпу, сами не зная, куда и зачем. Вдруг площадь затихла. Дверь на балконе замка распахнулась, и двое слуг с зажженными факелами стали по ее сторонам. Еще секунда, и народ, требовавший воеводу, увидел барона Рейхенберга.
– Люди места Виленского! – крикнул он, простирая обе руки к толпе. – Ужасное бедствие постигло ваш славный город! Слуги дьявола обрушили свою злобу на мирных граждан. Но успокойтесь! Злодеи обнаружены!
– Кто они? – раздались яростные крики.
– Имена! Назови имена злодеев!
– Смерть поджигателям!
Иоганн потребовал тишины.
– Хорошо, я назову их, – сказал почти спокойно Рейхенберг, и голос его отозвался многоголосым эхом.
– Он назовет их, назовет… Тише!
Иоганн продолжал:
– Главный зачинщик и поджигатель – еретик, чернокнижник и колдун Францишек Скорина!
В наступившей тишине раздался звенящий женский крик:
– Ты лжешь, презренный!
– Маргарита! – вскрикнул Скорина и, вырвавшись из рук Кривуша, бросился на голос.
Маргарита стояла в толпе в изодранной сорочке, прижимая к груди ребенка.
– Маргарита, жена моя!
Расталкивая людей, Георгий пробивался к жене и сыну. Кривуш едва поспевал за ним.
– Люди! – загремел с балкона Иоганн. – Вот он, ваш злодей! Хватайте и судите его сами! Я разрешаю вам! Хватайте, не то он скроется от возмездия!
Соседние ряды колыхнулись. Послышались гневные возгласы. Вокруг Скорины образовалось свободное пространство. Еще никто не решился дотронуться до этого человека.
– Я никуда не скроюсь! – громко сказал Георгий, обратившись к толпе. Лицо его было гневно и величественно, голос тверд. Он взял Маргариту за руку и двинулся к замку.
Люди расступались перед ним и замолкали.
Так они дошли до середины площади, где возвышалось лобное место. Скорина с женой и ребенком поднялся по ступеням наверх. Теперь все увидели его.
– Не давайте ему обманывать вас! – снова послышался лающий голос Иоганна. – Хватайте колдуна и поджигателя!
Георгий поднял вверх руку, и народ заколыхался, ожидая его слова.
Он сказал:
– Братья мои! Знаете ли вы меня, Францишка Скорину?
– Знаем! Знаем! Пусть говорит Скорина!
– Смотрите, – надрывался Рейхенберг. – На нем следы злодеяний, платье его опалено!
– Вот я стою здесь, на месте казней! – сказал Георгий. – Со мною жена моя и сын… – Он обнял их. – Мы готовы держать ответ перед вами! Казните нас, если верите немцу!
– Не верим! – первым крикнул Николай Кривуш. – Говори, Франек!
Скорина подошел к барьеру:
– Ведомы ли вам книги, друкованные мною?
– Ведомы! Ведомы!
– В тех книгах я учил, как отличать кривду от правды, – продолжал Скорина, – учил любить веру отцов и родную, русскую речь… В них была моя жизнь! Кто же поверит тому, что сам я поджег их, и друкарню, и дом мой, и город? Разве сожжет земледелец ниву, возделанную им?
– Правду сказал! Правду! – послышались голоса.
– Кто же поджигатель?
– Он! Он и его сообщники!
– Не верьте! Не слушайте его!
– Нет! – поднял голос Скорина. – Не враг я себе и не враг народу моему!
Повернувшись к балкону, Георгий крикнул громовым голосом:
– Ты лжешь, Иоганн фон Рейхенберг! Не я, а ты повинен в пожаре сем! Это свидетельствую я, Францишек Скорина, перед господом и всем народом виленским. Ты и твоя черная свора, благословляемые римским папой, пришли порабощать вольные наши народы. Вы хотите отнять у нас волю и достояние, храмы и язык родной. – Он снова повернулся к толпе. – Вот он – злодей! Смотрите, братья, и запоминайте сие! Горят и рушатся жилища наши. Дети теряют отцов, и отцы оплакивают детей своих. Стонет наша земля от чужеземцев. Вновь тевтоны, как тать, прокрались в дом наш и подняли черное знамя свое. – Сжав кулаки, со страшной силой он крикнул: – Бейте их, братья! Уничтожайте за поругание земли нашей, за кровь наших отцов и матерей! Бейте и гоните прочь, не опуская меча!
– Смерть! – крикнул Николай Кривуш.
– Смерть! – загудела толпа.
Передние ряды двинулись к замку. Рейхенберга уже не было на балконе. Телохранители также скрылись. Разъяренная толпа стремительно катилась вперед.
В замке царило смятение.
Гаштольд успел выскочить во внутренний дворик и, сопровождаемый несколькими слугами и шляхтичами, подземным ходом пробрался к Медницким воротам. Там его ждали кони.
Рейхенберг пытался защитить замок. Но стража и слуги частью были смяты ворвавшейся толпой, частью успели скрыться.
Оставшись один, Иоганн бросился во двор к маленькой винтовой лестнице, спускавшейся в тайный подземный ход. Этим ходом только что успел спастись воевода.
Вдруг дорогу немцу преградил человек с зажженным факелом. Рейхенберг отпрянул.
– Приветствую ясновельможного коллегу! – сказал Кривуш насмешливо. – Пан куда-то торопится? Жаль…
– Прочь! – крикнул Иоганн, выхватив шпагу.
Кривуш ткнул факелом ему в лицо. Немец взвыл, закрывая ладонями глаза. Шпага зазвенела на камнях двора. Кривуш быстро ступил на нее.
– Спешить некуда, друг, – сказал он со зловещей усмешкой. – Наконец привел бог побеседовать по душам!
Николай нагнулся, чтобы поднять шпагу. Быстрым рывком Рейхенберг выхватил из-за пояса охотничий нож и ударил Кривуша в спину. Кривуш пошатнулся, но устоял. Выпрямившись и швырнув факел в сторону, он обеими руками схватил немца за горло. Они свалились в открытую дверь потайного хода и покатились вниз по ступеням винтовой лестницы.
Борьба продолжалась недолго. Пальцы Кривуша впились в горло врага. Иоганн захрипел, судорога пробежала по всему его телу, больше он не сопротивлялся. Пальцы Кривуша не разжимались.
В глубине темного хода, на узкой площадке маленькой винтовой лестницы, долго никем не обнаруженные, лежали в смертельных объятиях два тела: рыцарь Иоганн фон Рейхенберг, проклятый народом Литвы и Польши, и веселый поэт, забияка и богохульник – Николай Кривуш из Тарнува.
* * * Наступил день, а пожар не унимался.
Ветер гнал к городу песчаные смерчи. Солнце едва пробивалось сквозь тучи дыма и пыли. Горели городские стены, и пламя, распространяясь к югу и востоку, уже охватило торговую пристань. Занялись склады пеньки, бочки со смолой, штабеля досок.
Люди, успевшие выбраться из города, толпились в рыбачьей слободе, глядя на страшное зрелище гибели родного города. До конца своей жизни запомнили они этот ужасный летний день 1530 года.
На отмели, у рыбачьего баркаса, окруженный тесным кольцом друзей, стоял Скорина, рядом с ним была Маргарита с младенцем Сымоном на руках.
Не было Кривуша. Никто не знал, где он, никто не видел его в толпе, когда бросились громить замок.
– Где же Гинек? – спросил Георгий.
– Гинек погиб… – сказала Маргарита, глотая слезы. – Он бросился спасать твои бумаги, Франек, и не успел выскочить из горящего дома.
Подбежал Богдан Онкович.
– Надо спешить, Францишек! – почти приказал он, оглядываясь в сторону города.
Георгий стоял недвижно.
– Нечего толковать, – ласково заговорил Якуб Бабич. – Нельзя здесь оставаться… Они не простят Скорине этой ночи.
– Даст бог, свидимся! – сказал Богдан.
Они помогли Маргарите с ребенком сесть в баркас. Георгий молча обнял каждого и, перешагнув через борт, остался стоять.
Гребцы столкнули баркас и прыгнули на ходу.
Все дальше и дальше уплывал баркас, и люди на берегу глядели ему вслед.
Георгий все еще стоял, сухими глазами озирая окутанную дымом землю. Баркас приблизился к излучине реки, и здесь клубы дыма, несшиеся от горящего леса, закрыли его.
В тот же день два странника подошли к восточной стене города. Странники были одеты в платья, какие носили посадские люди Московской Руси. За плечами их были котомки. Молча смотрели они на расстилавшийся перед ними догорающий город. Потом медленно побрели к реке, где толпились люди. Старший из странников обратился к пожилому мужчине:
– Не знает ли добрый человек, где тут найти доктора Францишка Скорину и что сталось с его печатней?
– Нет уже ни печатни, ни самого Скорины, – ответил спрошенный и досадливо отвернулся.
– А по какому делу тебе Скорина надобен? – Богдан Онкович, проходивший мимо, подозрительно оглядел странников.
Старший ответил:
– Мы московские. Печатные мастера. Издавна я знаю доктора Скорину и по его зову прибыл в место Виленское, да вот, поди ж ты, что стряслось…
– А звать как?
– Тихон, Захаров сын, по прозвищу Меньшой. А се подручный мой, Петька Мстиславцев. – Он указал на своего спутника, застенчивого, молчаливого мальчика лет пятнадцати.
– Не во благовремении явились, – хмуро сказал Богдан. – Сам видишь, погорельцы мы ныне. А Скорины нет здесь более… Уплыл Скорина.
Он неопределенным жестом показал на реку.
Тихон также посмотрел на реку и, тяжко вздохнув, опустился на землю.
– Уплыл, говоришь?
– Да…
– Понятно… А мы вот к нему шли… Эх, незадача!.. И, подумав, обратился к товарищу: – Что же, Петруша… Придется обратно нам…
Богдан положил руку ему на плечо.
– Оставайтесь, коли пришли, – сказал он. – Куда вы пойдете?.. Не всегда так будет. Отстроим город. Жить будем. Друкарню наладим, книги снова друковать начнем, ребят малых учить. Нам добрые мастера надобны…
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|
|