 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Громов Дмитрий :: Эллисон Харлан :: Сименон Жорж Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Памятные встречи :: Гость :: Сожженная заживо :: Ярмарка Святого Петра :: Агафья :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Колумбы каменного века :: Запечатленный труд (Том 2) |
Витязь в барсовой шкуреModernLib.Net / Старинная литература / Руставели Шота / Витязь в барсовой шкуре - Чтение (стр. 8)
В чуткий слух не кликнет снова. Что дворец? В нем мрак мне дан. Знаю я, ты силен, молод. Лук с тобой, насытишь голод. Кто твоей стрелой уколот, тот сейчас же в смертном сне. Мудрость бога — всеблагая. Но, коль плача и стеная, Сын, умру здесь без тебя я, кто ж поплачет обо мне!» Шум раздался. Рой придворных. Воздух полон слов укорных. Рвут брады свои, в повторных удареньях скорбных рук. «Были мы тобой богаты», — молвят, — «с нами был когда ты. Ныне день для нас проклятый, — солнца нет и тьма вокруг». Увидав ряды сановных как родных своих и кровных, Царь в скорбях беспрекословных молвил: «Редок блеск лучей. Солнца нет, мы слабы в силе. Чем пред ним мы согрешили? Кто на битву, взмахом крылий, поведет полет мечей?» Все с скорбящим восскорбели. И затихли, присмирели. Царь спросил: «С слугой в том деле витязь был или один?» И пришел, сдержав рыданье, весь в тревоге ожиданья, И царю дал завещанье, мертвый в жизни, Шермадин. «Вот послание какое», — молвил он, — «в его покое Я нашел. И в смутном рое лишь рабы скорбели вкруг. Скрылся он своей тропою, никого не взяв с собою. Смерть мне! С этою судьбою жизнь мне — тягостный недуг. Прочитали завещанье. Снова долгие стенанья. И дает он приказанье: «В войске — черный цвет цвети. Будем в скорби с сиротами мы молиться, и с вдовами. Бог да сжалится над нами, и ведет его в пути».  24. Сказ о том, как вторично встретился Автандил с Тариэлем  Если месяц волоконце разовьет вдали от солнца, Смотрит ярко он в оконце, — если ж близко, бледен свет. Но бессолнечность для розы есть бесцветность, мгла угрозы. Как печальны наши грезы, если милых с нами нет. Вот, расскажет песнопенье, как тот витязь в отдаленье Отбывает, и кипение в горьком сердце, плач и стон. Едет, едет, обернется. Что, коль солнце, свет чей льется, Солнцем сердца там зажжется? В обомленьи меркнет он. В полуобмороке млея, обессилел он, немея. Только слезы, не редея, льют, не видит ничего. Где же помощь? Где подмога? Только скорбь терзает строго. Он не видит, где дорога, конь куда несет его. Говорит: «Моя златая! Без тебя изнемогая, Если будет мысль — немая, мысль — проклят ем назови. Сердце все к тебе стремится, хочет к милой возвратиться, Кто в любви, да подчинится он сполна своей любви. До того, когда мгновенье принесет соединенье, В чем найду отдохновенье? Я б себя убил сейчас. Я б ушел из жизни вольно. Ты была бы недовольна. И тебе бы стало больно. Лучше слезы лить из глаз». Молвит: «Солнце! Нежа очи, образ солнечной ты ночи Перед тем, кто средоточий есть единство, в бурях тишь. Ты, что всем телам небесным быть даешь в пути чудесном, За скитанием безвестным дай мне с нею быть. Услышь.  Для премудрых, в жизни сменной, образ бога ты нетленный. Помоги. Я ныне пленный. В кандалах железных я. Через горы и равнину я к кристаллу и рубину Путь держу, — сам, бледный, стыну. Ранит близь и даль моя». И «Прости» сказав покою, в плаче тает он свечою. Опоздать страшась, порою поздней едет между гор. Пала ночь, и звезды встали. Отдых в них его печали. С ней сравнил их в синей дали, с ними держит разговор. Он до месячного круга молвит: «Страстного недуга Огнь ты шлешь. Любить друг друга ты велишь. Страдать, любя. И бальзам даешь терпенья. С той, в ком лунное горенье, Дай мне с ней соединенье — через пламя — чрез тебя». Ночь была ему услада. День лил в сердце капли яда. Словно отдыха средь сада, ждал, когда придет закат. Видит ключ, остановился. До журчанья наклонился. И опять он в путь пустился, не стремя уж взор назад. В одиночестве так вдвое плачет тот, чей стан — алоэ. Хочет пищи все живое. Застрелил себе козла. Ел, зажарив. Стал бодрее. Лик воинствен, пламенея. Молвит: «Жизнь без роз беднее, и совсем не весела». Все о нем не расскажу я, как он ехал там, тоскуя, То отраду в сердце чуя, то скорбя о гнете зол. И не раз глаза краснели. Но уж путь дошел до цели. Вон пещеры засерели. Прямо к входу он пошел. Вон Асмат. К нему душою рвется. Хлынули струею Слезы. Радостью такою не зажжется дважды взгляд. Витязь прочь с коня скорее. Обнял. Сердцу веселее. И целует. Если, млея, ждет кто друга, встрече рад. Он спросил ее: «Владыка где?». И слезы льются с лика Юной девы. Горше крика безглагольная печаль. Молвит: «Чуть ты удалился, стал блуждать он, вовсе скрылся. Быть в пещере тяготился. Где он? В чем он? Скрыла даль». Столь был витязь огорченный, словно был копьем пронзенный, Прямо в сердце. И к смущенной обратясь Асмат, сказал: «О, сестра! Как некрасиво лгать тому, в ком все правдиво? Иль он клялся — торопливо? Иль, поклявшись, он солгал? Целый мир в ничто считал я. Клятву дал, ее сдержал я. В нем был мир, — и потерял я все, когда превратен он. Света нет мне никакого. Как он смел нарушить слово? Впрочем, что же? Рока злого властью весь я омрачен». Дева молвила стыдливо: «Прав ты в этот миг порыва. Но суди же справедливо, — и в пристрастьи не вини — Сердце может обещаться, — клятву выполнить, не сдаться, — Сердце вырвано, — скитаться должен он, сжигая дни. Сердце, дух и мысль — в слияньи. Сердца нет, — и те в скитаньи. Кто в том странном сочетаньи потеряет сердце вдруг, Он как вихрями носимый, от людей бежит, гонимый. Знал ли ты, какие — дымы, если пламени — вокруг? С побратимом разлученный, прав ты в боли огорченной. Но какой он был взметенный. Как скажу о пытке той? Изменяют здесь слова мне. Возопить могли бы камни. Та видна была тоска мне, под моею злой звездой. Еще не было сказанья о такой тоске страданья. Тут в скалу войдет терзанье. Влагу рек придашь ручью. Эта огненная пытка больше всякого избытка. А ума в любом не жидко, если кто другой в бою. Как пошел он, так, сгорая, молвлю я: «Твоя сестра я. Автандил придет, — тогда я что ж отвечу, побратим?» Он сказал: «Коли придет он, здесь меня легко найдет он. Молви: «Брат твой, — близко ждет он». Клятву я сдержу пред ним. Слово дал, не жди другого, не нарушу это слово. Буду ждать, хотя сурова пытка дней, что суждена. Коль умру, пусть похоронит, и свое: «Увы» обронит. Если жив я, значит, стонет дух, и жизнь уж неверна». С той поры я и доныне все одна в моей кручине. Солнце было на вершине, и сокрылось там в горах. Вся исполнена отравы, увлажняю грустью травы. Дух безумья — дух лукавый. Я забыта смертью в днях. Камень есть в краях Китая. Надпись там на нем такая: «Кто не ищет друга, — злая жизнь его, — себе он враг». Но зачем бродить по странам? Кто, как роза, был румяным, Ныне желтым стал шафраном. В путь к нему, — и всяких благ». Витязь молвил: «Осуждая, что бранил его тогда я. Ты права. Но глянь, какая также в этом боль моя. Раб любви к рабу другому я бежал, уйдя из дому, Как олень, тая истому, до ручья стремился я. Только он был сердцу нужен. С той, в ком нежный свет жемчужин С хрусталем, рубином дружен, был я счастлив без конца. И не мог быть с ней счастливым. Скрылся в беге торопливом. Богоравных тем порывом оскорбил, пронзил сердца. Царь, кому я сын приемный, от кого мой свет заемный, Перед ним я вероломный, бросил в старости его. В самом сердце окровавлен, беглецом он там оставлен. Божий гнев здесь будет явлен. Ждать ли доброго чего? В том, сестра, и тоскованье, что усердные скитанья Привели не на свиданье. А спешил я день и ночь. К свету шел — и нет мне света. Он ушел — и там он где-то. Сердце лаской не согрето. Скорбь не в силах превозмочь. Но уж больше нет досуга словом тешить здесь друг друга. Что ж, еще одна услуга: поищу и поброжу. Иль найду я побратима, или сам умру — и мимо. Знать судьба неотвратима. Что я богу сам скажу?» Так сказал он, скорбно-строгий, и пошел своей дорогой. Миновал он скат отлогий. За скалой прошел поток. Тростниками — до равнины. Ветр такой, что в ветре льдины. Заморозились рубины. Упрекал он в этом рок. И вздыхает он все чаще. «Бог всесильный, бог всезрящий. В чем же грех, меня чернящий? Разлучен с друзьями я. Для чего сюда заманен? О двоих я мыслью ранен. Сколь мой рок непостоянен. Да погибнет жизнь моя. Друг мне прямо в сердце кинул роз пригоршню, — иглы вдвинул. Эту клятву он низринул. С ним я ныне разделен. Если с другом я судьбою разлучен, я с мукой злою. Друг иной передо мною обесчещен, посрамлен». Молвил: «Это прямо диво: грусть и в умном говорлива. Ну чего ронять со срыва слез тот брызжущий ручей? А не будет ли виднее, поразмыслить, и скорее В путь к тому, чей стан стройнее, чем взнесенье камышей? Вот, обрызганный слезами, витязь кличет. Ищет днями. Ищет темными ночами. Вновь искать, кричать, чуть свет. Побродил он там на воле. Лес прошел, и дол, и поле. И не менее, не боле — трое суток. Вести нет. И исканье тут не гоже, ни к чему. Он молвит: «Боже! В чем я грешен? И за что же так тобой наказан я? Боже, боже, эта пытка превзошла размер избытка. Буквы огненного свитка — мне ли? Правый ты судья». Бледный витязь-привиденье говорил свои реченья, И взошел на возвышенье. На равнине тень и свет. В камышах там, у густого у куста, он вороного Видит. «Он там. Никакого здесь сомненья больше нет». Радость в витязе блеснула, сто в нем раз переплеснула. Сердце витязя скакнуло и притихло в тот же час. Роза — в красном сне богатом. Блеск стал блеск, агат — агатом. Мчится, ветром стал подъятым, не сводя горящих глаз. Тариэля увидал он, как не думал, не гадал он. Лик был смертно бледен, впал он. Зачарованней, чем ночь. Воротник — весь лоскутками. Головою — кровь ручьями. Смотрит тусклыми глазами. Он шагнул из мира прочь. Справа — лев лежал сраженный, меч, весь кровью обагренный. Слева, с шкурой испещренной, труп пантеры, бездыхан. Сам он, призраком могильным, слезы током льет обильным. В нем пожар огнем всесильным сердце жжет, и дик, и рьян. Взор задернулся, туманен. К смерти близкий, лик тот странен. Видно, в сердце юный ранен. Витязь кличет, будит слух. Говорит ему о встрече. И припал к нему на плечи. И напрасно нудит к речи. Брат являет братский дух. У объятого тоскою слезы стер своей рукою. Сел с ним. Речью огневою будит брата своего. «Сердце, что ль, в тебе остыло? Иль не знаешь Автандила?» Говорит о том, что было. Неподвижен взор его. Было все — как повествую. Вот смягчил тоску он злую. Душу чувствует живую. К Автандилу — долгий вздох. И признал, и обнимает. Брата братски он лобзает. Мир других таких не знает, — мне живой свидетель бог. «Брат», — сказал он, — «что, в чем клялся, что сдержать я обещался, Я сдержал, — не отлучался. А теперь, в томленьи дней, Ты оставь меня с тоскою. Буду биться головою. Как умру, покрой землею, тело скрой ты от зверей». Витязь молвит: «В чем страданье? Злого хочешь ты деянья. Кто любил, тот знал сгоранье, схвачен огненной волной. Средь людей ты исключенье. Уклоняясь от мученья, Мысля самоубиенье, взят ты, что ли, сатаной? Мыслишь — лучше, станет — хуже. Мудрый — дрожь не множит в стуже. Муж? Прилична стойкость в муже, и как можно реже плачь. Раз печаль идет волною, крепостною будь стеною. Кто в несчастьи, — он виною. Наша мысль для нас палач. Мудрый ты, а изреченья мудрых ввергнул в небреженье. В чем есть мудрость, в чем свершенье? Тосковать среди зверей? Помираешь из-за милой, — а себя сокрыл могилой. Будто слаб, — когда ты с силой. Раной тешишься своей. Кто ж любил, не знав сгоранья, ярких пламеней касанья, Кто о ком-нибудь терзанья не прошел, в огне часов? Молви словом достоверным: что здесь было беспримерным? Не лети же легковерным. Роз не встретишь без шипов. Молвят розе, в час цветенья: «Почему с шипами рденье, И прекрасной нахожденье не свершится без беды?» Роза дать ответ умела: «Сладость — с горьким, с духом — тело. Коль любовь подешевела, то — сушеные плоды». Если так цветок бездушный мыслит, мудрости — послушный, Где же ты прием радушный встретишь сердцу без борьбы? Жатву радости без горя, в мире с дьяволом не споря, Не сберешь ты. В приговоре наших дней — устав судьбы. Слушай, что тебе скажу я: на коня — и не тоскуя, В путь иди, с тобой пойду я. Не веди свою межу, — Лишь свою, с своим советом. Скорбь дана нам здешним светом. Верь, что прав я в слове этом. А уж лести не скажу». Тариэль сказал: «Немею, брат мой. С той тоской моею, Вряд ли дать ответ сумею. Обезумленный, я глух. Видит так твое сужденье, что легко терпеть мученье. Ныне — смерти приближенье. Вот уж я почти потух. Да, конец земному краю. И о ней я умоляю. С нею здесь не встречусь, знаю. Но любовного огня Свет живет. Здесь — разделенье, там — восторг соединенья. Да приходит погребенье. Бросьте землю на меня. Как любимую любимый не увидит через дымы? Мы в ином соединимы. К ней светло пойду туда. Встречу, встретит. В миг свиданья будет сладостным рыданье. Против слова увещанья, сердца слушайся всегда. Вот мое постановленье: смерти чую приближенье. Умираю, нет сомненья. Что тебе до мертвеца? Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся, — так и тело ждет конца. Что сказал ты, речи друга понимать мне нет досуга. Полн душевного недуга, вижу смерть, она близка. Жизнь лишь беглое мгновенье. К миру только отвращенье. Мне с землей соединенье. В ночь ведет моя тоска. Мудрый! В чем есть мудрость эта? От безумца ждать ли света? Сам будь полон я совета, твой совет бы взял, не лгу. Роза — в солнце. Солнце тает, — роза в грусти увядает. Друг меня да покидает. Уходи. Уж не могу». Автандил к нему с другою речью доброй и живою. «Нет, клянусь я головою. Делать этого нельзя. В том не лучшее свершенье — пожелать уничтоженья». Но напрасны убежденья. Слово падает, скользя. Наконец сказал: «Прекрасно. Если речь моя напрасна, Если внемлешь безучастно, что ж мне слово длить сейчас. Смерти хочешь? Без ошибки смерть придет. Мгновенья зыбки. Вянут розы и улыбки. Вянь». Блеснул слезою глаз. «Лишь одно мое моленье ты сверши. Есть где-то рденье Розы, — есть агатов мленье, — от всего укрылся я. Поспешил, всего лишился. И с царем я разлучился. От меня ты отделился. В чем же радость есть моя7 Не отвергни же сурово, а мое исполни слово: Раз еще тебя я снова пусть увижу на коне. Ты души был, ворожащим, похитителем блестящим. Не уйду же я грустящим. В этом будь послушен мне». «На коня!» И для моленья уж не нужно повторенья. Знал он сердцем без сомненья: не дружна с конем печаль. Тот тростник до конской шеи склонит лик, — и веселее. Радость в той была затее. Уж не рвутся стоны в даль. Молвил грустный: «Я поеду. Дай коня». В душе победу Чует тот. Идет по следу. Помогает сесть в седло. Он его не нудит ныне. Едут вместе по равнине. Гибок стройный. И в кручине стало легче и светло . Говорит. И блещут зубы. И коралловые губы Знают речи, что не грубы, а уходят прямо в слух. Стал бы юным тут и старый, слыша слово в свете чары. И смиряются пожары. И не так печален дух. Есть гашиш и для печали. Розы бледно увядали, — Видит витязь, ярче стали. Радость — зелье для ума, Для безумья — жалоб вздохи. Ну, дела не так уж плохи. Были разума лишь крохи, а теперь светлеет тьма. И гуторят эти двое. Молвит слово он прямое: «Изъясни мне, что такое на руке там на твоей. Это нежной той запястье, кем ты ранен? Что ж в нем счастье. Над тобою полновластье? Расскажи, — потом убей». Молвит тот: «В чем есть сравненье несравненного виденья? В этом жизнь, восторг, мученье. Это лучше мне, чем мир. Что земля, вода, деревья! Что людские все кочевья! В этом скрыта чара девья. Только с этим сердцу пир». Тот сказал: «Я мыслил верно. Ты ответил беспримерно. Но и я уж достоверно льстить не стану пред тобой. Бросить так Асмат — злосчастье больше, если то запястье Потерять. Быть без участья — выбор худший, не худой. То запястье золотое драгоценщик сделал в зное, И остыло неживое, и бездушна в нем игра. Для Асмат — отъединенье. Вот так верное сужденье. Но с твоей в ней есть сплетенье. И она твоя сестра. Связь меж нею и златою, для кого была слугою. Чрез нее и та с тобою, а прекрасна и она. Между ними единенье. Что же, ей лишь небреженье? Ну, шабаш. Твое сужденье — глубина совсем без дна». Тот ответил: «Справедливо. Речь твоя вполне правдива. Жаль Асмат. Без перерыва скорбь. Душой она с Нэстан. И меня все зрит такого. Жить уж я не думал снова. Ты терзанья огневого боль смягчил, но все — туман». Но, Асмат воспоминая, едет к ней. И речь живая Между братьями — как стая птиц в час утренней поры. Как скажу им восхваленья? Зубы — жемчуг, губы — рденье. И змея, оцепененье сбросив, смотрит из норы. Витязь молвит: «Для тебя я, ум и сердце раскрывая, С ними душу отдавая, всем пожертвовать готов. Но не будем трогать рану. И указывать не стану, Что подобен клад обману, если спрятан меж кустов. Так и мудрость, если ею сам я править не умею. Скорбен? Все ж тоской своею не обрежь теченье дней. Смерть придет и не обманет. Роза сразу не завянет. Бог позволит, — солнце глянет, лишь уверуй и посмей». Грустный молвит: «То ученье сколь достойно разуменья. Умный любит наставленье. Даже глупый им пронзен. Но и мудрость светит скудно, если мне чрезмерно трудно, И тебе ведь с этим нудно. На укор твой удивлен. Воск с огнем горячим сроден: Светит, — свет тот благороден. Но с водою он не сходен: в воду пал, и вдруг погас. Если в ком есть огорченье, он составит заключенье, Что в другом. Мое горенье мог бы ты понять сейчас. Все, что было здесь со мною, расскажу тебе, не скрою. Правосуден будь со мною, поразмыслив обо мне. Ждал тебя я там сначала. Но пещера раздражала. В ней простора было мало. Я к равнине на коне. Тростником мой путь измятым. Пробираюсь этим скатом. И с пантерой вижу льва там. Любовался ими я. Лик казался их влюбленным. Сразу стал я восхищенным. И лотом я был смущенным. Ужаснулась мысль моя. Здесь на скате, над равниной, были двое те картиной Двух влюбленных, сон единый. Лев с пантерой был мне мил. И потом меж них сраженье, и борьба, и озлобленье. Он за ней. Того виденья вынесть — я не в силах был. Раньше весело играли. В ссоре бешеными стали. Лапы резко ударяли. Смерть была им не страшна. Вдруг в пантере обомленье, словно в женщине смущенье. Лев погнался. Раздраженья в нем кипучая волна. Я не мог им любоваться. За любимой так погнаться? И терзать ее, и драться? Нет, такая удаль — срам. Меч блеснул мой обнаженный, и копьем он был сраженный. С головой своей пронзенной, он простился с жизнью там. Меч я в сторону бросаю. Прыг к пантере, и хватаю, — Я обнять ее желаю, в честь моей, в ком все — мое. Но на то движенье веры — рев и когти мне пантеры. Это было мне — вне меры. Тут убил я и ее. Я искал пожар тот страстный укротить. Порыв напрасный. И во мне тут вспыхнул властный гнев. Изранен весь мой лик. Хвать и в землю. Стихла злая. Вспомнил милую тогда я. Но душа — во мне. Страдая, разрешил я слез родник. Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль мою укрою? Жизнь мне бремя. Но судьбою присужден я длить мой час. Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне боится». Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ.  25. Сказ о том, как направились Тариэль и Автандил к пещере и как увидели они Асмат  Видеть это горе было — боль души для Автандила. Но сказал: «Еще есть сила. Потерпи. Всему есть час. Милосердье есть у бога, хоть твое страданье строго. Будь вам разная дорога. Он в любви не свел бы вас. Кто в любви, с ним злоключенье, в жизни знает огорченье. Но, узнав сперва мученье, знает после радость он. У любви свои законы: в смерть ведет, и будит стоны. Обезумлен ей ученый, — неученый научен». Так, поплакавши, отбыли. По равнине серость пыли. До пещеры путь стремили. Встречу им бежит Асмат. Были слезы, целовались. С плачем нежно обнимались И вестями обменялись. Верный верных видеть рад. Говорит Асмат: «Могучий боже! Ты, в ком гром и тучи. Ты, как солнце, лаской жгучей, нас наполнил, дал нам сил. Как, хваля, могу с хвалою достохвальной пред тобою Быть? Стократною слезою ты меня не истребил». Тариэль сказал, вздыхая: «О, сестра моя! Родная! Слезы вечно проливая, я скорблю о том же здесь. Знали радость, — с ней мученье. В том судьбы постановленье. О тебе лишь сожаленья, а не то б я в смерти — весь». Если жажда мучит злая, кто же здравый, пить желая, Брызжет, воду проливая? Слезы льются как ручей, Если влагу кто иссушит, смерть придет и все разрушит. Ах, печаль язвит и душит. Нет жемчужины моей». 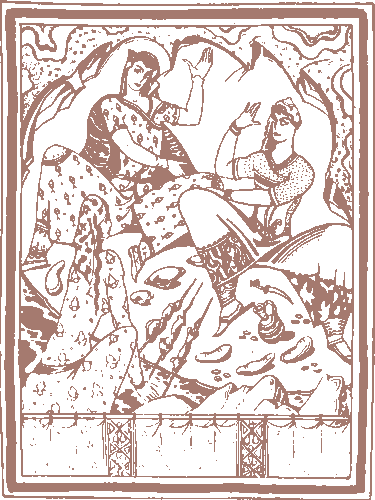 Также в сердце Автандила вспоминанье больно было. «О, заря! Златая сила! Без тебя живой ли я? Без тебя и жизнь томленье. Как сказать мои мученья? И какой тоской горенья сожжена душа моя. Роза как без солнца станет расцветать и не завянет? И каким удел наш глянет, если солнце за горой? Дух во мне единоверца со цветами. Вянет сердце. Все ж, есть где-то к встрече дверца. Каменей, но будь собой». Душу вздохом утишили, хоть огонь был в полной силе. Больше слов не говорили. В том же, сердцем, и Асмат. Жара также в ней не мало. Шкуру барсову постлала. Сели. В них печаль устала. И светлее говорят. Хорошо бы хлеба-соли. Да в такой живут тут доле, — Хлеба нет, а мяса боле, и поменее гостей. Тариэля угощают. Тело пищи не вмещает. Пожевал кусок, — бросает. И конец трапезе всей. Нет отрады в слове спора, — есть уютность разговора. Сердце с сердцем может скоро сговориться в час любой. Вот в беседе много чары. Замолкают тут пожары. И судьбы сносней удары в миге радости живой. Эту ночь те львы, герои, говорили про былое. День пришел, — беседа вдвое многословна и полна. Все друг другу рассказали, что там было в чужедали. Обещанья подтверждали, клятва вновь меж них дана. Тариэль сказал: «Словами не расскажешь, что меж нами. Долг отдам свой лишь с годами, бог порука, даст мне сил. Клятва клятву держит туго. Не забыть в разлуке друга. Это высшая услуга, — тут не пьяный говорил. А теперь прошу правдиво, ты сдержи полет порыва: Здесь не трут и не огниво, это пламя ты не тронь. Для тебя — твое горенье, тут закон миротворенья. Так иди до места рденья, — где твой солнечный огонь. Излечить меня уж трудно и ему, кем многочудно Создан мир, где свет нескудно, щедро царствует над тьмой. Разумел я тоже что-то до минуты поворота. Вот безумье, вот забота. Ныне бред — мой часовой». Автандил сказал: «Какого ждать ответа, если слово Полно разума живого? Ты как мудрый говорил. Но оспаривать я стану, что нельзя такую рану Залечить. Всему изъяну есть конец. Жди в боге сил. Для чего б, вас создавая, вас любовью обвивая, Бог вас, вечно разлучая, обезумил, в смерть гоня? Путь любви есть путь по бедам. Здесь тоска крадется следом. Но восторг вам будет ведом, — а не то убей меня. В чем же гордость человека? В чем он муж, а не калека? Боль терпеть, хоть век из века, и не гнуться с гнетом зол. Труден мир, да бог подмога. Научись же хоть немного. Знанье верная дорога. Не идет ей лишь осел. Так скажу тебе, дерзая. Слушай, будет речь какая. Мне позволила златая отлучиться. Молвил ей: «С сердцем я испепеленым. С ним я — помыслом бездонным. Что ж здесь буду огорченным? Только грусть — душе твоей. В этом слов пусть будет мало». И она мне отвечала: «Дружба дружбу увенчала. Этим я не огорчусь». И пошел я к дальним странам. Был не хмельным я, не пьяным. Что ж теперь? Вернусь с обманом? Покажусь пред ней как трус? Делай это — размышляя. Роза вянет, — засыхая. Польза в ней себе какая? А другой ей будет рад. Сам себе что сделать можешь? Только сердце растревожишь. А захочешь, мне поможешь. С братом братски будет брат. Где ты быть ни пожелаешь, там и будь себе как знаешь: — Мудро сердце, — отдыхаешь. Ум безумен, — закипай. Но в тиши и в боли крика сохраняй ты стройность лика. Не растрать всю силу дико, и гори, но не сгорай. Чтоб добиться нашей цели, чтобы весть принесть веселий, Год прошу с одной неделей. Я вернусь в цветенье роз. И сюда в пещеру это ликованье снов и цвета Донесет огонь привета. Вздрогнешь. Чу, залаял пес. Превзойду ли меру срока, ты же будешь одиноко Ждать меня, — в том воля рока, это значит — умер я. Это будет указанье, что захочешь, — дли рыданья. Или бросься в ликованье. Как захочет мысль твоя. Может быть, бужу печали? Ты — один, я в чужедали. Корабли ведь изменяли. Конь споткнется на скаку. Как узнать, где ждет потеря? Нет чутья, нет глаза зверя. Бог решит. И в бога веря, я вступаю здесь в реку». Он промолвил: «Продолженье слов — одно лишь утомленье. Для чего тут рассужденья? Нет вниманья, смысла нет. Если друг не за тобою, ты иди его стопою. И в конце, — что скрыто тьмою, станет явным, видя свет». А когда все будет явно, и увидишь ты подавно, Как здесь трудность своенравна, хоть блуждай иль не блуждай. Я снесу безумья бремя, хоть стучит мне молот в темя. Но, коль смерть придет в то время, как скажу тебе: «Прощай!» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|||||||