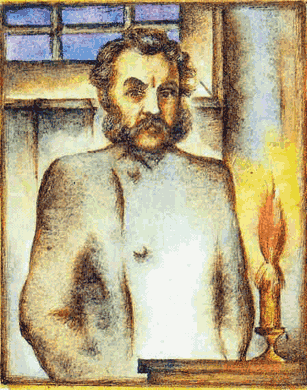Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском
ModernLib.Net / Биографии и мемуары / Рассадин Станислав / Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Рассадин Станислав |
|
Жанр:
|
Биографии и мемуары |
|
-
Читать книгу полностью (575 Кб)
- Скачать в формате fb2
(644 Кб)
- Скачать в формате doc
(258 Кб)
- Скачать в формате txt
(247 Кб)
- Скачать в формате html
(639 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|
|
Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СМОРГОНСКИЙ СТУДЕНТ
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА
124 листа, ненумерованные. Бумага голубоватая, в четвертку,
без водяного знака. Переплет серого коленкора
«Мы получили следующий некролог из Сибири:
Хотя несколько поздно, но тем не менее мы считаем долгом заявить об утрате, понесенной в нынешнем году Восточной Сибирью, в лице одного замечательного обитателя этой страны и уважаемого в этом крае общественного деятеля: 20 февраля 1869 года в Петровске скончался Иван Иванович Горбачевский. Малоросс по происхождению, Горбачевский в молодости своей служил подпоручиком в Черниговском полку и, будучи членом Южного общества, решением Верховного уголовного суда в 1826 г. был приговорен к смертной казни — отсечением головы. Но приговор этот был заменен пожизненною каторжною работою, которая, однако, впоследствии была заменена пятнадцатилетним сроком. По отбытии этого срока в 1840 г. в Петровском остроге, в Восточной Сибири, Горбачевский, вместо того, чтобы последовать за своими товарищами по общему с ним несчастию на поселение в какой-либо из городов Сибири, предпочел остаться поселенцем в Петровске.
Здесь он и пробыл двадцать девять лет. В 1856 году Горбачевский, вместе с прочими декабристами, получил полное прощение и возвращение прав по происхождению. В течение этого времени он сделался известен во всей Восточной Сибири: его прекрасный характер, обширный ум и благородное сердце, направленные на бесчисленные дела благотворения, приобрели ему в крае всеобщее уважение… Учреждение училищ, вопрос об улучшении положения заводских рабочих, а также разные предприятия, имевшие целью оживить местную торговлю и промышленность в видах улучшения нравственного и материального благосостояния населения, — все это находило в Горбачевском самый живой отклик и сочувствие. Все свои скудные достатки он обращал на добрые дела, причем нельзя не заметить, что мягкостью и добродушием его зачастую пользовались во зло некоторые лица.
Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали в Горбачевском честного человека…
В лице Горбачевского скончался последний декабрист, оставшийся еще в Сибири».
Из газеты «Голос» № 169 от 11 июля 1869 года. Подписано — «М»
С этого и начинаю. С конца. А с чего еще прикажете, если я и к концу-то опоздал безнадежно? Если не успел хоть глянуть на своего соседа, нежданного-негаданного, но, оказалось, близкого и славного? То, что и славен и близок, мне приоткрылось в самый первый день по прибытии сюда, в Петровский Завод, — «по прибытии для отбытия». Заботливый Вергилий из нижних полицейских чинов ведет меня на квартирку, куда не менее заботливое начальство его соблаговолило приткнуть новопоселенца Гаврилу Кружовникова. Шагаем мы с ним — он шагает, я тащусь, — и усатый, как говаривали в старину, водитель, приметив в ведомом одышливость, утешает, чем может: — Небось, ваше благородие, уж недалече. Вот до Иван Иваныча дойдем, поворотим, а там рукой подать… И видя, что я кручу головой в поисках столь непонятной для меня вехи, присовокупляет — да еще с такой изумленной укоризною, будто мы шагаем-тащимся не по кособокой улочке, которая, получив гордое имя: Большая, от этого не стала кособочиться меньше; нет, будто шествуем по Тверской или Невскому, и я, вахлачина приезжий, не возьму в толк, что дом, на который мне указывают, есть нечто такое, о чем не знать даже и неприлично. Английский клуб, допустим. Или того пуще — Аничков дворец. Поясняет — словом: — Да не дотуль, куда глядишь! Досямес! Иван-то Иваныч — эва, матерный! «Это же по-каковски?» — чуть не поперхнулся я. Но смолчал. Из-за той же одышки, которой нелегко достались петровские бугры, да и по причине другого недуга, неодолимой застенчивости, — и без того уже я угодил у моего провожатого в провинциальные недотепы. Вскоре, однако, все объяснилось само собой. В переводе с забайкальского на санкт-петербургский сие означает всего лишь: — Да не до того места, куда глядишь! До этого! Иван-то Иваныч — то есть понимай: дом-то Ивана Иваныча — вон тот, большой! Каюсь перед языком, усвоенным с детства и казавшимся лучше некуда: когда я слышу такое, наше столичное наречие представляется мне пресным и водяным.
Товарищи по университету, избежавшие моих странствий! А ведомо ли вам, что такое по-здешнему: мерзавка? Не угадали, коллеги: ложбинка, не больше того. А греза? И опять промахнулись: дурь, смешно выговорить, — хотя не дурью ли в самом деле оказались иные из наших с вами грез? Не к чему врать. Имя Горбачевского, промелькнувшее в забавном хороводе местных словечек, тут же и позабылось, — тем ли полнилась голова? Слишком был я оглушен разлукой с привычным кругом занятий, приятелей и с той женщиной, которую люблю так давно, так тайно и так безнадежно. Потому и тайно, что — безнадежно. Слишком был занят переломом судьбы, в который до странного ослепления не хотел поверить даже тогда, когда все уже стало бесповоротно ясным, ни во время следствия не верил, ни на самом суде — вот разве что Сибирь — этот ни на что не похожий, никакой фантазией не предугадываемый край, ошеломивший при встрече, заставил-таки поверить — именно этой своей непохожестью и непредставимостью, которая как бы прямо сказала: оставь надежду всяк, сюда попавший. Это другой мир. С прежним — кончено. Наконец, захватила ум и отвлекла от многого, если не от всего, насущнейшая необходимость обживать островок, куда меня выбросила волна — хоть уже и отдаленная, слабая, но происходящая от той бури, что была поднята желябовским делом, колыхнувшим целую империю. Словом, забыл — каюсь. А потом стал не то чтобы вспоминать сам, просто напомнили раз, другой, третий и уж не позволили позабыть. Вот и берусь за эту тетрадь; авось, отвлечет от дум, не дающих жить и дышать, и от постылых занятий в заводской конторе, куда я определен служить…
Саженей сорок, что-то около того по Матерной… тьфу: по Большой улице между домишком, где я состою пофатерщиком (вот и еще словцо, прельстившее меня в первый же день), и «Иван Иванычем». А еще между нами тринадцать лет, те самые, на которые я к нему и опоздал в своем 1882-м. Всего ничего. И с лихвой довольно, чтобы он стал уже, кажется, неприступным для моего понимания, — чем больше слышу и слушаю, тем меньше во мне уверенности понятливого человека. Весь Завод им до сей поры… чуть не сказал: населен, да почему б и не сказать? Больше того, перенаселен, и, куда ни сунься, с кем ни разговорись: «Иван Иваныч… с Иван Иванычем… ежели бы Иван Иванычу…» И то, что меня сильнее всего зацепило: — При Иване Ивановиче не смели лгать. Чем, как, почему он их околдовал? Пробую понять, пробираюсь на ощупь, тычусь, как непрозревший кутенок, но ощущение все еще таково, будто разделило нас не полтора десятка лет, а полтора столетия… Нет, и это не то. Тех, из российского осьм-надцатого, я, пусть и не задавшийся, но все же историк того времени, глядишь, понял бы легче. Итак, начинаю с конца. Записываю на случай подробности, какие уже удалось раздобыть. Смерть произошла от фистулы в боку, которая была вызвана ущемлением кишки (точнее выразиться не умею). Последние недели Иван Иванович мучился страшно, испытывал колики, частые приступы рвоты, не ел ничего, не спал, но мысль его оставалась ясной. Предвидя скорый конец, он загодя купил для поминок по себе рыбы и еще какой-то снеди, на какую хватило средств. Гроб делали на казенный счет, могила же тут, в Заводе, бесплатная (для меня с моей чахоткой льгота куда как утешительная). Похоронили его, как он и хотел, не на заводском кладбище, но поодаль, на вершине холма, чтобы он (собственные слова Горбачевского, сказанные купцу Борису Васильевичу Белозерову) мог видеть оттуда улицу, на которой ему как ни худо, а все-таки жилось. Видеть тюрьму с воли — так я его понимаю? Свои бумаги и письма Иван Иванович перед смертью жег. Это свидетельство Александры Луцкиной, бывшей — так, по крайней мере, уверяют, — внебрачной дочерью покойного декабриста. Ей же с братом ее Александром завещан дом и деньги, которых оказалось четырнадцать рублей. Дом вскоре продан, а с деньгами Горбачевский вечно маялся; даже с врачом, который пользовал его в последние дни, был принужден расплачиваться книгами. Из всего, чем владел покойный, драгоценностей (решусь на велеречивый слог) было три, и первая — его библиотека. Да если б его! То-то и дело, что она составилась из книг многих и многих товарищей, которые, покидая петровскую каторгу, дарили их остающемуся. И если всякое книжное собрание есть лицо и душа собирателя, то это было лицо и душа целого содружества. Задумаемся: какого!.. Вот — припомнилось ни с того ни с сего. Однажды мой однокорытник по меблирашкам небезызвестной мадам Чухно, душа-парень, рубаха-парень, прямой бурш из дерптских стихов Языкова, но притом с головой ясной и насмешливой, вздумал разглагольствовать: дескать, книги, пережившие того, кто их собрал, сами с ним как бы померли. Поди, говорит, догадайся, отчего дорогому покойнику взбредало в голову спрашивать у книготорговца то, а не это, — голова-то как раз и слетела, чего ж плакать по волосам? Дерево сгнило и рухнуло, зачем же о листьях жалеть? Ну и дальше в том же красноречивом роде. Положим, философствовал он в самых практических целях, весело волоча на развал семейные фолианты при нашей дружеской подмоге и смачно предвкушая, как мы вскорости на вырученные рублики развернемся. Но так или иначе, а слушал я его затейливую болтовню с полным моим благодушием. Разве лишь сожалел, что опять не слишком украшу своим присутствием приятную мне компанию — по нелюбви к горячительным напиткам да и по нездоровью. А через неделю — только через неделю! — горько и нежданно осиротел, вспомнил этот пустяк и вдруг устыдился, и рука сама потянулась перетрогать малое собраньице батьки моего Романа. Чудака и непременного неудачника из мелкопоместных Костромской губернии, который наградил меня не только родовой фамилией (на счет которой сам, люто небезгрешный по этой части, пошучивал, что, верно, идет она не от милой северной ягоды крыжовника, а уж, несомненно, от кружала), но и именем-отчеством, данным не иначе как в нескучную минутку. Гаврила Романович! Удружил, нечего сказать! Бедное ухо мое натерпелось-таки от шутейных упражнений, которыми всякий норовит тебе показать, что и он нелыком шит, что и ему ведом мой именитый двойной тезка. «Старик Державин нас заметил… Един есть бог, един Державин…» Будет, господа, будет. Надоело. Но вот начал я сдувать пыль то с одного, то с другого преславного сочинителя преславного столетия… Сумароков… Княжнин… Сама императрица… Радищев, злейший ее супротивник, — ведь первопечатное издание раскопал упрямый старик… Ясное дело, Денис Иванович, как же без него?.. И он самый, тот, кто был един и единым пребудет… Начал — и царапнуло меня запоздалое, судорожное понимание, почему блаженной памяти родитель мой и чудачил так, а не этак. Почему и не разговаривал, как все говорят, а возвещал — с амвона или хоть с подмостков. Почему и правду резал не так, как нынче, случается, все же режут иные, а как-то по-своему, по-кружовниковски, будто верил, что вот вывалит он ее с потрохами, и самый что ни на есть расподлец и мошенник тотчас ее, правду, уразумеет и восплачет от радости раскаяния. И даже в имени моем, всегда меня конфузившем и ополчавшем на отца: зачем, мол, и этого простого дела не мог сделать в простоте? — даже в нем, нелепом, я увидал смешное и трогательное отцово усилие и тут воплотиться. Выжить душою. Пребыть единым собой, и только собой — в век, в котором единым-то быть и негоже, в котором надо быть, как все… Эк, куда меня метнуло! Даже совестно. Ладно, вернусь к тому и к тем, о ком веду речь. Говоря короче (и проще, проще!), они, отъезжавшие, дарили книги ему, остававшемуся. А он передарил. Отдал для общего блага, Заводу то есть, и книг, рассказывают, набралось такое множество, что набитая-перенабитая кошева не раз оборачивалась между его домом и тем, что назначили под библиотечное хранилище. Рассказывают… Вот только не проверить рассказа, даже и тут я опоздал. Нету собрания. Самих книг — нету! Первым начал их пропивать забулдыга библиотекарь (мстительно пишу его фамилию и трижды подчеркиваю: Малков!!!), а то, что он не пропил, раскурили благодарные читатели. Да, да, так и есть, тут не до каламбуров: растащили, сердяги, на курево!..
Уймись, Гаврила Романов. Так каши не сваришь. Слава богу, не в беллетристы подался, это им по чину во гневе восклицать и в скорби воздевать трепетные длани. Знай, сверчок, свой шесток. Не трагедию сочиняешь — скромно пишешь в свою тетрадь. Это о драгоценности первой. Вот о второй. У Горбачевского сберегались портреты декабристов, писанные его другом Николаем Бестужевым, — кажется, около семидесяти. Со слов Александры Луцкиной, произошло с ними нижеследующее. Умирая, отец передал портреты ей, сказав: «Теперь у тебя будет кусок хлеба». Она и хранила их в сундуке, под замком, пока брат Александр, горчайший пропойца (клеваха — учусь, учусь по-забайкальски, утешает и утишает), не подобрал ключа и не выкрал всех портретов, намереваясь, понятно, пропить. К счастью, помянутый приятель Горбачевского купец Белозеров успел их перекупить у Александра, дав ему пятьдесят целковых. Где портреты нынче, мне в точности неизвестно; говорили, что в Кяхте, у кого-то из тамошних просвещенных миллионеров. Наконец, третье. Как святыней, дорожил Горбачевский головной щеткой, которую, прощаясь, подарил ему казненный Сергей Муравьев-Апостол. Он пронес ее даже сквозь обыски Петропавловской крепости, впрочем, как видно, не по-нынешнему нестрогие: прятал под шинелью. По слухам, сулили ему за нее немалые деньги, но он, жестоко нуждаясь, не согласился. Щетка исчезла бесследно.
Любопытная вещь — некрологи. De mortuisaut bene, aut nihil. О мертвых, стало быть, или хорошо, или уж ничего. Молчок. Сентенция по-человечеству, конечно, понятная, но сомнительная. Не намеревался ли тот, чей язык изрек ее впервые, сам уйти от посмертного суда и хитроумно погрузить в Лету заслуженную им при жизни худую славу? Что до меня, я так и вижу тут лукавую рожу какого-нибудь откупщика или, верней, слышу «цыть!» некоего цезаря, крепко нашкодившего подданным. Это так же коварно и так же неверно, как еще одна латинская мудрость: quod licet Jovi, поп licet bovi — что дозволено Юпитеру… Хотя история-то как раз подтверждает, что именно Юпитер не может, не должен позволять себе того, что — черт с ним! — пусть, на худой конец, творит бык. Беззаконная шалость небесного или земного бога разрушительнее стократ, а уж если молчать о злодействах всякого почившего, тогда и истории самой не будет. Так оно с одной стороны. С другой же… Узнай я про Горбачевского не больше того, что можно вызнать из искреннейшего и благороднейшего акафиста господина М., я, без сомнения, не медля, снял бы перед его памятью шапку. Но эту тетрадь заводить бы не стал. «Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали…» «Безмятежней аркадской идиллии», — невесело пошутил недавно почивший поэт. Да это пусть себе! Но ведь все и всё — это никто и ничто, круглое nihil, и эдакое bеnе или benissiino хоть кого обратит в общее место. Некрологическое bеnе, оно-то весьма часто и есть nihil, ничто. Или в лучшем случае нечто. А Иван Иванович, чую, был ох как непрост — с чего бы даже я, живущий в Заводе всего пятый месяц, слышал и слышу о нем столько разноречивого? Да, кажется, подчас и легендарного?
Пора наконец описать то матерное строение, с которым меня познакомил мой полицейский вожатый. И впрямь — внушительного размера и объема. Изба избой, но сложена из бревен, могучих, словно дорические колонны, уж не знаю, какого именно происхождения: лиственница ли это или сосна здешней породы. Попросился у новых хозяев взойти во двор — и он обширен и скорее похож на двор этапных острогов. По этому ли сходству или по иной причине при всем просторе остается ощущение неволи. Совсем невелик мой тюремный опыт, и, весьма вероятно, все дело во взвинченном воображении, но мне кажется, что большая клетка в некотором роде страшнее малой. В ней взгляд протяженнее, обзор шире, да. Но оттого ее железные прутья лучше и дальше видать, о ней не забудешь, и в ней не забудешься. Она — замкнутое пространство; пространство — но замкнутое. В ней есть дразнящий намек на простор, но тем отчетливее насмешка над этим намеком и над этим простором. Человек, построивший такой дом, что он в нем испытывал? И для чего именно такой построил? Пустили, спасибо, и в комнаты. Мебель, оставшаяся по большей части, как мне сказали, еще от Ивана Ивановича, напомнила мне ту, что была у гоголевского Собакевича: вся будто с маху сработана — бац! бац! — одним только плотницким топором. Огромен стол. Беленая голландская печь тоже весьма обширна. И все эти размеры странным образом угнетают… Или это я внес с собою в дом свое тягостное чувство?
Любезно приглашен к Харламнию Алексееву (он, будто нарочно, по батюшке, как и я, Романович), секретарю конторы, в которой имею честь и удовольствие добывать насущный хлеб. И пристально разглядываю дагерротип Горбачевского. Опять и сразу вспомнил Гоголя, у которого мебель как бы кричит: и я Собакевич! и я похож на Собакевича! Разумеется, не имею в виду ни малейшего уничижения — да и кому меня в этом подозревать? — но и вправду Иван Иванович словно рубил дом и ладил столы и стулья по своему образу и подобию. Крупная голова на крупном туловище. Волосы, усы, бакенбарды, почти сросшиеся под подбородком и больше зхожие на бороду, — все это мало сказать густое — дремучее какое-то, способное само по себе устрашить. Гривастый лев, да и только. Или, изъясняясь не столь зоологически, отставной корпусной командир, только не из нынешних и не из николаевских, не из тех, что усвоили манеру и внешность века, всех причесавшего под одну гребенку, а еще необнемеченный. Не укрощенный. Александровских времен, ермоловских кровей. И снова все, что с ним и на нем, под стать ему. Лорнет, больше похожий на портновские ножницы. Сюртук, тяжелый, будто кольчуга, потянувшая на иртышское дно Ермака Тимофеевича. Чубук — толстый, как бильярдный кий, и сами пальцы, его обхватившие, тоже толстые, заскорузлые, узловатые в суставах. Руки словно разбиты, расплющены работой, хотя Иван Иванович самолично ремеслами, кажется, не занимался. Алексеев — выученик его и прочих декабристов, открывших в Петровском Заводе школу. Он из наибеднейшей семьи, но с помощью добровольных своих учителей окончил курс в Нерчинском горном училище, после сам учительствовал здесь же, в Заводе, теперь, как сказано, секретарствует. Человек порядочный и милый, помнящий старое добро.
Не он один помнящий: — Иван-то Иваныч? Кому ж знать, как не нам? Годявый господин, а маракун — вострее его по всей Сибири не сыскать. Только по правде ежели… Прост был. Ровно робенок. Всякому куранту верил. За мельничное дело было брался, так кто ни попросит, сейчас: на, бери. Ну, а мужички наши, конечное дело… Нет, сам я в те поры мал был, аршин с шапкой, а другие, те, чего греха таить, пользовались. В долг-то возьмут, а отдать тужатся. Обожди, дескать, Иван Иваныч, до осени. А осень пройдет, весна накатит, опять новая нуда. Опять к кому? К нему, конечное дело. Как бы, Иван Иваныч, мучкой разживиться? Робята голодны, есть просят. И точно, бедность. Тот, бывало: — Да что ж, матушка ты моя… Он, смех вспомнить, мужичков и тех матушкой величал. — Что ж, матушка моя, да ведь ты за старую муку, кажись, не уплатил? Как же я-то буду? Мне самому надо пшеницу купить, где ж я денег возьму? — Нет, Иван Иваныч, — это мужик, значит, Иван Иванычу, — я, — говорит, — вам все старое уплатил. Намедни последние два пуда отдал. — Что-то не помню, матушка ты моя. А вот погоди, у меня где-то тут записано. И точно, записано, только где? Не поверишь, на стенке. Да чем? Мелом. Ну, конечное дело, пока Иван Иваныч к цифири своей подойдет, мужик, не будь мордофиля, спиной-то по ней поелозит, глядь, и долга никакого нету. Тот стекла свои наставит, поглядит, поглядит: — Да, — говорит, — что-то не найду. — Отдал, Иван Иваныч, видит бог, отдал! — Ну, коли нет записи, значит, отдал. Бери мешок, что с тобой делать? Так, конечное дело, всего своего обзаводу и лишился. Как у нас говорят, заробил два белых, а третий как снег. — А все ж баарин был. Чистый барин! Он и давал-то, как барин. Иной раз попросишь чего, а у него у самого нету, ну, ты и скажи: ступай, мол, с богом, на нет и суда нет. Так ведь застыдится, ровно ты его за срамным делом застал. Но уж коли давал, так давал. Не щепотью — широко давал. Сказано: барин!
Будучи родом из-под Нежина (и восходя по отцу к запорожцам, что, как говорят, по-детски ему льстило), Горбачевский изъяснялся без малейшего малороссийского выговора. Да и годы пребывания в Сибири не оставили следа на его чистейшем говоре, истинно русском, важном, вальяжном, таком, какой встречается (увы, встречался) разве у старых бар. Сам Алексеев, это мне рассказавший, не может о том судить как человек, родившийся и созревший в Забайкалье, но, замечает он, приезжавшие из России не раз удивлялись, слушая Ивана Ивановича.
«Государственный преступник Иван Горбачевский просит меня о прибавке ему пособия от казны.»
«Предписываю вам, милостивый государь, объявить государственному преступнику Горбачевскому, что он себя не так ведет, чтобы можно было что-либо сделать в его пользу, а потому и настоящая просьба его оставлена мною без уважения.
Причем не оставьте взыскать с него, Горбачевского, 90 коп. сер. за негербовую бумагу.
Генерал-губернатор, генерал-лейтенант
РУПЕРТ».
Копаясь в архиве заводской конторы, хаос которого мне и поручено преобразить хоть в некоторое подобие гармонии, я счастливо наткнулся на копии с двух разновременных документов. Это первый. О чем здесь речь? Что за провинности сыскались у Ивана Ивановича? Пока не знаю. Алексеев тоже затрудняется ответить. Очевидно лишь, что предписание направлено капитану Таскину, управляющему Петровским горным округом, и датировано… декабря (число смазано) 1846 года. Как бы то ни было, документ умилительный. Вот и комментарий к идиллическим уверениям о сплошь благоволящих генерал-губернаторах. А приписка какова? Каков законник Руперг, отнимающий у просящего? О Руперте (он Вильгельм Яковлевич) здешняя память крепка. Алексеев рассказывает с чужих слов: он сделал карьеру тем, что в 1825 году 14 декабря неотлучно торчал в Зимнем дворце на виду у новоиспеченного, а тогда еще даже и недопеченного императора. Верноподданно бездействовал и, стало быть, тем самым не мог быть заподозрен в противодействии. Этого хватило, чтобы Николай к нему возымел слабость: тут же расплатился с Рупертом пятью тысячами, а после даже крестил у него сына. Административные таланты означенного Руперта вполне в духе приписки о 90 коп. сер. Первым, что он приказал, иступив в должность генерал-губернатора Восточной Сибири, было: сшивать служебные бумаги не иначе как форменным шелком; выбелить на крышах трубы; строжайше воспретить обывателям крепить ставни веревочками. Но довольно о нем. Вот вторая из находок:
«СПИСОК
с предложения г. Председательствующего в Совете Главного Управления Восточной Сибири г. Управляющему Иркутскою губерниею от 19 Апреля 1850 года № 46. Государственные преступники Кюхельбекер…»
Прервусь, чтоб отметить кстати: речь не о поэте Вильгельме Кюхельбекере, а о его брате Михаиле.
«…и Горбачевский обращались к Генерал-Губернатору Восточной Сибири с просьбами: первый о дозволении ему заниматься по Байкалу рыбными промыслами н судоходством или вступить в должность штурмана компании пароходства на Байкале наследников купца Мясникова и других, а Горбачевский о дозволении ему заниматься на одном из золотых приисков Верхнеудинского округа, находящихся вблизи места поселения Горбачевского.
Просьбы эти Кюхельбекера и Горбачевского Его Высокопревосходительство Николай Николаевич…»
Еще запинка: Николай Николаевич — это сменивший Руперта знаменитый Муравьев-Амурский.
«…передавал на благоусмотрение и разрешшше г. шефа корпуса жандармов.
Ныне Его Сиятельство Граф Орлов уведомил г. генерал-губернатора, что имел в виду Высочайшие Повеления 1831 и 1845 г., коими воспрещается поселенцам из государственных преступников вступать в услужение к частным людям и допускать их к оборотам, которые превышают положение обыкновенного крестьянина и требуют продолжительных отлучек. Его Сиятельство не находит себя в праве ходатайствовать об удовлетворении вышеозначенных просьб государственных преступников Кюхельбекера и Горбачевского.
Об этом честь имею уведомить Ваше Высокородие для объявления Кюхельбекеру и Горбачевскому…»
Полагать надо, если бы с такой просьбой обратился преступник не государственный, а уголовный, сосланный всего только за казнокрадство или растление малолетней, отказа бы не было.
Заношу в тетрадь беседу с г-жой Е. О. Д. — Когда в 1854-м… Да, кажется, именно тогда к нам в Завод приезжал с супругой граф Муравьев-Амурский, он спрашивал о Горбачевском. Я девочка была, но помню: — Что поделывает наш косматый дикарь? Так, вообразите, его называли, — разумеется, шутя. А говорили, что, когда Иван Иванович служил в Петербурге, в Преображенском полку, он был истинный кумир у девиц и дам очень высокого положения. Красавец был, щеголь, дуэлянт. И даже многие великосветские барышни на него заглядывались и тайком вздыхали о нем. Я, помню, спросила его: — Иван Иванович, отчего вы не возвращаетесь в Петербург? А он: — Лучше быть первым в деревне, чем в столице последним! Вот был какой. Но я никогда, никогда не могла понять, отчего он все-таки не возвращается. Ведь у него там были такие связи… Горбачевский — преображенец? Несуразица наиочевиднейшая: он был подпоручиком 8-й артиллерийской бригады (а не Черниговского полка, тут и в некрологе неточность). И все же повременю обсуждать чьи бы то ни было сведения и какие-бы то ни было слухи. Рано. Не заслужил. Однако и в самом деле — почему не вернулся? Почему, отбыв каторгу, не заторопился, подобно прочим, позабыть ее и с непостижимым упорством выбрал местом для поселения тот же Завод? А когда объявили столько лет ожидавшийся манифест — почему не поехал за всеми в Россию? Что удержало вначале и держало до смерти? Любовь? Иные привязанности? Бедность? Что-то еще? Что?
Меня как ограбили. Я словно бы — вот она, вот! — держал в руках свою кровную собствеппость, глазел на нее, щупал, на зуб пробовал, и вдруг навалились, вырвали, поминай как звали. Пишу с отчаянием, так, что чуть не ломается перо: У Горбачевского были записки! БЫЛИ!!! Это, по всей видимости, достоверно: сам рассказывал Алексееву, что написал порядочную тетрадь, но в один прекрасный… кой черт!., несчастный день собрался куда-то уехать надолго, подумал, кому бы рукопись поручить, и, не надумав, взял да и швырнул в топящуюся печь. Вот и все. А сколько и чего мог припомнить и собрать этот вечный затворник, испытавший оба вида затворничества: сперва казенный ключ торчал в запоре с внешней стороны, потом его собственный ключ — с внутренней. У такого человека просто не могло не быть, как кто-то сказал, обратного ока. Сегодня я Горбачевского почти ненавижу. При Петре, кажется, в пору разысканий по делу царевича Алексея был издан указ, запрещающий под страхом смертной казни писать запершись. Мудро, должен признать. Указа давно нет, а след остался: нынче сами пишущие казнят то, что ими написано взаперти. Вот привычка, самая дурацкая из всех дурацких: пока не вспомню позабывшееся вдруг пмя или то, откуда выхвачена случайная строка, покою мне не будет. Целый день бормотал под нос: обратное око… обратное око… Слава богу, вспомнил. Князь Вяземский. Если не ошибаюсь, так: «Мне все одно…» Или: все равно? Ну, да это все равно и все одно. «Мне все одно: обратным оком (вот опо, треклятое!) в себя я тайно погружен, и в этом мире одиноком я заперся со всех сторон. Мне любо это заточенье, я жизнью странной в нем живу: действительность в нем сновиденье, а сны я вижу наяву!» Вспомянуто — и с плеч долой. NB — а умер-то Горбачевский не 20 февраля, но 9 января 1869 года; господин некрологист невзначай подарил моему соседу шесть недель земного существования.
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 7 дня
«С октября не выхожу из комнаты… что дальше будет, не знаю. В моей жизни, кроме скуки, горя — ничего не вижу и не предвижу лучшего; никого при мне нет близкого — все это разъехалось, разлетелось, все бегут из Завода, один по охоте, другие по надобностям. Я один остаюсь на месте, как гнилой верстовой столб, мимо которого мелькают люди и происшествия. Прощайте, буду писать…»
И.И. Горбачевский — В. А. Обручеву
И на-а штыке у чисаво-ова…
Все как повелось. Как во всякую ночь, когда ласковый пьяница Насонов добудет вольную копейку и, сделавшись не по преклонному возрасту шумен, возмутит тишину, то есть нахально вмешается в неумолчно-однообразный шум железоделательного завода, к которому ухо так приучилось, что стало принимать его как бы уже за самую тишь. Черт бы с ним и на этот раз, да только-только отпустила боль и удалось наконец забыться. Конечно, и дальше все воспоследует, как оно и должно воспоследовать. Забрешут псы… так и есть, брешут… грохнет соседская ставня… точно так, грохает, и проникновенпо-сиплый со сна бас доменного мастера Иродиона Бывших изъявляет благородное негодование в выражениях, вполне достойных случая. Чу! — как пишут поэты. Затаился певец. Неужто дрогнул и отступил? Сварливо скрипнула ставня, которую затворил, отругавшись, немузыкальный доменщик, псы успокоенно приумолкли — и сразу радостно заторопились неверные шаги, и нетихую заводскую тишину опять разрезало удаляющимся, но победным:
Горит полночная-а звезда…
Иван Иванович рассмеялся тихонько, боясь потревожить холодную гадину, которая свернулась где-то в самом низу живота. Молодчина, старик. Есть еще порох. Живем. Эта песня давно тревожила его по-особенному. Он услыхал ее уже на поселении от новопригнанных каторжан, и певун-кандальник, исхитрившийся и в страшной своей одежке выглядеть лихачом-кудрявичем, помнится, пресерьезно уверял его, будто сочинитель песни — из разбойных знаменитостей. То ли небезызвестный Гусев, толи, выше бери, сам Ванька Каин, который, как слышно, и впрямь распустил по свету не один десяток песен; даже «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка» и та, говорят, его. Разбойники так разбойники, что о том толковать. И вдруг время спустя, когда Иван Ивапович гостил в Селенгинске у сердечного друга Мишеля Бестужева, в его семейном просторном доме, где, однако, встретившимся приятелям никак ие сыскать было уединенногоуголка, куда то и дело не заглядывали бы запятая хозяйством казачка-жена, трое резвых детей и старуха-няня, сбившаяся с ног от их резвости, — так вот, там-то средь разговора к случайному слову пришлось, что громко известные варнаки тут ни сном ни духом. А про часового, про штык и про все прочее сочинил Мишелев петербургский знакомец, с каким видались они у покойного Рылеева, — полковник Глинка. — Который же Глинка? — полюбопытствовал тогда Горбачевский, и Бестужев не удержался обругать его за то сморгонским студентом. — Каким, каким? — опять не понял Иван Иванович. И уж тут Мишель, празднуя полное свое торжество, картинно развел руками, не упустив при этом возможности дать мимоходом ловкий и ласковый подзатыльник малолетнему сынишке, в ту минуту тащившему у него из-под руки рукописный лист, дабы превратить эту ненужность в кораблик или петушка. После чего и разъяснил, напустив на себя нестерпимо скучающий вид, что, во-первых, гостю всенепременно следовало бы знать, что под Вильной, в местечке именем Сморгонь, Радзивиллы держали — а возможно, и держат, пес их разберет, — академию для медведей, каковых, обученных разным кунштюкам, потом рассылают по всей Европе. И, стало быть, eго непонятливый собеседник и есть не кто иной, как медведь, сидящий невылазно в своей петровской берлоге, и, сверх того, покамест медведь необученный. — Видать, потому и сижу в Петровске, что до Европ не созрел, — собрался было лениво парировать Иван Иванович, но Бестужев выговорить не дал, присовокупив, что, во-вторых, не будь он медведем и невеждою, то мог бы слыхать, что полковник Глинка состоял для поручений при графе Милорадовиче, имея притом касательство к тайному обществу. Не настолько, впрочем, близкое, чтобы разделить сибирскую их судьбу: отделался ссылкой в Петрозаводск. А стихи сии, вопреки мнению легковерных обитателей захолустий, из которых их тщетно выманивают разумные друзья, Глинка сочинил не только что сам, но — тут Бестужев наконец бросил дурашливый тон — к тому ж словно бы и про себя самого. — Про нас. Уразумел, медведюшка?
Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная луна.
С того разговора и угнездилось это в его памяти, уж такой нестихолюбивой. С чего бы? Понять это Иван Иванович не мог, но какая-то загвоздка тут, верно, была. Он припомнил сейчас… Вот оно:
он припомнил… Вот то, что смущает автора повести, и потому он сейчас попробует выйти к читателю как есть и в чем есть, ни за кого не прячась и ни в кого не пытаясь перевоплотиться. Автора мучат сомнения, и порождает их его герой. Порождает именно тем, и только тем, что был. Был, жил, существовал, и вот эта его несомненнейшая реальность давит на сознание автора, а может быть, кто знает, и читателя? Во всяком случае, первому как-то вроде даже совестно писать: «Он подумал, что… Ему показалось, будто…», у второго же всегда есть право усмехнуться: дескать, поди проверь, что там на самом деле казалось и думалось. И даже поймать автора на слове: совестно, а все-таки пишешь! Да, пишем (пишу), потому что жгуче-любопытно вычислить или хоть догадаться — по обрывочным сведениям, по полузатоптанным следам, — что же именно «он» мог думать о том-то и чувствовать тогда-то. И важно, нужно восстанавливать судьбу, заполнять неизбежные провалы исторической памяти за неимением лучшего материала своим вымыслом, который с деликатной поправкой называют домыслом. Важно. Нужно. И все же… У художественной литературы есть право, щедро дарованное и историческому ее жанру: воображать то, чего не было, но могло быть. Право счастливое, которым словесность и держится, но у писателя, прикасающегося к истории, есть еще и простая обязанность: узнавать, как jue было. Узнавать, трезвей трезвого понимая, что всего и с абсолютной точностью никогда не узнаешь, — что ж, если путь постижения нескончаем, то и пойдем по нему до конца, которого нет. Юрий Тынянов говорил: «Там, где кончается документ, там я начинаю». По скромным силам автора этой повести, да, говоря по правде, и согласно его твердым намерениям, он не может этого повторить. Он начинает и кончает вместе с документом. И пробует нечто домысливать (вернее, осмысливать) в его четких пределах, покорно соглашаясь выглядеть ограниченным, но не чем иным, как его, документа, границами. Поэтому автор не останавливается перед тем… да что там! Просто вовсю стремится заполучить возможность время от времени прервать ход рассказа и ввести в книгу то подлинное письмо, то лист протокола, то императорское предписание и т. д. и т. п. Хотя чего-то из этого ею герой не мог в точности помнить, чего-то и вовсе даже не мог знать. В одном знаменитом спектакле по знаменитой пьесе знаменитый режиссер в самый мучительно-забористый момент зажигает свет в зале. Скандальное нарушение законов театра. Встряска. Пробуждение от эстетических переживаний — да, пробуждение — ради переживаний только этических, в чистом их виде, в нагом обличье. Чтоб люди очнулись от зрелища и осознали увиденное, прежде чем начнут автоматически аплодировать. В очень относительном смысле те документы, которые, где понадобится, вклинятся в текст, должны играть роль того же отрезвляющего света. Разумеется, автор хотел бы, чтобы читатель доверял и предположениям его, и догадкам. Но он несравненно более хочет, чтобы читатель не забывал: все это в конце-то концов подсобные средства для рассказа о том, кто был, и о том, что и когда с ним было — с суровым и милым Иваном Ивановичем Горбачевским (1800–1869). Итак… Он припомнил сейчас, что ведь и те каторжные тянули напев не про какие-нибудь еще, про невские башни, которых и по всей-то Неве — раз, два да и обочтешься, а вблизи городского шуму одна только Петропавловская и есть. Отчего ж тогда, сразу он на нее не подумал? Оттого ли, что услыхал песню из грешных уст меньших братков Ваньки Каина, которых не удостоили бы ни куртин, ни тем паче Алексеевского равелина? И, заговаривая стерегущую боль, полубессмысленно нашептывая привязчивые слова, он вдруг зацепился за три из них — или это они зацепили его, рванув и выдрав тройным своим зацепом больной кусок памяти.
Горит — полночная — луна.
Не так ли оно и было? Он как бы сразу увидел черную февральскую ночь, первую, которую провел в крепости, — впрочем, и другую тоже, июльскую, безлунную, прозрачную и почти призрачную. Тогда он, сидя уже не в Невской, а в Кронверкской куртине, углядел из зарешеченного окошка, но горькому счастью, всего лишь до половины замазанного белой краской, как повели к валу пятерых. Случиться же такому, что как раз напротив его окна, ни левей, ни правей, точка в точку, у Михаилы Бестужеву-Рюмина запуталась цепь от кандалов, так что он не мог и ступить; унтер беспорядочно дергал ее, цепь мелко и часто брякала, Бестужев, желая помочь, поднимал одну и другую ногу, офицер торопил унтера злым полушепотом; а они все стояли, поджидая, чтобы идти — куда? — и он стоял, подпоручик Горбачевский от роду двадцати пяти лет, которому через несколько часов надо было уже стать бывшим подпоручиком, тянулся на носках, чтобы глаза приходились поверх белой неровной кромки, и плакал, и прощался — с Муравьевым, на которого, бывало, ревниво сердился и которого, неохотно признаваясь себе, обожал, с мальчиком Бестужевым-Рюминым, с теми тремя, которых в эти мгновения видел в первый и уж в последний раз… Как, бишь, брат Насонов? Полночная звезда? Нет, не так. Не звезда, не звездочка, не родная хохлацкая зирка, которых в ночной степи под Нежином как капелек в океане, — тут само генеральное светило, само диво двурогое не разгуливает по небу, а обоими рогами крепко сидит на штыке. Сама вольная воля — в неволе, как и он, петропавловский узник, и кусок дальнего простора, жадными молодыми глазами увиденный сквозь решетку, первую из многих в его жизни, оказалось, не зовет, не манит, а насмешливо обозначает судьбу, в которой больше простора тебе не будет. И, как железный пыточный обруч, сжимает голову тоска, устрашающий признак безумия: а ну как их и вовсе нету — ни широкого неба, ни вольного мира, — один только дразнящий обман? Декорация на театре? Уже в каторге, в Заводе, старый приятель Яков Андреевич, славная ребячья душа, заговорщик и офицер из самых дерзких и верных, повредился в рассудке: приметили, что сбирает с обеда и прячет хлебные остатки. Сторожа, увидав, что у него по углам плесневеют сухари, донесли по начальству; у того, натурально, явилась заполошная мысль: не побег ли готовит? А в темную голову вступило совсем другое, ей-то мерещилось, что грядет и вот-вот нахлынет всемирный потоп. — Mania Robinsona, — припечатал тогда Дмитрий Иринархович Завалишин, по хоть сказал словно с усмешкой или, по крайней мере, не проявил особенного участия, однако сказал верно. Странность, казалось бы: это потом, на поселении, затерявшись и вправду наподобие робинзонов, иные отчаются и пропадут, но в эту пору они были вместе, и власть, рассудившая собрать их всех под одной тюремной кровлей, чтобы надежнее надзирать над ними, сама того не понимая, их спасала. — Нашему Незабвенному на Петровский каземат божий перст указал, — заметил в ту же их встречу Мишель Бестужев, на сей раз вовсе не располагая выглядеть остроумцем, и добавил уж вовсе серьезно, точно диктуя: — Завод дал нам политическое существование за пределами политической смерти. А Иван Иванович, напротив, не удержался от каламбура, по правде, не слишком ловкого: — Кабы царю кто сказал, что это бог о нас печется, он бы ему этот божий перст зубами отгрыз. И вот в пору, когда товарищество лечит дух, а Большая артель, выпестованное дитя их деловой сметки, поддерживает плоть, то бишь кормит, одевает, обувает и лечит, бедный Андреевич заболевает безнадежно — и чем? Страх покинутости мучит его, призрак беспомощного одиночества — такой, может быть; разверзнутся хляби, затонет мир, останешься средь океана, простору хоть залейся, а ты все равно что в одиночном каземате. Никто не окликнет. И не поможет никто. Mania Robinsona? Что ж, так и есть, только остров не в жарких морях, а па студеной Неве. И зовется — Заячий. На нем-то, в крепости, и затомилась впервые, замутилась, заболела у Андреевича душенька. …И на штыке у часового горит полночная луна. Это — неволя. Угадал арестантскую тоску стихотворец-полковник. Угадал. В самую боль угодил. Таким и был всегда мир Горбачевского — двор да штык, даже когда штыка не видать, — с тех самых пор, как началась его ссыльно-каторжная жизнь, остановившаяся в здешнем богом забытом месте. Да что бог, малосведущий, как все самодержцы — ох, досталось бы за неблагочестивую вольность от Оболенского! — когда всероссийские почтмейстеры шпекины, которым за то и деньги платят, чтоб не забывали, ни в какую не верят, что прозябает же где-то на белом свете и горемычный Петровский Завод. И вот почта, назначенная сюда, скачет, куда только ей или им вздумается. То в Петровск Саратовской губернии. То в Петрозаводск Олонецкой. А то даже и в Петропавловский порт, в самую Камчатку, — впору географию изучать по конвертам, когда они в конце концов добредут, куда посланы…Еще до того, как почувствовать, Иван Иванович словно бы услышал: откуда-то снизу начинает подползать тошнотная боль. И, сдается, покруче вчерашней. Та еще была, по-заводски говоря, Марья-икотница, милосердная, как оно и положено нежному полу, а теперь как бы не навалился драгоценный тезка, Иван-таскун. — Говорила ж я вам, Иван Иваныч, нелепно делаете! Было б поперву, а то ведь и запрошлый раз то же. Коли б знала ваша сестрица, никогда бы вам эту окаянну не присылала. Сущий младенец, право! Что на глаза, то и в рот! Так давеча с суровой жалостливостью его корила Ирина, и возразить было нечего. Да и сил не было возражать. Он только мягко спровадил подругу: — Твоя правда, Ириньюшка. Оплошал. Ты ступай себе, ступай, голубчик, я полежу… Вот уже больше двух десятков лет минуло, как пригожая староверка, молодая вдова, у которой он в ту пору жительствовал в доме, отчего-то выбрала его, а не кого иного, и он до сих пор не понимал, отчего именно. Петровские женихи, из самых завидных, тогда настойчиво обивали смазными сапогами ее высокий порог, — и то сказать, за такой бабой мужу самое житье. Иван Иванович до сих пор ясно помнил, как она впустила его, пришедшего воскресным днем высматривать квартиру, в свой двор, поклонилась низко, но с тем достоинством, какое он давно приметил у сибирских раскольниц, согнула стан, ровно над жнивьем, распрямилась степенно — молода, всего двадцати с малым, хороша собою, нарядна по праздничному делу и опять-таки по староверскому зажиточному обычаю: сарафан пунцовый, кисейная кофта с пышными рукавами, толстые русые косы под алым повойником… Но смерти супруга, бывшего много ее старше, смирного, работящего, способного удержать и приумножить копейку, она обходилась с хозяйством, как умела, и, надо признать, умела-таки. С садом и огородом управлялась сама, без работников, сама же варила, солила, коптила, мариновала для заводских господ, сама была голова дому и себе, а вот, пойми ее, связалась с ним, который ни достатка ей не принес, ни под венец не повел, полагая себя никудышным мужем, и ведь любит, даже ревнует по сей день, — его, старика. Когда несколько лет назад он сдружился с юной дочкой заводоуправляющего Лизочкой Дейхман и сам шутил над своей привязанностью, именуя ее
изнывающим платонизмом, Ирина его ревновала люто, не слушала увещеваний, смугло мрачнела, едва заходила речь о голубоокой Эльзе, как прозывали Лизочку сосланные в Завод поляки, и, кажется, бог знает, чего ей стоило, чтобы не ставить на стол самовар или тарелку швырком, а сохранять природное свое достоинство. Что же касается до
окаянны, по-ирининому, а по-настоящему сои-кайенны, петербургского гостинца от сестры Анны Ивановны, то и впрямь согрешил, старый лакомка, польстился на забытый вкус, нечего отпираться. И главное, всегда был умерен, еще и кичился умеренностью — тому ж Оболенскому похвалялся в письме, что целый день съедает разве одного цыпленка да пьет чай с грошовой базарной булкой. За русскую привычку пить квас и за ту как за развратную жестоко укорял кроткого Евгения Петровича. Только не в сое дело. Пусть уж верится в это Ирине. — У меня есть такая способность — не спать ночью, — молвил как-то Завалишин в обычном своем торжественно-таинственном духе, и Иван Иванович не сдержался, прыснул. Хорошо еще, догадался вывернуться: так, дескать, сторонняя мысль набрела. Да, впрочем, тому все равно в голову бы не пришло, что его слова могут показаться смешны. — У меня есть такая особенность… — начнет, бывало. Заглянет тебе в глаза со значением, словпо оценивает, стоит ли на тебя тратить столь важное сообщение, бережно вслушается в себя самого и, помолчан, добавит, к примеру: — Терпеть не могу комаров. Чертовски кусаются! Ах, Дмитрий ты мой Иринархович, милый! С кем ты сейчас воюешь, кому не даешь житья в Россия, в которую, слыханное ли дело, тебя выслали из Сибири за то, что донимал критикой деяния генерал-губернатора Муравьева-Амурского? И ведомо ли тебе, что твой петровский затворник сейчас берет у тебя запоздалые уроки, пробуя самую беду свою — неумолимую бессонницу обратить в способность возвращать себе отжитое?.. Горбачевский прикрыл глаза, словно и боль от этого должна была притихнуть, и неожиданно впрямую столкнулся с взглядом черных бусинок, перекатывающихся в узких щелках. Юноша, да нет, просто мальчонка. Шелковая изумрудная шубка; шапочка оторочена бобром и преображена голубым стеклярусом на манер театральной короны; сабля с серебряным темляком на боку; на груди золотая медаль на анненской ленте — Азия, играющая в Европу, простодушие, перенимающее ухватки чинного петербургского обычая. Застыв, как бурханчик, он сидит в коляске шестериком, на козлах и на запятках — трое будто окоченелых бурят в слепяще рыжих лисьих малахаях; сидит с той детской важностью, которая, как ни пыжься, не дастся никакому взрослому и в которую можно играть только ребенку, воображающему себя взрослым и важным. Сидит недвижим, азиатский цареныш, побледнев от исступленного любопытства, и бусинки в дикарском ужасе и младенческом ликовании катаются по белокожим лицам пришлых людей. И они смотрят на мальчика, улыбаясь, отходя душой. По порядку, сморгонский студент, по порядку… Было, как и бывает перед дальней дорогой. Жалостливо глядящие бабы со щеками, подпертыми правой ладошкой, — жест, по которому всегда признаешь русскую женщину, живет ли она под чухонским небом или загнана за самый Байкал. Мужеский пол, ритуально насупившийся сообразно моменту. И — как эмблема ссылочной стороны, как знак причудливой ее отлички — галльский орлиный нос с ноздрями, вырванными по-российски. Старый Перейс, служивший некогда в армии Кондэ, потом сменявший Францию на Россию, арестованный на новой родине за дуэль, бежавший, убив часового, судимый, битый кнутом, сосланный, — все при матушке Екатерине! — эта читинская достопримечательность с неутраченной величавостью выступает из пригорюнившейся прощальной шеренги, выводит за руку, будто малого, широкобородого сына и говорит как в расиновской трагедии: — Поклонись этим людям, дитя! И слезы странно текут по его лицу, сворачивая ручейками в уродливые дыры рваного носа и скапливаясь в желобке над верхней губой. Чита провожала их слезами: плакали люди, сочились и небеса. Люди плакали, частью жалеючи несчастненьких, как жалели бы и распоследнего вора, попавшего под стражу, частью же так, как плачут, провожая только тех, от кого видели добро. А добро — было. Когда их, кого власть называла «государственные преступники», а общество почти сразу окрестило именем «декабристы», привезли в Читу, она была захирелой деревушкой заводского ведомства из малого числа домишек, глядевших косо и исподлобья, как глядели на прибывших и сами их обитатели. Три года облагообразили Читу так, словно декабристов доставили сюда не отбывать каторгу, а с единственной целью улучшить архитектуру и научить жителей опрятности, — дело сделали деньги, которые одна сторона, но стесняясь, запрашивала за бедный товар и немудреные услуги, другая, не торгуясь, платила. Да и уходя, оставляла внушительные приметы своего пребывания: новоотстроенные жилища коменданта и дам — Болконской, Трубецкой, Анненковой. Не торговались и тут: Елисавета Петровна Нарышкина, свой дом купившая и перестроившая, отдала его за две сахарные головы. Что ж до расплакавшегося неба, это, увы, не было ни поэтической фантазией, ни слезами скорби, которые спасителю вздумалось проливать над их незадачливой судьбой. Начало августа 1830 года выдалось невиданно дождливым, даже речонка Чита вздулась в подражание рекам более именитым, и все шестьсот с лишком верст до Петровского Завода, все сорок шесть дней пешего путешествия напоминали путь армии, принужденной то и дело форсировать водные препятствия. Это, впрочем, радовало сердце генерала Лепарского, который, красуясь на белом, как нарочно, коне, у каждого ручейка приказывал наводить по всем инженерным правилам переправу; и, когда трое, Якушкин, Завалншин и Вольф, наскучив ждать, просто-напросто отправились вброд, oн подскакал к ним и закричал, как человек, которому нанесли личную обиду: — Господа! Куда вы? Что за безрассудная отвага? Если вы утонете, то вам ничего, а знаете ли, как придется отвечать мне? — Le vieux coursier a scnti l'aiguillon
,— смеясь, заметил Ивану Ивановичу Оболенский; он подразумевал то, о чем и сам генерал не уставал напоминать: — Когда я, миновав все затруднения, привел в Сибирь польских конфедератов, то государыня… Как былой кутила с неизлечимой подагрой, старчески прослезясь, воскрешает в слабеющей памяти молодечества юности, так добродетельнейший генерал-майор Станислав Романович Леиарский нес в сердце дорогое воспоминание. В девяностых годах ему, поляку по рождению и строгому католику, было доверено сопровождать пленных соратников Костюшки и Юзефа Понятовского, ссылаемых за возмущение против российской царицы, и он с наивностью добросовестного служаки рассказывал, не очень понимая, чем и перед кем хвастает, к каким остроумным уловкам и к каким успокоительным посулам приходилось ему прибегать, пока не завлек земляков в безопасную глубь империи. Стародавний его подвиг и подсказал памятливому Николаю назначить Лопарского, безупречного командира Северского конноегерского полка, комендантом Нерчинских рудников. Теперь старый конь в самом деле почуял шпору… и взыграл. Авангард. Арьергард. По бокам вдоль дороги — буряты, каждый из которых, кажется, чуть шевельнись, выхватит из колчана стрелу да и пустит тебе между лопаток: им было внушено, будто стерегут колдунов и кудесников, и столько наговорено страшного, что они, как потом признавались сами, ожидали увидеть уж никак не людей, а драконов с хвостами и крыльями, которые, того и гляди, упорхнут в поднебесье. Быть может, даже разочаровались, когда ужасного этого чуда не случилось. Словом, то ли действительный страх перед ожидаемым злоумышлением, то ли старческая игра в солдатики, — скорее, пожалуй, второе, ибо суровый порядок далеко не соблюдался. Да и вовсе уж бесчеловечно было бы соблюдать его теперь. Из Читы многие выступали в дурном расположении духа: обжились, притерпелись, семейные обзавелись домом, к тому же перевод в новоотстроенный каземат означал крушение лелеемой надежды на цареву амнистию. А вот поди ж: путь из тюрьмы в тюрьму был радостен, как только может быть радостно внезапное мгновение свободы, — чем оно короче, тем больше спешишь им нарадоваться. Человек дышит, не замечая, что дышит, пока ему достает воздуха. Путь из Читы в Петровский был глотком меж двумя задыханиями. Было вольно — ко всему и краса Читинской долины,
сада Сибири, как окрестил ее кто-то, как бы торопилась обилием и цветистостью, почти чрезмерной, насытить глаз, которому предстояло скоро свыкнуться с бедностью природы петровской, — и даже на начальников эта воля не действовать не могла; в каземате легче быть строгим, там тюремщикам уж подлинно стены помогают. Было вольно. И весело. Они шли, разделенные на две партии, по разрядам, которые положил им четыре года назад Верховный уголовный суд. В первой были наказанные снисходительнее, кому соответственно была воздана и меньшая честь, ибо их сопровождал всего лишь племянник генерала: плац-майор Осип Лепарский тож. Вторую партию составляли уже те, кого признали закоренелыми и удостоили присмотра самого коменданта. Шли каким-никаким, но порядком; на дневках же, в шестах, где для них загодя были расставлены войлочные юрты, все и всё мешалось, и у вечерних костров язык пламени вырывал из тьмы самые неожиданные картины: генерала, который доверительно испрашивал у лекаря Вольфа верное средство от почечуя, или Трубецкого с нахмуренным длинным английским лицом, досадливо грызущего над шахматной доскою чубук, в то время как его противник, бурят, ясно и вежливо улыбался и всем своим лучезарным ликом показывал, что, обыгрывая такого почтенного
тайшу(вроде князя, по-ихнему), он никоим образом не желает причинить ему неудовольствия. С бурятами, встреченными так близко впервые, возник интерес обоюдный и пылкий: просвещенные бывшие дворяне туманно объясняли его намерением познать доселе неведомый народ, а тем, по их счастью, не нужно было искать оправдания своему дикому, ребячьему любопытству. Как истым детям, им все надо было пощупать, под все покровы заглянуть, и в этом отношении более всех не давал им покоя Лунин. Из уважения к его боевым ранам ему было дозволено ехать в крытой повозке, чем он и пользовался, не вылезая из нее ни днем, ни ночью несколько суток кряду, — и среди бурят стали разноситься слухи один другого соблазнительнее. Эти предполагали, что, выходит, начальство не напрасно пугало и, быть может, между арестантами есть-таки чудовище, ежели и без крыл, то по крайней мере с хвостом; те, которые воображением были не такие поэты, допускали, что за кожаными завесками везут наиглавнейшего преступника. На одном ночлеге толпа приступила к повозке, и приглушенный, однако нескончаемый ее гомон Лунину наконец надоел. Он вышел на воздух, сразу разочаровав поэтов, увидавших его бесхвостым, и еще сохранив надежду в мыслящих более прозаически. — Ну? Что нужно? Кто тут знает по-русски? Толпа вытолкнула слегка упирающегося переводчика, и тот, опасливо поклонившись, объявил от всеобщего имени, что народ хотел бы узнать, за что господина сослали. Лунин долго не думал: — Спроси их, знают ли они своего тайшу? Переводчик пробормотал несколько слов, не оборачиваясь к толпе и не спуская с Лунина глаз, переждал гул и ответил, не позабывши снова отвесить поклон: — Знаем, господин. — Ну а того тайшу, который стоит над вашим тайшой и может посадить его вот в эту кибитку или сделать ему
угей, — того знаете? Недолгое общение с бурятами мгновенно обогатило забайкальских новожителей несколькими десятками слов неизвестного языка, и угей, то есть конец, было из обиходных. — Знаем, господин. — Так знайте и то, что я хотел сделать угей его власти. Вот за это меня и сослали. — О-о-о! — и буряты, у которых не только округлились рты, но, кажется, даже самые глаза от трепета и изумления сделались из узких круглыми, медленно пятясь и низко-низко кланяясь, удалились прочь от кибитки. А Лунин, весьма собою довольный, влез в нее и закрылся завеской. Этих милых бедняков, которых русские сибиряки переиначили в
братских, начальство совсем не по-братски пригоняло сюда за двести, триста, четыреста верст, разумеется нимало не обеспокоясь их пропитанием, и они жестоко голодали, насыщаясь — глупое слово, ибо что там за насыщение? — одной брусникой, пока те, кому они прислуживали и кого стерегли, не начали их кормить. Ели они с трогающей душу и не оскорбляющей глаз жадностью смертельно изголодавшихся детей, налегали на все жирное, словно надеясь сделать запас на неминуемый случай предстоящей бескормицы, но и тут любопытство порою брало над голодом верх, и однажды Горбачевский увидал, как двое бурят с осторожной бережностью, словно драгоценный и нежный товар, складывали и сливали в свой неведомо как зовущийся сосуд остатки пищи. Все вместе, подряд, в одну полужидкую кашу: щи, ломти холодной телятины, остатки сладкого, кофейную гущу. Он рассмеялся некстати: — Братцы! Да что же вы делаете? Если уж это есть, так порознь! И тот, кто лучше мараковал в русском языке, молодой крещеный бурят с диковинной кличкой Тыртыр, размашисто помогая себе руками, растолковал, что — нет, нет! — есть этого они никоим образом не предполагают и ужасной бурде предназначена участь весьма почетная — ее повезут в родной улус, родственникам, которым не посчастливилось повстречать столь необыкновенных людей: — Пусть они увидать, что кушать князья. А когда Иван Иванович, разговорившись со знатоком русской речи, узнал, что Тыртыр вовсе не кличка его, а крещеное имя, и усомнился, точно ли его крестили, ибо таких варварских имен в православных святцах не сыщешь, бурят, жарко обидевшись на недоверие, объяснил, что он — да, да! — в самом деле крещен и именем своим гордится, потому что так величают самого страшного и грозного святого. — Святого? Да, да! Дело было просто. Приехал поп. Спросил, кто хочет креститься, посулив целковый серебром и новую рубаху. Окрестил. Записал в большую-большую книгу и сказал: — Запомни: теперь тебя зовут, как того святого, который все ездит по небу на колеснице и гремят. Слыхал, небось? Тырр! Тырр! Что было делать? Смеяться над этим Ильей Пророком? Они и смеялись — не этому, так другому; если вспомнить, смешного и тогда было не бог весть сколько, но хотелось смеяться, это было как надежда выдышать холод острога и, может быть, успеть надышаться теплом перед новыми холодами. В самом деле: что рождало общий хохот, вспоминая который и на следующий день еще не могли отсмеяться? Кюхельбекер, наблюдая восхождение Марса, назвал его Пеперою. Все, ничего более, но, боже, сколько это возбудило шуток, включая весьма вольные на счет альковных шашней означенных римских богов, причем злосчастному путанику шутники отводили в этих приключениях роль и вовсе малопристойную. Шутили так дружно и так неотвязно, что Михаил Карлыч от растерянности и конфуза чуть не спалил свою юрту: развел в ней слишком большой огонь, да еще на беду позабыл открыть отверстие для дыма. А как потешались над переменами в собственном обличье? Положим, они и впрямь являли зрелище презанимательное, и вся вторая партия, почитавшаяся составленной из самых грозных мятежников, была, может быть, приманчива на доверчивый бурятский взгляд, но европеец, верно, принял бы ее то ли за странствующих актеров, то ли за путешествующий дом сумасшедших. Маленький Завалишин, выступающий непременно — по характеру его — впереди всех, в круглой шляпе с необъятными полями, в странном черном одеянии, чей покрой, никому не доверив, сам же и выдумал; в одной руке палка в полтора его роста, в другой книга, которую он пытается читать на ходу, продолжая еще и беседовать. Якушкин в короткой курточке: ни дать ни взять переросток-кадет, донашивающий прошлогодний мундирчик. Волконский в кацавейке, будто позаимствованной у жены. Вольф, и тут не расставшийся с бархатной феской, сам черный и в черном с головы до ног, щеголеватый, как факельщик. Оболенский в плаще, больше походящем на испанскую мантию. Горбачевский в немыслимом архалуке — вылитый помещик-степняк, прокутивший даже борзых и любимого жеребца. В таком живописном виде они ровно на тридцатый день ходу и подошли к Верхнеудинску, где в самом деле имели успех, способный родить уныние и зависть у бродячих комедиантов. На подходе Лепарский забеспокоился. Громогласно было прочтено предписание коменданта, указывающее, как и в каком порядке следовать через город; солдатам велели прекратить добродушную болтовню с государственными преступниками и принять свирепый вид — свирепый, именно так приказ и гласил. Это уже подбодрило записных остроумцев и вызвало общий хохот, не умолкавший, пока они шли городом. Все забавляло: и лупоглазо-истуканий вид городской полиции, опасливо встретившей их перед входом, и давно ждущие под мелким и мерзким дождем толпы жителей, оцепенело взирающие на бунтовщиков (которые, слышно, собирались царя подменить), и чинный вид beau mond'a
, выстроившегося на балконе большого дома возле моста через Уду. Дамы, без сомнения, потратили на приготовления к этому параду все долгое утро; желая вознаградить их старания, Якубович послал одной, помоложе, поцелуй, и та кинула на соседок взгляд полководца, выигравшего решительное сражение. Потом была Селенга с разными, но равно голыми берегами — одни песчаный, другой скалистый, — прельстившими тем не менее впоследствии братьев Бестужевых. Был староверческий Тарбагатай, вышедший навстречу им в праздничном облачении: синие кафтаны мужиков, бабы в шелковых сарафанах, в кокошниках, шитых золотом, — красивые, рослые, словно и вправду свободные люди. А на дневке в деревне Хара-Шибирь произошло великое событие, — вернее, долетела весть о нем. Старик Лепарский самолично, как с докладом по начальству, явился в дом, где стояли Нарышкин и Волконский. Тяжелое багровое лицо было более непроницаемо, нежели когда-либо, усы закручены с сугубой официальностью, в выпуклых, точно у рака, глазах нельзя было прочесть ровно ничего. — Господа! Считаю долгом известить вас… И известил: в Париже революция. Тюильри в руках мятежников. Карл X скрылся в Сен-Клу. Весть разнеслась мгновенно; все поздравляли один другого так, словно взят был не Тюильри, а Зимний дворец, не Бурбон бежал в загородный Сен-Клу, а Романов спрятался в Петергофе и завтра же им всем объявят свободу. Вечером раздобыли у кого-то из женатых две бутылки шипучего, выпили по золотой капле за парижский июль тридцатого года и спели хором «Марсельезу», которую никак им не удавалось допеть в Чите. Там их вечно водили засыпать на окраине ров, которому кто-то из них в сердцах присвоил название Чертовой могилы, так ко рву и присохшее, и делать эту работу было то же, что толочь в ступе воду, как наказывают в Русских монастырях ослушников. При первом дожде овраг вновь размывало, не оставляя от усилий работников, впрочем, далеко не чрезмерных, и следа, что, к слову сказать, выглядело горестно-саркастическим подобием того, какое применение их силам находило и нашло любезное отечество. Не умея на свободе призвать к истинной деятельности, не сумели использовать даже и в каторге. Возвращаясь с постылой работы, голосистый Тютчев запевал:
Allons, enfants de la palrie…
Однако дальше первой строки дело не шло, и уже вторую встречали смехом, заглушая певца. Начальные слова подходили к ним как нельзя лучше, потом же шло все не то. День славы в их жизни если и случился, то в прошлом, настоящее было безрадостно, будущее — темно. Зато уж теперь слаженный хор подхватил за Тютчевым, самочинно взявшимся им управлять, все слова кряду:
Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrive…
Пели 19 сентября — это помнится в точности. Через четыре дня, за двадцать восемь верст до Завода, на последнем переходе, вторая партия повстречала добротно одетых крестьян с плотницким инструментом — они смешались с их колонной и пробирались через нее. — Ребята, бывали вы в Петровском Заводе? — Как не бывать? Мы там плотничали. — И что, хорошо ли нам там будет? — Ох, господа, худо. Строение-то без окон! — Как без окон?! — Да казематы, слышь, и то мы строили без окон. Мы и то удивлялись, когда строили: как же это без окон? Что это, мол, за порядки — без окон? Только нам сказали, что такой уж плант прислан. Версты за полторы до нежеланной цели остановились, чтобы дать солдатам по всей форме надеть ранцы. Стояли на холме — и еще шутили. Под ними был Петровский Завод. Он лежал в котловпине, зажатой лесистыми складками гор, — потом они узнают, что горы зовутся Яблоневым хребтом. Речушка впадала в реку — они узнают и их названия: Баляга, Хилок. Краснели крышами два заметных строения, и доносился непрерываемый, однотонный стук, словно кто-то мелко-мелко бил молотком по железу, обернутому тряпицей. Скоро им станет известно, что это и есть железоделательный завод и что шум исходит от него. Мельница. Церковь. Погост. Но, скользнув по ним, взор упирался в то, во что не упереться не мог. Огромная красная подкова раскорячилась в центре всего. Частые беленые трубы торчали, как еще не забитые гвозди. Бока подковы гляделись гладко и глухо — окон не было. Евгений Петрович Оболенский тихо сказал за плечом Горбачевского: —
Tout est fini. Voila noire prison d'etat
.
«Жилище наше в Заводе существует; получивши твое письмо, я нарочно сходил на другой же день его посмотреть и посмотрел твой номер каземата. Долго я стоял в твоем номере и около того места, где стоял твой стол и твое кресло; многое тут я вспомнил; взял из стены гвоздик, на котором висел портрет твоей сестры, принес домой и его сохраняю; прикажешь, я тебе его пришлю. Но… мне бросился в глаза твой столик в коридоре, на котором ты всегда обедал: он до сих пор стоит. Насонов Дмитрий Иванович тут же со мной был, сказал:
— Вот столик Евгения Петровича. Я, бывало, ему принесу обедать, а вы с Иваном Ивановичем Пущиным у него все съедите…
— Отчего же мы у него ели, когда ты и нам приносил обедать? — спросил я нарочно.
— А вот, видите (его поговорка), вам принесу скоромное, вам уже мясо и суп надоели; а ему принесу рыбу; вам с Пущиным в охотку — вы у него все и съедите; вот, видите, — да.
— А он сердился на нас, Евгений Петрович, за то, что мы его голодным оставляли?
— Может ли быть, чтобы Евгений Петрович сердился? Евгений Петрович сердился?! Может ли это быть? Да, бывало, я напьюсь пьяным, да и совсем ему не принесу обедать, он и за то никогда не сердился… Евгений Петрович сердился, — продолжал он ворчать про себя, — никогда…
После с ним зашли мы в каземат Пущина, мой номер, и, наконец, в крайний, в котором жил Штейнгель, а потом он, Насонов, и он тут многое вспомнил. Те два отделения, которые вправо от входа ворот, теперь заняты арестантами, прочие все пусты, и все, что осталось от нас из мебели казенной, все до сих пор и стоит. Деревья, посаженные Мухановым в 11-м отделении, сделались уже большие; все заросло травой; мрак и пустота, холод и развалина; все покривилось, а особливо левая сторона, стойла разбиты, одни решетки и толстые запоры железные противятся времени. Недостает тут одного — наших кандалов. Грудь у меня всегда стесняется, когда я там бываю: сколько воспоминаний, сколько и потерь я пережил, а этот гроб и могила нашей молодости или молодой жизни существует. И все это было построено для нас, за что? И кому мы все желали зла?..»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому.
БЕССОННИЦА 1869 года. Декабря 8 дня
«Живу по-прежнему в Заводе… Лампада горит по-прежнему… Никогда никого не забуду…»
И. И. Горбачевский — И. И. Пущину.
— Это не я, не я, — уговаривает кого-то старик Лепарский, забывшись в жестокой горячке. — Это все он! Все он! Задыхается, хрипит, пьет, проливая на рубашку, воду из рук Вольфа, состоящего при больном, и снова заводит свой настойчивый бред: — Не я, не я! От чего отнекивается? На кого валит?.. Впрочем, когда Фердинанд Богданович, вытянув его из хвори, рассказывал все это за ужином в каземате, никто не переспрашивал. Все без того знали боль коменданта.
Он, то есть император, его отличал. Это тешило служивое сердце старика, как и осточертевшая всем история с земляками-конфедератами, столь хитроумно завлеченными им в ссылку. Ходя еще на помочах, великим князем, Николай Павлович был шефом Северского полка, пребывавшего у Лепарского под началом, виделся с ним, писал к нему, о чем, разумеется, новым генераловым подопечным также приходилось выслушивать во всех примечательных подробностях. Благоволение он заслуживал долго и выслужил честно. В Северском командира не то чтоб очень любили. Петровский плац-адъютант Розенберг, из его однополчан, им-то и завлеченный на новое место (четверное жалованье, каждые три года чин — как не соблазниться?), стороною секретничал, что офицеры, случалось, роптали: суров-де в обращении, хмур, сух, малообщителен. Однако, как ни ропщи, а за все шестнадцать лет его командирства никто ни единого разу не был во всем полку взыскан — не только что из высших, но даже из нижних чинов, которых, попросту сказать, не пороли. — Бесп?рочные, значит, были, — непременно сбалагурил бы какой-нибудь (грустно вспомнить) солдатик из его, Горбачевского, 2-й легкой роты. А Мишель Бестужев, от брата Александра, знать, заразившийся пристрастием к стихотворцам, верно, добавил бы: — Слуга царю, отец солдатам! Он, Бестужев, Лепарского защищал всегда, особенно перед Завалишиным, пылавшим к коменданту враждой. Что до солдатского отца, то кто разберет теперь, каким он там был, да и был ли, но вот со слугою, по всему выходило, что и вправду с любимым, а что с любящим, нечего было и гадать, — с ним царь не церемонился. И слугу это огорчало безмерно. Нет, ценить-то ценил и доказал, что ценит, назначив надсмотрщиком над теми, кого до самой своей смерти но устал неравнодушно величать: mes amis de 14
, и положив ему содержание поболее генерал-губернаторского, почти в тридцать тысяч, — Николай вообще двусмысленных милостей не признавал и четко считал заслуги в рублях. Но притом странным образом небрежничая и уничижая. Тому же Розенбергу пришлось — году этак в тридцать четвертом — быть в отпуске, в Петербурге, и там он не упустил случая представиться на разводе царю. А Незабвенный — и незабывающий — осведомился: — Ну что там старикашка? Шевелится еще? Неискоренима, увы, отечественная привычка во всяком пустяке, излетевшем из державных уст, тотчас жадно подозревать неслучайный, обдуманный, глубинно потаенный смысл. Так и петербургское общество немедля истолковало царский звук самым благоприятным образом, порешив, что столь неуважительный к комендантской власти тон, быть может, сулит скорое освобождение из-под нее. Или хоть послабление — и на том спасибо! А Лепарский, от которого Розенберг ничего не утаил, разобиделся смертно: — Старикашка… Вот он каков, господа! Когда я был ему нужен, он мне давал и чины и звезды, невзирая на мои лета. Не в три же года я так состарился! А теперь, видите, смотрит на меня как на старую тряпку, которую и выбросить за ненадобностью можно! Либеральничающий с горя генерал казался жалок, и не то что Бестужеву, а даже Ивану Ивановичу захотелось его утешить: — Полно, ваше превосходительство! Стоит ли? Император, может быть, сказал это не подумав… — Он — не подумав? Нет, вы не знаете, господа! Вы ничего не знаете! А вот я вам расскажу… Когда он только надумал назначить меня к вам, то в Москве, во время коронационных торжеств, допустил меня к своему столу… — Вот видите! Но это же… — продолжил было Горбачевский. — Нет, нет! Тут совсем не то, что вы думаете!.. Я, признаюсь вам, был счастлив. Не всякому, согласитесь, такая честь. И что же? — Неужели он и тогда сказал что-то обидное? — Нет, вы послушайте. Напротив, он был со мною весьма обходителен, но потом… Вообразите, господа! Я, как ни в чем не бывало, сижу за столом и вдруг примечаю, что он то и дело взглядывает на мое лицо. А оно у меня, уверяю вас, такое красное, с тех пор как себя помню, от природы, а вовсе не по каким иным причинам… — Уж нам ли этого не знать, генерал! — А потом, вижу, переводит взгляд на рюмку, что стоит перед моим прибором. И смотрит то на лицо, то на рюмку, то на лицо, то на рюмку… — И что из того, ваше превосходительство? — Как что? Вы удивляете меня, господа! Ведь это значит, он следил, не много ли я пью! Стало быть, полагал во мне пьяницу, неспособного исправлять должность! И это после того, как он столько лет знал меня по Северскому полку! Знал мои правила! После этого я не удивлюсь, если узнаю, что он велел своим
шпигонам(так он произносил ненавистное и ему слово) докладывать каждый мой шаг!.. Генерал знал по-французски, по-немецки, с детства, пройдя в Полоцке школу отцов иезуитов, помнил латынь, но на родном, на польском не говорил никогда, — разве что в ажитации его порою выдавало произношение. Он даже не любил упоминать, что из поляков родом, и часто можно было слышать из его уст: «Мы, русские… Конечно, я как всякий русский человек…» Впрочем, иной раз чудилось: оттого и не упоминал, что слишком твердо помнил. Как прорвало его в дни, когда узнали о польском восстании. На нем не было лица, и он сожалел — о чем? — Рано, господа! Рано они начали! — А может быть, напротив, генерал, слишком поздно? — Да! Вы правы! — неожиданно согласился он, и Горбачевскому не часто приходилось видеть его в таком волнении. — Может быть, и поздно! Так или иначе не вовремя! Вот если б они поднялись в 1828 году или лучше в двадцать девятом, когда мы были заняты турецкою кампанией, тогда… А умирая и поняв, что умирает, за несколько часов до того, как остаться без языка, впервые на общей памяти заговорил с Осипом Адамовичем, с племянником, на польском. Заговорил ласково и тоскливо: — Но цо, Юзку? Жаль та мне? А паменташь, хлопче, в Полоцке коло ратуша…
Много, много всякого наметалось в генеральской душе, то прячущейся от постороннего взгляда, то вдруг небезопасно обнажающейся, но счеты с императором, которого обожал, и ревновал, и боялся, были в нем едва ли не манией. Он все подмечал и откладывал на душевном донышке с болезненной наблюдательностью и угрюмой памятливостью, не поддаваясь утешительным уговорам: — Нет, нет, господа, уж я знаю, что говорю. А как было с окнами в каземате? Помните?..
«Получив план, профиль и фасад предполагаемого деревянного строения для содержания ста человек преступников, я представил оные на Высочайшее усмотрение, и Его Величество повелеть соизволили, чтобы в них были сделаны следующие перемены: 1) назначенные по внешним частям строения окна уничтожить, а свет пропустить в комнаты из коридоров, исключая только караулен…»
Начальник главного Штаба генерал-адъютант барон Дибич
«Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите.
Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых — здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых — здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты…
Прошу тебя не показывать этого письма ни младшим сестрицам, ни даже сестрам, зачем их огорчать. Я сообщаю это тебе, потому что я не могу выносить,
что тебя под старость этак обманывают».
Александра Муравьева
«Сие письмо не выдавать, а женам написать, что напрасно они печалют своих родных, что мужья их посланы для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могло придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания. Государь, получив от Ленарского рапорт, сам уже предписал дабы были окошки для лучшего свету…»
Генерал-адъютант граф Бенкендорф
…Когда при этом известии по столице покатился возмущенный говор, Николаю весьма не понравившийся, он, как верно или не верно рассказывали, даже послал Бенкендорфа к наиболее значительным из возмущавшихся: унять, утихомирить, уверить, что оплошность исправят и что оплошал не кто иной, как комендант, отчего-то слишком торопившийся перевести арестантов из Читы и не захотевший ждать, пока тюрьму достроят и окна прорубят. Слух, разумеется, дополз и до Петровского Завода и до Лепарского, и генерал не то что попросил — потребовал, дабы узники избрали двух доверенных лиц, каковым он мог бы вполне официально дать отчет. Посмеявшись — так как никто его винить и не думал — доверенных все же выбрали: Вольфа, который Лепарского пользовал и был к пациенту расположен, и для равновесия Завалишина, комендантского ненавистника. Генерал принял их в полной форме как высочайшую и секретнейшую инспекцию из России. Расставил под окнами часовых — чтобы никто не подслушивал. Запер на ключ все двери, даже и в смежных комнатах. Заново обошел кабинет, подергал, проверил запоры. Подвел делегатов к шкафу, многозначительно порывшись, вынул ключ, отпер и с торжественной бережностью достал бумагу — план каземата. Раскинул его на столе и ткнул пальцем у нижнего обреза: — Извольте смотреть, господа! Вольф с Завалишиным глянули и увидали то, что ожидали увидеть: «Быть по сему. Николай». А старик, хотя и заметно разочарованный тем, что они не вскричали и не всплеснули руками, заговорил с горячностью и страданием: — Ну? Где ж тут окна? Где, покажите мне! Это он приказал, он хотел, чтоб вы лишены были света, а теперь сваливает все на меня и с головой выдает меня на вражду вашим родственникам и мнению всей России. И я должен все это сносить, хоть бы мне плевали в рожу! А для чего? Что обо мне напишут в Европе? О, я знаю, господа: назовут бессердечным чиновником, притеснителем, палачом, того и гляди, приравняют к Гудзон Лоу!.. Сумрачная тень этого англичанина, каприйского героя, чья военная доблесть при обороне от французов благословенного острова была немедля затемнена репутацией тюремщика Бонапарта, вообще занимала Лепарского — вот, стало быть, в каком ранге виделись ему и он сам, и его поднадзорные. А Петровский Завод преображался в остров Святой Елены. — …И разве это справедливо? Поверьте мне, я берегу мое место единственно для вас, господа, чтоб вас избавить от притеснений, которые, не будь меня, вам чинили бы те, у кого на самом деле ни сердца, ни совести! Что мне от того, что он дал мне большое жалованье, что я ношу эти звезды и ленты… Генерал дернул рукой и сжал ею на груди орден, словно схватился за больное сердце. Никогда не терявший головы Завалишин и тут оказался приметлив: после он съязвил, что комендант, как нарочно, ткнул во Владимира 2-й степени со звездою, полученного за перевод арестантов в Завод, — в награду, данную за полицейскую добродетель. — …Уж вы-то знаете, господа: чт? мне в деньгах, коли я одинок, а звезд здесь даже и показать некому! Как я желал бы освободиться отсюда, но ежели освобожусь, то не иначе как вместе с вами! Вольф ушел, растроганный беседой, Завалишин — непримиренным, а Михаил Александрович Бестужев, выслушав вечером их рассказ, заметил в задумчивости: — Что ни говорите, а Николай сделал ошибку, назначив нам старика. Не попади к нам этот добряк, нас непременно угробили бы, а царю того и хотелось. Ну-ка вообразите, что с нами сделалось, если б мы были у Бурнашева? — Император? Ошибку-с? — Завалишин так и вскинулся. — Да чем же ваш обожаемый старик лучше Бурнашева? — Эка хватил, Дмитрий Иринархович!.. Это не выдержал уже он, Иван Иванович Горбачевский, до той минуты отмалчивавшийся. — Ну что за сравнение? Да Бурнашев, он душу свою подлую положил бы, чтоб нас в Акатуй загнать, а это, воля ваша, не Петровск, каков бы он ни был. В Акатуевском руднике выемных работ лет на тридцать с лишком достало бы, что при нашем-то двадцатилетнем сроке, почитай, верная могила… Завалишин хищно оборотился к нему, будто обрадовался новой жертве своего полемического темперамента. — Могила — точно так! Только, вседобрейший мой Иван Иванович, Лепарского тут за что благодарить? Сами же ведаете: спервоначалу и он за Акатуй стоял! — То-то что только спервоначалу, — рассудительно подал голос Бестужев. И вознамерился было продолжать, однако не тут-то было. Дмитрий Иринархович не терпел неподчинения собственным доводам. — Вы полагаете, в Петровск нас из сострадания перевели? Ошибаетесь! Резоны у властей — да, были, не отрицаю, но уж никак не забота о бренном нашем существовании, а куда более хладнокровные. Первый резон: он, то есть Петровский Завод, на трактовых путях стоит, да к тому ж невдали от Верхнеудинска и Селенгинска… — Дурного я тут еще не вижу! — возразил Мишель. — Провизию доставлять легче… — И, прибавьте, артиллерию, и казаков. А уж это для властей будет поважней вашей сытости… Завалпшин огляделся, как полководец, чующий пороховой запах победы. — Извольте резон второй: вокруг кочуют буряты, коих общие наши начальники весьма поощряют в охоте на беглых, как на зверя… Вам мало этого? Так получите третий резон: строительство узилища нашего тут обошлось дешевле… — Все так, Дмитрий Иринархович… Горбачевскому не впервой было клонить к примирению эти вечно сталкивающиеся стороны, Завалишина и Бестужева, двух его друзей, не терпевших один другого. Все так. Резоны вы представили справедливые, включая последний: свое железо, свой чугун, да и лесу в округе довольно. А все ж и вы не станете отрицать, что Станислав Романович, самолично выбрав для нашего острога место, сделал это отнюдь не во зло и не со зла. Просто оно ему приглянулось! — Боже! Так я и знал! — Завалишин патетически воздел руки. — Ну, разумеется, как же без этой истории, трогающей душу, хотя, признаться, от кого-кого… — Беглый взгляд в сторону Бестужева. — А уж от вас-то, Иван Иванович, я ее никак не ждал! Ведь вы, кажется, в литературных гостиных не терлись, нежных стишков князя Шаликова наизусть не твердили, над «Бедной Лизой» слез не проливали… Или, быть может, я ошибаюсь? Проливали-таки? Горбачевский помалкивал, понимая, что ядовитый вопрос нацелен жалом вовсе не на него, и с беззлобным, даже веселым любопытством ожидал, куда на сей раз занесет его остроязычного друга неисправимый нрав. — Да, да! — продолжал Завалишин. — Как не умилиться? Наш комендант — самолично! собственною персоной! — обозревал с горы и с коня окрестности да и залюбовался прелестью зеленого луга, где разве что поселянам с поселянками резвиться. Одного, умная голова, не сделал: с коня не слез, с горы не спустился, и дивный-то луг при свидании с ним обернулся зловонным болотом, испарениями которого мы и имеем счастье теперь дышать. Ну-ка, потяните носом, господин Бестужев! Каковы парфюмы, не правда ли? Розмарин! Фиалки пармские! Или вы находите, что более отдает жасмином?.. Нет, господа! Всем известно, что я не терплю аллегорий, а все ж — вот она, судьба благодеяний сверху! И поверьте, доброта нашего коменданта — это нечто вроде тех щелей, которые приказали прорезать в Петровской тюрьме взамен настоящих окон: свет как бы и есть, да не так светит, как дразнит!.. Михаил Александрович, понятно, за ответным словом в карман не полез, а Горбачевский в беседу более уже не вступал. Думал. Думает и теперь, и нельзя сказать, чтобы все было надумано. Добряк? Точно ли? Le general Je n'en puis — «генерал Женанпюи», «генерал Немогу», — окрестили Лепарского петровские дамы, и забавной, хотя и хмурой, клички, конечно, не присвоили бы тому, кто, с пылу отказав, не становился бы потом много податливей. Порою, ответив непременным отказом, он затем словно бы сам искал случая смягчить собственную строгость, не вступив притом с нею и в противоречие, — выходило смешно и часто нелепо. — Н-не могу-с! — было отрезано, когда вышел срок каторги осужденным по второму разряду и кто-то из счастливцев явился к коменданту с просьбой: покуда не прояснится, куда и кому назначено следовать, позволить им свободно выходить из каземата. — Не могу, господа! Никак не могу! Подумайте сами! Если я это допущу, то вы у меня конвойных замучаете! Вот я вам расскажу, у меня был такой случай с конфедератами… — Да помилуйте, генерал! При чем тут конфедераты? И какие еще конвойные? Зачем они нам? Мы теперь уже даже и по закону имеем право ходить свободно! — А… в самом деле. Ну если без конвойных, это совсем другое. Тогда извольте, извольте. Будто его и просили именно о том, чтобы осчастливил и разрешил не разлучаться с любезными сердцу сторожами. Неповоротливо соображал уже. Стар был и близился к концу. Что же, прав, стало быть, Бестужев? По всему получается, что да, прав; а уж теперь, когда больше тридцати лет минуло с той поры, как Станислав Романович, не сдержав данного слова, вышел на свободу еще прежде, чем все они вышли хотя бы на поселение, и давно лежит здесь, неподалеку, в ограде Петра и Павла, из памяти вовсе лезет одно почти добродушное и чудаческое. Что вспоминается? Генерал на лошади, шажком едет по саду, большой, сырой, осевший, напрочь утерявший конноегерскую стать; едет и с горделивой благорасположенностью поглядывает на редких гуляющих. Еще бы не гордиться! Кто, как не он, своим капиталом, непроживаемым капиталом холостяка, и своими заботами сотворил уголок эдема в здешнем аду? Кто уставил сей уголок беседками, качелями и, на удивление жителям, соблазнительными мифологическими персонами, вырезанными из сибирской сосны? Или — все тот же Завалишин рассказывает, от души потешаясь. Среди книг, присланных ему в каторгу, нашлась одна на древнееврейском, и старик, по должности обязанный ставить на всякой книге свое цензорское: «Читал», на сей раз, поразмыслив, начертал с маху: «Видал. Лепарский», нимало, таким образом, не погрешив против нагой истины. Добряк, по всему добряк. Идиллия, чистой воды идиллия… Вот разве горький тезка Горбачевского, Иван Иванович Сухинов, ежели б можно было спросить его мнение на этот счет, верно, не совсем согласился бы. И то, что уже не спросишь, решила воля генерала. Его. Больше ничья. Заговор и побег, которые обмыслил и чуть не учинил Сухинов в Зерентуе, как говорили, сильно встревожили царя, только и ждавшего после декабрьского дела новых возмущений. Однако Николай не взял на себя новой крови. Уклончиво предоставил определить участь мятежников коменданту, и тот…
«…Согласно полевого уголовного уложения главы II, § 7, главы V, № 40-го определяю: Ивана Сухинова расстрелять.
Генерал-майор Лепарский».
…Отчего же тогда: — Это не я, не я! Это все он, все он! Отчего в горячке, в ту пору с ним и приключившейся — в ту самую пору и, может быть, не без прямой причины, — валит свою вину на царя? Оттого, сдается, что Лепарский угадал: императору так было нужно. Нужно, чтоб пролилась кровь. Еще нужнее, чтоб сыскался угадчик его желания, не спрашивающий прямого соизволения… Да! Именно так! Генерал оказался угадливым, проницательнейшим слугою, обязанным понимать барина с полунамека… нет, еще больше: лучше самого господина знать, чего тому надобно. А доброта… Что ж, и доброта была, не без того, однако не она решала и главенствовала. Ибо комендант и с ними, с теми, к кому благожелательно снисходил, вел себя, как Николаев слуга, верный и умный, — да как раз потому-то и снисходил. Он творил то, что царю было
выгодно. Даже если и не всегда
угодно… Хотя Мишель Бестужев и счел бы, верно, эти умозаключения Ивана Ивановича нелепостью — не меньшей, чем завалишинские. — Как хочешь, Иван, а ты, в Петровском сидючи, совсем спятил. Выгодно… угодно… Опомнись, о чем ты? У тебя, друг любезный, кажется, выходит, что чертов Незабвенный нам чуть ли не добра тайно желал? А Лепарскому только и оставалось, что о том догадаться? Да ты помнишь ли, что царь тогда, в Зимнем, Трубецкому сказал?.. (Горбачевский, разумеется, помнил, и разговор между разъяренным императором и растерянным князем вышел таков: — Вы знаете, что я могу вас расстрелять? — Расстреляйте, государь! Вы имеете право. — Не хочу. Я хочу, чтоб судьба ваша была ужасная.) — …Понимаешь ли, что он и пулю считал для нас слишком большой роскошью? — Постой, не горячись, Мишель… Ежели хочешь, я тебе еще и помогу. Ведь у царя и с Анненковым то же вышло, припоминаешь? Иван Александрович на допросе было возразил, что, дескать, тяжело, нечестно доносить на товарищей, и Николай взвился: «Вы не имеете понятия о чести! Знаете ли вы, чего заслуживаете?» — «Смерти, государь». — «Ах, вы думаете, что я вас расстреляю, что вы будете интересны? Так нет же! Я вас в крепости сгною!» — Ну? Чего ж тебе еще надобно, сморгонский ты студент? И сгноил бы, непременно сгноил в несколько лет, если бы не наш старик! Уж чего-чего, а легкой доли и даже легкой смерти царь нам никак не желал! — И опять не горячись. Когда ж я говорил, что он хотел облегчить нашу долю? Это уж пусть себе Оболенский полагает по доброте, будто царь и Лепарского к нам назначил также из доброты. Нет, тут другое. Николай, без сомнения, кипел одной только местью и весьма умно выбрал ее орудием старика… — Да почему ж орудием? Объяснишься ты наконец или нет? — Изволь, попробую. Только давай прежде договоримся: царь был человек совсем не глупый… — Этого и я не думаю отрицать. — То-то. Но слабосердечный… — Как, как? Слабо… Я и договорить-то боюсь. Или, может быть, я ослышался? — Отнюдь не ослышался. Я сказал тебе и еще повторю, ибо пришел к этому по долгом размышлении:
у императора было слабое сердце! — У него? Сердце? И еще слабое? Ну, Иван, удивил, нечего сказать! Да у него никакого не было. Покойный Одоевский недаром как-то сказал: в Николая и выстрелишь, да не убьешь. Там, где у всех сердце, у него пусто. — Покойный Одоевский был поэтом и, как все они, грешил красноречием. А я существо прозаическое, не обессудь. Сердце у всякого есть, и у царя оно было как раз слабым. Слышал бы ты, как он нам в двадцать шестом году заметил: дескать, я, государь, не в силах объединить славян, а вы посмели о том возмечтать! Тогда не до смеху было, а то, не ровен час, я бы и рассмеялся. Уверяю тебя, это так было сказано, будто мы его, бедняжку, кровно обидели, отняли у него что-то. Игрушку, что ли, любимую… Этакое, знаешь ли, гадкое, капризное, испорченное дитя! Да он тогда и выглядел тоненьким, жиденьким, бледным, к тому ж и потерявшимся, совсем не тот, что на портретах год или два спустя… — Что ты мне рассказываешь? Незабвенного, слава богу, я поближе тебя повидал. Ты, коли уж начал, говори дело. Итак, что ты разумеешь под слабым сердцем? — Я под ним разумею совсем не то сердце, которое способно на слабость, а только такое, что не способно на силу и на постоянство. — Гм! Мудрено что-то! — Напрасно насмешничаешь, Мишель. Мудреного ничего нет. Ведь ты, вспомни, сам мне рассказывал, как вы с братом Николаем всегда удивлялись, сколько в вашем Рылееве почти ребяческой доверчивости, и даже полагали ее причиною многих его ошибок. Не так ли? И разве доверчивость не есть слабость для ума политического? А Сергей Муравьев-Апостол! Знаешь ли, что он мог быть прямо-таки девически-чувствителен? Когда однажды командир Черниговского Гебель приказал наказать кнутом двух рядовых, Муравьев от этой гнусности тут же, перед строем, грохнулся без чувств, замертво… Нет, коли уж ты взялся поминать литераторов, вот тебе тот, кого я истинно уважаю, — Радищев: «…душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Можно ли сказать про такое сердце, что оно — слабое? Напротив! Столь сильное отвращение к жестокости и неправедности — оно свойство сердца также сильного. И умного, прибавлю. Не зря наши с тобой предки еще в прошлом столетии уважали сердце, которое строго согласует свои веления с указаниями ума… — Боже, что за добродетельная скука! Ты, Иван, стал ритор хоть куда! Нет, уволь! Брат Николай верно говаривал, что, если человек остается добрым и честным не по безотчетному внушению сердца, не по энтузиазму, но только по рассудку, по предположенной цели, невелика тому цена. Что за заслуга слыть добрым по принуждению? — А как иначе? Заслуга — и еще какая! Не припомнишь, кто это сказал из старинных мудрецов? Ну да все равно… Словом, если у тебя нет добродетели, присвой ее. Недурно? И в том-то была беда императора, а значит, еще больше наша беда, беда России, что у него сердце то и дело одерживало верх над умом! — Стало быть, он, по-твоему, выходит этаким пылким юношей, не умеющим обуздать свои порывы? — По крайней мере, человеком, чья душа весьма неохотно и весьма поздно взрослела. Что далеко ходить: вспомни наши допросы. Как он обходился тогда с Оболенским!.. В самом деле, было что вспомнить. Князь Евгений Петрович Оболенский, который избран был диктатором взамен уклонившегося Трубецкого, вел себя на Сенатской, не в пример тому, решительно. Вспоминая Оболенского таким, каким видел его в последний раз, перед отъездом того в Россию, Горбачевский сам уже не очень верил, что этот худенький, сгорбленный старичок в коротком сером пальто, с бакенбардами-запятыми, аккуратно и словно бы кротко обрамлявшими продолговатое лицо, которое и само было воплощенная кротость, мог учинить то, что он учинил 14-го. Что он, к старости столь помягчавший нравом, даже примирившийся по-христиански с былыми врагами, начиная с доносчика Ростовцева и кончая царем, — это он тогда не только отвесил богатырскую оплеуху тому же Ростовцеву, но и лошадь Милорадовича самолично завернул с площади солдатским штыком, ранив генерала-миротворца в бок. Правда, если заметить к слову, и старческое его всепрощение бывало-таки странным, не единожды теша своей несообразностью смешливых товарищей, и, например, когда Николай по торжественному случаю двадцатипятилетия собственного царствования возложил на себя крест святого Георгия, мог произойти такой разговор. Оболенский — примирительно: — Зачем ругаться? Он имел полное право надеть этот крест, потому что прослужил России четверть века! Басаргин — ядовито: — Хорошо служил! О России он и не заботился, хлопотал только о войске, а как открылась война, так у нас ни генералов, ни войска, ни флота! Нечего сказать, куда как хороша служба! Оболенский — кротко, как нельзя более: — Что ты горячишься? Я ведь не говорю тебе, что он хорошо служил. Но все-таки — служил… Что бы и как бы то ни было, а император пылал к нему личной и отъявленной злобою. Еще до ареста его в голос кричал, что Оболенского первого нужно расстрелять без всякого суда, при виде же его во дворце, грубо связанного, возликовал особенно и откровенно: — Вот он, хваленый офицер! Когда ввели Александра Бестужева, явившегося по своей воле, и это лыко встало в строку Евгению Петровичу; царь тотчас обернулся к нему: — А ты, негодяй, и этого не умел сделать! И вдруг с обидой и едва ли не с тоской пожаловался генералу Левашеву: — Один бог знает, сколько я от него терпел… Вот в этом-то, именно в этом, было дело, и не драчливые подвиги Оболенского на Сенатской возбудили ненависть Николая — про них в Зимнем дворце в те чаем еще и не знали. Царь люто мстил ему совсем за другое. Оболенский служил адъютантом у начальника гвардейской пехоты Бистрома, заведовал к тому же канцелярией, а великий князь Николай Павлович, числившийся дивизионным командиром, состоял у него — так выходило — под началом и надзором и бывал не один раз за своеволие взыскан. Так случилось с Оболенским, почти так же было с отставным подполковником Василием Сергеевичем Норовым — та же мелочная, вздорная, гостинодворская мстительность. Что Николай запомнил Норову? То, как он, бывший опять-таки еще великим князем, разгорячившись в беседе, ухватил того посвойски за мундирную пуговицу. Гвардеец не постеснялся сбросить высочайшую длань и не удержался от дерзкого каламбура: — Не трогайте, ваше высочество, я очень щекотлив! Все. И этого оказалось довольно, чтобы после ареста, во дворце, новоиспеченный монарх опять не сдержал дикой радости: — Я наперед знал, что ты, разбойник, тут будешь! Норов, не изменяя своему характеру, слушал царя, преспокойно сложа на груди руки и только поощряя его: — Ну-ка еще! Ну-ка!.. Прекрасно!.. Что же вы стали? Ну-ка еще!.. — Веревок! Связать его! — не сразу очнулся остолбеневший было Николай, и сцена вышла бы вовсе безобразной, если бы случившийся здесь командир гвардейского корпуса Воинов не крикнул царю фразу, назавтра отправившуюся гулять по Петербургу: — Помилуйте, здесь не съ?зжая! И утащил Норова, схватив его за руку. Это самое и поминал Иван Иванович Михаилу Александровичу. — …Как он обходился тогда с Оболенским! И с Норовым! — Разумеется, мерзко обходился, чего ж было от него ждать? Право, ты говоришь так, будто я Незабвенного от тебя защищаю! Но ведь тогда же он мог быть и вполне хладнокровен. Разве не простил он молодого Витгенштейна?.. Суворова?.. Орлова?.. А Грибоедов, а сыновья Раевского! И все из хитрой политики, из расчета, дабы не ссориться с сильными и нужными родственниками или завоевать себе будущих холопов, как вышло с Дубельтом. Нет, Иван, как тебе угодно, а ты, брат, не прав. Слабое сердце! Экая, скажите, беда! Да он хуже был, он лицедействовал без всякого сердца и без всякой совести… Кстати, слыхал ты чьи-то стихи на его кончину? — Опять стихи! — Не ворчи. Выслушай лучше — мне их в Кяхте показали. Как, бишь, там?
Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
Что ты замолчал? — Думаю… Нет, не то, Мишель, не то! Ну, что мне до сердца царя, каково бы оно ни было, если он не умеет и не хочет им управлять? Да и где надежда, что новый наследник будет рождаться хоть изредка добросердечным? Нет! Помнишь, как сказано? Если у тебя нет добродетели, присвой ее… Именно так! Да благоволи, любезный, лицедействуй себе на здоровье, лишь бы ты избрал хорошую роль! Лицемерь даже, и за то не брошу в тебя камня… Да, да, не округляй глаз и не разводи руками, я не спятил, как ты изволишь меня честить. Лицемерь, если нет в тебе добра природного, — лицемерие еще не самый страшный порок, не кровожадность, не тиранство, не предательство, хотя, правда, от последнего уже недалеко живет. Лицемер, пока он лицемер и не хуже того, по крайности, хоть знает, что дурного надо стыдиться, что добрым быть лестно, — и на том ему, лицемеру, спасибо. Когда Екатерина ханжила, составляя наказ, разрешающий Комиссию по составлению нового Уложения, когда Александр либеральничал смолоду, что за дело было России, искренне они это творили или нет, — ей в те годы хоть как, да дышалось! Вот что они ролей не выдержали, что лицедеями-то оказались никудышными — это истинная беда!.. Так ведь и с нашим Николаем было. Что он посулил посланцам Европы, когда они явились поздравлять его с коронацией и уговаривали нас помиловать? «Я удивлю Европу своим милосердием…» Сказал, обнадежил, быть может, и сам верил в тот день. Хотелось ли ему миловать? Ничуть! А удивить? Конечно, хотелось! Словом, лицедействовал, только и всего. Но если бы не бросил и дальше лицедействовать в этом удивляющем роде, если бы трезво рассудил и расчет предпочел мести, которой ему так сердечно хотелось, если бы понял, что, прости он нас, сколько ясных умов обретет на пользу России… Да что теперь подсчитывать выгоду! Не выдержал. Сделал с нами совсем не то, что ему роль подсказывала, которую взялся он играть перед британцем да перед французом. Сделал то, чего сердце возжаждало. И добряк Станислав Романович эту сердечную прихоть честнейшим образом уловил, обдумал и разгадал лучше самого императора… — Опять ты за свое! И дался ж тебе бедный Лепарский! Да мы, коли угодно, на него молиться должны, как на ангела-избавителя! Короткая у тебя память, Иван! А про Бурнашева забыл? И случая с читинским Дубининым уже не помнишь?.. Не было у них этого разговора. Ни в заводской каторге; ни в Селенгинске, где Горбачевскому пришлось погостить; ни в Заводе — уже на поселении, — когда туда семь лет назад нагрянул Мишель; ни в Кяхте, в этом причудливом городке, куда неугомонный Бестужев завлек-таки петровского медведя и где в богатейшем, но и милейшем доме русой красавицы Серафимы Савватеевны Сабашниковой их, двух престарелых декабристов, пылко чествовала тамошняя просвещенная молодежь — младая и вольная братия, как патетически выразился тогда Бестужев… Словом, не было разговора. А мог быть, да порою кажется, что и был. Был, идет и еще не кончился. Дубинина Иван Иванович, разумеется, помнил. Был наслышан и о Бурнашеве. Этот, второй, в начале их каторжной эпопеи воеводил в Нерчинске, куда спервоначалу заслали семерых: Волконского, Оболенского, Трубецкого, Борисовых, Якубовича, Артамона Муравьева, и уж потрудился их допечь. Запер в вонючую, вшивую конуру, в которой они принуждены были располагаться для ночлега в три этажа, — да и то не могли спать, пожираемые известными насекомыми, охочими до человечины, — мучил непосильным рудничным уроком, кормил чуть ли не отбросами и унижал, унижал, насколько хватало злого воображения, от души стараясь, чтобы бывшие князья и разжалованные полковники хлебнули лиха из каторжного котла. Дали б ему волю, и вовсе допек бы, но ее-то, воли, к его неудовольствию, у него не было. И Бурнашов бранился с безбоязненностью холопа, который чувствует себя вправе развязать язык, если начальство, по его холопьему суждению, чересчур либерально: — Да что ж это такое? Черт бы их всех побрал там, в Петербурге! Что за глупые инструкции шлют нынче нашему брату? Говорят: «Содержать строго…» Ну и баста, так тому и быть, так ведь нет же. Еще и: «но беречь, говорят, здоровье»! А? Да не будь смешного этого прибавленья, уж я бы инструкцию, как должно, исполнил! Я бы их всех в полгода вывел в расход! Нерчинский обер-берг-гауптман лишь бесплодно мечтал извести высокородных каторжников; пьяница подпоручик из Читы на первом году тамошнего их сидения едва не исполнил его мечту. Александра Григорьевна Муравьева пришла на свидание с мужем Никитой Михайловичем в острог, как оно полагалось, в сопровождении дежурного офицера, именно Дубинина, который за ними без всякого стеснения и наблюдал. Разговор между Муравьевыми шел то по-русски, то по-французски, как придется, покуда Дубинин, хмельной по обыкновению, вдруг не обиделся. Что ударило в его затуманенный мозг? Что воркующие супруги норовят под покровом непонятного языка скрыть опасную тайну? На это пьяного воображения, пожалуй, не хватило бы, но как, черт возьми, стерпеть, что подвластные тебе люди смеют болтать на языке, в котором ты сам ни бельмеса? Словно так вот и тычут тебе в харю: невежда, дурак, хам!!! — Из-звольте по-нашему говорить! — полувыкрикнул, полупрохрипел он, ненавидящим взглядом упершись в господ, которые не желают привыкнуть к тому, что они более не господа; и эта резкость, как и нечеткий выговор нетрезвого человека, привела Муравьеву в замешательство: — Qu'est ce qu'il veut, mon ami?
Уж теперь-то подпоручик вовсе уверился, что чужое наречие надобно петербургской барыньке только затем, чтоб она могла безопасно изъявить ему, солдафону, слова насмешливого презрения, — не может же она, в самой деле, не презирать его! — Я тебе! Приказываю! Говорить! По-русски! — в бешенстве обиды он больно схватил Александру Григорьевну за руку, она в ужасе закричала, бросилась вон, он кинулся следом… Словом, возникло то общее состояние, когда все теряют голову и никто не видит, что они на самом краю пропасти. Сам Никита, брат Муравьевой, граф Захар Чернышев, прочие, кто услыхал крики, выбежали на двор и увидели бедную женщину, мечущуюся в истерике, и преследующего ее офицера, чьи намерения, наверное, не были ясны и ему самому, в ярости бросились на него, а он, бормоча что-то совсем несвязное: «Князья… ваши сиятельства… покажу… мы здесь тоже…», как в падучей, забился в их руках и закричал часовым и караульному у ворот: — Ребята! На помощь! Примкни штыки! Коли-и-и!.. Беда была рядом, но, по счастью, кто-то из благородных каторжников очнулся и крикнул солдатам, что офицер пьян и сам себя не помнит, да и солдаты отнюдь не проявили рвения своего командира и с места не двинулись. Дело этим еще не кончилось бы. Прибежавший впопыхах плац-майор Осип Адамович, племянник Лепарского, правда, просил всех успокоиться, но было видно, что он сам не уверен в мирном исходе и даже опасается, как бы ему не пострадать за обходительность с участниками
бунта. И лишь когда воротился дядя, бывший в краткой отлучке, все, слава богу, стало на места. Он не замедлил явиться в дом к Александре Григорьевне. Извинился перед нею за офицера. Уверил, что подобное не повторится, а затем направился в острог, где с грустью журил участников происшествия: — Ах, господа, господа! Ну что, если б солдаты не оказались так благоразумны? Что, если б они послушались не вас, а офицера? Ведь вы бы все погибли, ибо скрыть было бы ничего невозможно. Вас бы осудили как возмутителей, не посмотрев, что офицер первый дал повод, а в вашем положении это подвергает… словом, бог знает чему! Тогда Лепарский их спас, как и семерых нерченских мучеников, которых отнял у Бурнашева и перевел в Читу; грешно не помнить об этом и о многом другом в том же роде, и все же нет силы и нет резона вовсе разъединять спасителя Станислава Романовича и утеснителя Николая Павловича — так-то, дражайший Мишель!.. — Худо вам, батюшка мой? — А?! — Иван Иванович не услышал и не приметил, как отворилась дверь и в проеме встала Ирина — сама готовность утешить и оберечь. Встала не в ночном затрапезе, а в дневном платье; не спала, стало быть, прислушивалась, не позовет ли. — Я говорю, худо вам? Горячились вы что-то, слыхала я. Испить, может? Только тут Горбачевский догадался, что свой бессонный спор с далеким Бестужевым ведет уже не в одних мыслях, а вслух. — Нет, нет, Ириньюшка. Спи. Мне хорошо. Это я так, забылся. Ступай, ступай! Недоверчиво помаячив, Ирина тихо притворила дверь. Легко сказать: забылся. Нет, тут не забудешься — ни сном, ни сердечным беспамятством. …Чт? Бурнашев? Скверный, глупый, поспешливый лакей, который всегда ловит первое движение хозяйской души, да и уловил: мстительность Николая, злобность его, желание сразу разделаться с обидчиками. А Лепарский — как старый и дошлый слуга, который, получив мгновенное распоряжение, еще не кинется исполнять его, а выйдет за дверь, постоит, помешкает, подождет, не одумается ли барин, — Лепарский расчел истинную выгоду своего государя. Николай, минутно и тщетно попробовавший сыграть перед посланцами Европы великодушную роль, но побежденный страстями слабого своего сердца, вдруг благодаря коменданту — да, да, Мишель, ему и никому более! — вдосталь насладившись низкой местью, снова обрел возможность примерить личину справедливого монарха, который выше мщения. Когда Муравьев, будущий граф Амурский, был только назначен восточносибирским генерал-губернатором и нe побоялся принять у себя ссыльных декабристов, на него тотчас сыскался свой исполнительный Бурнашев. В Петербург полетел донос от иркутского губернатора Пятницкого, который надеялся угодить, но прогадал самым близоруким образом, как, впрочем, прежде просчитался и нерчинский тиран, отставленный от своей должности. Император с удовольствием вспомнил роль, которую некогда не доиграл, и произнес монолог, о котором позаботились, чтобы он был всеми услышан: — Вот наконец-то нашелся человек, который понял меня. Понял, что я не ищу личной мести врагам моим, а только исполняю государственную необходимость. Удалив преступников
отсюда, я вовсе не хочу отравлять их участь
там. И великолепный монолог сопроводил по всем сценическим правилам великолепным жестом: выгнал Пятницкого со службы, на сей раз согласившись явить непоследовательность, так как доносчиков вообще жаловал, а донос считал гражданской добродетелью. Не постеснялся же наградить предателя Шервуда титулом Верный… «Царь есть животное плотоядное», — записал любимый Горбачевским Плутарх. И что для него может быть первее насыщения плотью? Лицедей? О да! Лицемер? Еще бы! Но главнее и прежде всего хищник, который алкал и который насытился — не пролитой кровью, не скорою гибелью своих врагов, этого было мало, мало, мало, но участью поистине ужасной, как и пообещал когда-то Трубецкому. Сдержал, стало быть, монаршее слово. Во французской повести, которую Иван Иванович, когда-то прочитавши, полузабыл, рассказана история, которую уж не забудешь. Некий стихотворец сочинил пасквиль на римского папу Сикста — Пятого, что ли, — и тот, натурально, полюбопытствовал узнать имя обидчика, пообещав, если он только объявится, смертью его не казнить. Тот объявился, и папа отнюдь не нарушил святого слова. Всего лишь велел отрубить руки и вырвать язык. Николай казнил смертью только пятерых. Их же, прочих, он обезручил и обезъязычил, лишил и дела и слова, и для этой нескончаемой казни ему нужен был именно разумный и добрый Лепарский, испытаннейший из слуг, с которым при случае можно и не церемониться, ибо преданность — не корысть, она от милостей не зависит, ее и пощекотать любопытно: выдержит ли? Чтоб успокоиться, гляди-ка, выдержала… Еще в октябре, когда сил было побольше, Горбачевский пошел проведать Александру Григорьевну Муравьеву. Проведал. Часовня в починке покамест не нуждалась, только отец Поликарп опять бубнил про недостаток лампадного масла и жаловался на скудость присылаемых средств. Постояли с ним и над могилою коменданта. Как водится, помянули добрым словом. Когда Станислава Романовича хоронили летом тридцать седьмого, вышло замешательство: где взять ксендза? Но, поколебавшись, сообща порешили от отчаянности махнуть рукой, и предшественник строгого Поликарпа, беспутный поп Капитон Шергин, как сумел, отпел католика по православному обряду. Больше-то в те дни занимало совсем иное. — Вот увидите, худо будет без старика! Бог весть, кого теперь назначат, — ну как из жандармов? Ведь замучит строгостями! Отведет на нас душеньку! Обошлось. Новый комендант полковник Ребиндер точно был из жандармов, однако хуже не стало. Сверх того: он отменил даже необходимость ходить на работы, при покойном хоть формально, да соблюдавшуюся, — это тогда многих поразило, а Горбачевскому показалось понятным. Лепарский, служака честный из честных, где мог, все же придерживался формы и буквы и, может быть, знал, что делал: ему форма и буква указывали отчетливый путь к исполнению долга перед государем, но и спасали от государева же неразумного — даже исходя из пользы самого государя — произвола. Жандарм был свободней и безбоязненней, потому что имел уже возможность смотреть и на долг, и на букву, и на подопечных каторжников с циническим пониманием. Он тоже ведал, что творит: время минуло, месть совершилась, мститель удовлетворился, дальнейшее значения не имело… Памятник коменданту надзираемые им сами отлили на заводе, и он получился порченый: когда отливали, надломилась верхушка. Опять поколебались, что делать, и тут подал голос как раз он, Иван Иванович: — Зачем переливать? Оставим так. По мысли это мне даже и нравится: надломленный крест будет означать сломленную жизнь… Никто не спросил, чью именно, да он и сам бы не сумел прямо ответить. Уж верно, не комендантову — хотя как знать? И тот лег в неродную землю, и многим предстояло то же. Сейчас настает и его очередь. — Был столб, да сломился, — тихо произнес он, и священник, погруженный в свои земные заботы, как пробудился: — Что вы сказали, Иван Иванович? — Я говорю, батюшка, неужто сорока двух рублей мало? И Поликарп почти обрадованно вновь затянул про насущное и понятное: про недостаточность средств, про то, что сторожа хоть и жалуются на бедность, да сами больше пьют, чем работают, что народ вообще стал сущий разбойник, избаловался и испьянился, не то что было при покойном государе Николае Павловиче, да, говорят, и при покойном коменданте, царство им обоим небесное…
«Ты ко мне писал и спрашивал о состоянии памятника покойной Александры Григорьевны Муравьевой. Он стоит, и все сделано относительно его починки, по просьбе
Софьи Никитичны; но вот в чем дело: лампада не горит по недостатку масла, а масла нет, как мне сказал о. Поликарп, оттого, что недостает денег на покупку масла, же. Не знаю, в каком банке лежат деньги, т. е. капитал, и при прежних процентах и дешевизне масла было достаточно этих процентов, чтобы лампада горела круглый год; но теперь банк уменьшил проценты, кажется, дают теперь два или три только процента, следовательно, денег не достает на покупку масла, которое теперь здесь вздорожало до неслыханной цены. Я сегодня получил от здешнего бухгалтера записку, вот тебе копия:
«…вступило суммы, принадлежащей умершей А. Г. Муравьевой, 56 руб., 56,5 коп. серебр.
Из этого в 1862-м году употребится:
На жалованье сторожам 6 р. 84 к.
Священникам на панихиды 7 р. 14 к.
Затем остается на освещение 42 р. 58, 5 к.».
Староста церковный, казначей, комиссар и о. Поликарп говорят, что на эти деньги нет возможности целый год освещать маслом памятник; да и посмотри счет, — бедным сторожам приходится очень мало…
Пиши ко мне, прошу тебя об этом особенно, не забывай, что я один в Сибири: скука и тоска меня одолевают, несмотря даже на привычку жить столько на одном месте…»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Продолжение
«В Петровском было около двух тысяч жителей…»
Делая эту выписку, не утерплю щегольнуть сугубой точностью: недаром же тяну я усердную лямку в заводской конторе, став чем-то вроде ее архивариуса. В Петровском Заводе, он же Петровский, он же Петровск, он же при случае просто Завод, при переводе в него декабристов жителей было ровным счетом 2035. Жилых домов считалось 368. Из них казенных — 14, обывательских — 354.
«…Четвертую часть этого населения составляли чиновники, горные служители, служащие и отставные разночинцы, солдаты горного ведомства, старики, выслужившие сроки в работах и т. д. Остальные, т. е. ?, были ссыльно-рабочие или каторжники, сосланные за важные преступления и наказанные кнутами, со штемпельными знаками, одним словом, люди, по своему преступлению и в особенности по наказанию исключенные навсегда из общества, а потому и естественные враги его».
Каковы были нравы и быт? Когда расспрашиваю, отвечают кратко. Нравы были дикими; наказания, как водится, их не смягчали, а ожесточали — и как было не ожесточить? Вот еще цифры, попавшиеся под скорую руку. 1831 год: свыше ста каторжников работают и обитают прикованными к тачкам. 1848-й: четырнадцать человек еже- и круглосуточно приковано цепями к стене. Что до быта, то он пребывал в состоянии доисторическом: ни базара, ни лавки. Торговлишка завязалась и даже разрослась именно с появлением новых, денежных узников. К слову, чтоб не забыть: вчера слышал забавный анекдот. Ч., казачий есаул в летах и в отставке, вспоминал, что особенно щедро платили дамы. Говорит, что сам однажды получил от Трубецкой пять рублей. «Ну, не стану врать, в ассигнациях», — прибавил он с честностью обстоятельного летописца. И за что? За очинку пера. Это сладостное происшествие продолжает тешить его по сей день. Но это присказка. Сам анекдот таков. Некий ссыльнокаторжный «при князьях» — так здесь определяли и еще определяют эпоху, начавшуюся с переводом декабристов, — решил вспомнить свое старое, доворовское ремесло мясника, заторговал и разжился. Отгрохал двухэтажный дом и, чтоб совсем утвердиться на высоте положения, выпросил «у князей» красный халат. В довольстве у человека просыпаются чувства, которые бедность успела вытравить; мясник затосковал в своих палатах, вспомнил жену, оставленную в России, выписал ее, и в Завод явилась, протрясясь на телеге весь путь из Ярославщины, убогая баба. Ч., гордящийся своим остроумием («А я смолоду, скажу вам, и мастак же был над всяким
олохоном погалиться», то есть: над простаком посмеяться), первым повстречал женщину, спрашивающую, «где тут, ваше благородие, Митрий Ефремов стоит», и нашелся: — Ты с мужем погоди. Успеется. Тебя по порядку перво-наперво надо самому коменданту представить. И представил: разумеется, мужу. Жена, увидав пузана в невиданном халате, пала в ноги «его превосходительству», а польщенный супруг и находчивый шутник долго хохотали, последний и до сих пор не отсмеется. Спасибо сестре Катерине, Кате Маленькой, как я ее, бывало, звал. Не столько по праву старшего брата, сколько потому, что наш с ней родитель Роман, пребывая в задубевшей верности своему возлюбленному восемнадцатому веку, уж конечно, и ее окрестил не без гордого умысла — дабы и она оказалась дважды тезкой самой княгини Дашковой, знаменитой наперсницы той Екатерины, что звалась уже не Маленькой, а Великой. Гаврила Романович… Катерина Романовна… А ведь добился старик своего, и меня заразив пристрастием к прошлому нашему столетию. Да, утешила сестренка, выручила, снизошла к стыдливым мольбам, хотя пришлось-таки бедной немалую деньгу отвалить — по ее-то доходам, собранным с уроков. Да и просто ли было раздобывать «Русскую старину» двенадцатилетней давности с воспоминаниями Михаила Бестужева? Или бартеневский «Девятнадцатый век» за 1872 год, где печатались записки Басаргина (из которых и сделал я выписку о Заводе)? Даже «Записками декабриста» барона Розена я разбогател ее милыми заботами, — лейпцигская редкость, шутка сказать, проникшая ко мне сквозь почтовое частое решето только по оплошности осмотрщиков (за что хвала — не осмотрщикам, а оплошности). И «Отечественными записками» с «Сибирью и каторгой» Сергея Максимова — он-то успел застать Горбачевского, и говорил с ним, и описал. Жаль, бегло. А вот и вовсе свежатинка, из которой ветровая сибирская дорога не выдула душно-сладкого запаха типографии: «Воспоминания декабриста А. Беляева о пережитом и перечувствованном. Санкт-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1882». Теперь я Потемкин, Крез, Ротшильд — кто там еще из легендарных богачей в силах сомной потягаться? Вот в эту сокровищницу да самого бы Ивана Ивановича… Но из петровского пепла и Феникс бы не воспрянул. Книги книгами, а рыщу, знакомлюсь, одолевая свою застенчивость, выспрашиваю. Боюсь, как бы ко мне не привыкли, точно к назойливой побирушке, и не начали шарахаться, но пока бог миловал. Люди тут словоохотливые — беда, что разохочивать уже почти некого: иных нет, те далече, у оставшихся память слабеет. Ну да авось. Капля, сказано, и камень точит — проточу ли тот, который на него и на них власть навалила забвения ради? Имел беседу с Алексеевым, моим знакомцем. — Мы, молодые, на Ивана Ивановича чуть не молились. И он нас любил. Учил. Книги давал читать и сам для нас переводил — Руссо, Вольтера. «Орлеанскую деву» Шиллерову, вообразите, всю перевел. Зато уж и мы ему тем отвечали. Хотя, по чести сказать, всякое случалось… — Вы о чем? — Ну, знаете, молодо-зелено… Все мы об эту пору хотим показать, что сами с усами. У-у, не подступись! Вот и мы, бывало… — Да что же именно? — Как вам сказать? Не то чтобы мы его огорчить хотели, однако иной раз… Да вот хоть Николай Николаевич Дубровин, горный инженер, — его еще в молодых летах начальником завода сделали — он тоже очень Ивана Ивановича почитал. И помогал ему много. Только уж больно они разные были. Трудно им было во всем сойтись. Николай Николаевич, знаете, и, как бы это сказать, от Бахуса не отворачивался, и перед прекрасным полом никогда устоять не мог, а Горбачевский — тот совсем другой был. Вина в рот не брал, ни-ни, да и женщину знал только одну. Ирину Матвеевну, отличную женщину, надо сказать. Да что там! Он даже против охоты выступал. «Это, — говорит, — не нужда и не молодечество, а хищничество, то же убийство…» — И что же, только поэтому они с Дубровиным расходились? — Нет, что вы! Разумеется, не только. А… словом, на все вещи по-разному смотрели. Николай Николаевич иной раз просидит у Горбачевского вечер напролет, а после выйдет и засмеется: «Хороший старик, но из ума выжил. В детство впадает. Не может понять, что их время — тю-тю, ищи ветра в поле!» — Их — это значит… — Ну да, это он вообще про них, про декабристов говорил. А то Малков тоже придет к Ивану Ивановичу, Да придет-то пьяней вина… — Малков — это тот мерзавец, который библиотеку промотал? — Он самый. Придет и начнет с порога. Что, мол, вы там такое совершили, чтобы вас помнить и уважать? Вы, скажет, только погрозились, а как на вас прикрикнули, вы и пошли себе в Сибирь тихомолком. Разве таковы настоящие либералы?.. Ну, на Малкова Иван Иванович даже и обиды пе тратил, он его насквозь видел. А вот Един его огорчал, и очень огорчал… — Един? Я о нем никогда не слыхал! — В самом деле? А я думал, что уж рассказывал вам про него. О, это совсем другое! Бедного Илью Степановича Горбачевский больше всех любил. Да и мы тоже… — Бедного? Почему? — Так он же помер. Да, да, еще лет десять назад. В Италии. В Пизе, кажется. Воспаление легких, а там, глядь, и чахотка, прескверная штука, я вам скажу… Это он мне, Кружовникову, говорит! — …Словом, Илью Степановича Горбачевский из всех нас выделял. Даже поговаривали, будто Елин сын его незаконный был, только я-то верно знаю, что нет. Воспитанник — да, был. Иван Иванович его сам и в иркутскую гимназию подготовил, в четвертый класс. Потом уж Илья Степанович и в Москву уехал, в университет, по медицинской части пошел — наше горнозаводское ведомство его на пенсион определило. А там, вообразите, стал ассистентом у самого Боткина, только в Москве все-таки не остался, воротился сюда. К родным, если так выразиться, пенатам. И в заводском лазарете служил, с мужиками да с каторжными возился. Разве не благородно? — Но ведь и вы же, Харлампий Романович, сюда вернулись. — Ну, я… Я выше Нерчинска не летал и дальше Иркутска не метил, а покойный Илья… Но я отвлекся. Простите великодушно. Они с Горбачевским души один в другом не чаяли, однако, если уж дело до политики доходило, в Илью точно черт вселялся. Ваше, скажет, восстание не только было бесполезно, а и вредно. Да, да! Вы России один вред принесли!.. — Даже так? — Вообразите! Если бы, говорит, вы Николая не напугали, он бы непременно реформы провел. Он бы крепостное право отменил, а вы мало того, что на него на всю его жизнь нагнали страху перед любой переменой, вы, говорит, заставили его вашу кровь пролить, а уж после этого царю пришлось жестокую роль доигрывать… Тут я не утерпел: — Экая, простите, чушь! Но уж вы-то, надеюсь, давали отпор? Алексеев сконфузился: — Как вам сказать… Бывало, и соберешься, и слова даже найдешь, но как Илья пойдет метать молнии… Только вы, может быть, подумали, что мы Ивана Ивановича не любили? Мы его очень любили. Чуть не молились. И он к нам был добр, особенно, конечно, к Елину… Еще в Петербурге один старичок из породы вечнозеленых, благожелательный, благоухающий, благоустроенный, но непонятным мне образом прикосновенный к кругу самих «Отечественных записок», поведал следующее: будто сам Щедрин несколько лет назад подумывал написать рассказ, язвительного замысла которого не скрывал. Сидит в Сибири кто-то из новых страдальцев — Чернышевский или, может быть, Петрашевский. А мимо него проезжают в Россию декабристы — прощенные и примиренные, благонамеренные и законопослушные. Едут и насвистывают: «Боже, царя храни». И еще его, нового, укоряют: «Как вам, дескать, не стыдно? Царь у нас такой добрый, а вы что же, милостивый государь, себе позволяете?» Каюсь, тогда и я рассмеялся: так их, мол. Теперь призадумался. Нет, не соглашусь — это при моем-то преклонении перед Щедриным. Страшно судить тех, кого мучили и кто мучился, и жестоко, думаю, непременно требовать от мученика, чтоб он от мук ничуть не менялся. И уж вовсе невозможно прошлые муки сбрасывать со счетов, ибо они прошлыми и не бывают, а навсегда остаются: если кто взаправду перестрадал, этим он был и остается возвышен. Однако что правда, то правда: кто не примирился, тому особый поклон. Любопытная бывает у слов судьба. Вот — только что написалось, и притом вполне иронически: «…благонамеренные и законопослушные». А что, собственно, тут дурного и стыдного? Взять тех же соратников Горбачевского. Их намерение свалить Николая, оно что ж, не к благу было устремлено? И не мечтали они разве слушаться закона, его одного? Среди самых известных историй о декабристах перед царским судом — та, как высочайший допросчик сказал Николаю Бестужеву: — Я мог бы вас помиловать, и, если буду иметь уверенность, что вы отныне станете моим верным слугой, поверьте, я так и сделаю. Лгал, конечно, и не в том еще сила Бестужева, что он не поверил. Бестужев отказался принять сам язык этой логики: — Государь! Мы как раз оттого и страдаем, что вы все можете и что для вас нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет зависеть в будущем от ваших капризов или минутных настроений. Он требовал, чтоб ему предоставили возможность быть законопослушным. Прекрасное слово перестало быть прекрасным, напротив: в устах благородных людей попало под подозрение как льстивость или холопство, а почему? Потому, что закон приравняли к воле монарха, вернее, подменили его ею. «В России нет закона…» — ну и так далее. Когда-то императрица Екатерина, прочитав не по чину дерзкое суждение Дениса Ивановича Фонвизина, вспылила: «Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели»… Вспылила? Полно, так ли? Казалось, что может быть похвальней свободоязычия — и именно в ее глазах: сама ведь хвастала, что в сравнении с предками в ее государстве стало вольнее дышать и языки развязались, те, которые прежде вырвали бы. А вдруг она захотела тем даже поощрить сочинителя? Если бы… Только Фонвизин-то знал, что к чему и кто о чем, а замельтешил, перепугался, стал уверять, что сам свободоязычия терпеть не может, — а было чего пугаться… И это слово, значит, тоже перекалечили, как и «вольнодумство», «вольномыслие», — не приведи, господи, если тебя так припечатают! А что ж за мысль, если она не вольна? И что за проклятые обстоятельства, в которых искажаются и перетолковываются понятия самые что ни на есть главные: «свобода», «вольность», «мысль», «благо», «закон»? Да и «послушность», в конце концов, чем худа? Это же порядок, мечта о порядке! Отчаяннейшие якобинцы, говорят, начертали на дверях своего клуба: «Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» Задорный язык. Понятный язык. Но, думаю я, и благонамеренность, и законопослушность, та, к которой взывал Николай Бестужев, тоже может быть революционна — и у них, у декабристов, такой стала. Вот парадокс нашего существования. У Максимова в его «Сибири и каторге» вычитал вещь удивительную. Горбачевский, говорит он, имел следующее обыкновение: «…выстраивал домик, высматривал добродетельного и стоющего из ссыльных, выходивших на пропитание, брал его к себе (иногда двух и трех вместе) под видом личных услуг, но, собственно, на воспитание. Если последние задавались, опыт был удачен, Иван Иванович, убедившись в честных правилах поселенца, передавал ему домик в собственность, сам для себя строил другой, третий, до десятого; эту десятую хатку на наш приезд в январе 1861 года он приготовил также для исправившихся ссыльных». Кому из знавших Горбачевского или хоть наслышанных о нем ни прочту, все — в смех: — Иван Иванович? Десять домов? Помилуйте, у него копейки за душой не было! Отсмеявшись, однако, объясняют, что это роскошное древо произросло из махонького, но, по крайней мере, настоящего зернышка. Вот что было: Горбачевский, когда бывал не вовсе безденежным, брал к себе какого-нибудь ссыльнокаторжного, платил за него в казну, сколько тому полагалось по данному ему уроку выработать в год, и приучал его, обычно развращенного воровским привольем, к труду. Отговаривал пить
хамло— водку, по-ихнему. Кормил. Это делал нищий. Из последнего делал, от щедрого сердца, а не от набитого кармана, — так нет же, надо было придумать владетельного филантропа, который и милостыню раздает не иначе как домами. Впрочем, что я так раскипятился? Во-первых, если и врут, так не со зла же, напротив! Не отнимают доброй славы, но прибавляют ее, хоть бы неуклюже. А во-вторых, все это, в общем, понятно. Даже — трогательно. Припомнил даму, сообщившую об Иване Ивановиче столько романтического: — Преображенский полк… Красавец… Щеголь… Лучше быть первым в деревне, чем в столице последним… Ведь вот: видели Горбачевского, встречались, знали, а умер — заторопились с легендой. Поспешно забыли его непарадную, заскорузлую плоть и вылепили из своих воздушных вздохов словно бы декабриста вообще, князя, графа, ну, на худой конец, кавалергарда или преображенца, томного красавца или утомленного богача, который — этакий перелом, этакая жалость! — вдруг с вершины судьбы да в каторгу, из великосветской гостиной да в каземат на болоте, однако и там если страдает, то с отменной проникновенностью, если благотворит, то с размахом магната… Легенда понятнее того, что было и есть, — в этом дело. И в этом моя разыскательская беда. Ох, трудно нам, новым, понять их, стариков! Любим, почитаем, чуть не молимся, как говорит милейший Алексеев, и вот, любя, почитая, благоговея, накидываемся с пеной у молодых губ на дело, за которое они жизнь положили, или лениво лепим из них что-то вовсо несуразное. Проще все было, проще… Да вот как ее, трудную эту, чертову простоту извлечь на свет божий из-под собственных вялых фантазий? Опять разговор с Алексеевым. Рассказ его о том, что помнит и что слыхал — от самого Ивана Ивановича и от других: как Горбачевский, надеясь выбиться из нужды и стать даже вполне деловым человеком, брался то за одно, то за другое, пробовал торговать сеном, взял было подряд на перевозку бревен и камня, мельничал, и все без проку, все в убыток. Сам изумлялся и приходил в отчаяние, иногда — комическое: — Да что ж это такое? Неужто я такой дурак? Справляются же другие, — вон Раевский Владимир Федосеевич, слышно, по всей Ангаре хлебную торговлю завел, а я? Нет, видно, не наша еда — лимоны… Такая, говорит Алексеев, была у него присказка. Случилось время, Иван Иванович оживился, затеяв мыловарню. Строил планы один другого прибыльнее, озабоченно толковал, что вот за осиновую золу дерут немилосердно, радовался, что зато сала удалось прикупить с выгодой, но время шло, а дело стояло. То не мог сыскать мыловара, то легкомысленный компаньон проторговался — кончилось это предприятие снова ничем и, хуже того, убытком в две тысячи. — Лопнуло как мыльный пузырь, — нашел бодрости для каламбура Горбачевский. Ко всему умер компаньон, а без него, какого-никакого, он дела продолжить не умел. Незаметно беседа наша перекинулась на покойного компаньона, человека причудливого. То был петровский лекарь Ильинский, семинарист, окончивший медико-хирургичеокое отделение Московского университета, но талантов не явивший и потому ничего лучше и ближе Завода не выслуживший. Он, впрочем, на это отнюдь не жаловался: — Что вы! Где бы мне еще четверное жалованье положили? Рубль серебром за рубль ассигнациями — не шутка-с! А общество? Да ни в Москве, ни в самом Петербурге такого не сыщешь, все, что было лучшего, сюда отправили!.. Лечил он этих избранных тем не менее так худо, что комендант и декабристы раз и навсегда решительно предпочли ему одного из узников, Вольфа, врача в самом деле превосходного. Лепарский, к горю и обиде Ильинского, запретил ему даже ходить в каземат, гуманно переуступив этого неумеху солдатам и ссыльнокаторжным из простых, и тому ничего не оставалось, как утешать свое самолюбие картами и вином. Разговорившись, Алексеев посвятил меня в историю женитьбы Ильинского, где самый непритязательный юмор совсем по-российски оказался пограничен с печалью и драмой. Он женился на купеческой дочери, взяв ее за себя четырнадцати лет… — Четырнадцати? — не удержался я. — Прямо-таки Верона, а не Петровский Завод! — А? Да, да… — боюсь, что Алексеев не понял моего намека на Шекспирову «Ромео и Юлию», но тем не менее продолжал, смеясь: — Она еще таким ребенком была, когда Ильинский женился на ней. Наивна была бесконечно, и, когда, говорят, княгиня Волконская однажды восхитилась ее черными глазами, та в слезы: «Господи, да разве я корова, что у меня такие глаза? Да разве я виновата, что бог их сделал черными?..» И вот этот человек, существо нелепое, вздорное, прямо комическое, даже он был перетряхнут и перевернут, встретившись с людьми той породы, о существовании которой и понаслышке не знал. Сперва, слушая их разговоры, он искренне поражался: как так? Говорят они словно бы и по-русски, каждое слово по отдельности ему внятно, а смысл остается темен! Ему не постеснялись указать всю бездонную пропасть невежества, и он, ничуть не обидевшись, кинулся учиться сам и жену учить по-французски, самолично читал и ее принуждал читать сочинения самого философского и даже заумного свойства, вообще уже ни о чем более, как о философии и политике, разговаривать не желал, неся, конечно, чепуху ужаснейшую, особенно на просвещенный взгляд тех, кто его невольно и вольно к этим штудиям и прениям приохотил. Над ним насмешничали, но любили. — Когда он умирал в чахотке… Не могу сказать, чтоб частые упоминания Алексеева то об одном, то о другом заводском жителе, именно таким образом отправившемся на тот свет, слишком бы радовали меня, давнего знакомца прескверной штуки, но приятель мой по простодушию этого не замечает. И слава богу. — Когда он умирал, то завещал жене, которая его обожала и во всем слушалась, не выходить ни за кого, кроме как за Петра Борисова. Тот его наставлял в философии, и его Ильинский тоже и слушался и обожал. Она, разумеется, поклялась, и так бы оно и вышло, если бы… Говоря коротко, пока тянулся положенный трауром срок и Борисов, вдруг почувствовавший себя влюбленным, счастливым и уже неодиноким, ждал блаженного мига, вдовушка увлеклась каким-то поляком-гувернером, и на свет явились вполне материальные последствия этого увлечения. История, над которой можно было бы только шутить, подействовала на Борисова самым драматическим образом и, неожиданно разбив неожиданные иллюзии, как говорят, помогла ему сойти в могилу. Петра Борисова Алексеев помнит еле-еле («…такой тихий… глухой, кажется… и сразу видно, что добрый…»), но со слов Горбачевского почитает за человека редкого. На каторге они с Иваном Ивановичем не казались слишком близки, на поселении не встречались, но в старое время были сослуживцами по 8-й артиллерийской бригаде 1-й армии и стояли оба во главе Общества соединенных славян. Борисов его и учредил, одним из первых приняв Горбачевского; только потом они согласились соединиться с Южным обществом. Вообще, замечает мой собеседник, он не встречал ни одного человека, который отозвался бы о Борисове дурно, исключая, впрочем, Завалишина, который, кажется, вообще не очень жаловал весь человеческий род. Характером он был так мягок, что соседи по заключению хоть и стыдились, но не удерживались, чтобы не попользоваться его безотказными услугами — надо ли не в очередь копать гряды для огорода или носить для поливки воду. Он был до такой степени уступчив, что трудно было постичь, как он мог основать столь неуступчиво-радикальное по своим намерениям тайное общество. Для поселения они с братом его Андреем выбрали деревню Малая Разводная. Бедствовали крайне. Петр пробовал заработать на жизнь переплетением книг и — еще неудачливее — искусством, которым владел в совершенстве: был тонким акварелистом, избравшим для натуры сибирскую флору и фауну (Алексеев видел его рисунки и утверждает, что большего изящества нельзя вообразить). Андрей тоже просиживал дни за переплетным столом и еще клеил коробочки для разных, часто неопределенных нужд. Петра Борисова все звали Борисов 2-й, так как другой брат был старшим и, следовательно, Борисовым 1-м, но младший, без сомнения, первенствовал во всем и всегда, в последние же годы его первенство обрело горестный характер. Андрея в Чите поразил душевный недуг, и он прозябал под присмотром брата и благодаря его нежнейшей заботе. Помешательство, к тому же буйное и опасное для окружающих, имело странный мотив: больному мерещись, что Трубецкому дана слишком большая власть и добрейший Сергей Петрович намеревается погубить всех, кто ему неприятен, в первую голову, конечно, его, Борисова 1-го, Почему именно Трубецкой? Ответа нет, ибо в затухающий мозг заглянуть никто не был в состоянии, и все ж поразительно, как нежданно отозвалось князю его неудачное диктаторство на Сенатской площади… Конец братьев был страшен. Петр-то умер в одночасье, во сне, чего каждый из нас может себе пожелать, но дальнейшее эту мирную кончину обратило в кошмар. Безумный Андрей пришел будить разоспавшегося брата и, увидев его мертвым, тут же схватил бритву, перерезал себе горло, кинулся, обливаясь кровью, в свою комнату, заваленную отбросами переплетного ремесла, поджег, выбрался, задыхаясь, на двор и там удавился. Записывать — и то жутко, чернила стынут, но молве этого показалось мало. Разнесся слух, что и Петра кто-то зарезал — от «князей», в число которых заносили с маху и нищих армейских подпоручиков, ожидали, чтобы они жили и умирали людьми из легенды, все равно, возвышенной или ужасной. Проще, проще… Кого это я заклинаю? Стихию, которая рождает молву, или себя самого?
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 10 дня
«Не говори мне о вашей гласности; я не так понимаю ее, как это делается. Вероятно, я не все читаю, что пишут, я это очень натурально, потому что здесь бедность и на книги, и на гласность. Я даже еще хорошо не понял про свободу крестьян, что это такое — шутка или серьезная вещь. Постепенность, переходное состояние, благоразумная медленность, все это для меня такая философия, которую я никогда не понимал. И я тебе говорю истину буквальную. Мать моя — из фамилии Конисских и была когда-то помещицей, была истая малороссиянка, т. е. ничего не понимала и не знала, кроме монахов и Киево-Печерской лавры, куда отдавала последнюю копейку; зато была набожна и хозяйка, т. е. много было сала и моченых яблок. Она, не знаю уже каким образом, сделала так, что имение, тоже не знаю большое или малое, передала и перешло мне и моему брату, тому с лишком 40 лет, когда я вышел в офицеры в артиллерию, а брат мой вышел в полевые или военные инженеры.
Я приехал домой, проездом в бригаду, которая стояла на квартирах в Малороссии, и застал дома одного отца; мать умерла, сестры вышли замуж, он, бедный, один был, это было далеко от Малороссии…»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
Дерево было толстым, много толще обхвата, гладким, словно с него наголо ободрали кору, и он лез по нему вверх, не переставая притом изумляться, как же это ему удается и что за сила помогает, — ведь ни сучочка, чтобы ухватиться или поставить ногу. И все-таки лез, поднимался, подтягивался, вот-вот должен был достигнуть чего-то, чего не мог разглядеть сквозь уже близкое, почти жестяное щебетание листьев, только знал, что это есть, что оно его ждет, и чувство сбывающегося счастья мучительно распирало грудь. А внизу кто-то — он твердо знал кто, но отчего-то не мог или не смел даже в мыслях назвать его по имени — окликал и торопил: — Быстрее же! Ну быстрее! Да не просил — умолял, заклинал, требовал, а он лез, лез, лез, зная, что стоит лишь дотянуться до этого, ощутить его трепещущими пальцами, как все станет сразу совсем хорошо, хорошо, как никогда не бывало прежде, и они оба, он и тот, кто торопит его, наконец узнают… что?., но под ногой сухо треснуло и надломилось. Сук? Откуда, ежели не было ни одного?.. И нога оскользнулась, и пальцы, вмиг утратив цепкость, беспомощно разогнулись и заскользили, и сам он, сразу отяжелев телом, ухнул вниз и понесся, горячо обжигая грудь и живот, быстрей, быстрей, но почему так долго, так бесконечно? И падение, и удар, нестерпимо отозвавшийся внизу живота… Боль разбудила его. Но даже она, настолько резкая, что так и не стала привычной, не вдруг извлекла ого из того мира, где он только что был и откуда возвращаться но хотелось до чрезвычайности. Правда, тогда, наяву, он не сорвался — залез-таки. Теплый сентябрь 1821 года. Он, еще только прапорщик, которому через несколько дней стукнет двадцать один, возвращается из Петербурга в свой Новоград-Волынск, в уже родную 8-ю бригаду. Короткая столичная служба не задалась. Его, небеспричнно прослывшего знатоком математики, и особенно алгебры, вызвали было занять вакансию в «Дворянском полку» — военном заведении при 2-м кадетском корпусе, которому надлежало ускоренным способом приготовлять офицеров к службе и которое сам он недавно окончил. Но на этом месте не усиделось. Он отпросился в действующую армию — в армию, впрямь изготовившуюся к действию, и душа его в эту минуту самолюбиво дрожит: впереди слава или геройская смерть — кто угадает? — но, что бы там ни было, дело и драка. Их корпус идет на Италию, чтобы по-свойски утихомирить расшумевшихся неаполитанцев… Не один раз после Иван Иванович сердцем благодарил судьбу, в ту пору еще благосклонную. Ну что, если б поход не отменили за ненадобностью и пришлось бы потом винить себя в карбонарской крови? А ведь сам, сам, треклятый мальчишка, щенок разлапистый, радовался и рвался, и он ли один? Невелико утешение, но в каторге ему пришлось услыхать от товарищей, даже гораздо старших: иные, кого известие о карбонариях окрылило и обнадежило, подав пример смирной отчизне, в то же время желали этого похода не меньше его, о чем удивленно и покаянно вспоминали через десятилетия. Чудно! Еще когда жив был император Николай, закадычный друг Белозеров привез из Кяхты, из вольного Забалуй-городка, как окрестил эту купеческую полуреспублику сам Горбачевский, нашумевший по потайным углам роман Дюма «M?moires d'un ma?tre d'armes»
, и Иван Иванович не утерпел прочесть. Любопытно было, что ж это за сочинение, ухитрившееся рассердить одним разом и утеснителя и утесненную — императора, который его настрого запретил, и Полину, то есть Прасковью Егоровну Анненкову, которая почла себя кровно оскорбленной романом? Прочитал. Смеялся, а больше ворчал, изумляясь приказчичьей бойкости, с какой прославленный романист населил петербургский Литейный проспект волками, волжские стерляди пустил по восьмисот рублей за штуку… Да это шут с ним, пусть тешит экзотическими чудесами de cette mystcrieuse Russie
своих белошвеек, так нет же: он взялся рядить и о российских тайных обществах. И о мытарствах их сибирских! Базарное скоморошество, ряженые на святках — или как по-ихнему? Карнавал? И можно ли было не понять ревнивой ярости Анненковой! Ее-то, француженку, соотечественник еще словно бы помиловал, а уж супруга Ивана Александровича вывел прямым дуроплясом. В романе он и на Сенатскую идет из скуки да от безделья — только-то! Ворчал, однако же не торопясь бросить чтение на полустранице, и вдруг, как споткнувшись, прикусил больно язык. — Ах, я мог бы утешиться на поле битвы, но, по несчастью, в Европе сейчас спокойно, — нечто этакое декламирует перед прелестницей романический
граф Ваненков(ну и имечком разодолжил Анненкова Дюма, заодно от щедрот своих препожаловав и титул), и поздний стыд охватил Ивана Ивановича: что ж, выходит, и его молодую глупость невзначай угадал француз, в ту пору еще не видавший России, — только поело смерти непростившего Николая он приедет в нее наконец, амнистированный почти что как сами декабристы, и случайно встретится в триумфальном своем вояже со стариками
Ваненковыми. Да, да, не все и в ту пору было так просто, как в пустейшем романе, сама скука была другая и от другого, а все ж, коли случился бы поход на Неаполь, поди объясняй потом себе и другим: мол, оттого и рвалась душа хоть к какому-то делу, что мочи не было костенеть средь подступающих политических холодов и прятать глаза, когда кто помаститее начнет поминать со смаком французскую кампанию, — будто это ты сам виноват, что опоздал явиться на свет… Но это он и поймет потом, и стыдиться, и благодарить молодую свою судьбу будет тоже потом, а пока сердце дрожит, спешит, и даже то, что с отцом удалось повидаться лишь наспех, завернув в Витебск из Петербурга, не печалит — вся жизнь впереди, можно ли догадаться, что больше не свидятся? Иван Васильевич, отец, он-то словно догадывался. То есть по опыту старых людей, привыкших к превратностям и превратностей ожидающих, знал, что ко всякой встрече следует отнестись, будто она последняя. Не торопиться, но и не откладывать дела. Улучив минуту перед расставанием, однако и не настолько близко к нему, чтобы надобно было спешить, он усадил сына в комнате, которую именовал залом, и с подобающей случаю торжественностью обеими руками выложил перед ним связку бумаг. Еще — для убедительности жеста — прикрыл правой ладонью. — Вот, Иван. Ты теперь получил звание — хорошо. У покойной матери, ты знаешь, было именьице… то бишь оно и сейчас есть, вот матери у нас теперь нету. Словом, что толковать: бери эти бумаги во владение имением. Мне они не нужны, а ты с ними делай, что знаешь. Помолчал и добавил уже не столь торжественно: — Да вот еще к тебе просьба. Как будешь в нашей деревне, то… Ты там хоть и давненько бывал, да уж, верно, помнишь: у ручья растет яблоня. Ты ее сразу признаешь, она в стороне стоит, наособицу. Так сделай мне одолжение, не поленись — побывай-ка на ней… И увидав, что на сыновнем лице промелькнула некоторая ошалелость, улыбнулся смущенно: — Оно тебе, может быть, покажется и странно, да я на нее, бывши мальчиком, лазил. Не сдержавшись, Иван Иванович совершил то, что отцом не поощрялось: дернулся поцеловать его… и тут же себя сдержал. Но отец, вопреки собственным правилам, снисходительно принял это
бабство, сам обнял сына, сам и расцеловал, может быть превратно истолковав его противоречивое движение как проявление и чувствительности и сдержанности, что в совокупности мужчину уронить не может. Хотя сын-то одернул себя по иной причине. Он вдруг испугался, что порыв может быть понят как благодарность за бумаги и за имение, за то, к чему и он, как отец, был всегда равнодушен…
«Я уехал. Приехавши в губернский город, там я нашел какого-то нашего дальнего родственника, дурак набитый и чиновник, предлагает мне, как помещику, съездить в деревню. Я сначала отказался, и, какие резоны он мне ни представлял, ничего не помогало — мой ответ ему был один, что всякая деревня помещичья для меня отвратительна. Но, вспомнивши, что мне надобно побывать на яблоне, исполнить волю и завещание отца, я согласился, тем более, что это было по дороге в бригаду, которая стояла в Полтавской губернии. Только что приехали, я, не входя в дом, побежал к яблоне, сбросил с себя сюртук, полез на яблоню, чуть себе шею не своротил, посмотрел кругом, опять долой и прихожу к дому; а чиновник уже собрал там народ — посмотреть на нового барина. Увидевши толпу хохлов, не знаю кому, я приказал лошадей запрягать, дальше ехать: чиновник вытаращил глаза.
— Куда так скоро?
— А мне что тут делать? — сказал я ему.
— Вот ваши крестьяне.
Я, чтобы кончить развязку, подошел к толпе и сказал им речь, конечно, она не Цицерона и Демосфена, но по-своему, потому, что меня вся эта глупость взбесила.
— Я вас не знал и знать не хочу, вы меня не знали и не знайте; убирайтесь к черту.
Сел в тележку и уехал в ту же минуту, даже не поклонившись родственнику-чиновнику, который за это после жаловался на меня отцу, а тот хохотал до упаду…
Вот тебе, Евгений Петрович, наша с крестьянами уставная грамота…»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
«Не желай иметь раба, когда сам рабом быть не хочешь». Эту краткую заповедь, твердо памятную еще по детским чтениям из Плутарха, Иван Иванович встретил снова, читая Правила Соединенных Славян, когда два года спустя Петр Борисов принимал его в общество, с которым отныне он соглашался делить судьбу. Встретил будто дальнюю знакомую, не больше того, всего лишь как бы сдержанно ей кивнув, но внутри что-то сладко заныло: близость была родственной, кровной, ибо он сам уже принял это решение в сердце своем. Сам постиг: «Не желай более того, что имеешь, и будешь независимым». Рассказывали, и не раз, сопровождая то негодованием, то улыбкой, как престарелый граф Ростопчин, когда до его одра донесли весть о Сенатской, уж совсем помираючи, открыл один глаз и спросил-задумался: — Во Франции было повара бунтовались — ну, этих как не понять? Видно, самим княжить захотелось. А у нас что ж? Неужто князья в повара попасть захотели? А тут и улыбаться нечему, и с негодованием лучше бы погодить: не до пылкости. Тут дело поглубже. Все (нет, выходит, не все) повидавшему царедворцу прошлого века, будь он семи пядей, оказалось ни в какую не постичь поступок, отвергающий логику долгих его наблюдений. Но похоже, что и сам молодой царь, коему возрастом определено быть человеком иного времени, разобраться в этом также не мог. А хотел, силился, может быть мучительно подозревая здесь некую разгадку, которая научила бы его всех понимать, дабы над всеми успешно властвовать. Пока их водили на допросы в Следственный комитет, Николай повелел военному министру Татищеву разослать по губерниям запросы: кто они родом? И… сколько имения? Казна заботилась о том, способны ли они или их родственники ответствовать перед кредиторами или перед нею, казной, если случились задолженности, — но, читая ответы, не испытывал ли царь любопытство совсем иного рода? Не хотел ли он докопаться, кто были те, которые осмелились вообразить себе путь России без его, царева, участия? И зачем? С какой пользою для себя? Если так, то он знал, что делал, знал, чего искал, вернее, чего непременно хотел сыскать; еще не начав разгадывать, он взлелеял ответ… и, очень возможно, вздохнул с облегчением, читая сведения о них, об артиллеристах-славянах, о славянах-черниговцах — о бедняках, которые не чета неблагодарным генералам и богачам — Волконскому, Трубецкому, Анненкову…
«Андреевич 2-й, бывший 8-й артиллерийской бригады подпоручик.
У него три родных брата; один из них, служивший в Тверском драгунском полку, по отставке определен комитетом, высочайше учрежденным в 18 день августа 1814 года, в ведомство комиссии Балтского комиссариатского депо казначеем в чине 8-го класса. Получает жалованье по чину и пользуется всемилостивейше пожалованным ему пенсионом, из чего содержит свое семейство, воспитывая по мере возможности семерых малолетних детей: пять сыновей и двух дочерей.
…Борисов 2-й, бывший подпоручик 8-й артиллерийской бригады.
Борисов 1-й, бывший отставной подпоручик.
Отец их, отставной майор 8-го класса, Иван Борисов, имеющий от роду 68 лет, живет с женою своею и детьми: двумя дочерьми и одним сыном в Слободско-Украинской губернии Ахтырского уезда в селе Боромле. Имения у них никакого; находится в самом бедном положении и поддерживает себя одним получаемым от казны пенсионом, из 200 р. в год состоящим.
…Горбачевский, бывший подпоручик 8-й артиллерийской бригады.
Отец его, надворный советник Горбачевский, имеющий от роду 65 лет, удален от должности вместе с прочими членами витебской казенной палаты и предан суду витебского главного суда I департамента, по указу правительствующего Сената от 28 марта 1818 года, за происшедшие в Казенной Палате, по заключении с подрядчиком Гурвичем контракта на поставку провианта, беспорядки. Дело о том решено департаментом 20 мая 1820 года и представлено гражданскому губернатору, а от него 23 августа того же года поступило на рассмотрение в правительствующий Сенат; но из оного еще не возвращено. Между тем он живет в Витебске, где имеет деревянный мало стоящий домик, заключающий все его состояние. Поведения и качеств, по общей известности, наилучших. Пропитывается сам и содержит дочь свою, вдову, собственными трудами и вспомоществованием благотворительных людей».
Из записки, отправленной военным министром
генералом Татищевым начальнику Главного
штаба генералу Дибичу
…А Бечаснов, чья мать, вдова 8-го класса, живет с умалишенной дочерью одной только милостью доброхотов-соседей? Сухинов, отец которого занимается недостойным звания дворянина хлебопашеством? Бедняк Киреев без единой крепостной души? Почталионский сын Иванов? И — позор! — канцелярист Выгодовский, на поверку оказавшийся крестьянином Дунцовым, нагло присвоившим дворянское титло? Что ж тут ломать голову? Разве не ясно, зачем они, эти, такие, затевают бунты, — и, значит, вот желанная разгадка, ну хотя бы часть ее, хотя бы путь к сысканию ответа!.. Если только царю в самом деле могло такое подуматься — а пожалуй, что так, — то он ошибался. Ответ, которого он искал, был вовсе не здесь, но в чем разность между гвардейскими полковниками и генералами и полунищими армейцами из Соединенных Славян точно сказывалась, так это в том, чем Иван Иванович, справедливо или несправедливо, и посейчас не перестал гордиться. В сентябре решительного 1825 года, в летнем лагере под местечком Лещин, где их 3-й пехотный корпус был собран для смотра и для маневров и где они, Славяне, кто радуясь, кто упираясь, сговаривались о союзе и о слиянии с Южным обществом, произошел разговор весьма памятный. Подполковник Ентальцев, командир 27-й конноартиллерийской роты, после осужденный по седьмому разряду, еще позже сошедший с ума и безумным умерший в Ялуторовске, — словом, бедный Ентальцев, бед еще отнюдь не предвидящий, подходит к Горбачевскому и говорит запанибрата: — Послушайте, подпоручик! Тогда Ивану Ивановичу щекотливо почудилось здесь штаб-офицерское высокомерие, хотя теперь, многажды поразмыслив, следует усомниться. Теперь, после того, как все они, и обер- и штаб-офицеры, переварились в густой каторжной кашице и высокородные князья, случалось, оказывались милейшими и наипростецкими товарищами, — Сергей Григорьевич Волконский и тот словно обрел себя в дружбе с мужиками и в почтенном ремесле огородника — на все смотрится иначе. Надо полагать, и в ту пору дело было как раз в том, что Ентальцев слишком хотел подчеркнуть — да, слишком, слишком, — что подпоручик ли, подполковник — невелико расстояние сравнительно с дальностью той дороги, которую они собираются пройти вместе. Как бы то ни было: — Послушайте, подпоручик! — Слушаю, господин подполковник. — Скажите, это правда, что вы все, в вашей 8-й бригаде, объявили солдатам и фейерверкерам о замышляемом перевороте? — Разумеется, правда, господин подполковник, — отвечал Горбачевский в соответствии с уставом и истиной. — Как?!..— не столько ентальцевский голос, сколько глаза его выразили изумление перед этим то ли излишеством, то ли прямой глупостью. — Но для чего? — Для того, господин подполковник, чтобы солдаты знали, за что они будут сражаться. Для того, чтобы быть совершенно убеждену в их содействии и усердии, быть уверену всякую минуту в их готовности к восстанию… Сказано было с четкостью, подобающей отчету младшего перед старшим, и с сухостью почти дерзкой, но Ентальцева этот простой довод так сразил, что он, потерявшись, взял Горбачевского за пуговицу и чуть не искательно заглянул ему в глаза: — Батенька! Да что вы такое говорите? Этого никогда не должно делать! Я бы свою роту — в том, разумеется, случае, если бы она вздумала не пойти за мною… да просто палкою бы погнал! Милый, добрый, несчастный Ентальцев! Верил ли он в то, что говорил? Как знать? Ведь потом, на поселении, он, говорят, взаправду оказался милым и добрым, а значит, и преждо был таким, так что, приведись ему повести свою роту в то дело и за то дело, на какое они все решились, он, вероятно, и не вспомнил бы про аракчеевскую палку — потому хотя бы, что рота за ним и добром бы пошла. Скорее напротив: возроптала бы, палку увидев. Все так. Но — само сознание… Очень понятно, что в точности так же похвалялся капитан Пыхачев, командир 5-й конной роты: велю кашеварам кинуть в котел лишний кусок сала, выкачу бочку вина, крикну песельникам: «Запевай, молодцы!», и солдатики преотличным манером замаршируют, куда прикажу, — от него-то, от Пыхачева, так и несло самохвальством. Когда Горбачевский среди иных Славян явился в том же Лещинском лагере к подполковнику Черниговского полка Сергею Муравьеву-Апостолу и любезный хозяин взялся знакомить тех, кого надеялся видеть новыми сочленами Южного общества, со старыми своими товарищами, среди общего разговора случилось и нижеследующее. Иван Иванович, долго слушая рассказ о силе общества и лицезрел его чиновных и, стало быть, облеченных немалою властью деятелей — одних полковников собралось не менее трех или четырех, — в конце концов не утерпел вставить свое слово: — Все это преотменно, господин подполковник… (Это потом, и очень скоро, они с Муравьевым станут коротки: «…ты, Муравьев… ты, Горбачевский…», как и велит неписаный устав заговорщиков, сошедшихся втайне от власти, в неразличимой для нее тьме, где дарованные ею чины теряют силу и где равенство есть залог прочности союза.) — …Отчего ж, однако, в таком случае общество ваше сейчас, сию минуту, не воспользуется сбором корпуса и не начнет действовать? Что до меня и до моих товарищей — они подтвердят мои слова, — то мы вполне можем ручаться и за себя, и за своих подчиненных. И если, по нашим словам, большая часть полковых командиров разделяет ваши мысли и готова на все, то… Но договорить не дали — не дал как раз Пыхачев. Он вскочил с места и возгласил с пафосом, достойным ежели не Расина, то уж точно доморощенного Сумарокова: — Нет, милостивые государи! Я никому — вы слышите, никому! — не позволю первому выстрелить за свободу моего отечества! Эта честь должна принадлежать непременно 5-й конной роте! Я начну! Да, я! Растроганный монологом, Сергей Муравьев кинулся обнимать декламатора, Горбачевский же остался без ответа и с раздражением на непрошенного крикуна. Невелик, кажется, грех — велеречие, а все же он нимало не удивился, когда узнал, что пышащий в согласии со своей фамилией капитан повел себя в деле позорно. Еще до восстания Черниговского полка, поднятого Муравьевым, он имел и даже выказывал намерение сделать донос, а потом не только не поддержал мятежников, но переметнулся к усмирителям, за что, разумеется, был пощажен новым царем и оставлен в своем капитанском чине. Пыхачев — что ж, он ясен, как начищенная мундирная пуговица, и быть по сему, по сам-то Муравьев, герой, золотое сердце… Нет, нет, не о том речь, что прекрасный порыв кинул его на грудь хвастуну, доверчивость не из числа пороков, она сродни добродетелям, — память и речь совсем о другом. Муравьев никогда не мог не то что сделать того, чем погрозились-похвастались Пыхачев с Ентальцевым, он не мог о том и помыслить. Палку он ненавидел всей своей просвещенной душой, доброта к солдату была для него и позывом чувствительного сердца, и раскладом предусмотрительного ума, причем в этом отношении он считался не из ряду вон в знаменитом Семеновском полку, где все офицеры положили за правила рыцарства пальцем не трогать нижних чинов. Печально и закономерно, что этот-то строевой либерализм и возбудил неприязнь к семеновцам великого князя Михаила и Аракчеева, привел к назначению полковым командиром жестокосердого бурбона Шварца, а уж там — вскачь, под гору, не удержишь: солдатское отчаяние, мятеж, расправа — палки и раскассирование ветеранов-гвардейцев по армейским полкам, частью в Черниговский. И вот с ним-то, с Сергеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом, у Горбачевского вышел некраткий спор, обернувшийся спором пожизненным, — вышел все в том же лещинском сентябре двадцать пятого года, а говоря точнее, 15 дня: это запомнилось твердо и не запомниться не могло. Слишком роковые события, должные решить судьбу императора, а если удастся, то и империи, замышлялись во время той встречи; судьбу же самого Ивана Ивановича именно этот день и именно эта беседа решили с окончательной бесповоротностью — не зря ими, днем и беседой, тайный Следственный комитет займется отдельно, въедливо, неотвязно, сосредоточив свое верноподданное внимание на умысле цареубийства. Но еще до той минуты, когда подпоручик Горбачевский пометит крестиком, словно вечным клеймом, свое имя в общем списке и тем определит себя в число вызвавшихся цареубийц, они с Муравьевым, уединясь от общего разговора в углу командирского обиталища, дощатого лагерного строения, — так называемого балагана — будут толковать о вопросе, не решив которого к восстанию нечего и приступать: о приуготовлении солдат. И Иван Иванович наконец напрямую выложит то, что им было обдумано, решено и уже приводилось при случае в действие. От солдат, скажет он, надобно не только не скрывать ничего, но, напротив, необходимо постепенно, агитируя их, прояснять сущность переворота. — Как, господин подпоручик? Обнаружить перед ними существование общества? Но так мы все погибнем ни за понюшку шпанского табаку! «Шпанского? Отчего не иного какого-нибудь?» — мелькнуло зачем-то в голове подпоручика. А ответ, как потом оказалось, был прост: Горбачевскому в эту пору еще незнакома была тайнопись или, лучше сказать, тайномолвь заговорщиков, как и всех вообще либералистов. «Шпанский табак», — говорили они между собою, значительно перемигиваясь и намекая тем на дела испанские, «шпанские», на всколыхнувший Европу мятеж Риэго. Игривая и опасная острота заключалась в том, что Испания, прославившаяся недавней революцией, издавна славилась нюхательным табаком, и, как табак ввозили во все европейские страны, так желательно было бы ввезти — или ввести у самих себя — революцию… Нет, тотчас же поправился Иван Иванович, отмахнувшись от непонятной и несущественной мелочи и раскрывая Муравьеву их, Славянские намерения: полегоньку, помалу открывать солдатам глаза и прояснять ум, дабы они сами сознали бы свои права, которые их офицеры надеются для них отыскать, — и далее, далее, словом: — Я совершенно убежден, господин подполковник, что откровенность в чистосердечие подействуют на русского солдата куда более, нежели все хитрости макиавеллизма! Так, не посрамив Славян, молодой подпоручик с достоинством завершил свою обдуманную речь. Муравьев слушал, наморщивши лоб, чопорно-круглые умозаключения двадцатипятилетнего собеседника, а того вдруг укололо смущение: этот нахмуренный лик был ему давно и прочно памятен по портретам… Но чьим? Господи боже! Да он вылитый Бонапарт! Немногим позже Горбачевский узнает и то, что сходство бросилось в глаза не ему одному. Оно бросалось многим, и среди многих был не кто иной, как венценосный оригинал: в 1804 году юный Апостол, тогда парижский школяр, попался на глаза императору французов, и тот будто бы воскликнул: «Кто скажет, что это не мой сын?!» Странное дело, однако: в Муравьеве это соблазнительное сходство было непостоянным, скользящим, летучим наподобие облака, способного, переменившись, переменить и вид всего небосвода, — стоило ему пояснеть, улыбнуться, разгладить чело, и он становился только собою. Вот и теперь он глянул на подпоручика открыто, ясно и словно бы весело: — Понимаю… И верьте, даже разделяю не одни благородные намерения ваши, но частью и самую вашу методу. Я сам не единожды говорил с моими семеновцами и давал им понять, что дело, в которое, может быть, нам придется идти вместе, клонится к бунту против царской власти. Однако ж… Муравьев помедлил, как видно остерегаясь задеть в офицере-армейце чувство достоинства и привязанности к собственным подчиненным. — Однако ж, согласитесь, Семеновской полк совсем не то или, по крайности, не совсем то, что иныe… To есть я хочу сказать: мои солдаты, которых перевели в Черниговский за известные вам события, прошли испытание, им должно особенно верить. Признаюсь вам, случалось, что они сами меня пытали: долго ли им еще терпеть и не пора ли кончить дело, которое они начали в Петербурге? А ваши артиллеристы, не искушенные в возмущении? В состоянии ли они понять все выгоды, которые сулит им переворот? Постичь все, что мы замыслили, — правление республиканское, равенство сословий, свободное избрание, а не назначение чиновников? Не покажется ли им все это загадкою сфинкса? — Если и так, — живо возразил Горбачевский, — то я и мои товарищи готовы взять на себя роль Эдипа! Муравьев улыбнулся: — То есть раскусить все сфинксовы хитрости? Каламбур недурен, но… — Нет, позвольте! — в пылу Иван Иванович не посчитался с чинопочитанием. — Вы меня не поняли. Разумеется, всех политических тонкостей солдатам покамест вовсе нет нужды открывать. На то есть другой язык, такой, какой они отлично поймут, только бы мы соображались с их понятиями. К тому ж у всякого командира есть столько способов повести за собою солдат, что ежели они во время восстания не пойдут за ним охотою, это следует приписать не чему иному, как только его нехотению или попросту нерадению. Не так ли? Он глянул на Муравьева, и взгляд его в ту минуту был, вероятно, задирист, ибо он чувствовал себя по-мальчишески довольным сугубой неотразимостью своих доводов. — Да, да… Вы правы… — но и само согласие Сергея Ивановича дано было как бы в рассеянии или, напротив, сосредоточенности. Муравьев ушел в глубь себя, очевидно обдумывая какую-то скрытую мысль. Вдруг он поднялся резко, прошел, широко шлгая, в угол своего балагана и воротился с ларцом. Не открывая, поставил его на колено. — А знаете ли, каков, по моему мнению, лучший способ воздействовать на солдат? Горбачевский, не отвечая, ждал. — Религиею!.. Да, да, господин подпоручик! Мне сказывали, правда, про вас, что вы, подобно другим из ваших товарищей, склоняетесь к афеизму… Прошу вас, не возражайте и не удивляйтесь моей осведомленности: вы понимаете, что мы должны были знать, с кем хотим соединить судьбу своего общества… Но успокойтесь, я вовсе не намерен затевать теологический диспут — им, может быть, настанет черед при демократическом правлении, когда всякий станет открыто изъявлять свои убеждения. Каковы бы ни были ваши взгляды, я полагаю, вы не можете не согласиться, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца. Она может указать путь к добродетели. Повести к великим подвигам. Доставить мученический венец… Горбачевский молчал и слушал, успевая думать, что, наверное, выглядит избычившимся упрямцем, но Муравьев в увлечении ничего этого не примечал. — И более! Чтение Библии способно внушить нашим солдатам ненависть к правительству! Вспомните: иные главы ее содержат прямые предостережения народам, пожелавшим избрать царя и повиноваться ему. Он легким, победным движением, словно оно одно само по себе должно было согласить несогласного, распахнул ларец, извлек исписанный лист, развернул его: — Извольте! Иван Иванович протянул руку, глянул и увидел то, что уже почти ожидал увидеть: конечно, то был перевод главы Ветхого завета, повествующий о мрачном пророчеству Самуила народу, захотевшему иметь царя. — Ну? — торопил Муравьев. — Если солдат узнает повеление, данное от самого бога, разве не согласится он, не колеблясь, обратить оружие против своего государя? Горбачевский, стойко помалкивая, читал перевод, не пропуская ни единой строки, будто ожидал повстречать в нем нечто новое сравнительно с текстом Писания, знакомым с младых ногтей. И сквозь агитационную скоропись, косо брошенную на бумагу твердой рукой Апостола, сквозь неузнаваемо легкие, поворотливые, новорусские слова для него проступало, как сладкая взрослая память о горьких лекарствах детства, то, что было затвержено под строгим присмотром отца и ради утешения матушки — для нее, покойницы, вообще не было большей гордости, как к случаю и не к случаю поминать о родстве своем, а стало быть, и ее Ванечки с самим Георгием Конисским, архиепископом-златоустом, поборником православия. Проступала парчовая тяжесть церковного слога: «И рече Самуил вся словеса господне к людям просящим от него царя… и глагола им… сыны ваша возьмет… и дщери ваша возьмет… и села ваша и винограды ваша возьмет… и вы будете ему раби… и возопиете в день он от лица царя вашего, его же избрасте себе, и не услышит вас Господь в день он, яко вы сами избрасте себе царя…» Дочитал, как доел, бережно — до последней крошки, по буковки. Не торопясь, сложил лист и сам опустил его в незакрытый ларец. — Это все очень хорошо, господин подполковник… Теперь ждал Сергей Иванович, не обманываясь скорым одобрением. — Очень хорошо. Но… На лицо Муравьева медленно наплывала непреклонность, возвращая знаменитое сходство. — Да возможно ли, — продолжал Горбачевский, — объясняться с русским человеком на языке духовных особ? Неужели вы не знаете, как он смотрит на них? Я думаю, между нашими солдатами скорее найдутся сущие вольнодумцы, нежели фанатики веры, и очень легко может статься, что здравый смысл заставит иных возразить… — Тут он, надо признать, не удержался, чтобы не щегольнуть ученостью. — Возразить, что запрещение израильтянам избирать себе царя было совсем не божье повеление, а козни священников-левитов, желавших поддержать теократию… Муравьев сморщился от такого витийства. — Подпоручик! Неужто вы впрямь полагаете, будто наш простой народ пустится в этакие богословские прения? — Нет, господин подполковник! — отступил ИванИванович, но так, как отступают для нового натиска. — Разумеется, я этого не полагаю. То есть и в моей роте сыщутся такие доки по части Священного писания, что полкового священника за пояс заткнут, но… Не о них речь. Ведь и самому неученому из солдат, право, достанет здравомыслия заметить вам то, чего не заметить просто нельзя. «Что ж это вы, господа хорошие?» — скажет вам мой солдат, которого, не стану от вас скрывать, я, именно я, Горбачевский, посильно учу до всего доходить своим рассудком. — «Что ж это вы? Мне сызмальства в вашем приходе поп вбивал в темя, что по Новому завету господа нашего Иисуса Христа идти супротив царя — значит идти супротив бога и религии, а нынче, когда вам угодно доказать, что царя вовсе не надобно, нынче, значит, вы уж за Ветхий завет беретесь?» Он встал и остался стоять, одним разом показывая и почтительность перед старшим в чине и твердость. — Вера противна свободе, господин подполковник, — таково мое убеждение, и простите, но я более не прикоснусь до вашего листа. Я всегда предпочту с моими солдатами прямой и откровенный язык… На том и кончился разговор о вере — не в господа бога, но в солдата, — точнее, на том оборвал его Михаил Бестужев-Рюмин, вмешавшийся в уединенную их беседу. И точно ли таков — до словечка последнего, до точки — был этот давний спор? …Прихотливая, властная, завистливо-притязательная дама — Мнемозина, богиня памяти, и, зная за ней способность присваивать то, что ей не совсем по праву принадлежит, Иван Иванович в веселое назидание себе вспоминал иной раз красочную историю, некогда поведанную каторжному обществу Александром Ивановичем Якубовичем. — Мы с Грибоедовым… Якубович вдруг прервался на первых же словах, отчего-то взглянул на правую свою руку и попробовал пошевелить двумя пальцами, мизинцем и безымянным, которые у него не сгибались как следствие раны. — Мы с Грибоедовым однажды поссорились — и прежестоко. Я его вызвал на дуэль, каковая и состоялась. Он стрелял первым, дал по мне промах, и тогда я отложил свой выстрел, сказав, что приеду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более, нежели сейчас, дорожить жизнию. На том и расстались. Я ждал с год, следя за Грибоедовым издали, и наконец узнаю, что он женился и наслаждается полным счастием. Прекрасно! Теперь, подумал я, настала моя очередь послать противнику свой выстрел, который должен быть роковым, ибо всем известно что я не даю промаху. Боясь, что меня не примут, ежели назовусь моим настоящим именем, я оделся черкесом и явился к нему в дом. «Как прикажете доложитъ?» — «Скажи барину, что пришел его кунак Якуб…» Так меня величали на Кавказе горцы: Якуб — большая голова… Велено меня пропустить. Я вхожу в кабинет, где в этот час хозяин занимается один, и первым делом моим было замкнуть за собою дверь и ключ спрятать в карман. Якубович с диким вдохновением наморщил свой раненый лоб, свел густые брови, которые, впрочем, и без того составляли у него единую черную полосу, и выпятил подбородок, раздвоенный, как рукоятка черкесского ятагана. К этой минуте у слушателей уже давно было ощущение, у кого смутное, у кого отчетливое, что рассказ этот они то ли слыхали, то ли даже видели в печати, но рассказчик с такою страстью заново переживал происшедшее, пылал такой невыдуманной местью, что невозможно было слушать его, не веря. — Грибоедов был чрезвычайно изумлен, но все понял и, надобно признать, встретил меня, не дрогнув. Я изъяснил, что пришел за моим выстрелом. Мы стали по концам комнаты, и я начал медленно наводить свой пистолет, желая этим помучить и подразнить его, так что он наконец пришел в сильное волнение и просил скорее покончить. Тогда я вдруг понизил ствол, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и, когда дым рассеялся, я увидел, что попал, куда хотел. Я не желал лишать его жизни, но раздробил ему палец на правой руке: я знал, что он страстно любит играть на фортепиано и лишение этого будет для него ужасно. «Вот вам на память!» — вскрикнул я, отмыкая дверь и выходя из дому. На выстрел и крик сбежались жена и люди, но я свободно вышел, пользуясь общим смущением, а также блестевшим за поясом кинжалом и пистолетами. Якубович вновь попробовал пошевелить пальцами, по прихоти или по велению судьбы искалеченными, как у Грибоедова. — Сказывали, что по моей мете только и признали тело его, когда он был убит в Тегеране… Конечно, то был Якубович, которого иные снисходительно полагали бретёром, остававшимся таковым же и в своем безудержном воображении, а некоторые, и в особенности, может быть, офицеры из Славян, — хвастуном: «Вы не знаете русского солдата, как знаю я!» — это он им-то, Славянам. Однако, мешая романтическую повесть Пушкина с действительно бывшей его дуэлью с Грибоедовым, он отнюдь не лгал; здесь он был по-своему искренен и правдив, вот в чем штука. И потому несомненнее и неизбежнее проглянуло то, чему трудно противостоять, — всеобщее свойство памяти смешивать… Нет, не то, что было, с тем, чего не было, — для этого в самом деле нужно родиться Якубовичем и заполучить от природы в дар его воображение, какового Горбачевский за собой уж никак не числил. Тут — другое: память смешивает то, что было и думалось
прежде, с тем, что стало и подумалось
после, и, право, уже затруднительно с четкостью отделить то, что черниговский подполковник и подпоручик 2-й легкой роты сказали друг другу 15 сентября 1825 года, от того, что через сорок с лишком лет все еще додумывает и договаривает одинокий петровский затворник. …Люди — всякий в отдельности — люди, и только. С хорошим, с дурным. Их можно обратить в толпу, а по-армейски — в строй, и тогда они в самом лучшем, самом прекрасном случае двинутся на Москву и на Петербург, дабы свалить тиранию по приказу обожаемого подполковника. Или в случае наихудшем, ужасном станут послушно стрелять в своих братьев, как стреляли на Сенатской или под Трилесами, где гусар генерала Гейсмара сплотили — нет, было бы лучше сказать: столпили, найдись только в русском языке этакое словцо, — клеветой, будто Черниговский полк лишь для того и восстал, чтобы пограбить и понасильничать на свободе. Конечно, отчего б и не допустить, что солдат, без рассуждений пошедший на бой за любимым своим командиром, сделает дело и послужит общему благу, даже если не знает в точности, зачем и куда пошел? Но и можно ли поручиться, что при таком незнании, увлеченный единым — притом не своим — порывом, он назавтра, а то и через минуту не восстанет против недавнего любимца, как, между прочим, оно и вышло в горькую для Черниговского полка минуту. Безымянный рядовой 1-й мушкетерской роты, видя гибель и поражение, исступленно вскричал: «Обманщик!» — и едва не заколол штыком Муравьева. Что говорить, он заслужил гнев своего командира на поле сражения; сполна заслужил и презрение, когда лгал на допросе, будто Сергей Муравьев хотел постыдно бежать и будто бы он, солдат, удержал его, пригрозив смертью, — эта ложь, по принятому обычаю, была вознаграждена, и лгуна, как говорили, произвели в унтер-офицеры в Полтавский полк. Но и, гневаясь и презирая, удивляться его поступку не для чего. Не утешай себя: дескать, если сейчас народ оставлен тобой в незнании своего блага, то потом он поймет его и возблагодарит тебя. Не оскорбляйся: мол, для них и стараемся, а где благодарность? Так рассуждая, ты мало что впадешь в гордыню, но возжаждешь корысти, хоть и нечаянно. Свой путь ты избрал не для них одних, но и для себя самого, потому что сам не можешь иначе, и только свобода — их и твоя, ваша общая — может быть тебе наградой. Только свобода, а не почести, даже не народная признательность, как бы ни были они тобою заслужены, ничто из того, что тешит тщеславие и что есть первая ступень к жажде власти. Уже недавно Иван Иванович привычно раскрыл заветного Плутарха и, будто собираясь гадать по книге, тотчас угодил в строки, в точности отвечавшие давним его размышлениям: «Между прочими его, — то есть Солона, — законами есть один весьма необыкновенный и странный, объявляющий бесчестными тех, кои в междуусобии не пристают ни к которой стороне. Солон не хотел, чтобы кто из граждан был нечувствителен к общим нещастиям…» Мудр законодатель Солон, но историк Плутарх мудрее, чтобы не сказать справедливее. Да, непочтенно в годы общих бедствии пребывать самому по себе, но что пользы в законе, готовом обрушить на робкую голову свой вполне осязаемый гнев? Неуверенного и колеблющегося надо уверить и ободрить, а не принудить силою, иначе боязнь поплатиться за незнание, куда и зачем примкнуть, если и толкнет кого в ту или иную сторону, то не по сердечному влечению, не по рассудку, но все из того же страха. А на что отечеству боязливый, нелюбящий и, значит, неверный сын?..  Точно так в те годы не думалось — не до того было. Не в стареющем ведь уме копошились выводы и доводы — пред молодыми глазами были они, рядовые, унтер-офицеры, фельдфебели, а считая по-артиллерийски, готлангеры, бомбардиры и фейерверкеры. Они — разноликие молодцы Крапников, Зенин, Занин, Бухарин, Родичев, Брагии и прочие, прочие, прочие, коим имя было не легион, но 2-я легкая рота 8-й артиллерийской бригады. Живые солдаты, которым он и хотел живого добра, твердо веря в свою, и только в свою, правоту, горячась на тех, кто хотел им добра хоть того же, да по-иному. Это только теперь стало так отчетливо ясно: то, что тебе по твоему невеликому чину и по никакому состоянию привелось вплотную стакнуться с низовой армейщиной, не заслуга твоя, почитай, коли хочешь, ее за удачу, но не больше того. Так уж вышло — по службе и по судьбе, — что все они для тебя не на одно лицо, не на один голос, и ты даже в отдаленнейшем воспоминании не примешь щербатого улыбу Ивана Зенина за его дружка, тезку и (случись же такое!) почти что однофамильца — курносого, рыжего, степенного Ивана Занина. И судьбы их не позабудешь, общей, страшной судьбы, хотя уже никогда не узнать, что сталось с каждым из них, с Иваном, с Василием, с Федором… Да, в ту пору так и столько не думалось; старость потому лишь и умствует, что уже не способна действовать. И пусть ее. Может быть, старость неумствующая почти так же непристойна, как недеятельная молодость.
«Солдаты все судились военным судом в кандалах; на эти кандалы графиня Браницкая пожертвовала без денег 200 пудов железа, за что ее хвалили и превозносили ее бескорыстие».
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
БЕССОННИЦА 1826 года. Декабря 12 дня
«Ты скажешь, а Пущин Ив. Ив. разве худой человек? Я скорее скажу, чудо-человек, что хочешь, так он хорош.
Но я тебя теперь спрошу, республиканец ли он или нет? Заговорщик ли он или нет? Способен ли он кверху дном все переворотить? Нет и нет, — ему надобны революции деланные, чтобы были на розовой воде. Они все хотели всё сделать переговорами, ожидая, чтобы Сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил: «Что вам угодно — все к вашим услугам».
— Черт возьми, да вы-то что хотели сделать на своем юге, — спросишь ты у меня, — и что вы сделали там? — Вопрос твой будет очень натурален и справедлив.
Мы, славяне, — слушай…»
И. И. Горбачевский — М. Л. Бестужеву
— Дай бог войну, ваше благородие! Мы тому ради будем! — Помилуй, чему ж радоваться? По мне, лучше уж быть покойну! Экий ты… кровожадный, братец! Однако, как помнится, Иван Иванович возразил тогда рыжему Зенину, которому доверял всецело, невзирая на беззаботный нрав и двусмысленный титул ротного балабола, разве что для порядку. Вяло возразил, ибо хорошо знал, что за ответ последует, а еще лучше помнил, как недавно и сам томился в соблазнительных снах итальянской кампанией. — Как, то есть, чему, ваше благородие? Не-ет!.. Коли война случится, тогда лучше будет! Государь, небось, и не знает мыслей солдатских и обид, которые нам иноземцы чинят. Прежде-то что? Прежде у семеновских, сами они сказывали, у каждого в сундуке было, худо, сто рублей, а то и семь сотен, и восемь, у иного, гляди, и поболе тыщи, теперь же и у них пусто! И ярясь, хотя подпоручик слушал, нисколько не возражая: — Не-ет! Мы все богу молим, чтобы ха-арошенькая война была — вот как Наполеон приходил. Может, все и отводят тогда, что навалили? Эка! Отставных да раненых двадцать пять лет заставляют дослуживать, которые в отставке, уж и тех опять на службу взяли. «Дослужи, сказано, свои лета!» Где ж справедливость и моления двенадцатого года? Все послуги наши забыты! Тонули, так топор сулили, а как вытащили, так топорища жаль! Говорили: свободнее солдату станет, а какая у нас свобода? Только и дозволено, что кричи «Здравия желаем!» на «Здорово, ребята!» да «Рады стараться!», ежели тебе «спасибо» скажут, и то редко… Горбачевский молчал, а рыжий меж тем совсем развоевался: — Не-е-ет! Что даже противу религии касается, и то гляди, что с нами делают: когда жидам прежде вверяли полки? А ныне Шварцу из жидов Семеновский полк отдали — до чего ж он его довел? Слышно, даже все иностранные земли удивляются! Вот вам и Иван скажет… — привычно адресовался он к сидящему рядом Занину, тугодуму и умнице, матерому фейерверкеру с нашивкой «за беспорочную службу» — «за бесп?рочную», как памятно пошучивал сам Занин. Адресовался на сей раз совершенно напрасно, ибо тезка знатоком уж чего-чего, а иностранных земель не бывал. — Чего мелешь, жернов? — не оправдал тот надежд приятеля. — Шварц-то, слыхать, вовсе даже из немцев будет! — Точно ли? — усомнился Зепип. — Для чего ж он тогда с христианами поступил варварски, ровно мститель еврейский? — Эва, неук! — махнул рукою старший Иван. — Сказано, немец! — И рассудил, как отрезал: — То-то и беда, что из самой из Неметчины его нарочно позвали. Совсем, то есть, нехристь. Потому и не может русскую душу понять! — Ошибаешься, брат! — рассмеялся было Горбачевский, — Шварц как раз веры православной. Он, говорят, и по-немецки ни в зуб толкнуть… Но уж тут оба Ивана глянули на него с таким остолбнелым недоумением, что он, стыдно признаться, махнул рукой. Дело было осенью, а может быть, еще летом, но все того же двадцать пятого года, все под тем же Лещином, и уже невдалеке подступали день и час, когда следствие, определяя силу вины подпоручика Горбачевского, жестко скажет о «возбуждении к мятежу словесном» и уличит подследственного в злостном пропагаторстве среди готлангеров, бомбардиров и фейерверкеров, на сей раз отнюдь не возведя напраслины, — но в тот день он отчего-то больше слушал своих солдат, чем что бы то ни было им внушал. В войсках не уставали повторять старую шутку Ермолова. Того спросили, какой ждет он для себя вышней милости, и знаменитый воин, прославленный и своим острословием, отвечал будто: «Пусть пожалуют меня в немцы». Да и как устанешь, коли на слуху и на языке сплошь мельтешили чужеземные имена? Уже рядом, прямо над Иваном Ивановичем, стоял, командуя их 2-й легкой ротой, Корф-подполковник. Случай? Но Черниговский полк восстал под тяжелой рукой полкового командира Гебеля и пал под выстрелами гусар, ведомых Гейсмаром. А что вся 1-я армия? Начать с главнокомандующего — граф Сакен. Начальник штаба — Толь. Корпусной командир — Рот… Положим, последний, не по-немецки звавшийся Логгином Осиповичем, бежал в революционный год из французского своего отечества, но уж тут и Горбачевскому, почти как его подначальным Иванам, не слишком хотелось делать отличку. Да и зачем? Не в германской же породе беда, черт побери, — не зря на Руси прозывали и прозывают немцем всякого, кто заявился к нам с непонятного Запада. Чужое начальствование, чужое хотя бы только по звучанию имени, поневоле оскорбляло уже тем, что — чужое, и стыдись не стыдись, но, похоже, оскорбляло национальные чувства не только солдат, не только его самого и не только в ту давнюю пору. В «Колоколе» Искандера, в нумере, что попал в руки Ивану Ивановичу всего-то с год назад, вольный издатель все над тем же еще смеялся и на то же негодовал…
«Откуда эта печальная масса немцев на русской службе растущая и вовсе не уменьшающаяся со времен шуток А. П. Ермолова?
По случаю женитьбы наследника на Дагмаре к числу праздников относится высоч. смотр на Марсовом поле 15 октября 1866 г. Распределение командующих на этом смотру следующее:
Всею кавалериею командовать генерал-адъютанту барону
Бюллеру.
1-ю линиею командовать генерал-лейтенанту
Дрептельну.
2-ю линиего — генерал-адъютанту барону
Бистрому.
3-ю линиею — генерал-лейтенанту
Дубельту.
4-ю линиею — свиты е. в. генерал-майору
Петерсу.
5-ю линпего — генерал-майору барону
Гершау.
Подписал приказ свиты е. в. генерал-майор
Рихтер».
«Колокол» от 1 января 1867 года
…Негодовал, смеялся Герцен, чья репутация, да и само нерусское имя уж никак не позволяли заподозрить его в ненависти ко всему и всяческому чужому, а впрочем, где ж тут явно прозвучавший смех, где открыто плеснувшее негодование, если всего лишь сухая выписка из «Русского Инвалида» глядится карикатурою и едва не пасквилем? И все-таки старый-престарый разговор с двумя Иванами припоминался чем дальше, тем с большим неудовольствием. Оттого ли, что он на тот раз не воспользовался случаем растолковать беспонятным, что не в немцах беда, не в них одних по крайней-то мере, что отечественные начальники бывают еще и покруче, ну и далее, далее? Но нет, этого греха на совести не было, потому что в иные разы Горбачевский с усердием и, казалось, с успехом внушал подчиненным пропагаторские азы, — вот только собственной душевной тяжести даже этим утешением все-таки не избыть. Себя не утешить. Нечем. И надо ли? Как подумать, странно складывались у России отношения с Европою, странные выходили и выходят у них счеты: то мы, горделиво сопоставляя себя с иностранцами, веселимся, что, дескать, начали позже, зато уж и поскачем резвее, то, напротив, пугаясь и не веря в себя, судорожно тянемся на сторону за помощью. Грех жаловаться, много пользы было от них, дельных, хлынувших в шлюзы, отворенные Петром. Много было и вреда от них, кто дельными быть не мог и не хотел, презирая зазывающую и, значит, по пошлому их рассуждению, без них беспомощную страну, — но и тут на кого и кому жаловаться? Был бы разве возможен этот вред, если б мы сами умели и намеревались отделить дельных от бездельных? Если б не доверяли с такой охотою им и так неохотно, так лениво самим себе, русским, — за то лишь, что мы всего только русские? Это мы, мы сами, собственными персонами позволяли наносить себе вред, снисходительно не примечая его, сами, выходит, были его благодушной первопричиной, а теперь что же? Теперь, прозревши и оглядевшись, начинаем пылать гневом на Сакенов и на Гебелей, на Дубельтов и на Бенкендорфов, порой неразумно валя в ненавистную кучу даже и Барклая. Всякому человеку нужно искать причину беды и вины — ну хоть одну из причин — в себе самом, отчего Горбачевский, вспоминая, с неохотой и неуклонностью ловил двадцатипятилетнего подпоручика-батарейца на неразборчивой неприязни, на том, что, кляня скверное и чужое начальства, он порою не разделял скверного от чужого, считая их как бы одним и тем же. То уличал себя, то оправдывал, уговаривая, что вот-де не вступало же ему в голову отчуждаться от милейшего Андрея Евгевича Розена за то, что он не из симбирских или пензенских столбовых, а из эстляндских баронов, но и само желание оправдаться разве не есть сознание вины? И — несвободы? Она эта несвобода, существовала в натуре, в истории и оттого не могла не торжествовать хоть отчасти над многими душами, что чуть не горше всего выражалось как раз в ненависти к «ненашим», к «немцам», которых сами звали на Русь, сами закабалялись ими, а потом вдруг принялись неистово негодовать, что даже и в русской армии мало ходу русскому человеку. Освободились, стало быть, наконец? Да то-то и горе, что нет, напротив, и, чем яростнее эта слепая ненависть, тем крепче душевное закабаление. Несвобода была, непридуманная несвобода, общая затяжная болезнь, и мало утешения в том, что осознать ее — значит начать лечиться, а глядишь, и суметь излечиться. Ибо целебное это сознание может, допустим, прийти к нему, к Горбачевскому, думавшему-передумавшему за долгий век; оно не может не прийти к Герцену-Искандеру, кому книги в руки, да еще лондонские, вольные, неподцензурные, — но резонно ли ждать и тем более требовать, чтобы Иваны, Зенины или Занины сами могли излечиться, пока вокруг продолжала и продолжает гулять та же неудержимая чума? Может быть, из-за них, готлангеров и фейерверкеров, Соединенные Славяне, начавши мечтой о неторопливо-духовном переустройстве, то есть, что ни толкуй, доступном лишь избранным, а не всем, перерешили и согласились освободиться и освободить разом. Ударом. Переворотом. Революцией. О чем толковал своим жарким и жадным полушепотом один из Иванов? — Государь небось и не знает мыслей солдатских в обид, которые нам иноземцы чинят… Вот оно! Немцы, заслонившие да подменившие русского государя, царя православного, крестьянского милостивца-заступника, который хоть и не торопится, бог ему судья, заступиться за малых своих подданных, однако он способен, однако ж может, а то, гляди, и захочет, ибо свой, родной, нашенский, — словом, вот они, иноземцы и иноверцы, враги, понятные до боли в поротой спине, враги, в которых будто бы все несчастье солдатское и сокрушить которых соблазнительно просто, ибо стоят они рядом со строем, не дальше длины штыка или хотя бы ружейного выстрела. Что же, можно было поддакивать, укрепляя эту уверенность, — иные и укрепляли, расчетливо полагая, будто важно только начать, а уж там… Но ведь они и сговаривались поднимать солдат ради того, чтобы это там было совсем иным, нежели тут. И чтоб люди делались, долго ли, коротко, иными, освобождаясь от рабских чувств, будь то чувство презрения иди превосходства, постигая прекрасную сущность свободного братства народов. «Полячишки», «чухна», «немчура» — дикий лексикон несвободного племени, которое угнетено частью и пришлыми иноземцами, но которое к тому ж безвинно поставлено самодержавием в положение угнетающего — полячков ли, финнов или бессарабцев. Что ему выгоды в том, что оно, как его уверяют, основа или опора великой империи Александра или Николая? Но, лишенные всего, люди начинают тешить хотя бы тщеславие: «Мы им покажем ужо… Ишь, мелочь, и сотни тыщ-то не наберут, а тоже…» И, не имея права и сил корить людей, одичавших в своей несвободе, их можно и нужно жалеть, потому что народное сознание, вырождаясь, перестает быть сознанием, а народ может перестать быть народом. Его можно жалеть, а лучше спасать. Они, Славяне, того и хотели — спасать, сами спасаясь от дурного в себе, которому как не быть? Они хотели освобождать, освобождаясь.
«Вступая в число Соединенных Славян для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественпо присягаю на сем оружии на взаимную любовь… — С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. — Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий, — пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных Славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть угрызение совести будет первою местью гнусного клятвопреступления, пусть сие оружие обратится острием в сердце мое и наполнит оное адскими мучениями, пусть минута жизни моей — вредная для моих друзей — будет последнею, пусть от сей гибельной минуты, когда я забуду свои обещания, существование мое превратится в цепь неслыханных бед».
Клятва, даваемая при вступлении
в Общество Соединенных Славян
Иван Иванович читал, не отнимая от бумаги глаз, но кожей осязая взгляд Петра Борисова, непеременчиво кроткий, однако обладавший, как он заметил давно, удивительно цепкой, хоть и не удручающей пристальностью. Почерк был школьнически-наивен и ясен, каким всякому сперва представлялся и сам Борисов, — вот заблуждение из заблуждений! Когда уже кончался этот, кажется, нескончаемый вечер и они укладывались на ночлег, прилаживая в ногах по бараньему тулупу, — проклятую избу, как ее ни топи, вечно продувало, и углы обмерзали на палец инеем, — Петр Иванович, расслабившись от их беседы, исход которой его волновал и которая завершилась полным единомыслием, ударился вдруг в воспоминания своего нежного детства и среди прочего поведал Горбачевскому, как однажды… Детство, впрочем, было не совсем нежным или совсем не нежным. Отец братьев Борисовых, отставной майор, добывавший свой невеликий кусок хлеба провинциальным зодчеством, держался правил спартанских и обременял сыновей науками. По счастью, которое в пору отрочества, конечно, казалось отнюдь не счастьем, а, напротив, нелегкой таки обузой, ему хватило упорства и просвещенности самолично обучать их российскому языку, истории с географией, математике с астрономией и притом вкоренить любовь к размышлениям и к сопоставлениям идей и понятий. Любовь не созерцательную, но взыскующую: из книг древних и новых авторов в смиренный домашний очаг порою залетали, воспламеняя его, искры далеких мятежей, и как-то случилась даже семейная междуусобная война, как ей и положено, с кровопролитием. Двенадцатилетний республиканец Петр кинулся с кулаками на четырнадцатилетнего сторонника конституционной монархии Андрея, который объявил себя противником народоправства больше для того, чтобы утвердить свое братнее старшинство. И: — Был я, правда, по младости и слабосилию изрядно-таки бит, — Петр Иванович с сокрушенной улыбкой потер шею, словно она и по сей день чесалась от родственных тумаков, — но намерений своих, как видишь, не оставил. И брата в свою сторону поворотил. Да попробуй он только у меня противиться… Так, шутя и не шутя, заключил Борисов, и Горбачевский подумал, что он и теперь таков: дитя по улыбке и по манере, а нрав выкроен в полном согласии с греческим значением его имени —
камень. К таким надо присматриваться особо и долго: они и впрямь, улыбаясь, поворотят и своротят кого угодно. Но это потом, после, а пока… В тот вечер прапорщик 8-й бригады Петр Борисов свалился снегом на голову — за компанию с натуральным небесным снежком, вдруг с веселой отчаянностью повалившим на забытую богом и друзьями деревеньку Млинищи, где прапорщик оной же бригады Иван Горбачевский томился в исходе 1823 года, пребывая на зимних тесных квартирах, как на военном языке тех лет прозывался, в отличие от казарменного житья, постой в обывательских жилищах. Он обрадовался незваному гостю, тут же своей радости несколько подивившись: меж ними тогда не было близости, хотя взаимная склонность, конечно, была, — впрочем, что ж, понятно, ибо прискучило единообразно примелькавшихся лиц. Скорее уж следовало удивиться тому, что новоприезжий, откинув башлык и сбрасывая с вислых усов тающий снег, с порога глянул на хозяина так, будто невыносимо заждался встречи. Крупные, навыкате глаза его под круглыми бровями с настойчивой ласковостью вглядывались в лицо Горбачевского. Собрались наскоро ужинать, и Иван Иванович шумно печалился, что не может в этой глуши попотчевать гостя, как должно, весело причитая, что его малороссийские предки перевернутся в своей домовине, узнав, как скудел стол, на котором даже горилки нема, — но Борисов, словно и не заметив дурашливого хозяйского настроения, остановил его: Послушай, Горбачевский! Хочешь ли, я открою тебе секрет? Как не хотеть, особливо ежели он в том, где бы нам раздобыть курчонка или хоть старого петуха, — оживившийся хозяин не сразу увидел, что гость не расположен к незатейливой болтовне. — Скажи, обещаешься ли молчать? Тут посерьезнел и Иван Иванович: — Можешь быть совершенно покоен. Или ты мог усомниться в моей скромности? И вот тогда Борисов, доставши из кармана два полусмятых листа бумаги и отодвинув тарелку с нетронутой яичницей, будто собирался безотлагательно, без ночлега, скакать куда-то далее, усадил его за чтение. То были два престранных документа: писанное высоким и непростым слогом клятвенное обещание члена некоего сообщества, которое называло себя Соединенными Славянами, и их же, Славян, правила. «Не надейся ни на кого, — читал, удивляясь, Горбачевский, — кроме твоих друзей и твоего…» Дальше взамен общепонятного слова следовала не слишком умелая каракулька, не оставлявшая, впрочем, сомнения, что тщится изобразить солдатский штык. «…Кроме твоих друзей и твоего… /оружия/. Друзья тебе помогут…» Опять штычок-каракулька. «… /Оружие/ тебя защитит. …Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим… …Невежество с детьми своими — гордостию, суетностию и фанатизмом — да будет твоим злым духом Велзевулом». Устав новой масонской ложи? Но с каких пор вольные каменщики в отыскании своих потаенных истин уповают на штык? «…Ты еси Славянин, и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре флота — Черный, Белый, Далмацкий и Ледовитый, а в средине оных воздвигнешь…» Но следом шло начертание уж вовсе не понятное: фигура, в геометрии именуемая параллелограммом, однако без верхней стороны, — как шкатулка со взломанной крышкой. И над фигурою — волнотечная линия. Горбачевский поднял вопрошающий взгляд, и Борисов встретил его своей пленительной и сторожкой улыбкой: — Это, видишь ли, условный знак. Он означает «город». Точно так же, как якори… — Какие якори? — Они тебе встретятся далее. Словом, эти якори суть не что иное, как морские порты. — Отчего ж было не написать просто? Гость улыбнулся, словно бы извиняясь. …Что это было, как не ребяческая игра в тайну, — будто общество убережет себя от разоблачения, стоит лишь его создателям наставить в своих рукописях якорей и иных подобных значков, и будто нарисованный штык менее грозен и красноречив, чем шесть букв, составляющих слово «оружие». Мишель Бестужев рассказывал, что старший брат его Александр, сидя еще не в Петропавловской, а на главной гауптвахте у Никольских ворот, выцарапывал на донце оловянной тарелки свое имя и какие-то еще письмена и швырял ее, как потерпевший кораблекрушение швыряет бутылку с письмом в океанские волны, в невскую воду сквозь решетчатое окошко. Расточал казенную утварь, дабы кто-нибудь (кто?) узнал о его печальной судьбе и поведал о ней кому (кому?) следует. Но тут дело понятное. Александр Бестужев недаром затем прославился как романтический сочинитель Марлинский — кому же, как не ему, российский каземат претворять в средневековый замок, а драгунского капитана, то бишь себя самого, в Монте-Кристо или в Железную Маску? Но Петр Борисов в сочинительстве этого рода уличен ни разу, кажется, не был, обладая скорее наклонностью к языкам, философии, политике, к наукам естественным. Да и потом собирал, где бы ни жил, гербарии, сделался заправским натуралистом, брался описывать сибирских муравьев и бабочек, а если прослыл искуснейшим рисовальщиком, то и сюжеты для бристольских своих картонов избирал не геройские или романтические, но зарисовывал забайкальские цветы либо местных пташек, и тут оставаясь более ученым-натуралистом. А вот поди ж: загадочные иероглифы, клятвы, присяги на обнаженных лезвиях… Правда, разгадать его было непросто: нрава был он уединенного, тихого, все больше помалкивал и улыбался с коим потаенным мыслям, тем более что отличался изрядной таки тугоухостью — не от рождения, а от пушечной пальбы, которую тонкий слух его не выдержал еще в бытность Борисова юнкером артиллерии. Хотя Ивану Ивановичу порою чудилось, что и самую глухоту Петр использует для того, чтобы, отстраняясь, не пускать никого в свою душу. Сказывали, что в юности он пережил страстное и горькое увлечение, наяву оставившее только один след: латинские литеры М и В, нататуированные на его левой руке и запечатлевшие синей тушью память о былой невесте, полячке Мальвине Бродович, — но один бог ведает, что было не обнажено для постороннего взгляда, а таилось на дне души, да и поди угадай, как глубоко самое это дно. — Горбачевский не мечтатель, — скажет он время спустя на следствии. Скажет, объясняя, зачем не все открывал товарищу, зачем утаил тонкости, касающиеся причудливой обрядной стороны задуманного им общества. Скажет, пожалуй, частью и для того, чтоб оградить и выгородить его по своему благородству, доказав, что в глубины заговора он, Борисов, был погружен основательней прочих, — но сказанное будет и прямою правдой. Они были различны во многом, и Горбачевский, сердцем нежно любя Борисова и почитая его холодным рассудком, мог бы теперь сказать про него обратное тому, что тот сказал некогда про Ивана Ивановича, однако с тем же самым, что у него, необидным, легким, а все-таки сожаленьем: — Мечтатель был, мир праху его!.. Хотя… Да они были разные, но молоды были оба. И оба были совсем не прочь примерить заемное одеяние — то фригийский колпак, то классическую тогу либо тунику, то одно и другое разом. «Прериаля 24-го дня… мессидора 15-го… термидора 3-го…» — так, по календарю французской революции, помечали письма друг другу молодые Славяне, гнушаясь прозаическими июнем и июлем, — в эти российские, натуральные месяцы они терпеливо тянули лямку, удаляясь же в те, уже легендарные, прожектерствовали и витийствовали, как в Якобинском клубе». Причем, совсем не заботясь о том, чтобы хранить верность единому историческому стилю, те же самые письма подписывали: «Ваш по гроб Сципион». Присовокупляя: «Потрудитесь приложенное письмо отдать Катону». Забота о конспирации? Какое! То есть, быть может, тогда они в самом деле были готовы именно ею оправдывать свои величавые позаимствованные имена, но суть была, разумеется, в том, что мужавшему сердцу казалась приманчивой любая прикосновенность к Истории. Сходство с ее вершителями робко мерещилось и уверенно обнадеживало. Отчего это вдруг десятого класса провиантский чиновник Илья Иванов, прежде служивший почтальоном, как и его отец, — ходил, правда, слух, будто он незаконнорожденный князь Голицын, да кто проверит и многие ли поверили? — отчего он решился избрать имя Катона? Не оттого ли как раз, что республиканец Катон Старший, славный суровым достоинством и воздержанием, был неродовит, так же как широколобый, широколицый полуплебей Илья?
Так же— это тешило и как бы само по себе сулило великое будущее. Горбачевский в тесном своем кругу назвался Сципионом, что было во всех отношениях дерзко, но не вовсе бессмысленно, ибо действительный Публий Корнелий Сципион Африканский — Старший тож, — победитель Карфагена, завоеватель Испании, римский рачитель греческой образованности и прочая, прочая, при великих своих заслугах не пожелал стать ни консулом, ни претором, не требовал и не хотел себе триумфа, оставаясь великодушным и скромным даже перед поверженным противником Ганнибалом. А что больше этих достоинств могло быть важно для тех, кто надеялся сокрушить тиранию и добыть свободу единственно ради свободы, чтоб никто уже более не смел и не соблазнялся властвовать единолично? Петр Борисов был — Протагор. По счастью и по несчастью, не будет ошибкой сказать не «хотел быть», или «надеялся», или «походил». Был. По счастью — потому что среди Славян он впрямь исполнил роль этого мудреца-софиста, восславлявшего только силы природы и не верившего общепризнанным божествам. Несчастье же состояло в том, что юношеский псевдоним словно определил судьбу своего обладателя. Как повествует все тот же Плутарх, Протагор был изгнан за вольномыслие из отеческих Афин. Отправился в ссылку, в Сицилию. И по дороге сгинул. Подпоручик 1-й батарейной роты 8-й артиллерийской бригады Петр Иванов Борисов испытал взлет вольнодумства, сладость высоких надежд, поражение, ссылку… и погиб, не дойдя до цели.
«Никто не внушал мне вольнодумства и либеральных мыслей. Чтение греческой и римской истории и жизнеописания великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народо-державию; впоследствии жестокости командиров к их подчиненным питали оную и раздували час от часу более. — В 1819 году незадолго до похода в Грузию той роты, в коей я тогда находился, командир оной наказывал палками за пьянство и растрату денег бывшего фельдфебеля, фейерверкера и рядового при сборе всей роты без рубашек, по приказу начальника артиллерии в корпусе; я был до того тронут, что вышел из фронта и давал самому себе клятвы уничтожить наказание такового рода, хотя бы сие стоило мне жизни. Несправедливости, насилие и угнетение помещиков, их крестьянам причиняемые, рождали во мне всегда подобное чувствование и укрепляли в моем уме либеральные мысли. К сему способствовали также неудовольствия и огорчения, собственно мною получаемые. Я любил читать и размышлять, всякую новую мысль хотел прежде, нежели сделать ее своею, разобрать и доказать самому себе истину оной, но, будучи ослеплен любовию к демократии и свободе, каждую вольную мысль находил справедливою и не мог опровергнуть оной. Для чтения избирал сочинения только тех писателей, коих мысли и дух были сходны с моими. Таким образом я нечувствительно сделался либералом. Желание быть полезным человечеству занимало меня всегда, я положил себе за правило искать истины и думал, что, образовываясь в мнениях, меня погубивших, я ищу ее и найду. —
Общее благо есть верховный закон— вот максима, которая была основанием и моей религии и моей нравственности».
Из собственноручного показания подпоручика
Борисова 2-го перед Следственным комитетом
… Сердце, так чувствующее чужую боль, ум, действенный и мечтательный, характер, расположенный к созданию и хранению тайны, и, стало быть, при условиях к заговору не могли не родить вместе осязаемого плода. Даже — плодов. Первый плод, «
Питагорову секту», было, правда, затруднительно осязать; этот союз то ли существовал в действительности, то ли — хоть наполовину — пребывал в творческом воображении восемнадцатилетнего Борисова, который возводил воздушные замки для грядущих пиршеств ума и торжеств добродетели, изобретал заковыристые символы я рисовал невиданные костюмы. Полупридуманное общество — в его плотской реальности должны были уверить разве что нарисованная его создателем эмблема: две руки, сошедшиеся над жертвенником, и девиз: «La gloire, i'amour et Pamitie», то есть: «Слава, любовь и дружество», — оно вообще было невинным (правда, тайным) и в идеальных мечтах являлось неким подобием товарищества, в давнишние времена основанного древнегреческим мудрецом Пифагором. Не имея прочной опоры, оно развалилось или, вернее, растаяло, как полуосязаемое облако. И: «
Друзья природы» — таков был следующий шаг на пути молодого строителя замков и наконец деятельно присоединившегося к нему старшего брата Андрея; общество, разумеется, вновь покрытое тайной, — но тут уж взаправду было что таить. Не обошлось без непременных девиза и эмблемы: солнца, многозначительно поднимающегося из-за хребта, и толкующей надписи: «Взойду и рассею мрак», главное же — сама цель стала отчетливо политической. Молодые либералы жаждали конституции, готовясь дерзко поторопить медлительного монарха, а все же не зря на дотошном следствии, весьма склонном к тому, чтобы отыскивать даже не существовавшее и не замышлявшееся, Адлерберг, полковник Главного штаба его величества, нашел в «Друзьях природы» нечто не более опасное, тем еще одна масонская ложа, и с обидной, хотя спасительной, пренебрежительностью определил мечты и цели «друзей» как ребяческие умствования. Пожалуй, не будь у Борисовых новых, смертельных вин, Адлерберг но высказался бы столь мягко, и одного этого общества хватило бы, еще и с лихвой, чтобы примерно наказать вздумавших умствовать неподцензурно. Но на следствии шла речь о замыслах переворота и цареубийства. Уже было среди прочих обществ обнаружено и существование Соединенных Славян… Новые затеи, даже из серьезнейших, незаметно вызрев в умах своих будущих открывателей, подчас нуждаются в том, чтобы кто-нибудь со стороны поспешил с родовспомогательным средством, — тогда словно молния, неожиданная на спокойно-безбурном небосводе, озаряет твой затененный ум и, вопреки всем законам естества, не убегает зигзагом прочь, а остается в небе постоянным светилом. В 1823 году в Новоград-Волынске, где братья Борисовы служили в 8-й бригаде, их любопытство возбудил появившийся в городе юный, хилый, хуже того, больной — как объяснилось потом, он страдал падучей — поляк. И мудрено было не любопытствовать: шляхтич Юлиан Люблинский был привезен из Варшавы в цепях, как завзятый разбойник, и, живя в небогатом доме своей матери, находился под строгим полицейским надзором за участие в польском тайном обществе. Мечтатель Петр, впрочем, как и положительный Андрей, стали искать общества бунтовщика и, найдя его без труда, о том не пожалели: этот неверующий католик оказался лицом незаурядным, в образованности превзойдя даже Петра, который в этом был не из последних, а притом и не боящимся самых откровенных и острых суждений. Разумеется, вышло, что и должно было выйти. Однажды, гуляя с Люблинским близ города — предписанная строгость надзора, по отечественному обычаю, не означала рвения провинциальной полиции к исполнению предписания — и совместно, наперебой оглашая прозрачный воздух прекрасными фразами из «Духа законов» Монтескье, братья открыли спутнику тайну и назначение «Друзей природы», может быть желая доказать, что и они избрали не менее опасную жизнь, чем поднадзорный поляк. И уж, во всяком случае, ожидая его одобрения, а то даже и восхищения. Но Люблинский, терпеливо их слушая, вдруг рассмеялся: — Ах, вы, маленькие философы! И тут же с неумолимою педантичностью раскритиковал написанные ими правила общества, которые они для торжественности именовали Катехизисом. — Так возьмите и напишите лучше нас! — чуть было не вспылил Петр, но Андрей, сообразив, что из этого столкновения можно выйти с пользою, оборотил обиду просьбой, лестной для их знакомца: — В самом деле! Отчего бы вам с вашей опытностью в сих делах не написать Катехизис по-своему? Этого так и не случилось; автором бумаг, прочитанных Горбачевским зимой того же, двадцать третьего года, стал сам Петр, который и перед Следственным комитетом от того не отпирался, главную роль признав за собою (ко всему надеялся облегчить братнину участь). Но именно Юлиан Люблинский подал идею, столь естественно исшедшую из уст сына той славянской нации, что за века натерпелась от чужеродного и разнородного угнетения: — Нам первым и главным делом должно искоренить ту ненависть, какой мы пылаем друг к другу не по своей воле. И это станет возможно чрез соединение славянских отраслей, ибо кто же мы, как не братья, происходящие из единого племени?.. Этот-то самый секрет и решится открыть в заснеженных Млинищах тот, кто вскоре захочет зваться Протагором, будущему Сципиону. И два поклонника античной демократии и в этом сойдутся — сразу и до конца. Мысль о славянской федерации, могучей, независимой и дружелюбной, будет радостно впитана Горбачевским и оттого еще, что он в детстве, под Нежином, где сама география давала довольно зрелищ для горестных наблюдений и не меньше пищи раздраженному уму, где враждебно сходились разнонациональные соседи, которым жить бы да жить в мире и согласии, где они клокотали, будто в одном кипящем котле, с которого вот-вот сорвет крышку и над которым надзирают нерадивые и злонамеренные куховары, — на этой своей беспокойной и милой родине малолетний Иван Горбачевский как бы готовился быть истинным и ретивым членом Славянского Союза. Кого истомила вражда, тот уже узнал цену дружбы, если даже самой дружбы покамест не изведал. — Что же до внутренней цели общества, — скажет ему в Млинищах нежданный, но драгоценный гость, — должной переменить порядок в нашем отечестве, то вот она, изволь: чистая демократия. Такая, что уничтожит не только сан монарха, но и наше с тобою дворянское достоинство, все сословия вообще и сольет их в одно-единственное. В сословие граждан…
«Я был ослеплен федеративным Союзом Славянских Республик и мечтал только о будущем счастии и славе Славянских племен; я думал, что, умноживши членов и распространив свои правила между всеми Славянскими народами, мы так легко можем сделать реформу в правительстве и с такою же тишиною, с какою парижане оставляют старые моды и принимают новые. Впоследствии только увидел я сколько трудностей находится в сем предприятии».
Из собственноручного показания
подпоручика Борисова 2-го перед
Следственным комитетом
…Так полагал мечтатель Борисов… Мечтатель? Но в том и дело, что теперь, на трезвой старости лет, в печальном похмелье, Ивану Ивановичу открылось с особенной ясностью: нет, не бессмысленны, не безумны были их молодые намерения. Они не сбылись, они рухнули, подмяв под себя тех, кто лелеял их и вынашивал, — значит ли это, однако, что и не могли сбыться? Взглянуть на Европу: как неотвратимо ныне идет единение и возрождение недальних Германии и Италии; как переплавляются в одно целое поврозь пребывавшие и по отдельности мыслившие и чувствовавшие немецкие области, герцогства, княжества, малые королевства; как пьемонтец или неаполитанец начинает числить себя наконец итальянцем, — а с чего, скажите, начиналось это созидание единого национального духа? С карбонарских бунтарств, казавшихся неперебродившим мальчишеством, с романтических клятв «Молодой Италии», больше и страннее того, с «Разбойников» шиллеровских, с Канта, с Лессинга — с того, от чего многодумы-политики едва ли ждали материального результата. — Горбачевский не мечтатель, — сказал Петр. С упреком ли сказал? Или, может быть, улыбнулся по-своему, глядя сквозь допрашивающих следователей: дескать, как ты там, хваленая холодная голова? Держись! Бог не выдаст, свинья не съест… Как бы то ни было: не мечтатель. Так — и быть по сему. А все ж, как поразмыслить, недурной выходил у них союз — у трезвости с мечтательностью. Первая вдохновлялась второю, вторая уже становилась на деловую, на военную ногу — и глядишь… В декабре 1824 года два подпоручика-славянина, Борисов и Горбачевский, сошлись с глазу на глаз — с тем, дабы решительно преобразовать свое общество. Поспорив, как водится, они согласились навести порядок в делах, сочинить новый устав, подвергнуть членов ответственности за все их действия.
Март 1825-го. Местечко Черниково в двадцати пяти верстах от Житомира. В эту самую пору в этом месте удалось наконец собрать многих из новопринятых членов общества, уже не совсем малочисленного. Что пришла пора готовиться к действию, этого не отрицал никто. Согласились и на тех, кто обязан эту готовность объединять: секретарем-казначеем стал — сроком на год — Илья Иванов, искушенный в подобных делах, президентом — Петр Борисов. Он принял на себя должность с тем уговором, что вскоре под Лещином, в летнем лагере, где сойдется для маневров и смотра их корпус, надо будет свести всех членов до единого и завершить полное переустройство общества. Судьба, однако же, решила иначе… Да что все валить на судьбу? Решил своей волей капитан Пензенского пехотного полка, бывший семеновец Алексей Тютчев. «Мы, славяне, — слушай — были народ очень смирный; втихомолку хотели, рано или поздно, хорошо ли или худо, соединить все славянские народы в одну федеративную республику. Дела наши шли хотя медленно, но хорошо; но…»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Продолжение
Год 2000-й апреля 43-го числа. Мой сослуживец или сосед по Заводу, которому эта тетрадь попалась бы случаем в руки, решил бы, что я спятил, — конечно, если он не читал Гоголя, но таких-то здесь множество. И пусть себе думает, не ошибется. Да, прав старина Поприщин: сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании сыскался король. Ну король не король, однако — вправду сыскался. Успокоимся — и по порядку. Долгожданная почта. Соблазнительно пухлый пакет, хоть и поистерзанный осмотрщиками. Обеими руками раздираю бумагу, словно предчувствую нечто необыкновенное. Нет. Сочиняю. Предчувствия — не было: просто обрадовался посылке от сестры, от моей Кати Маленькой. Не меньше и не больше, чем радовался всегда. Слава богу, книги. Сладострастно разглядываю и разглаживаю одну, вторую… Но не о них же сейчас разговор. Вот!
«Русский архив», издаваемый Петром Бартеневым. Год двадцатый. 1882. Книга I. Москва. В университетской типографии (М. Катков), на Страстном бульваре. 1882».
Начинаю первым делом листать журнал, наперед, еще по студенчеству, зная, что Бартенев шуток не шутит. Точно. «Юрьев день, сочинение князя В. А. Черкасского». Ужо почитаем. «Письма великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны к Н. И. Панину». Совсем неплохо. «Из Записок знатной дамы. 1845 год». Куда ни шло. «Египетские ночи» А. С. Пушкина: неизданные прозаические и стихотворные отрывки». Это уж просто прелестно. И — бац!
Страница 435-я.
«ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО.
Из Общества Соединенных Славян»
Вот тут уж и правда что-то предчуветвенно и почти болезненно екнуло, селезенка, что ни, какая-нибудь, — черт ее знает: в анатомии был я всегда несилен. Следом — предуведомление издателя. Читаю:
«Подлинная рукопись этих Записок была привезена из Сибири. Она писана до того мелко, что из одной страницы ее выходит по нескольку печатных. Достоуважаемый Александр Иванович Баландин принял на себя труд снять с нее список, по которому она здесь печатается. Кажется, что Записки эти составлены бывшим подпоручиком 8-й артиллерийской бригады…»
И вдруг:
«…Иваном Ивановичем Горбачевским…»
Впрочем, опять сочиняю. Вру. Не было «вдруг». Все — снова — было иначе. Самое первое, что кинулось мне в глаза, было, разумеется, имя: Иван Иванович. И, уже возликовав, но еще опасаясь, что случилась ошибка, я принялся школярски читать все подряд, слово за словом, с упорным тугоумием старательного дурака одолевая смысл фраз, которые предшествовали главному. Тому, что это —
он. Итак: «…Составлены бывшим подпоручиком 8-й артиллерийской бригады Иваном Ивановичем Горбачевским; но ручаться в этом нельзя». Последнее — кольнуло, но так, легонько. Знаем мы эти ученые предосторожности. Я уже верил, пусть самонадеянно, пусть одним только брюхом, что удача меня не надует, не имеет права. Почти по тому же Гоголю: это должно быть, потому что этого не может не быть. Но дальше: «записки написаны долгое время (спустя) после события, но еще в царствование Николая Павловича. Они замечательны беспристрастием изложения и важны потому, что «Общество Соединенных Славян» до сих пор было известно весьма мало в нашей печати.
П. В.».
Говорил же я, не из тех этот П. Б., Петр свет Бартенев, чтобы обмануть ожидания!.. Вот и еще из первых впечатлений. Показалось: словно пестрит типографский набор. Будто мужицкая чересполосица, где одну полосу засевал хозяин, а другую — бездельник и пьяница. Пригляделся: да, так и есть. Вот страницы с 461-й по 464-ю — совсем другой вид, чем у соседних. И строки, и буквы в них раздвинуты, разрежены, растолканы. Не поленился пересчитать, а, пожалуй, просто оттягивал сладостный и страшноватый миг первочтения. Пересчитал. На привычном журнальном листе — 41 строка, на тех, что глядятся непривычными, — по 32–33. Что за оказия? А вот и еще, и еще, и еще… Нечего вновь притворяться, что сразу не сообразил. Дело нехитрое и всякому российскому читателю ведомое. Не типографщики сплоховали спьяну — цензура спохватилась, выдрала опасные страницы и наставила белесых заплат. Что ж, спасибо ей, матушке, и на том, что осталось. А что осталось? Баста. Нынче я больше не писака. Хватит оттягивать — усаживаюсь читать. Итак… Мартобря 86-го числа.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЛАВЯНИН
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 14-го дня
«…Черт вас знает, о чем вы там толкуете понапрасну! Все толкуете: конституция, «Русская правда» и прочие глупости, а ничего не делаете. Скорее дело начать бы, это лучше бы было всех ваших конституций…
И это не один Кузьмин говорил и желал. Этого требовало все общество Славянское…»
«…Много бы я тебе сказал о моих сношениях с Муравьевым-Апостолом, что мы делали, что говорили, что намеревались делать и что был он за человек. Это все теперь не пишу…»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
Что ни ветр шумит во сыром бору —
Муравьев идет на кровавый пир…
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать…
Высокий, а верней говоря,
высотный, горнийголос Алексея Тютчева, о котором, махнув рукой на всяческую логику, хотелось сказать: мягкое серебро, тот российский тенор особенной задушевности, когда и самой силы не нужно, а коли уж и сила есть, ее лучше придерживать, как переходят неведомо зачем на шепот, даже с глазу на глаз поверяя сердечные тайны, — этот-то редкий голос не просто вел песню на старый мотив «Уж как пал туман на синё море», но чуть не каждое словечко выпевал и выкладывал перед слушающими по отдельности. И куда подевалась та соловьино-разбойничья удаль, на какую каторжный знаменитый певец бывал такой мастак при случае? Гуляка, ухарь, солдатский потатчик и любимец, не переставший бредить прекрасным обычаем и бедственной судьбой своего родного Семеновского полка, бывало, заведет он: «Отечество наше страдает под игом твоим, о злодей!» — песню, которую с льстящим сознанием собственной неслыханной дерзости певали в холостом кругу семеновские офицеры, а там, того и гляди, оборвет ее на самом патетическом полуслове, ударит всей пятерней по струнам дикарской своей гитары и с головой, как в омут, кинется в иное, лихое, разухабистое, в «Солдата на рундуке», в «Пусть волком буду я, любите лишь меня» или даже в вовсе малопристойное: «Солдат бедный человек, ему негде взять…» Нет, сейчас певец нес песню бережно, точно птенца в ладонях. Сейчас… А когда оно было, это «сейчас»? В двадцать девятом, что ли, году? Нет, в тридцатом, — их перевели уже к той поре в Петровский острог. И уж точнее точного — 14 декабря. Стало быть, в тот самый день, который… Иван Иванович, трудно поворотясь на бок, нащупал у изголовья холодную сплюснутую репку своих древних часов, поднес поближе к глазам, норовя уловить лунный отсвет… Да, 14-му шел уже четвертый час. Тому дню, который они и в каторге не пропустили ни разу, светло и печально его не отпраздновав. Нынче было ни чокнуться, ни даже подняться с опостылевшего ложа — не оставалось сил. Слава богу, что оставались воспоминания.
…Муравьев идет на кровавый пир…
Про то, как сложилась песня, ему рассказывал сам нежданный сочинитель, все тот же Мишель Бестужев. — Сижу, — говорил, — 14-го дня в коридоре нашего каземата. Курю трубку, как обыкновенно после утреннего чаю. Гляжу: идет Алексей Тютчев, совершеннейше трезвый, что, впрочем, по раннему часу не так удивительно, и несколько чопорный… Да ты помнишь: он таким бывал всегда, когда предстояло ему петь в собрании. — Хочешь чаю, mon cher
? (Тютчева они все поголовно окликали не иначе как mоn сhеr'ом, ибо сам он фразы не мог вымолвить без этого присловья.) — Изволь, выпью стакан. Да не дашь ли и трубку? — Возьми сам. И садись, гостем будешь. Ну что, распотешишь нас сегодня? Споешь после торжественного обеда «Славянских дев»? Тютчев принахмурился, дернул себя за казацкий ус. — Спеть спою, а распотешу ли — это другое дело. Злодей Вадковский измучил меня, mon cher! Нелегкая его надоумила этих «Дев» на музыку положить, так теперь трясется за свое детище. Вытягивай ему каждую ноту до последних тонкостей, как она у него на бумаге написана. А мне черт ли в бумаге? Я так не привык, да и нот не знаю… — Будто? Ты да не знаешь? — Честью клянусь! У нас в Семеновском полку уж такой великолепный был хор песельников! Уж такой!.. Как русские песни пели! Ах, mon cher! Нет, после разгрома полка нашего мне никогда уже не удавалось ничего подобного слышать. Управлял хором, натурально, я; так ни я сам, никто из моих молодцов, мы нотки не знали, а как пели! Душа замирала. Сладко, согласно, никто на волос не сфальшивит. А ежели и случался такой грех, то весь хор, бывало, так и набросится на несчастного. — Ну позволь, как же вы угадывали, что он сфальшивил, если даже и нот не знали? Тютчев глянул на Бестужева, точно врач, сожалеющий о безнадежном больном. — Не понимаешь? Эх, mon cher, mon cher! А оттого знали, что у меня, как и у каждого из них, камертон был в душе, а ухо — в сердце. Это не то что ученую музыку писать, как Вадковский. Да и Саша Одоевский, прямо тебе скажу… — Что, уж и Одоевский нехорош? — Не то чтобы нехорош, а… Ну сам ты рассуди:
Старшая дочь в семействе Славяна
Всех превзошла величием стана…
Нет, оно, может, и недурно, — я ведь, ты знаешь, всухомятку стихов не понимаю, мое дело песня… Так вот! Если б любезный наш Саша вместо своих дев да написал бы что-нибудь в русском духе, — знаешь, этак… ну просто русскую песенку, где бы хоть слегка были упомянуты черниговцы, когда шли с Муравьевым умереть за святую Русь, ну тогда бы ты, mon cher, сказал спасибо Алешке Тютчеву! А теперь… Да что говорить понапрасну! Благодарствуй за чай и до скорого свидания за обедом. Ужо спою вам ваших «Славянских дев», шут бы их побрал… И тут, едва растравивший себя Тютчев покинул его, Бестужев, по собственному его признанию, тотчас взял карандаш и стал писать, серчая на медлительность своего почерка, который раньше в этом грехе заподозрен не был. Слова спешили, толпились, налезая одно на другое, — песню не приходилось даже и сочинять, она сочинялась сама, словно до той минуты тихонько посиживала взаперти в душе его и вдруг застучалась, запросилась на волю. Кончил и, как был, в халате, чуть не со всех ног бросился утешить Тютчева. Пока чин по чину проходил обед, никто и не подозревал ни о тютчевских сетованиях, ни о том, что Бестужева захлестнула вдруг пиитическая стихия; все было почти в точности так же, как в былые годовщины, еще в Чите. Кончили обедать, состукнули напоследок бокалы — уже не за то, что было, а за то, что, глядишь, еще будет, — и после того непременный регент и капельмейстер Петр Свистунов, не утерявший кавалергардской повадки, величаво вывел свой хор. Приосанились солисты: басы братья Крюковы, второй тенор Щепин-Ростовский и первый из первых, разумеется, Тютчев. Грянули «Славянских дев», причем один из сочинителей этого гимна, Одоевский, улыбался, конфузясь, и отворачивался так, будто все в эти минуты должны были пялить глаза только на него как на виновника торжества или провала, а второй, Федор Вадковский, чуть не злобно вглядывался в певцов, точно наперед зная, что хоть кто-то из них да уж непременно пустит петуха. Все, однако, прошло благопристойно; кто-то из признанных меломанов, слушая, даже заметил вполголоса соседу, что композитор в ударе и «Девы» аранжированы весьма, весьма недурно, на что, правда, язвительный сосед не упустил заметить: мол, так-то оно так, да вот отчего это сия музыка так напоминает ему одним разом то ли некий духовный хорал, то ли, напротив, пресентиментальный романс «Старик седой, зовомый Время» на слова известного князя Шаликова? Как бы то ни было, свое благорасположение публика явила щедро. Одоевский рдел красной девицей и все улыбался, пышноусый Вадковский с меланхолической значительностью пожимал руки, и программа полагалась совсем законченной, как Тютчев вновь попросил тишины:
…Конь, мой конь! Скачи в святой Киев-град,
Там товарищи, там мой милый брат.
Отнеси ты к ним мой последний вздох
И скажи: цепей я нести не мог…
Переокить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности.
Пел Тютчев, рассказывал Тютчев, гордился и горевал, а когда кончил, кто-то рванулся обнять его, кто-то вознамерился качать Мишеля, прячем, как бывает, сгрудились, мешая друг другу, стали поднимать за одну ногу, тянуть за другую, чуть не уронили, но Бестужев вырвался, скрылся в своем казематном нумере, а после яростно отрицал, будто на глазах его блестели слезы: — С чего я стану реветь над собственной песнею? Просто ежели б я от вас не убежал, вы бы, дураки этакие, мне об пол голову расшибли! Горбачевский тогда остался на месте. Сопряжение имен: Муравьев, Тютчев, да и песня, воротившая в год, в ту пору еще недальний, подействовали на него сильно… — Тютчев предатель! Он нарушил общую клятву и достоин позорной смерти! Они, несколько Славян, сидят в лагерной палатке Горбачевского, и черниговский поручик Анастасий Кузьмин, свирепо тараща угольные зрачки, часто-часто лупит себя кулаком по колену: — Одной только смерти! Как преступник законов товарищества! — Ну, ну! — пробует остудить горячую голову Иван Иванович. — Помилуй, что ты такое говоришь? Экий, право, Катилина! Он, как многие, доподлинно знал за Кузьминым необузданность. Та швыряла его мятущуюся душу из края в край, и душевные эти края размахнулись не уже державных — «от Белых вод до Черных». Черная, томная страсть могла разрешиться в нем светлым до ангельской белизны порывом, но случалось, как водится, и так, что дело шло вспять. Всего-то за два года до того, как Кузьмин прокричал свой ужасный приговор Тютчеву, когда он не только не стал еще ревностнейшим из членов Славянского Союза, но и самого Союза пока не существовало, — тогда его нрав являл себя далеко не благовидным образом. Грядущий тираноборец сам был маленьким тираном для своих солдат из учебной команды Черниговского полка, и угодить под его начало наверняка значило для рекрута быть безжалостно и часто биту. Случилось, что жестокая эта метода, усердствующие унтер-офицеры, палки с концами, измочалившимися от битья, — все это попало на глаза брату Сергея Ивановича Муравьева Матвею, и тот, как человек благородный и сверх того семеновских правил, не только указал Кузьмину на статью рекрутского устава, воспрещающую бить солдата при учении, но как старший в чине, хотя бы и отставной, решительным и резким манером приказал раз и навсегда бросить палки. Старшинство старшинством, а ледяная уничижительность тона, с какою, словно мальчишка, был отчитан ретивый служака, могла быть сочтена — еще и от отставного, от статского! — непереносимой для офицерского достоинства. И Матвей Иванович ждал от Кузьмина вызов, заранее заручившись согласием брата быть его секундантом. Однако вызова, казалось неминуемого, не последовало, что немало подивило братьев, наслышанных об отчаянном нраве и о храбрости одернутого подпоручика. И — более! Когда год спустя Матвей вновь заехал в те края навестить брата, он застал у него Анастасия Кузьмина, и тот, очертя голову, как делал, кажется, все на свете, ринулся в объятия своего недавнего оскорбителя: — Мой благодетель! Как мне благодарить вас? — За что же, помилуйте? — едва успел спросить Матвей Иванович, впрочем смутно догадываясь, что последует дальше, и оно последовало: — Как за что? Вы спасли мою душу! Благодаря вам я понял всю гнусность телесного наказания! Когда же соскучившиеся друг по другу братья Муравьевы остались одни, Сергей рассказал, что пылкость жестов и восклицаний Кузьмина, хотя и отдает театральной склонностью к эффектам, на деле искренна и правдива. Грозу рекрутов стало не узнать: он даже вступил в солдатскую артель своей роты, ест с подопечными из одного котла и живет с ними по-братски: — Как мы с тобой! Переменилась, однако, только сторона, в какую стремилась душевная буря; сам грозовой нрав, разумеется, перемениться не мог, и позже Горбачевскому не единожды пришлось в том убедиться. Став уже истовым Славянином, Кузьмин решительнее и, увы, неблагоразумнее прочих торопил минуту возмущения, не принимая резонов, и настолько уверовал, будто пожар вот-вот начнется, уже начинается, почти начался и его можно и должно, нимало не отлагая, раздувать всем миром, что как-то явился в собрание совещающихся Славян с ликующим и самодовольным видом человека, наконец исполнившего долг своей жизни и скромно ожидающего заслуженной похвалы: — Господа! Жребий брошен! Лица всех вопрошающе оборотились к шумно вошедшему, а на иных отразилось и тоскливое предчувствие неминучей беды, которой они дождались-таки от этого безумца. — Да, господа! Я только что собрал свою роту и объявил ей, что самовластию в России скоро придет конец! Кто-то, не удержавшись, охнул. — О, не беспокойтесь! Вы знаете, как преданы мне солдаты. Достало с моей стороны самых коротких слов, дабы они поняли, каковы цель и средства достигнуть переворота, и торжественно поклялись умереть со мною вместе для блага отечества и своей свободы… На какой срок назначено восстание? Вопрос обращен был к Ивану Ивановичу и прозвучал с такой бестрепетной деловитостью, будто не оставалось сомнений: сейчас Кузьмин услышит точный ответ, сделает общий поклон, четко повернется на каблуках и неторопливым шагом отправится давать последние указания своим фельдфебелям и унтер-офицерам. — Ну подумай ты сам, о чем спрашиваешь! — Горбачевский сделал усилие, чтобы призвать на помощь всю урезонивающую проникновенность своего голоса. — Этого покамест никто не знает. Начало восстания зависит не от нас с тобою, но от обстоятельств. Понимаешь, от об-сто-я-тельств! Ты напрасно так поспешил. Мы договорились медленно приготовлять нижних чинов, а случай осуществить наши намерения, может быть, представится нам только в будущем году, не ранее. — Никак не ранее? — спросил Кузьмин с недоверчивостью и с надеждой в голосе: как будто в силах Горбачевского было утешить его, милостиво приблизив сроки. — Никак, — развел руками Иван Иванович. — Эх… — Кузьмин едва ли не трогательно огорчился. — Жаль… Я так думаю, лучше бы поскорее… А впрочем, мои солдаты умеют молчать. Правда, я еще объявил о скором выступлении юнкеру Богуславскому… Ну да возьму с него честное слово! Общий протяжный стон был ему ответом: кому ж неведомо о скверной привычке мальчишки Богуславского все без разбору переносить своему дядюшке, начальнику артиллерии их третьего корпуса? Кузьмин понял и смутился. — Что ж, это нетрудно поправить! — он выразительно взмахнул рукой, точно закалывая кого-то, и то был жест, достойный самого Брута, представленного на театральной сцене. — Завтра вы найдете его в постели. Мертвым! И повернулся, чтобы уйти, однако в него вцепилось сразу несколько рук. — Зачем лишать жизни этого бедного глупца? — втолковывали ему. — Для чего совершать то, что преступно и… Кузьмин рванулся к выходу. — Стой, стой!.. Столь же преступно, сколь и опасно для нашего дола! И зачастили, радостно убедившись, что довод поколебал свирепого поручика и ослабил его могучие рывки: — Да, да! Именно что опасно! Послушай, ты просто объяви Богуславскому, что вздумал-де посмеяться над его легковерием, только и всего! Тогда уж он непременно будет молчать — кому охота прослыть дуралеем? Насилу уломали, да и то в первые дни исподтишка приглядывали за своевольцем, не на шутку опасаясь за жизнь болтуна-юнкера. Таков был Кузьмин. И вот: — Тютчев — предатель! Ну, предатель не предатель, однако… Когда 8-я бригада следовала к Лещинскому лагерю через Житомир, Горбачевского спешно сыскал там Славянский секретарь-казначей Илья Иванов, их самодельный Катон, и поразил самозваного Сципиона в сердце. Оказалось: новопринятый Славянин Алексей Тютчев узнал от давнишних приятелей-семеновцев подполковника Сергея Муравьева-Апостола и подпоручика Михайлы Бестужева-Рюмина, что есть кроме них еще одно тайное общество и тютчевские друзья в нем, как кажется, из заправил. Мало того. Общество сие, прозывающее себя Южным, весьма сильно — до такой степени силы, что готовится к скорому перевороту в государстве. — Тютчев сказывал: они ищут нашего знакомства. Как думаешь, что это значит? Илья был не чета бешеному Анастасию, но и его хмурость не много сулила хорошего беспечному Тютчеву. Ответ нашелся или, верней, подтвердился скорее, чем ожидалось. 29 августа, ввечеру, Иван Иванович, вернувшись в свои Млинищи, которые вдруг перестали быть глушью и преобразились в оживленный перевалочный пункт для друзей и знакомцев, — ибо были в ближайшем соседстве с Лещинским лагерем — нашел дома записку. Она учтиво гласила: Муравьев и Бестужев-Рюмин наезжали на тесную его квартиру, не застали, к сердечному сожалению, хозяина и покорнейше просят подпоручика Горбачевского и подпоручика Борисова 2-го, ежели будет на то их согласие, пожаловать к ним в лагерь, в расположение Черниговского полка, в муравьевский балаган. А назавтра: — К чему лукавить, господа?.. С первых минут было очень заметно, что и Муравьеву, не говоря о мальчике Бестужеве-Рюмине, невмоготу, угощая гостей чаем и трубками, тянуть чинную, хотя и благородно-опасную, беседу о дурных действиях правительства или о том, что никак нельзя ожидать, дабы кто-либо из особ императорской фамилии добром согласился с требованием народа. — К чему лукавить? Мы открыто кладем наши карты на стол — вот они, извольте! Нам уже известно о вашем Славянском Союзе, и, всемерно одобряя возвышенность вашей цели и благородство душ… Сергей Муравьев для убедительности своего одобрения поднес руку к груди и поклонился в сторону гостей; Бестужев-Рюмин, слушавший в напряжении, тоже качнулся вперед, нечаянно повторяв поклон. — …всемерно их одобряя, я долгом своим почитаю заметить: цель, избранная вами, господа, весьма многосложна. На пути к ней вам предстоит одолеть столько ступеней, что вы едва ли хоть когда-нибудь до нее дойдете. Я уже не говорю о сроках более близких… Тон был столь доверительно-деловит, что сомнения не оставалось: они знают о Славянах даже более, нежели выказывают, и сама безбоязненная и лестная откровенность, с какой Муравьев и Бестужев говорили о собственных планах, обнажала глубину их проникновения в тайну Славянского Общества. Проводник в сокрытые эти глубины мог быть одни — Тютчев. Славяне, впрочем, были застигнуты не совсем врасплох, — даже тогда, когда последовало прямое предложение соединить их союзы: учтивая записка звала, без сомнения, не просто на чашку чаю, и Борисов с Горбачевским, идучи к Муравьеву, успели-таки обменяться предчувствиями и сомнениями. — Мы благодарны вам, господин подполковник, за товарищескую открытость, — отвечал Борисов со своей обычной, а на сей раз даже и чрезвычайной кротостью, что, как отличнейше знал Иван Иванович, означало не менее чрезвычайную его непреклонность. — Но демократические… — Петр задержал дыхание, сделав это словно бы непроизвольно, чтобы, явственно подчеркнув слово, не задеть собеседника этой гордой подчеркнутостыо, — демократические правила нашего союза не дозволяют входить в сношения с кем бы то ни было без решения всех сочленов. Ваши предложения льстят нам, и мы умеем их оценить, но, согласитесь… Казалось, Муравьев и еще более Бестужев-Рюмин ожидали иного — по крайней мере, на лице младшего румянцем зажглось выражение почти детского неудовольствия, — но делать было нечего, решили скрепя сердце издать, что присудит собрание Славян. Оно же вышло бурным, долго не могло войти в берега, общего приговора было все не видать. Одни, подобно Кузьмину, — если только мог найтись человек, способный уподобиться ему в горячности, — негодовали на Тютчева и требовали отмщения; хвала всеблагому, что бравый пензенец из бывших семеновцев при том не случился и не слыхал запальчивых упреков: могло кончиться вызовом и дуэлью. Другие радовались грядущему умножению сил и торопили товарищей к соединению. Сомневались, возражали, шумели и третьи, четвертые, пятые; всех их если не согласил, то утихомирил Борисов: — Полно, Кузьмин! Утишься, прошу тебя… Признаюсь вам, когда я препоручил Громницкому привлечь в наше общество Тютчева, я как раз рассчитывал на его дружество с Муравьевым и семеновцами, полагая в них непременный тайный умысел против правительства. Конечно, я не думал, что им откроется наша тайна, хотя… Впрочем, что об том толковать? Случившегося не воротишь, но оборотить его нам на пользу очень можно. Я предлагаю вам следующий план. По твердому моему мнению, надобно продолжить переговоры с Муравьевым, чтобы ближе узнать их цели и постараться склонить их к нашим с вами целям. Если же это не удастся… — Кой дьявол удастся! — подал голос Громпицкпй. — Что им за охота подчиняться нам, коли их числом больше, да и конституция у них давно уже написана? Они ее даже, слыхал я, нарочно возили в Европу показать тамошним философам — из самых притом знаменитых. И те одобрили!.. — Если же этого не удастся, — кроткого Петра было не сбить, — то мы по крайней мере возьмем с Муравьева честное слово не выдавать своим сотоварищам тайну нашего существования. — Именно! Точно так, как Кузьмин хотел взять честное слово с юнкера! — опять не удержался Громницкий, которому по его должности заместителя Славянского президента, то бишь Борисова, пристало, кажется, быть сдержаннее, и грянул хохот, не слишком приличествующий моменту. Борисов вскинул голову, обидясь, как за самого себя: — Муравьев — человек благородный! А мы уверим его взамен, что, если только начнется переворот, Славяне не останутся в стороне! — Мы да останемся? Да я хоть сейчас готов поднять свою роту! Понятное дело, то была уже старая песня Анастасия Кузьмина. Горбачевский решил наконец подоспеть на подмогу Петру и положить конец демократическому шуму: — Этак, господа, мы не придем ни к какому решению. Право! Нужно прямо отвечать: согласны мы с Борисовым или нет? Несогласные, положим, нашлись; однако большинством так именно и было решено. До поры.
Отчего?.. Нет, непразднично праздновал Иван Иванович сорок третью годовщину веселого и рокового дня. Скорбела плоть, мучилась вопросами и душа. Отчего благородным людям, у которых и цель благородная, да и попросту общая, единая, — отчего им так трудно бывает согласиться, сойтись и уж более не расходиться? Чего проще, кажется? Но — если бы так! Непросто, увы… В том и несчастье, что хищным корыстолюбцам, жадным искателям чинов, прямым холопам, сбивающимся в сплоченную кучу ради того, чтобы скопом хватать, толпою самочинствовать, сворою утеснять, властвовать или приспосабливаться к власти, — им-то куда как просто быть едиными: низкая цель не взывает к тому, чем душа отличается от души и ум от ума, к человеческой своеобычности и многообразию. И даже не то чтобы не взывает — чурается, гонит, боится пуще греха. Для низменной цели с лихвою довольно низменного же инстинкта. Взаправду ль они дружны, эти дурные и злые люди, составляющие силу? Напротив. Ибо всегда завистливы и ненасытны всегда, всегда ненавистны и ненавидимы один другим, — вот штука, однако же: даже обоюдная эта ненависть их не ссорит, а еще и подталкивает в один плотный, сбившийся круг. Им нету дела, что взаправду думает льстивый подданный о суровом своем государе и каков в душе предатель, чьи уста медоточат приятельскими излияниями, — все им друг про дружку преотличнейше ведомо, и презирают они своих соседей по стае, и боятся их смертно, и грабят, если удастся, и продают при случае, а все же толпятся потеснее, поближе, породственнее. Потому что жирным загривком чуют: не тот для них страшен по-настоящему, кто обворует, обскачет или донесет — все это лишь клейма родства. Страшен тот, кому ничего ихнего вовсе даже не надо, кто и свое отдаст, коли попросят. И не попросят — тоже отдаст. Вот против них-то, против чудаков-чужаков и следует держаться общею кучей. И держатся, сердечные. И не налюбоваться на умилительное их единение. А у тех, кто печалится и печется не о собственном, упаси боже, благе, но единственно о благе людей, народа, человечества, — у них что, как? У них — экая, скажи на милость, оказия, — чуть не у каждого на примете своя мечта, своя высокая озабоченность; у них всякий тем только и томится, как бы ему покраше и посветлее намечтать и выбрать для ближних будущее; и уж он себя не пожалеет, он с братом родным рассорится в прах — оттого лишь, что у брата это самое будущее вымечтано по-иному, брат торит иную дорожку к всеобщему благу, иные высоты различает вдали духовным своим взором… Так неистово ревновать могут только те, что способны любить. Ревновать — отнюдь не завидовать. Завистлива — злоба. Чего никогда Иван Иванович не был способен понять, хоть и старался, иной раз кляня себя за тугоумие и недостаток воображения, это самого смысла зависти. Разумности ее — ну хоть чуточной, хоть наипростейшей, грубой даже, лишь бы разумности. Завидовать — это что же такое значит? Я, мол, желаю, чтобы у соседа отнялось, а мне прибавилось, — так, что ли, господа? Коли так, это же нелепей нелепого! Поразмыслим, в самом деле. Хоть и противно, но все же можно понять такое желание относительно того, у чего есть вес, счет, цена. Соседского, допустим, имения. Капитала. Тельцов упитанных. Но прочее, немеренное и неоцененное, чему и завидуют всегда с особенной остервенелостью: счастье, любовь, природный ум, расположение людское, наконец, слава — с ними как прикажете быть? Положим, отнять их еще как возможно. Не всё, правда: ума не отнимешь, разве что с головою вместе, но обесславить, оговорить — это кому из желающих не под силу? Но ведь и славу, и успех, и добрую репутацию, хоть и оттягавши, на свой двор не приведешь. Не телец, не кобыла. Не приживутся. Так что же выходит? А то и выходит, господа, что зависть одного хочет и одно — при случае — очень может: именно отнимать. Она — сплошное вычитание, голая пустошь, погорелое место, вырубка поголовная; именно что поголовная, ибо ведь отнимается не только у того, кому завидуют. Кто завидует — и он у себя отнимает, и он себя обездоливает, потому что, явись ему какая нужда, глядишь, он прибег бы к чужому уму, возле чужого бы счастья пригрелся… Да, злоба завистлива; зависть зла. Доброта бывает только ревнива — притом к добру же. Но что поделаешь, если ничто так не рознит добрых людей, как эта благородная ревность? Понять можно. Но простить грешно. Утешиться трудно, вот беда. Не забудешь, как Илья Елин, Илюша, Илюшечка, любимейший из учеников, ясная голова и душа золотая, всем вышел, ан вдруг и он встопорщится лобастым волчонком, а хватка уже матерая, мертвая: — Хороши вы были! Вам бы взять да плюнуть на все несогласия, вам бы стать, как один, тогда вы были бы настощей силой, — а вы что? Только спорили да рядили, да торговались, кто из вас больше прав! Что замолчали, а, Иван Иванович? Правда глаза колет? Сами же мне рассказывали… Рассказывал, было, и не однажды. Да что таиться от самого себя? Еще несколько лет назад в письмах на безлесые берега Селенги, к Бестужеву, все воевал и перевоевывал войну заново: ах, если бы да кабы; все сводил сердитые счеты с тем, что минуло и что кануло, ревновал жестоко к былым соратникам, перечил им… и себе самому тоже перечил. Никак не соглашался заглотить, что более всего он корит как раз тех, кого и любил более…
«Дела наши шли хотя медленно, но хорошо, но черт нас попутал, или, лучше сказать, Тютчев, открывши нам Южное общество. Страсти разгорелись…»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
БЕССОННИЦА 1868 года, Декабря 16-го дня
«Страсти разгорелись; собрался корпус 3-й под Лещиным на маневры, и тут-то мы упрашивали и умоляли Муравьева-Апостола начать действия; ибо мы уверены были увлечь всех и все. Но не тут-то было: Муравьев-Апостол заразился петербургской медленностью и случай был упущен с 30-ю тысячами солдат…
Что же хорошего после этого в умеренности, в хладнокровии, нелюбви пролития крови, в медленности, в холодном рассудке, в расчете каком-то?»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
— Господа! Это — наши члены! Юный Бестужев-Рюмин, который гляделся моложе своих двадцати двух, насупился стариковски — как козырек надвинул на ясный свой лоб. Призвал на помощь, поднял по боевой тревоге всю мрачноватую сдержанность, какая только была ему доступна, а размашистый жест быстрой десницы, откинутой вправо, все-таки вышел ликующе-откровенным. И сама интонация — отрепетированно-скупой, мужской, некрасноречивой фразы исполнилась прозрачной многозначительности: —
Наши! Будто языком подразнился — и мигом спрятал. Знай, доскать, наших. Вот мы каковы… Или, быть может, мальчишеский этот нажим лишь почудился Горбачевскому? Кто его знает, возможно, и так, — тем более, здесь и нажимать было не для чего. Здесь и молчание протрубило бы, ровно труба, объявляющая корпусный сбор, — довольно было всего только глянуть с порога муравьевского летнего балагана, с каким преучтивейшим достоинством поднялись они навстречу входящим: молчаливый красавец Тизенгаузен, Повало-Швейковский, походивший скорее на степенного директора департамента, нежели на походного командира, слегка надменный с виду Враницкий. И совсем не в мундирном блеске было тут дело, не в штаб-офицерских — не чета подпоручичьим — эполетах, а в сотнях, в тысячах солдатских штыков, невидно мерцавших за спинами предупредительных полковников. Тизенгаузен был не Тизенгаузен, но славный Полтавский полк, Швейковский — славный Алексопольский, а осанка Враницкого сама за него уверяла со всей положительностью, что восставшим полкам отнюдь не придется в беспокойстве оглядываться на свои тылы — будьте надежны, господа, квартирмейстерская часть не выдаст. Дела позапрошлые, и чего уж греха таить: да, нечиновные гости были подавлены, скованы, смущены — ну хотя бы вначале, — мгновенно и больно уколовшись о сознание своей сравнительной незначительности. Даже их Михаил Матвеевич Спиридов, который по его опытности и вящей солидности только что был ими избран на роль посредника между Славянским и Южным обществами, чуть-чуть словно поблек, хотя он-то мог в этой компании чувствовать себя на короткой ноге: как-никак чином майор, да еще майор боевой, но нанюхавшийся в двенадцатом пороху, умница, дока, философ, ко всему еще и не из простых: сын сенатора, с князьями Щербатовыми в близком родстве, больше такого, как он, у Славян не было… А парадный голос Бестужева-Рюмина звенел, как бы уже отделившись от его тела, — сам по себе матерьяльное воплощение хозяйского острого умысла, с каким для них устроили этот общий смотр, сам по себе скромно торжествующий церемониймейстер: — Командир 5-й конноартиллерийской роты капитан Пыхачев. Позвольте представить вам! — Поручик оной же роты Нащокин! — Поручик барон Врангель! Кивки. Кивки. Кивки. И вдруг — с таким радостным изумлением, с таким непроизнесенным, но ясно всеми услышанным: «Ба!..», как будто новоприбывший не припоздал всего-навсего, а, появившись внезапно, преподнес собранию нарочно припасенный сюрприз: — Полковник Артамон Захарович Муравьев!!! Точно: сам собой отлетел в сторону нависший над входом полотняный полог, и шагом, на удивление скорым для дородной его фигуры, в балаган вошел-вомчался-впрыгнул командир Ахтырского гусарского полка, одаряя стоящих справа и слева улыбкой тридцатилетнего баловня жизни, доброго малого, который всякого радушно зовет убедиться, какой он и на самом деле добрый малый… Время шло. Бестужев-Рюмин румяно сиял: встреча удавалась на славу, а Сергей Иванович Муравьев-Апостол следил за другом с покровительственной нежностью. Он принял, приветил гостей, отговорил то, что хотел сказать, и теперь больше помалкивал да поглядывал, уступив сцену юному бенефицианту. — Довольно уже мы страдали! — восклицал между тем Бестужев, вдохновляясь безраздельным вниманием зрителей, но все же ревниво бросая взоры на вольно рассевшихся офицеров: но чересчур ли усердно заняты они раскуриванием черешневых чубуков? — Теперь дело только за войском. Настала пора свергнуть постыдное иго, и мы можем это свершить в самое скорое время, и притом без всякого кровопролития. Ни одна из сказанных прежде фраз не могла встретить ни малейшего возражения, но последняя… — Как? Революция, и притом без кровопролития? Бестужев, словно только и ждал этого, живо и даже, кажется, с удовольствием оборотился к вопрошавшему подпоручику Горбачевскому: — Вы в том сомневаетесь? — Признаюсь вам, да, — отвечал Иван Иванович. — И самым серьезным образом. Мнение европейских умов, на которых вы ссылаетесь, без сомнения, весьма лестно для вашей конституции, которой мы, впрочем, не имеем покамест чести знать… — Как? Да ведь я сам давал вам списывать наиболее важные пункты! — Согласен, вы давали, а мы списывали, однако же, не более чем пункты. — Хорошо! Вы очень скоро узнаете ее всю. Я вам обещаю! — Прекрасно, но воротимся к разговору о кровопролитии. Уверены ли вы в том, что конституцию вашу единодушно оценит и примет простой народ, который, что поделать, еще не столь образован, как философы в Европе? Даже солдаты наши и те приготовлены к мысли о перемене правления далеко не все, и я боюсь… — Вы боитесь? — Бестужев цепко, как в неосторожно оголившийся в рукопашной бок соперника, впился в последнее словцо. — Напрасно! Уверяю вас, это пустые страхи! Уже очень давно Верховная дума, стоящая во главе нашего общества, позаботилась обо всем и… Но к чему слова? Взгляните только на членов нашего общества! —
Нашихчленов, — пробормотал над ухом Горбачевского Петр Борисов; выходит, не одному только Иван-Иванычеву слуху почудился задорный нажим. — Взгляните на них! — Бестужев в волнении, которое было очень к лицу ему, по-кавалерийски, будто на стременах, привстал и плавным махом руки описал полукружие, как бы и впрямь приглашая недоверчивых Славян пристально и безотлагательно рассмотреть полковников, каждого в отдельности. — Все средства для успеха в наших руках! Видите — Полтавский полк… Алексопольский полк… Ахтырский… Большая часть 2-й армии также готова к восстанию, я располагаю заверениями ее командиров на сей счет… 4-й корпус, 2-й корпус, 7-я дивизия — все ждут нашего сигнала. Должен к тому же присовокупить, что есть сведения и о некоем тайном обществе между офицерами Литовского корпуса, — разведать о нем и связаться с ним взял на себя полковник Швейковский… Командир Алексопольского наклонил свою департаментскую голову, утвердительно показавши плешь. — Мало того, господа. Полагаю, вам как Союзу Славян должно особенно знать, что в сношение с нами вступило польское общество, многие члены которого рассеяны не только в Царстве Польском и в губерниях, находящихся под российской короной, но даже в Галиции и воеводстве Познанском. Вот каковы наши силы — и еще не все! Каждый из наших штаб-офицеров обещает и, я знаю, непременно выдержит слово увлечь за собою целую бригаду… — Черт возьми, что бригада! — Артамон Муравьев, курчавый, белозубый, розовощекой, весь — вывеска гусара, пришелец из стихов Дениса Давыдова, поднялся в рост, вновь со щедростью дозволяя всем нарадоваться его ленивой, цветущей, обаятельной статью. — Верьте слову, за моими ахтырцами тотчас поднимется Александрийский полк — там командиром брат мой Александр, и за него я вам ручаюсь, как за самого себя! А уж за нами, за Муравьевыми, двинет и вся гусарская дивизия! Мы купим свободу нашею кровью, и подлый тиран заплатит своею за все зло, что причинил отечеству!.. Славно было сказано! И не по одним словам — что словеса! — но с красивым волнением, с мгновенной верою в истинность обещаний; даже славянский настороженный скептицизм не мог помешать залюбоваться великолепным полковником. Иван Иванович и залюбовался, нечего отпираться. Что делать, однако, если воспоминание о словах, казалось исторгнутых из глубин мужественной души в теплый сентябрьский денек, безжалостно и немедля окатывается, как из заледенелой декабрьской бадейки, воспоминанием совсем другого рода? Да это, другое дело как раз и вышло именно в декабре. Всего, значит, тремя месяцами позже. За тот декабрь была прожита, кажется, едва не целая жизнь. И подобно тому как этой долгой жизни более, чем подробные описания, пристала сухая хроника — мол, в таком-то году родился, тогда-то вступил в службу — пристала по необходимости, ибо на то, чтобы пересказать жизнь, понадобилась бы еще одна, столь же длительная, — точно так же события лихорадочного и лихорадящего декабря способнее вспоминать с лапидарной и сухой деловитостью. Что было? Они на своем юге прежде Петербурга узнали, что в географически близком им Таганроге мирно почил в бозе тот, кого у них было решено устранить силой. Но по-прежнему по договоренности ждали сигнала с севера: восстание начато, пора выступать им. Однако 13 декабря, как гром на голову, арест Пестеля в Тульчине. Гром, правда, но совсем нежданный. Тучи сбирались над ними, было уже известно, что на Общество есть доносы, — отчего Сергей Муравьев-Апостол и полагал: подниматься надобно, даже и не дождавшись одобрения из столицы, если кого-то из них арестуют. Декабря, чтоб не ошибиться, 26-го дня, так и не получив ожидаемых сведений, братья Апостолы выезжают из Василькова, где находились с Черниговским полком, в Житомир, в корпусную квартиру. Предлог для поездки — самый благопристойный: поздравить со святым праздником рождества командира корпуса Логгина Осиповича Рота. Причина же подлинная — нужда выхлопотать отпуск Бестужеву-Рюмину, который таким образом получит возможность служить связным между югом и севером. Хлопоты предполагаются не совсем простые, ибо бывшим семеновцам, как «замаранным» и оттого находящимся в неусыпном подозрении, отпуска не положено, — но уж тут на помощь общему счастью приходит несчастье личное. У Бестужева только что в Москве упокоилась матушка. Тут-то, при самом въезде в Житомир, тройка, нанятая братьями, встречается с перекладными сенатского курьера, который везет в корпус присяжные листы. И узнается, увы, то и не то, чего жадно ждали. Да, восстание произошло. Но — разгромлено!.. И вот все эти события скопом приводят Муравьевых-Апостолов в местечко Любар, где квартирует с Ахтырским своим полком Артамон Муравьев. С порога полковничьего дома речь заводится о неудаче северного восстания, о том, что оно, по всей вероятности, стало жертвою нерешительности руководителей — ровность меж югом и севером была всегда — и что из сего им надлежит вывести немедленный же урок; говорят в основном приезжие, торопящиеся выложить известия, хозяин покуда отмалчивается, как вдруг является не кто иной, как Бестужев-Рюмин. — Несчастье! — трудно дыша после скачки, обращается он к братьям Муравьевым. — Вас велено арестовать! И, отдышавшись, излагает все но порядку. Вчера, 25-го, в разгар бала, который давал сразу по случаю и рождества, и полкового праздника командир Черниговского Гебель, в дом его ввалились два жандармских чина, предъявившие приказ о немедленном арестовании подполковника оного полка Сергея Муравьева-Апостола, равно как и отставного брата его Матвея. Оставив гостей доплясывать, если только кому еще плясалось, Гебель с жандармами поспешил па квартиру Сергея Муравьева, где в ту пору как раз находился Бестужев-Рюмин, в приказе пока пощаженный. Обыск был произведен, бумаги забраны, после чего черниговский командир со зловещими петербургскими гостями пустился по следу Апостолов, дабы исполнить высочайшее предписание. — Когда о том прознали офицеры из числа Славян, они хотели было кликнуть в ружье преданных им солдат и схватить Гебеля, да, по несчастью, солдаты теперь отпущены на рождественское гулянье и собрать их нечего было и думать. Вот почему я кинулся в путь и, слава богу, сумел обогнать ваших преследователей. Однако они могут быть здесь с минуты на минуту. Что делать? Вопрос этот прозвучал отнюдь не как изъявление безысходного отчаяния, но, напротив, как ожидание дельных распоряжений, — однако ответ дан был не вдруг, — Finite! Матвей Муравьев бросился в кресла. — Кончено! Мы погибли. Нас ожидает страшная участь… Впрочем, даже само это мгновенное отчаяние еще вовсе не означало, будто старший Апостол потерял голову. Но, не теряя ее, он с нею уже прощался. — Знаете ли что? Нам лучше сейчас умереть. Да!.. Полковник! — обратился он к хозяину. — Прикажите подать ужин и шампанское. Выпьем и застрелимся
весело! — Не рано ли, брат? — спросил Сергей Иванович, сумрачно что-то обдумывая. — Напротив! — воскликнул Матвей. — Сам рассуди: мы, четверо… Простите, я не считаю вас, ротмистр, — он повернулся к ротмистру Ахтырского полка, случившемуся при разговоре и бывшему, по всему, доверенным лицом командира. — Вы вольны в своем выборе… Итак, мы, четверо, суть главные члены общества и своею смертью можем скрыть от поисков правительства тех, что известны менее нас. — Это так отчасти, — досадливо возразил ему брат, — но ведь главные члены еще не одни мы. Нет, я решился на другое. Артамон Захарович! Ты, именно ты можешь переменить вид дела! И изъяснил то, что было им решено сию минуту, хотя носило черты как бы неторопливой обдуманности. Следует, во-первых, не отлагая дела, собрать Ахтырский полк. Идти, во-вторых, на Траянов, где стоит со своими александрийцами брат Артамона Александр Муравьев, и увлечь его за собою. — Как ты и обещал. Помнишь? Далее. Нагрянуть на Житомир и захватить врасплох всю корпусную квартиру. Артамон молчал. Ничуть тем не обеспокоенный, Сергей Муравьев-Апостол присел к столу, спросил перо и бумагу и написал две записки — в 8-ю бригаду Горбачевскому и Спиридову с Тютчевым в Пензенский полк, оповещая, что восстание начато, приглашая к содействию и назначив местом соединения Житомир. Артамон молчал. Сергей Муравьев аккуратно опрокинул поочередно над одним и другим бумажным листом песочницу. Мелко потряс бумагу, гоняя по ней промокательный песок. Поискал глазами, куда его сдунуть. Нашел куда: в обливной крестьянский горшок, в который хозяин выбивал трубочный пепел. Сдунул. Сложил бумагу. Встал и протянул ему обе записки: — Прошу тебя, отправь с нарочными — и, ради бога, тотчас! Артамон все молчал, держа в руках листы и упершись взглядом в их белый, не испещренный буквами испод, словно силился разглядеть на нем некие тайные знаки. Потом заговорил, сперва запинаясь, а там все складнее и даже вдохновеннее: — Это невозможно… Пойми, я не могу… Я только недавно принял полк и оттого еще хорошо не знаю ни офицеров, ни нижних чинов, а следственно… Вот именно! — Тут он как раз и приободрился, вдохновись и вскинув голову. — Поверь, я всей душой болею за успех нашего дела и потому… Мой полк не приготовлен еще к столь важному предприятию, и пуститься на него — значит заранее подвергнуть опасности общие наши намерения! Кто простил бы мне, ежели б я… Кажется, он начинал уже верить, что, отказывая Сергею Муравьеву-Апостолу и не проявляя тем самым опасно-преступного легкомыслия, может явить себя спасителем общего дела. Но тут его досадно сбил ахтырский офицер, до той минуты в беседе участия не принимавший: — Я думаю совершенно противное, господин полковник. В этих обстоятельствах нужны решительность и сильная воля. Если вы не хотите сами говорить с офицерами и солдатами, то прикажите только собрать полк в штаб-квартиру, а уж остальное предоставьте нам! — Слышишь, Артамон Захарович? — воспрянул Сергей Муравьев. — Благодарю вас, господин ротмистр! Говоря короче, — его тон стал почти приказным, — ты как один из главнейших наших членов, притом же клявшийся быть в деле первым, обязан… Но ни требования, ни последовавшие за ними упреки уже не могли поколебать командира Ахтырского полка, который самое свое слабодушие умел явить с мужественной решительностью. — О нет! — вскричал он, вставши во весь рост и неотличимо уподобясь себе недавнему, когда с заразительной пылкостью утверждал и сулил совсем иное. — Клянусь честью, я сейчас, сию минуту скачу прямо в Санкт-Петербург! К самому государю! Я расскажу ему подробно о нашем обществе!.. Нет, нет, не беспокойтесь — я вижу, что понят превратно! Я представлю, с какою благородной целью общество было составлено, что намеревалось сделать и чего желало! Я уверен, господа, что государь, узнав наши добрые и патриотические намерения, оставит нас всех при своих местах, и, верно, найдутся в его окружении люди, которые примут нашу сторону! Вслед за тем поднес обе записки к свече, отвоевавшей у ранних декабрьских сумерек желтый круг света. Бумага, сложенная вчетверо, не поддавалась слабому пламени, ее можно было успеть отнять у огня, но не стоило: развозить послания по адресам без полковничьего приказа было некому, да к тому ж все это как бы напоминало сожжение ритуальное. Было жестом безвозвратного отречения. Смотря, как нехотя обугливаются уголки записок, Сергей Муравьев с болью осознавал, что здесь потеряно все. — Я жестоко обманулся в тебе, — голос его был тоскливо-сух, горек, и «я» прозвучало с изумленной запинкой, словно он себе удивлялся, себя корил за легковерие. — Когда я хотел принять в общество брата твоего Александра, он, как человек прямодушный, откровенно мне объявил, что образ мыслей его противен всякого рода революциям и что он не хочет принадлежать ни к какому обществу. Что ж, я уважаю его открытость. Но ты… Ты, напротив, принял предложение с жаром необыкновенным. Ты осыпал нас обещаниями. Ты клялся, как и теперь, честью сделать то, чего мы даже и не требовали, а теперь, в решающую минуту, когда дело идет о жизни и смерти всех нас, теперь ты отказываешься и даже не хочешь уведомить наших членов об угрожающей мне и всем опасности. Так знай: я прекращаю с тобой дружбу, знакомство, с этой самой минуты все мои сношения с тобою прерваны. Оставалось взять дорожный картуз, накинуть шинель и пойти к дверям, не оборачиваясь на хозяина. Но Муравьев-Апостол медлил, надеясь, когда надеяться было уже не на что: слишком многое решалось теперь, чтоб можно было поверить, что кончено, уже решилось. Мало того, что с потерей товарища, казавшегося из надежнейших, терялся целый полк. Полк к тому же был кавалерийским, стало быть, до отчаяния необходимым при выступлении: не пехотный же, не Черниговский мог служить прикрытием для артиллерии, и без гусар она, в которой заправляли решительные Славяне, оказывалась бесполезно бессильной. Еще одна попытка уговорить. Тщетно. Еще одна просьба послать нарочного в 8-ю бригаду, хотя бы в нее одну, — этой просьбе Артамон Муравьев все-таки нехотя уступил, и Сергей Иванович, севши, вновь сочинил записку и вповь надписал ее: «Подпоручику Горбачевскому и собственные его руки». Наконец: — Напоследок прошу тебя об одном одолжении, общества нашего не касающемся… — Проси что хочешь! — Лошади наши устали вконец. Одолжи нам своих, дабы мы с братом могли скорее вернуться в полк. — Клянусь, у меня теперь нет ни единой, какая годилась бы к упряжи! — Так дайте мне хотя бы верховую, — вступил Бестужев-Рюмин. — Я остался вовсе без лошадей, мой путь короче, в двадцать верст. Доскачу и верхом. — К несчастью, и этого не могу, господа! Такой поступок непременно покажется весьма подозрителен местному начальству… Но, — Артамон Муравьев оживился снова, — я предлагаю вам выход! — Какой же? — Превосходный! Вы, подпоручик, выедете вместе с подполковником на его тройке. Затем за городом отпряжете пристяжную, — понимаете? — и скачите, куда вам угодно. Только, прошу вас, непременно объезжайте Любар кругом, отнюдь не заезжая в него, — храни бог, чтобы вас кто-нибудь заприметил! На том расстались, и братья Апостолы потащились чуть не шагом, напрасно приободряя унылого еврея-извозчика щедро обещанным серебром: его измученных лошадей оно взбодрить не могло. Артамон же Муравьев, проводив их, сжег и третью записку, на сей раз просто бросивши в печь. Это было куда способнее, а демонстративного жеста в уединении не требовалось: не было зрителей. Так Иван Иванович и не получил от Сергея Муравьева последней весточки. Вместо Апостола он был в те дни оповещен младшим его товарищем…
«Почтеннейший Горбачевский. Все бумаги наши схвачены; все мы и вы известны. — Пора начинать движение: чрез 4 дни мы будем в Старом-Константинове. Дай знать о сем Спиридову и Тютчеву.
Бестужев Р.»
…За годы, прожитые локоть об локоть, в каторжном соседстве, Горбачевский, хоть и весьма наслышанный об отступничестве ахтырского командира, приучился смотреть на него без всякой злобы. Напротив. — Нет, я вас, Иван Иванович, еще не так насмешу!.. Когда меня с фельдъегерем довезли-таки до благословенной нашей Читы, то пристав прямо с порога шасть к моему чемодану и ну в нем рыться. Уверяет, бестия, что единственно для порядку, а на деле… Еще даже и не подступившись к смешной обещанной сути, Артамон Захарович захохотал, запрокинув голову с поредевшими, поседевшими, но еще залихватскими кудрями, и Горбачевский, уж вовсе не подозревавший, что там веселого, да и есть ли оно, тоже не выдержал. Улыбнулся. Что ж, тело заплывчиво, а дело забывчиво, говорят в народе; кто старое помянет — понимать надо: старое зло, — тому… ну и так далее. А Артамон Муравьев, это состарившееся дитя, а вернее сказать, с годами-то и получивший сходство с седым ребенком, был таков, что не любоваться было трудно. Пусть хотя бы и не без иронии. — Да! Как нащупал он жадными своими, куцапыми пальцами склянки с неизвестным ему содержанием, так глаза загорелись и усы торчком встали. Вот эдак — как у кота. Фрр!.. Повертел, обнюхал: коньяк не коньяк, ром не ром. Взялся разобрать по слогам, что там написано: «Eau de Cologne»
,— мудрено! Покосился он на меня со всей строгостью, вытащил пробку да и хватил! Батюшки! Насилу, сердечный, отплевался! Отдышался, посмотрел на флакон уважительно и спрашивает: «Французский?» — «Оттуда», — отвечаю. «Н-да, — говорит, — крепкий французы народишко. Вот мы их били, а пить по-ихнему не можем. И как это они принимают этакий горлодер? Да я так думаю, что сами его императорское высочество великий князь Михаил Павлович, уж на что, сказывают, на сей предмет крепок…» — И откуда он про рыжего Мишку таких сведений поднабрался? — «…А и он, — говорит, — против такой крепости не устоял бы!» И — сам же, первый — снова захохотал. Щеголь. Добряк. Сладкоежка. Гастроном и кулинар, от которого, бывало, не отобьешься, пока не испробуешь страсбургского пирога, состряпанного им из забайкальского зайца. Доморощенный лекарь, правая надежная рука самого Фердинанда Богдановича Вольфа, да и не такой уж доморощенный, ибо слушал лекции и даже практиковался на медицинском факультете в Париже; а уж какой был зубодер — страшно и сладко вспомнить! Ко всему выдумщик, ежели не выразиться покруче, — впрочем, Саша Одоевский не утерпел-таки и выразился, еще и при нем:
Сначала он полком командовал гусарским!
Потом убийцею быть вызвался он царским!
Теперь он зубы рвет
И врет.
Смеялись, слушая комическую Сашину декламацию, и пуще всех заливался, понятно, сам Артамон. Легкий был человек — пусть будет легка ему и земля под Иркутском, в которую сошел он, не дождавшись России. Тем паче, что счастливый нрав не означал, будто счастлив был сам его обладатель. Невидной, сосущей болью его была тоска по жене, по Вере Алексеевне, которуюон обожал рыцарски, смолоду нося на правой руке четыре выколотых латинских буквы: Vera, и которая рвалась к нему в Сибирь, да не была допущена собственною болезнью. Так и тосковали порознь: она-то, не располагавшая характером своего супруга, пребывала, говорили, в меланхолии и жила среди стен, которые для растравливания сердечной муки сплошь обвешала картинами, на коих изображались темницы, узники, страдания и истязания. Да, все верно. Старое зло поминать грех, дело забывчиво, после драки, известно, кулаками неча махать, однако же никуда от того не денешься: поминается, помнится. А что до дела, так ведь и то надо разобрать — какое.
Ихдело хоть и захочешь, так не забудешь, и после
ихдраки кулакам покою не жди, покуда сами они живы. Кто знает, быть может, помашут еще и после их смерти? Сколько несчитанных раз сходились они на каторге в неистовом ристалище, кажется, уж таком запоздало бессмысленном: а что, если бы? Иван-то Иванович по привычке больше мотал на свой хохлацкий ус, особенно когда сводили счеты товарищи с севера — не друг с другом, нет, с собственным прошлым, а на многих удержу не было. Спорили, вскакивали, горячились так, словно не давнишнее судили, а давешнее, да куда там! Словно решали будущее. Словно строили планы на завтра, — уж на что неизменно ровен был аккуратист Розен, на чей счет шутили, будто у него даже назначено, какой рукою какую часть тела мыть в бане, но и тот порою бывал пылок, как Баярд. Пуще того — как Якубович! Да и другие… — Вспомните только, господа! Когда Николай увидал средь арестованных полковника Булатова, он было удивился: как это столь достойный человек замешан в столь недостойном деле. А тот возразил, что, напротив, это ему удивительно видеть перед собой государя. «Что это значит?» — «То, — отвечал Булатов, — что вчера я два с лишком часа стоял в двадцати шагах от вашего величества, имея заряженные пистолеты и твердое намерение убить вас». — «Что ж не убил?» — это царь Булатову. «Всякий раз, как хватался за пистолет, сердце отказывало». — Да, да! Не случайно, я полагаю, Булатов в Петропавловской морил себя голодом и бился головою о стену. Что это, ежели не раскаяние? — Раскаяние в чем? — То-то что — в чем… Мне о его кончине тогда же рассказал плац-адъютант, а повесть свою закончил вздохом: раскаивался-де, совесть замучила. «Да в чем же, — спрашиваю, — было ему раскаиваться, коли не убил?» — Что же плац-адъютант? — Что?.. Возвел очи гор?. «То, — говорит, — единому господу известно». — А ты, Александр Иванович?.. Старые эти сходки и стычки теперь помнятся и слышатся одним общим гулом, в котором не разберешь, да и не суть важно, кто именно что-то отстаивал и кто на что ополчался, — но тут память выталкивает из темной своей глубины на ясную поверхность: раздвоенный подбородок, опаляющий взгляд, темно-оливковое лицо, трижды перечеркнутое черными полосами — усов, сросшихся бровей и повязки, скрывающей шрам на лбу. Александр Иванович Якубович. — …Если бы ты решился да и поднял руку на Николая, когда 14-го столкнулся с ним нос к носу? То есть свершил бы обещанное? Неприязненный бас: — Я обещался убить моего самовластного тезку, которого всей душой ненавидел, — это правда. Он унизил и оскорбил меня, переведя из гвардии. И я сдержал бы слово, когда б он сам не отправился на тот свет. Николай — иная статья… — Ну да все равно! Я вот к чему клоню, господа… Ежели бы в тот день не граф Милорадович подвернулся под руку злосчастного Каховского, а тот, кому только что присягали сенаторы? А? Уж тогда-то непременно вышла бы смута, безначалие, разор правительственный, и кто после того осмелился бы отдать приказание стрелять по нас? — Разве дело в одном царе? Вот Панов до сих пор не может простить себе собственной оплошности. И точно — как оплошал! Ведь до главных дворцовых ворот довел своих лейб-гренадеров, да еще и строем, так что комендант их было совсем за Николаево войско принял. Тут-то бы им… А Панов завидел за воротами батальон сапер: «Это не наши!» — да и велел поворачивать. Ну и далее, далее, далее. Что только в тот день попросилось само собой в руки! Если и вправду бог любит троицу, то это не кто иной, как он, всеблагой и всемогущий, давал им третью — помимо случаев с Булатовым и Якубовичем — возможность разделаться с Николаем. Тот повстречался возле Главного штаба с целым лейб-гвардейским полком, валившим толпою, без офицеров, но со знаменами, и, на его царево счастье, нашелся. Они ему: «Мы за Константина!», а он, указав им на Сенатскую площадь: «Когда так, то вот вам дорога!» И повалили прямиком туда, простота наша российская… Да мало что упустили еще? Могли овладеть пушками на Сенатской. Могли легко взять Петропавловскую крепость, ан — не взяли. Не вооружили народ на площади… Правда, о том сожалели уже далеко не все, а, напротив, редкие. Мерещился и пугал Пугачев. — Но, господа, будем же и справедливы. Все, что было сказано, — или хотя бы часть того — наши ошибки, согласен. Однако же если подсчитывать всякого рода случайности и промашки, то, согласитесь, и с той стороны их предовольно. Вот вам на первый случай. Им следовало арестовать… ну, скажем, Рылеева, это первее всего, затем тебя, Оболенский, Бестужевых, еще кого-то, словом, много что десять человек. И не было бы выступления 14 декабря. А там уж много ли труда было бы потребно, чтобы справиться со всеми нами поодиночке? Что ни говорите, вот вам ошибка уже со стороны государя. Ошибка важная… — Так. Ошибка. Но совсем другая. Можно ли сравнивать? Нет, как ни грустно признать, а нам было непростительнее ошибаться, нежели Николаю. — Отчего? — Оттого, что мы всё знали о правительство, но оно далеко не все знало о нас. — Как? А доносы? Шервуд? Майборода? Ростовцев? — В том-то и дело, что они, обнаружив нас, нас же обволокли тайною. Я не сомневаюсь, что Николай полагал, будто все эти доносы приоткрыли ему только малую часть необъятного заговора. Он не мог знать, сколько нас на деле. Он смертно боялся и этим страхом был скован, как цепью, — оттого его ошибки были неотвратимы. В отличие от наших, увы… — Кстати, господа! Ведомо ли вам, какие тогда ходили слухи по первопрестольной? Москвичи, говорят, шушукались, что всего, дескать, в заговоре замарано господ до шестидесяти тысяч! Каково? — Глас народа — глас божий… — Ах, если бы так! Если бы божий! Если бы в самом деле до шестидесяти было! — Что ж, пусть и не так! Пусть то был не божий глас, но уж верно царский! Бьюсь об заклад, Николаю мерещилось никак не меньшее число заговорщиков! — А хотите знать, что еще в ту пору болтали? Мне это после стало известно от родных… Что Александр в Таганроге вовсе не помирал, а его продали в иноземную неволю… Право, не шучу! Или даже вот: да, государь жив. Он… вообразите, господа!.. он уехал на легкой шлюпке в окиян-море!.. — Вы смеетесь, а ходили, я знаю, и другие слухи. Тоже презанятные, только по-другому. Например: что после бунта всенепременно будет строгое царствование… — Экое, скажите, предсказание! — Вы дослушайте… Будет строгое царствование, воскреснет Иван Васильевич Грозный, и царствованию тому быть ровным счетом тридцать лет… — Взаправду? Так сочтем. Коли тридцать, то мучителю нашему властвовать еще до 1855 года. — Долгонько! А что бы, кажется, чертям не поусердствовать да и пораньше не забрать сукина сына?.. Все это говорилось про дела хоть далеко не чужие, а все-таки петербургские, северные. У них же на юге… Да что толковать: слишком все памятно и слишком — до сих пор — больно. Одно несомненно. Как бы то ни было, что б ни случилось, какие бы выгоды ни были упущены из рук, сила — была. Силы могло и достать. Сколько, в самом деле, было солдат у Риэги, начавшего, кстати припомнить, свой победоносный поход с испанской окраины — как Сергей Муравьев начал с российской? Двести молодцов? Триста? Уж верно, не больше. У Муравьева же в восставшем Черниговском было или оставалось… попробуем счесть. Итак. Ежели в каждой роте надо полагать круглым счетом по сту сорока солдат вместе с унтер-офицерами — рот же было при Муравьеве шесть, — то выходит… восемьсот сорок? Да, точно так. К сему плюсуем взвод мушкетеров 1-й роты, присоединившийся к восставшим, числом семьдесят человек… Счет был куда как нехитер, да и считалось, если сознаться, далеко не в первый раз, но Ивану Ивановичу вдруг захотелось подняться со своего прокрустова ложа, на котором, как ни умостись, все жестко и больно, и взяться за перо. Зачем? Чтобы возможность былой победы и, значит, небезосновательность былых надежд предстала прямо перед глазами — по-строевому ровной цифирью? А может быть, просто не терпелось подтвердить робкую телесную подсказку, что боль и слабость, кажется, отпустили самую малость? Он, стараясь не кряхтеть громко и не постанывать, сел на постели. Спустил босые ноги, поелозил по полу одной и другой, нашаривая туфли, кяхтинский дар. Сполз с кровати, — на все нужно было раздельное усилие. Никак не попадая в рукав и мысленно чертыхаясь, натянул кое-как свой халат на мерлушках. Проволок ноги к столу. Отыскал и зажег свечу, подвинул к себе четвертку бумаги и принялся писать, норовя и пером скрипеть потише, — словно этот скрип мог разбудить в соседней комнате Ирину… Восемьсот сорок да семьдесят — девятьсот десять. Да шестьдесят музыкантов: уже девятьсот семьдесят. А офицеры, которых без Муравьева было восьмеро? А отставной Матвей Иванович Апостол?.. Мало? Мало. Но при удаче… При полном ветре, как говаривал бывалый мореход Дмитрий Иринархович Завалишин… Нет, было бы совсем неудивительно, если б и новоиспеченному императору эта сила показалась в те дни силой, способной пересилить его силу… Иван Иванович все сидел и невесть чему усмехался. Он не видел, что Ирина бесшумной тенью уже давно возникла в дверях.
«Главнокомандующий принял нужные меры; я не могу сказать того же о Щербатове: он упустил драгоценное время, и я, принимая во внимание направление, взятое Муравьевым, не могу не опасаться, как бы Полтавский полк, командуемый Тизенгаузеном, который еще не арестован, а также Ахтырский гусарский и конная батарея, командиры которых тоже должны были быть арестованы, не присоединились к восставшим. Князь Волконский, который поблизости, если еще не арестован, вероятно присоединится к ним. Таким образом наберется от 6000 до 7000 человек, если не окажется честных людей, которые сумеют удержать порядок».
Император Николай I — великому князю
Константину в Варшаву 5 января 1826 года
«К счастью, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь бы наша была более чем сомнительна… Ежели бы саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были бы в руках мятежников… Из сего видно самым разительным образом, что ни я, никто не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию божию не угодно было всем править к лучшему».
Из записок императора Николая I
«Так ли должно было действовать, так ли должно было управлять людьми, для которых нет страха, нет преград, в душе которых только и было одно слово
действовать,с исступлением каким-то бешеным и с отчаянием!»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 18 дня
«Михаил Бестужев-Рюмин. Был юнкером в старом Семеновском полку; за бунт в 820 г. переведен офицером в Полтавский пехотный полк и жил всегда у Муравьева-Апостола. Повешен, оторвался и опять повешен. Я многое о нем знаю».
И. Л. Горбачевский — М. А. Бестужеву
…И снова, и снова не отпускает то же воспоминание: — Господа! Это — наши члены! — Верьте слову, за моими ахтырцами пойдет и вся гусарская дивизия! Мы купим свободу нашею кровью! Тот день, по сути склонивший Славян к соединению с Южным обществом, — не столько горячностью Бестужева-Рюмина и даже не веской основательностью Сергея Муравьева, сколько силой их войска, явленной напоказ, — тот день закончился неожиданно забавно. Михаил Бестужев-Рюмин легкой поступью незлопамятного человека — а ему было на что сердиться — настигает удаляющихся Борисова и Горбачевского: — Виноват, господин подпоручик! Они обернулись разом, причем Иван Иванович — с живым, но как бы сторонним любопытством. Подпоручиками были оба, однако молодовождь южан, конечно, окликал не его, а Славянского президента, — Вам предстоит выбрать посредника между нашими обществами, — ведь так? Сделайте милость, не выбирайте Борисова 2-го! Горбачевский внутренне ахнул, а вслух чуть было не прыснул самым неблагопристойным образом, спохватившись замаскировать смех фальшивым приступом кашля. На приветливом лице их Иротагора не выразилось ровно ничего, кроме приветливости. — Выборы уже состоялись, — ответствовал он с примерным хладнокровием, — но вам можете быть вполне покойны. Выбрали вовсе не меня, а майора Спиридова. — Боже мой!.. — Лицо Бестужева вмиг приняло несчастное выражение. Его рассеянность выдала, в каком напряжении он пребывал, руководя нелегкой беседой, и он не шутя рассердился на себя самого. — Извините мою проклятую сговорчивость! Я именно хотел сказать, чтобы не выбирали Спиридова, а не вас! Прошу вас, не сердитесь!.. Скажите, а… нельзя ли переменить избрание? Не тут-то было. Петр, улыбаясь мягчайшей из мягких своих улыбок, конечно, не упустил случая напомнить, что демократические… да, демократические правила Славянского Союза никоим образом не дозволяют того, чтобы… и в том же роде. Спиридов, само собой разумеется, остался в посредниках, — правда, поразмыслив, вскоре таковым же избрали и его, Горбачевского, чтобы для удобства действий и сношений с Южным обществом Славянских управ стало две: пехотная и артиллерийская. Но ни Борисов, ни Иван Иванович, сколько ни толковали, так и не нашли, чем же это нехорош оказался их почтенный Михаил Матвеевич Спиридов для южан? Может быть, тем, что по знатности, чину и состоянию был равен многим из них и они, следовательно, имели меньше оснований рассчитывать на его расположенность к подчинению? Нет, — те уже не однажды могли удостовериться, что нечиновные и незнатные Борисов 2-й или сам Горбачевский оказывались круто неуступчивы. А может быть… Однако в конце концов пришли к выводу, который и выводом нельзя признать: странно, и весь разговор! Что ж до неловкой бестужевской обмолвки, то ей посмеялись, оставшись вдвоем, оба, а Иван Иванович еще и заметил: — Видать, ты у него крепко в печенках сидишь! И как не сидеть! Когда Бестужев-Рюмин с горделивостью представлял Славянам своих могущественных сочленов и пылко вещал о готовности их Верховной думы возглавить победоносное восстание, он уже загодя метал задорные взгляды в сторону кротко молчавшего Петра — и не промахнулся. Борисов наконец заговорил — не вставая с места, лишь чуть подавшись в сторону Бестужева и сжав коленями кисти рук, сложенные лодочкой, — поза не то расслабленно-вольная, не то напряженная, не разобрать. Заговорил едва ли не ленясь, может быть намереваясь тем остудить общее впечатление от зажигательного бестужевского энтузиазма. Да, без сомнения, силы Южного общества велики, — «сему мы уже теперь свидетели». Да, их союз сулит свершения и внушает надежды. Но… Бестужев ожидал, чуть пригасив в глазах огонь, и Горбачевскому вдруг подумалось с неудовольствием, что напрасно все же Петр говорит с розвальцей. Что бы он там ею ни замышлял, открытая страсть в глазах и ушах людей всегда предпочтительнее бесстрастия, если даже люди и несправедливо подозревают в нем, в бесстрастии, недостаток истинного чувства. — Но, — тягуче продолжал Борисов, — ежели мы всецело подчинимся вашей таинственной Верховной думе, то точно ли мы избежим произвола? А вдруг она найдет маловажной нашу цель, — я имею в виду освобождение и объединение славянских народов? Вдруг пожертвует для настоящих выгод будущими? Запретит нам иметь сношения с иноплеменными народами?.. Бестужев взвился, как знамя на взятой у неприятеля крепости. То был его час. — Как? Вы так меня поняли?.. Господа! — воззвал он к окружающим. — Неужто меня возможно было понять так?! Напротив! Вы не видите вашей же пользы, уверяю вас! Наше соединение не удалит вас от вашей цели, оно приблизит ее! Россия, освобожденная от тиранства, разве не станет она немедля и открыто споспешествовать свободе всех славян?.. На сей счет невозможны никакие сомнения!.. Повторяю: у нас все обдумано! Отчего не удалась французская революция? Оттого, что она началась чернью, конституции заготовлено, разумеется, не было, а пока ее придумывали да меняли, тут и произошли все ужасные безначалия! Нет! Наша революция подобна будет испанской! Она… — Вы хотите сказать, что она будет произведена силою одного только войска? И без всякого участия народа? Бестужев, прерванный и, как было видно, искренне недоумевающий, с какой целью этот несносный Борисов мешает ему высказывать столь очевидные мнения, нашелся все-таки тотчас: — Ну да! Но она произойдет для его же блага, для его, народной вольности, — наша конституция раз и навсегда это утвердит. Москва и Петербург уже с нетерпением ожидают восстания войск, и можем ли мы обмануть их ожидания? Будущего года марта 12-го, как вы знаете, император Александр приедет смотреть третий корпус, — это нам очень на руку. Ненавистный тиран падет под нашими ударами. Мы пойдем на Москву, провозглашая конституцию, и все свершится без всякого шуму. На счет же кровопролития, — оратор памятливо адресовался к Горбачевскому, — я вам божусь, что не будет ни единой капли… — И вновь поворотился к Петру. — Однако я вижу, вы имеете возражение, господин подпоручик! — Я имею вопрос, — медленно ответил Борисов. — Объясните нам, кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления? Вы ничего не сказали об этом, кажется, немаловажном предмете… Вопрос предвиделся, и ответ был заготовлен. — До тех самых пор, — Бестужев так живо и четко выговаривал слова, будто отвечал любимый урок, — пока конституция не примет надлежащей силы, всеми делами государства будет заниматься Временное правительство. — И какой именно срок? — Может быть… Может быть, десять лет… Теперь наступал час Протагора. Борисов и на сей раз не поднялся со своего места, не расцепил даже ладоней, но, казалось, выпрямился и чуть не окаменел. — Прекрасно… Итак, для избежания кровопролития и для удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте… Революция совершится военная, то есть одни только военные люди произведут и утвердят ее… Ведь я не извратил ваших намерений? — Нет, нисколько. Это так… — Бестужев подтверждал нехотя, точно опасался подвоха. — Прекрасно!! Но кто ж тогда назначит членов Временного правительства? Ужели и в нем будут одни военные? По какому же праву, с чьего одобрения станут они управлять целою Россией в течение, как вы заметили, десяти лет? И наконец: какие ограждения представит правительство, если один из членов его, избранный воинством и поддерживаемый штыками, замыслит похитить самовластие? Молчание воцарилось такое всепоглощающее, что слышно было, как чья-то курительная трубка судорожно пыхнула и поперхнулась, испугавшись произведенного ею шума. Бестужев залился краской — теперь уж не юношеским румянцем, самолюбивым и легким, а тяжелой, густой, старящей краской стыда и негодования. Иван Иванович почувствовал, что ему жаль Бестужева и неловко за резкость Петра: круговая Славянская дисциплина отступила в нем перед этим незваным чувством. — Как вы можете меня о том спрашивать?..— голос молодого оратора сорвался. — Стыдитесь, господин подпоручик! Мы, которые для получения свободы решились умертвить своего монарха, — потерпим ли мы власть похитителей? Никогда! Никогда!!! — Это хорошо сказано, — испытанное хладнокровие и Борисову давалось сейчас до очевидности трудно. — Но Юлий Цезарь, победитель воинственных галлов и несчастного Помпея, пал, как вы знаете, под ударами заговорщиков. Пал посреди Рима, пораженного его величием и славой, и в присутствии всего сената. А над его убийцами, над этими пламенными патриотами, восторжествовал… Кто? Малодушный Октавий. Юноша восемнадцати лет от роду… Бог знает чем могло кончиться столкновение открытой страстности с бесстрастием, скрывающим не менее взрывчатую душу, но, по счастью или по крайней мере во избежание несчастья, Бестужева-Рюмина догадались отвлечь вопросами, зачастившими легким горохом со всех сторон. Сам Горбачевский, стараясь не глядеть на Борисова, не преминул спросить о чем-то, кажется, не весьма значительном, — хотя ему ли было не знать, что не дурной характер понудил Петра затеять опасный разговор?.. Понимая неотвратимость и выгоду соединения, они сходились до странности трудно, и сама эта странность, то есть необъяснимость, нелепость, неслаженность, была постоянным знаком их переменчивого сближения, их взаимопонимания и взаимоотталкивания. Сколько раз, на протяжении скольких лет Ивану Ивановичу приходилось в размышлениях о минувшем останавливаться перед несходящимися концами, перед противоборствующими противоречиями, руками в бессилии разводить или, бесясь, чертыхаться, — пока не открылось ему вот что: именно там, в этой проклятущей точке, где конец самым непостижимым образом не соглашается сойтись с концом, там-то и наметилась разгадка, притаилась нагая суть, нащупалось ядрышко. И когда трезвый логик вдруг проявляет в чем-то истинно ребяческую наивность, прямодушный человек лукавит и крутит, а умный свершает то, что противится его же уму, тут самое время не сердиться или смеяться… Впрочем, отчего бы и нет? Лишь бы, насмеявшись и насердившись, задуматься. Уже в Петербурге, на следствии, им, Славянам, не однажды привелось узнать от злорадствующих допросителей, что союзное им Южное общество, завлекая к союзу, говорило не всю правду. Сила южан оказалась совсем не столь внушительной, как обещалось, — ну, положим, тут был более самообман, чем обман, ослепление ли безоглядной храбрости или душевная доверчивость их вождей, на что можно сетовать, но нельзя объявить злоумышлением. Было, однако, не только это. Что поделаешь, было…
«…Объясните откровенно:…от кого, когда и где именно вы сами слышали на счет одобрения конституции иностранными публицистами и точно ли князь Трубецкой, а не другой кто из членов возил ее за границу и в какое время?
Генерал-адъютант Чернышев».
«Я точно сие говорил Славянам в Лещинском лагере. Вот по какой причине.
Дабы присоединить их к нашему Обществу, нужно было им представить, что у нас уже все обдумано и готово. Ежели бы я им сказал, что конституция написана одним из членов и никем знаменитым не одобрена, то Славяне, никогда об уме Пестелевом не слыхавшие, усумнились бы в доброте его сочинения. Тем более что Спиридов, которому я давал выписки из «Русской Правды», написал было на многие пункты свои возражения;…итак, для прекращения
уже начавшихсятолкований и для предупреждения новых я сказал, что к. Трубецкой нарочно был послан в чужие края для показания
сей конституциизнаменитейшим публицистам и что они ее совершенно одобрили…
Назвал же я Славянам Трубецкого, а не другого, потому что из членов он один возвратился из чужих краев; что, живши в Киеве, куда Славяне могли прислать депутата, Трубецкой мог бы подтвердить говоренное мною, и что, быв человеком зрелых лет и полковничьего чина, он бы вселил более почтения и доверенности, нежели 23-летний подпоручик.
Подпоручик Михаил Бестужев-Рюмин».
…И, казалось, ничего не остается, как горько винить союзников, зовущих к доверию, но не доверяющих, — если б не новая странность, все те же несходящиеся концы. Верил ли ему, Ивану Горбачевскому, Петр Борисов?
Да, — и сколько ни испытывая это разом вылетевшее словечко скептической кислотою, оно не окажет фальши.
Да, Да, иначе с чего бы его тогдашний приезд в Млинищи, иначе с чего бы с риском… нет, в том-то и штука, что вовсе без риску открывать еще не слишком близкому человеку душу свою, и сверх того, самое свое дело, которому отныне посвящена душа? А вот поди разбери. Тем млинищинским вечером Иван Иванович поднял глаза от бумаг неизвестного дотоле ему общества, потеснивших на край стола нетронутый и остывший ужин, встретил прозрачный борисовский взгляд и сказал безо всяких обиняков: — Я не спрашиваю тебя о цели этого общества. Цель довольно ясна из писанных здесь правил. Однако из них нельзя сделать заключения, какова у общества сила. И на что полагает оно свои надежды. Борисов ясно смотрел на него. — Этого покамест и я не знаю. Хотя… надобно думать, что есть люди, которые о том весьма заботятся. — Кто ж они? И где? — О том я также могу только догадываться. Вероятно, все затеялось за границей. О, непременная эта, веско авторитетная заграница! И затем Петр, который сам и создал Славянский Союз вкупе с братом Андреем и поляком Люблинским, завел длинный рассказ, как некогда, будто бы находясь в Одессе, был принят в масонскую ложу под названием «Друзья природы» французским — запомним, французским, не нашим! — негоциантом Оливьером. А годы спустя некий польский шляхтич по имени, кажется, дай бог памяти, Шашкевич, впоследствии по какой-то причине застрелившийся, привлек его уже в Общество Соединенных Славян, из коего, однако, ему, Петру, ведом теперь только один член, драгунский ротмистр и сербский не то молдаванский граф, который прозывался Макгавли, а ныне покинул Россию и, слышно, живет на своей родине… — На какой же именно? В Сербии? Или в Бессарабии? — Кажется… Нет! Не упомню! Святая ложь. Ложь во спасение. Мало ли, с каким еще утешительным приговором можно сюда поспешить, да вот загвоздка: святость во лжи не нуждается, спасать же ложью — дело и вовсе сомнительное, ежели не опасное, и, как ни крути, всякий обман — беда. Вина, может быть, и не всегда. Но уж беда — непременно. Когда россиянин по своему национальному долгу и праву гордо замышляет славянскую, то есть кровную, федерацию, а сам не может отрешиться от иноземных, чужих помочей; когда он, славянин по корням, которые не выбирают, и Славянин по избранной участи, ссылается для убедительности то на французского купца, то на графа неопределенной нации, который отныне пойдет бродить по протоколам комитетских допросов под столь же неопределенным именем, не то Макгавли, не то Магавлий, не то вовсе Магабле, — что сей сон значит? Уж не то ли, что этого россиянина-славянина, натуру честнейшую и чистейшую, смутило и сбило нечто такое, чему и он не способен противостоять? Похоже, что так. Ибо откуда взяться ничем не тронутому достоинству в стране, где кичатся русскими блинами и русской баней, но презирают — сами — русские ум и талант? Откуда взяться полной доверчивости друг к другу — именно так: друг к другу, свой к своему, — если царь не верит министрам, те — чиновникам-бюрократам, бюрократы — дворянству, оно — мужикам? И, не веря, в недоверии, в подозрительности, в полицейской этой добродетели, надеются обрести надежность и защиту от возмущений и недовольств… Благородные заговорщики не следовали этому порядку; зыблющемуся на неестественном положении дел и неестественном состоянии душ. Они хотели его сокрушить, заменив естественным. Недаром члены Южного общества любили в своем кругу именовать себя благомыслящими, то есть думающими о благе, стремящимися достичь его, — но если такую цель приходится держать в секрете, если, пребывая в счастливой надежде не себе самим оттягать привилегия, а все отечество сделать свободным, если для этого люди принуждены создавать тайные общества, их ли винить в том, чего, по несчастью, не могло не случиться? То есть в том, что само существование общества, немыслимое без сбережения тайны, исключало порою доверенность между людьми самыми близкими? Пережив, передумав, переворчав, Горбачевский шел к мысли, опять-таки настолько простой, что ныне даже удивительно, как трудно и долго было к ней идти. Не тому надобно поражаться, что у союзников не было полного доверия и согласия, что Славяне с подозрением, о котором потом приходилось жалеть и в котором следовало раскаяться, исподлобья смотрели на блестящих полковников и князей из Южного общества, а те, гордые своей силой, может быть, снисходительно поглядывали на них, и не несговорчивость их, столь различных, примечательна и поразительна, а то, что, расходясь, не разошлись. Напротив, соединились. Они сходились неотвратимо — и трудно. Трудно — и неотвратимо. На кратком протяжении того лещинского сентября, вернее, одной только первой его половины, начиная с 30 августа, когда Славяне узнали, что рассекречены Тютчевым, их жизнь — вдруг — до неузнаваемости переменилась. Переломилась. Перед маневрами и смотром, этими испытаниями военной службы, которые начальству, всегда напуганному наперед, кажутся опаснее, чем даже сама боевая кампания, лагерь трясло, как в желтой лихорадке, — с той, правда, разницей, что в военном укладе и часто бьющая лихорадка размеренна, как барабанная дробь. Они, бригадные обер-офицеры, успевали без промедления и без особенных нареканий исполнять служебные свои обязанности, — но то была четкая исправность раз навсегда пущенного механизма, не имеющего способности и паче того склонности к размышлению, как бы ему поисправнее подтолкнуть вон то колесико или дернуть за этот приводной ремень. Размышляли совсем о другом. Другим жили. И собирались — чуть не ежевечерне, с той жадной непременностью, на которую не подвигнет никакое частное приятельство, — тоже для другого. Спорили и соглашались в своем кругу, соглашались и спорили с Бестужевым-Рюминым, с настойчивостью начинающего пастыря наезжавшим на их тайные посиделки и все свое — недюжинное — красноречие тратившим на уговоры о союзе, о подчинении и уступках. И наконец… — Господа! — молодой Бестужев голосом и знаком дает понять, что намерен сообщить им нечто из ряду вон. Им — это Горбачевскому, Свиридову и еще одному из Славян, Пестову, подпоручику-артиллеристу, который состоял в дружбе с Петром Борисовым. Они вновь в лагерном балагане Муравьева-Апостола. — Господа! Оставим наконец споры, которые не касаются прямо до личного нашего долга перед свободою и отечеством. Вы предоставили нам с подполковником Муравьевым список членов Славянского вашего Союза. Он весьма обширен, — отлично!.. Бестужев-Рюмин извлек из кармана реестр, писанный для него Борисовым 2-м, и развернул лицевой стороной перед тремя Славянами, будто приглашал их самих убедиться в собственной многочисленности. — Но, господа, число далеко не все еще. Мало того, чтоб принимать всякого, кто согласится. Потребны прежде всего люди, особенно недовольные правительством и оттого готовые на все. Понимаете ли? Я вам скажу, что не нужно ни ученых, ни рассудительных… то есть, — поправился он, спохватясь, — их день настанет, когда мы одержим победу и утвердим конституцию. Теперь же нам надобно поболее самых отчаянных, как это говорится,
пропалых! У вас много членов, так, не отрицаю, но возьмется ли хотя бы один из них нанести роковой удар? Пестов изобразил на лице нарочитое изумление: — Не понимаю вас, господин подпоручик… — Я хотел сказать, — Бестужев непроизвольно понизил голос, хотя подслушивающих опасаться было нечего, — смертельный удар императору! — Вот оттого-то ваш вопрос и показался мне странен… — Пестов отличался самолюбивостыо и даже обидчивостью, что подстегивалось невеликим возрастом: здесь он был моложе всех, приходясь ровесником разве что самому Бестужеву-Рюмину. — Да ежели вам угодно, то между Славян таких, какие вам надобны, можно назвать хоть двадцать человек! — Коль скоро вы так говорите… Бестужев шагнул к столу, разложил и разгладил на столешнице борисовский реестр — всё молча, — взял со стола карандаш и обернулся к Славянам всем корпусом, очевидно повторяя движение кого-то из старших и славных, быть может, известный портрет Ермолова: столь явно это внушительно-грузное движение не согласовывалось с его легкой повадкой. — Коль скоро так, то я прошу вас всех отметить имена тех ваших товарищей, которые, по мнению вашему, готовы пожертвовать всем и одним ударом освободить Россию от тирана. Карандаш в его руке дрожал одно мгновение, словно колеблясь, кого предпочесть, а ткнулся заточенным острием в сторону Пестова. Вспыхнув, тот почти вырвал графитовое стило, сразу сыскал в многоименном списке свое имя, замешкался только на миг, может быть, заколебавшись, каким именно знаком пометить его, и двумя легчайшими касаниями поставил — крестик. Под ожидающим взглядом Бестужева спокойно, не торопясь, будто расписывался в ведомости на солдатское довольствие, отметил себя самого Спиридов. Подумав, прибавил еще Тютчева, Громницкого, Лисовского. У Ивана Ивановича не было времени, да и нужды сообразить, что оба его товарища чувствовали в ту минуту. Сам же он был подхвачен каким-то крутящимся вихревым столпом, слитно-единым и разнородным в одно и то же время; вспоминая и разбираясь потом, он удивлялся, какое, выходит, изобилие ощущений человек способен иметь в себе за столь мимолетный срок, — конечно, если то не было запоздалой попыткой огрузить значительностью душевного переживания летучее и отлетевшее. Была — или после вообразилась? — досада: вот, мол, карандашом приходится доказывать несомненное, то, что Славяне не робкого десятка, отчего незамысловатое движение незамысловатого писарского орудия выглядит жестом на театре. Было, надо признать, и тщеславие, разумеется удовлетворенное: да, убедитесь, господа, — не робкого! И спокойное, ясное сознание опасности принимаемого решения — оно тоже было. И даже деловитая оглядчивосчъ: а ну, кто там еще отмечен и с кем, стало быть, он при нужде пойдет на дело в одной когорте пропалых, отчаянных? И что-то иное, чего тогда было еще не обмыслить, а теперь уже не припомнить, — но над всем преобладала внезапно слетевшая на душу легкость, почти счастливая освобожденность, какая приходит от сброшенного наземь груза, от принятого наконец решения, — впрочем, нет, скорее не столько от того, что решение принято, сколько от сознания, что его уже не перерешить. Вес? Нет, и это было не все: уже нацелив острие графита на родовое свое прозвание, Иван Иванович испытал неловкость, как будто, начиная с себя, он выхваляется, кажет свою особенную отчаянность, а может быть, и зависимость от стерегущего бестужевского взора, — и перешол карандаш выше. Алфавит, словопорядок — вот что демократично, как сказал бы Петр Борисов. В нем, как в строю, не высунешься. Как в воинской перекличке, не заорешь: «Я!», покуда не подошел черед. Андреевич 2-й, Яков. Нет. Горяч, мил, но слишком способен к увлечениям, — недаром же сочиняет стихи. Борисов 1-й, Андреи. Да. Борисов 2-й, Петр. Да!!! Веденяпин 1-й, Аполлон… Веденяпин 2-й, Алексей… Выгодовский Павел… Мимо. Мимо. Мимо. Наконец и родная литера. Горбачевский Иван… И, все-таки не сдержавшись, он окрестил себя самого особым, размашистым, залихватским знаком. Черта, скользнувшая сверху вниз, — раз!! Черта, легшая поперек, — два! Всем крестам крест. — Как? — воскликнул Бестужев, заглянувши в бумагу. — Вы отметили обоих Борисовых? — Разумеется. Я знаю их и ручаюсь за них своей головой. — Но ведь мы твердо условились, что отставных и статских в нашем деле быть не должно! Помните? И вы обещали! К тому ж я вовсе незнаком с Борисовым 1-м. — Это легко исправить. Он уже писал своему брату, что хочет вновь определиться в службу, и для того, верно, скоро будет здесь. — В таком случае пусть непременно явится ко мне. Я сам приму его в общество и определю на то место, где ему лучше быть… Хорошо, — а Борисов 2-й? — Неужто вы почитаете его недостойным участвовать в нашем восстании? — В восстании, которое мы замыслили все сообща, он, я уверен, будет достойным сочленом, — возразил Бестужев. — Но предприятие, о котором мы говорим теперь, совсем другое. Это предприятие… Было заметно, что, надежно обдумав необходимость цареубийства, он странным, хотя и понятным образом избегал называть это действие прямо. — …Это предприятие требует порыва, самозабвения, а Борисов 2-й… Он слишком холоден, и, боюсь, ему недостанет решимости. — Позвольте заметить вам!..— Горбачевский почувствовал, что еще немного — и он вскипит не на шутку. Подступающий гнев мешал ему говорить. — Или же вы легковерны поддались клевете или… — Хорошо, — отчужденно остановил его Бестужев. — Если вы настаиваете, будь по-вашему. Прошу вас только известить Борисова 2-го, чтобы до выхода 8-й бригады из лагерей он повидался с нами… Затем придвинул к себе бумажный лист — с тем выражением лица, какое бывает у человека, совершающего наконец то, чего от него заждались другие, — и, бросив в сторону трех Славян нечаянный взгляд, махнул разбежавшейся скорописью: «Михаила Бестужев-Рюмин» — и тем же самым знаком припечатал свою судьбу к судьбе вызвавшихся заговорщиков… На будущий день оповещенный Иваном Ивановичем Петр Борисов уже чуть свет спешил к Муравьеву и Бестужеву, — его поторапливали и обстоятельства, ибо маневры накануне кончились и войскам надлежало отправляться на зимние квартиры, и затронутое достоинство. Отодвигая полотняный полог, он уже был наизготове произнести первую фразу самолюбивого объяснения, однако не успел. Бестужев-Рюмин, едва завидев Борисова, поднялся навстречу ему с самым веселым видом, и беседа получилась стремительной и простой, как бывает обычно только между людьми, издавна понимающими один одного с полуслова и оттого не тратящими времени ни на сантименты, ни на растолкования. — А, Борисов! Здравствуйте! Я так и ждал, что вы непременно будете! Ну, что же? Слышали ли вы? Сказывал ли вам Горбачевский? — Слышал. И знаю все. Это «все» Петр выговорил с намекающей многозначительностью непоказной, но и не скрывающейся обиды, однако Бестужев если и расслышал намек на вчерашнее, то от него отмахнулся. — Решитесь ли вы на
это? — Я уже назначен и не отказываюсь. — Отлично! Вот ответ, какого я только и ждал! Но помните: все должно быть тайною для других наших членов до исполнения сего предприятия. — Знаю и это. — Готовы ли вы дать клятвенное обещание? И Борисов, присягая, поцеловал заветный бестужевский образок, который тот, расстегнувши мундир, нарочно достал с груди: овальное изображение Христа Спасителя, несущего свой крест, оправленное в бронзовый обруч, а вышитое, как сказал Бестужев, его милой кузиной. Потом, в камере Кронверкской куртины, готовясь идти на казнь, он снимет образ еще раз, уже в самый последний, и передаст на вечную память сторожу-солдату, — пока же его целует неуступчивый Протагор, супротивник-союзник, и после не только остается для беседы, но, сам того не ожидая, вдруг открывает тому, с кем схватывался в жестоких спорах, то, чего не решался открыть и близким своим, даже Горбачевскому…
«При сем последнем моем с ним свидании я признался ему, что Славянский Союз собственно основан мною, что знают о сем только мой брат и поляк Люблинский, но что от прочих моих друзей я сие скрывал, опасаясь, дабы они, узнав о сем, не потеряли уважения к сему Союзу и не почли бы его одной мечтою… После чего просил, дабы oн скрывал сие до времени от моих друзей, которых я обманывал против чувствования моего сердца».
Из собственноручного показания подпоручика
Борисова 2-го перед Следственным комитетом
…Да, странно, странно! Они, Славяне, все долгие месяцы своего отдельного, ото всех закрытого существования имели цель хотя и ясную, но отдаленную, и если речь заходила порою о том, какие права поборники свободы и народного блага могли бы иметь над судьбой государей, но хотящих свободы и превратно толкующих благо, то она, эта речь, и шла в течении плавном, в мирных берегах рассуждении о законности и о праве. Осуждалось убийство российского Павла, как все вообще дворцовые заговоры, зато совсем иным делом виделась казнь французского Людовика, народом решенная и одобренная. И отдаленность цели, до которой они не надеялись дойти своими силами и, может быть, до самой своей смерти, говорила помимо всего прочего о трезвости их предвидений и суждении. Что могли они, поручики, подпоручики, прапорщики и юнкеры, полагаясь на одни свои силы и не рассчитывая на чужие, собравшись в свое общество и не догадываясь о других? Кто бы, скажите, хотя бы допустил их до того места, где свершались до сей поры отечественные перевороты? Но когда произошло слияние с Южным обществом; когда даже уклончивость Бестужева-Рюмина, его слова о будто бы могущественных силах и связях внушила Славянам надежды уже на близкие перемены; когда они получили опору — или решили, что теперь она у них есть, — вот тогда сама способность грамотно считать и трезво смотреть на положение дел обернулась, да, кажется, и не могла не обернуться, особенным рвением — к делу, к деятельности, к действию. Они, иные, не такие, непохожие, были нужны Южному обществу, — тем нужнее, чем непохожее. Они расходились в одном, в другом, в третьем, однако сошлись и отныне уже всегда пребудут хоть и отдельно, а нераздельно…
«
Сергей Муравьев — Апостол…
Странная вещь, в это время, когда мы в его балагане разговаривали, я нечаянно держал в руках его головную щетку; прощаясь, я ее положил к нему на стол; он, заметя, взял во время разговора эту щетку, начал ею мне гладить мои бакенбарды (так, как это делал часто со мною твой брат Николай), потом, поцеловавши меня горячо, сказал:
— Возьмите эту щетку себе на память от меня, — потом прибавил: — Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу как друга, которого я люблю почти так же, как Михаилу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас. Тут он обнял меня, долго молчал и от грустной разлуки, наконец, еще обнявшись, расстались навеки».
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Продолжение
«В 5 часов вечера 3 января пленные офицеры и солдаты были привезены, под сильным конвоем, в дер. Трилесы. С. Муравьев, брат его Матвей, Соловьев, Кузьмин, Быстрицкий, Бестужев-Рюмин и солдаты, разжалованные из офицеров — Грохольский и Ракуза — были все вместе помещены в корчме, в одной большой комнате, а за перегородкою находились караульные. Внутри и около корчмы были расставлены часовые. Нижние чины были размещены по разным крестьянским избам под строгим караулом. Вскоре после приезда в Трилесы умер Кузьмин истинно геройскою смертью. При самом начале дела он был ранен картечного пулею в правое плечо навылет, но рана сия не помешала ему ободрять солдат словами и личным своим примером. Будучи прежде всех окружен гусарами, он сдался без сопротивления. Тут же в душе его возродилась мысль кончить добровольно бесполезные страдания, избегнуть позора и наказания. Когда с места сражения отправили их в Трилесы, Кузьмин сел в одни сани с Соловьевым. В продолжение дороги он был спокоен, весел, даже шутил и смеялся. Недалеко от Трилес Соловьев почувствовал холод, встал из саней и прошел около версты пешком; садившись опять в сани, он нечаянно облокотился на плечо Кузьмина. При сем движении болезненное выражение изобразилось на лице его товарища. Соловьев, заметя сие и не подозревая вовсе, что он ранен, спросил его: — Что с тобою? Вероятно, я крепко придавил тебе плечо: извини меня. Кузьмин ему отвечал: — Я ранен, но сделай милость, не сказывай о сем никому. — По крайней мере, — возразил Соловьев, — приехав в Трилесы, позволь мне перевязать твою рану. — Это лишние хлопоты, рана моя легкая, — сказал, улыбаясь, Кузьмин, — я вылечусь без перевязки и пластыря. Веселость Кузьмина действительно заставила Соловьева думать, что рана не опасна: он замолчал, ожидая приезда на место. В корчме раненого С. Муравьева положили в углу комнаты, в которой было ужасно холодно. Он лежал там около часу, но, почувствовав сильную знобь, встал и пошел отогреться к камину. Кузьмин с самого приезда все ходил тихими, но твердыми шагами по комнате, но, вероятно, ослабевши от истечения крови и чувствуя маленькую лихорадку, присел на лавку, подозвал к себе Соловьева, которого просил придвинуть его поближе к стене. В ту самую минуту как Соловьев, взяв под руки, потихоньку приподнимал, чтобы хорошенько посадить, С. Муравьев — от теплоты ли огня, горевшего в камине, или от другой какой-либо причины — упал без чувств. Нечаянность его падения встревожила всех: все, исключая Кузьмина, бросились к нему на помощь, как вдруг пистолетный выстрел привлек общее внимание в другую сторону комнаты. Часовые выбежали вон, крича: «Стреляют, стреляют!» — и дом почти остался без караула. Удивление и горесть поразили сердца пленников. На скамье лежал окровавленный Кузьмин без черепа; большой, еще дымящийся пистолет был крепко сжат левою омертвевшею его рукою. Когда же с Кузьмина сняли шинель и мундир, то увидели, что правое плечо раздроблено картечною пулею, которая вышла ниже лопатки, — все нижнее платье было в крови. Тут товарищи его увидели явно, что он, получивши рану во время сражения, несмотря на жестокую боль, скрывал ее, с намерением лишить себя жизни пистолетом, спрятанным в рукаве его шинели, и выжидал удобную минуту прибегнуть к роковой его помощи. Таким образом кончил жизнь один из отважнейших сподвижников С. Муравьева. Сила воли, твердость души были отличительными чертами его характера… «Свобода или смерть», — часто говаривал он с душевным движением и смертию своею доказал, что чувствовал и говорил одно». С чего это я вдруг, как наказанный за нерадивость школьник, взялся переписывать, слово в слово, некраткий отрывок «Записок неизвестного из Общества Соединенных Славян», в известности которого, впрочем, не сомневаюсь? Что-то, видно, здесь ворожит, привораживает, не дает перу залениться или споткнуться, — я, кажется, даже знаю, чт? именно. Как неотвязно внимателен летописец к последним минутам Кузьмина, — будто не то что наблюдал их, находясь бок о бок, но чуть ли не сам все это испытал… Да так оно отчасти и есть, хоть и рядом-то быть не пришлось и записано все потом, со слов, вероятно, того же Соловьева. Не испытал, зато теперь, записывая, испытывает и переиспытывает. Тут не пересказ, не рассказ даже, в которых все отстоялось и отлежалось, став всего лишь воспоминанием, тут пристальная примерка на самого себя. Мне припомнился кто-то из жизнеописателей древности, повествующий о смерти Цезаря: как тот, увидав, что уже нет спасения от наставленных на него кинжалов, правой рукой набросил на голову тогу и левой прикрыл ею же колени, чтобы упасть и умереть не ребячески голоногим, а царственно укрытым до пят. Как в трагедии. Не нарушив достоинства и — даже! — установлений эстетики. Самообладание, думалось мне, почти неправдоподобное или неправдоподобное вовсе, — но вот как ведет себя черниговский поручик из Общества Соединенных Славян. Горячий до бyйствa и самозабвенности — таким его представляют «Записки», — он с раздробленным плечом сохраняет присутствие духа в бою, а когда, безнадежно окруженный гусарами, решает сдаться, то именно решает, принимает решение, хладнокровно и трезво сознавая бессмысленность дальнейшего кровопролития и щадя, может быть, не только своих солдат, но и гусар, чьей крови по рассудку и чувству желать не может. Непереносимо страдая от раны, он весел, он смеется и шутит, а меж тем спокойно улучает мгновение для самоубийства… Римлянин? А может быть, просто — наш, русский, российский человек? Никто, как он, — в ту самую минуту, когда и являет высоту своего хладнокровного мужества и непоказного великодушия? Хотя, думаю, и Цезарь, а вернее, историки, восславляющие свою античную добродетель, не с ветру взялись. Сдается мне даже, что сам автор очень хотел бы, чтобы они нам приходили на ум. Вот и приходят. В чем дело? В слоге, который и в самом деле прямо-таки стоически сдержан в страсти и чья поступь, исполненная достоинства, чья памятливая обстоятельность — отнюдь не беспечная сестра словоохотливости, но, напротив, суровое дитя отбора и назидания?.. Ишь, в какой ты и сам ударился слог, Гаврила Кружовников! С какой торжественной важностью заговорил! Да, привораживают «Записки». Не отпускают… Однако слог — это еще дело семнадцатое. Мне кажется, за свою жизнь я немного читал сочинений, где автор — при таком-то аскетическом отказе от самоизлияний — так отчетливо представал бы передо мной собственной персоной. Он не только не норовит стать так, чтобы я, читающий, жадно разглядывал его в профиль и анфас. Он от меня прячется, хмуро заслоняясь и решительно уходя в тень, он отказывается даже от местоимения «я», — это, впрочем, по обычаю, в те времена распространенному, — и, несмотря на это, ясен и виден в своем главном и существеннейшем. И когда я читаю сожаления и попреки, что вот, дескать, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, подняв свой Черниговский полк, там-то оказался нерасторопен, здесь нерасчетлив, я за всем этим вижу не просто одного из руководителей Общества Соединенных Славян, не прекратившего спора с руководителем Южного общества. Не только военного человека, который по-русски, то есть задним умом и задним числом, оспаривает действия другого военного. И уж совсем не подпоручика, ревнующего к подполковнику. Тут что-то иное, лежащее, может быть, на самой глубине души, — неразличимой, как всякая настоящая глубина. Что-то, что и делает характер таким, каков он есть. Но вот что?.. Вспоминаю: — Вы только погрозились, а как на вас прикрикнули, вы и пошли себе в Сибирь тихомолком. Разве таковы настоящие либералы?.. Нет, не только молодые Петровского Завода наскакивали этак на старика Горбачевского. Так и вижу столичных моих друзей и среди них женщину, имя которой суеверно боюсь доверить даже этой, ни для чьих глаз не предназначенной тетради. Полыхает глазищами, кулачок сжимает, любимая, точно каленый орешек, — взгляда не оторвешь! — а сама безжалостно, холодно, будто костяшки счетов отбрасывает сухим щелчком: того-то не сумели, этого не поняли, тем доверились… Что ж, дело неудивительное: все новые поколения имеют понятую и простительную привычку считать себя прозорливее предыдущих, — как историк подтверждаю… Но в «Записках»-то споры, подчас и непримиримые, совсем другого толка. И не в том дело, что спорит дворянин с дворянином, люди, стало быть, если не одного, то родственного круга. Круги-то как раз и сходятся и расходятся. Вообще, если приглядеться хорошенько: чем, казалось бы, тот же Горбачевский Иван Иванович не родня нынешнему разночинцу? Ну хорошо, хоть, так сказать, полуразночинцу, — вот вроде меня?.. Да нет, меня-то, мелкую сошку, оставим, возьмем для наглядности кого познаменитее: скажем, нашумевшего и наломавшего дров Евгения Базарова. А что? Пожалуй, если их рядышком поместить, то тургеневский нигилист еще и возьмет верх во владетельности. У него крепостных было, не припомню точно, то ли полтора, то ли два десятка, и сельцо родительское какое-никакое имелось. Магнат, да и только! Потому что у Ивана Ивановича — ни кола ни двора, да, кажется, и ни единой крестьянской души. А все ж — снова нет. Иная порода. Совсем иная. К слову замечу, что сопряжение этих имен — не моя натужная фантазия. «Отцов и детей» мой Горбачевский читал и о Базарове имел мнение самое определенное (пишу по свежей памяти со слов Харлампия Алексеева}: — Базаров, Базаров!.. Шуму-то, господа! Вот и Оболенский мне давеча о нем написал, — на чем свет стоит бранится: и такой-то он, и сякой! Урод! Выродок!.. Да помилуй, Евгений Петрович, пишу ему: эти ваши Базаровы на Руси всегда были и будут, покуда порядок вещей не переменится. Вот если б их не было, если б они не лезли со своим отрицанием, этому, точно, стоило бы Удивиться: у нас ведь все вокруг так и взывает к протесту. Иу прямо само просится: отрицай меня! Что ж, дескать, не отрицаешь, — хочешь, может быть, сделать вид, что меня вовсе и нету? Что, ты всем доволен? Нет, брат, не проведешь!.. Да цап его — и в кутузку!.. Впрочем, я, кажется, написал чуть раньше: если приглядеться? Да, так оно и есть: написал. А напрасно. Нет, хорошенько-то приглядевшись, как раз и обнаружим, что при сходстве своем с грядущим поколением и образующимся сословием Горбачевский принадлежал к людям
старым… Да, да! К старым в исторически точном смысле слова. Он не забегал вперед, а… Отставал? Не то. Просто ткнул свои корни дальше и глубже, чем может показаться. Он — и подобные ему, те, что и составили Общество Соединенных Славян. То есть малоимущие и совсем неимущие провинциальные офицерики-армейцы, которые росли вдалеке от столиц и близко, прямо, прикосновенно — хотя бы по должности, как ротные и взводные командиры, — общались с солдатами-мужиками. Да они их и с самого своего детства видели не из прекрасного далека! Нет, в не прекрасной, не прекраснодушной близи. Братья Муравьевы-Апостолы воспитывались в Париже, а мать, охраняя покой и невинность юных душ, скрывала от них, что на родине существует такая пренеприятность, как крепостное право. Никита Муравьев, будущий сочинитель конституции, шестнадцати лет бежал из московского дома, чтобы поспеть на войну с Наполеоном, имея при себе список его маршалов, — может быть, затем, чтобы сразить кого-нибудь из них? Далеко, однако, не убежал: в подмосковной деревне спросил поесть, заплатил за краюшку с молоком золотой десятирублевик и был, разумеется, схвачен сообразительными мужичками как французский лазутчик. И то: нешто мог бы, по здравому крестьянскому разумению, свой русак до такой степени не знать отечественных цен? Что говорить, когда они наконец узнавали правду, тем чувствительнее выходил для благородных сердец удар, да я ведь все это и не к тому, чтобы не дай бог чем-нибудь да унизить истинно замечательных людей. Мне Ивана Ивановича понять нужно. Только-то. И если так уж необходимо именно литературное сопоставление, к которым у нас, у просвещенных и полупросвещенных русских, как я заметил, особенная страсть, то вот вам: Горбачевский — не из Базаровых. Чего нет, того нет. Он — из Стародумов. Да, да, читатель, даром что тебя, любезный друг, нету и не предвидится: ты верно смекнул. Это из «Недоросля». В некотором смысле… Кажется, я уклончив, как наши сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве…», — но что поделаешь. Такая моя туманная неопределенность лишь означает, что я сам побаиваюсь того, что сейчас выскажу. Итак, в некотором смысле — в некотором, в некотором, но в полном и не в прямом! — и бедность офицеров-славян, и низкое их положение, и даже малая сравнительно с гвардейцами и аристократами образованность, отставание от последнего и тем паче модного слова европейской мысли — все это составило и особенность, и… вот что страшновато выговорить… своего рода преимущество. Слава тебе господи — выговорил! Что переводил Горбачевский для своих молодых учеников в Петровском Заводе? Байрона, может быть? Ламартина? Мюссе? Мериме? Гейне? Или новейших французских романистов? Как бы не так! Руссо и Вольтера, мудрецов прошлого века, да еще «Орлеанскую деву» Шиллера: писатель, правда, из новых — для него, не для нас, — зато и героиня и сюжет, как в старой доброй трагедии классицизма! Он и такие, как он, с изрядным запозданием осваивали то, что само давалось в руки Муравьевым, Бестужевым или Лунину. В неизобильных библиотеках их отцов, где каждый том был на счету и на месте, каждый имел свою физиономию и судьбу, каждый состоял с хозяином в интимных и особенных отношениях, — на кого ворчали любя, с кем советовались, кому каялись, — там еще гнездился и не думал расставаться с нагретым гнездом осьмнадцатый век, — вот сыновья и не простились с ним, с веком, до самой смерти. Даже в двух наиглавнейших пристрастиях Горбачевского мне так и чудится эта верность. А правильнее сказать, в их сочетании: алгебра, которую он даже некогда преподавал в военном училище, и Плутарх, которого перечитывал всю жизнь. Цифирь — и история. То, что по-разному, но равно противостоит романтической мечтательности, то, что основательно и непреложно, сурово и рационально. И атеизм его упрямый — не того ли он самого происхождения? Наконец-таки я докопался, по какой такой причине в 1846 году генерал-губернатор Руперт отказал государственному преступнику Ивану Горбачевскому в прибавке пособия от казны: он, дескать, «себя не так ведет», — и велел взыскать с просителя девяносто копеек за бумагу, не по форме поданную. Оказалось, этот рубль без гривенника был для Ивана Иваповича еще сущим благом! Откупом! На каторге Горбачевский себя вел… нет, не скажу вызывающе. Это и не в характере его. Вел он себя, скажем так: неосторожно. Не говел, не постился, да и в спорах вольнодумства своего не прятал, — каторжнику это с рук сходило. Оно и понятно. По совсем не глупой начальственной логике, пока ты заперт, мели, что тебе заблагорассудится, чувствуй себя в неволе каким только хочешь свободам, — лишь бы твоя свобода была отгорожена от наружной воли крепкой стеной. Ведь разумно? А вот на поселении — шалишь! На поселении и заварилось дело… Именно — «Дело». Вот оно, вернее, копия его у меня в руках: «Дело по отношению Иркутского архиепископа о том, что государственные преступники Мозгалевский и Горбачевский не бывают у исповеди и даже в церкви, и что последний оказывает богохульство». Вот и резолюция генерал-губернаторская. Угрожающая: «Если по исследовании окажется, что последний из них действительно произносил богохульные слова, обличающие безбожие его, то как его самого, так и тех, которые слышали его богохульство, но не донесли о том своевременно начальству, предать суду по силе 130 и 131 статьи устава о предупреждении и пресечении преступлений т. XIV свода законов издания 1842». Я справлялся у сведущих: это значит — вновь каторга. На какой срок, суду решать, но уж точно не на один год. И — пошло. Поехало. Прибыл из Верхнеудинска земский исправник, потянулись своей чередой допросы, — хвала местным начальникам, а особенно попу Капитону Шергину, заступились. Что до попа, то пьянчужка был, буян, мздоимец лютый, сам дважды побывал под церковным следствием: за матерную брань в храме и за драку в алтаре… Хорош пастырь? А не выдал. Уж не знаю, задаром или кто его одарил, но благодаря ему дело-таки замяли. Или полузамяли — рублем все же ударили, и больно. Так вот: как, спрашивается, пришел Иван Иванович к такому безбожию? А он, думаю, к нему и не приходил. Он от него шел, — и откуда было еще идти тому, кто читал Вольтера в нежнам возрасте и в нежинском захолустье (гляди-ка, нечаянный каламбур!) и кто в другом захолустье, уже в забайкальском, его же, скептика и насмешника, похваливал своим ученикам? Юношам, которым смотреть не назад, а вперед, которым доживать свою жизнь в нашем многострадальном девятнадцатом веке, а глядишь, и перешагнуть в недоступный и — как бы хотелось того! — золотой двадцатый. Для меня — недоступный. По годам я бы до него, пожалуй, и дотянул, да чахотка не впустит… Да! Стародум, однодум, тугодум! Перечитал — и спохватился. Не панегирик ли я строчу моему Ивану Ивановичу — верней, его стародумству и однодумству? Не осанну ли пою — по-добрососедски? Нет. Так понять меня, кажется, трудно. Но на всякий случай открою глаза на то, на что, говоря по правде, не прочь был бы их и закрыть. Неспособность меняться, если ты в чем-то раз навсегда утвердился (а если уж и меняться, то не иначе как с внуштельным, недовольным скрипом старинного своего механизма), — черта, которая может оборачиваться и таки этак. Про «так» я наговорил достаточно. Теперь — про «этак»… Горбачевский, лукавец, любил прикидываться равнодушным и даже предубежденным к словесности; Харлампий Алексеев свидетельствует, что — для виду. Читал, почитывал, даже рассуждал — и над «Записками охотника», и над «Губернскими очерками», и над сочинениями графа Толстого. Некрасова с первых его стихов в «Современнике» приметил и отличил. Но к одному из русских писателей действительно относился с такой предвзятостью, что впору опять Базарова вспомнить. Увы, к Пушкину. Да куда нигилисту! Тот о нашем национальном поэте говорил разве что с ленивым высокомерием, а Горбачевский — с неприязнью жгучей, как будто личной и уж во всяком случае необъяснимой… Что, что? Нет, тут я поймаю себя на слове. Необъяснимой? Вот ведь, скажи на милость, на какие уловки пускается умственная наша лень. Стоит встретиться с чем-то, чего не может вместить рассудок и чему противится душа, сейчас сошлемся на нее, спасительницу, на необъяснимость. На непостижность уму. И взятки гладки. Нет чтобы сообразить: если нечто кажется нам никак не укладывающимся в наше понимание, — может быть, тут-то и затаилось своеобразие человека или явления?
Своеобразие— подчеркну: соответствие, стало быть, только своему образу. Не нашему. Не общему. Да, не хочется смиряться с этой неприязнью. Хочется сделать вид: не было этого. Однако — было. Умный, добрый, справедливый Горбачевский не только заочно неполюбил Пушкина, но, говорят, намекал, что он и его товарищи были прямо предупреждаемы: молодому поэту столь легкомысленного нрава доверяться нельзя. Опасно. Он, до дотошности щепетильный в обращении с репутациями даже тех товарищей, кого многие, чуть не все, не любили, — Дмитрия Завалишина, например, — пушкинской репутации не щадил. И даже нежная близость Ивана Ивановича с другим Иваном Ивановичем, с Пущиным, поколебать его не могла. Что это значит? А только то, что в границы представлении Горбачевского о мире, о долге и о человеческом поведении не вмещался образ молодого гения, поэта новых времен и новых мер, — в чем, заметим себе, нет ни унижения Пушкину, ни даже упрека Горбачевскому, допустим, в узости или ограниченности. Да границы и обязаны быть ограниченными, иначе что ж это за границы и какую же область способны они очертить и определить? Всякому дано то, что дано, — Горбачевскому было дано стать и остаться выучеником той гражданственности, которую пестовал наш восемнадцатый век. Очень мало вероятно, чтобы он вдумывался и вглядывался в строчки того, кого отринул раз и навсегда как чужого и чуждого, но почему-то легко воображаю, как разворчался бы Иван Иванович, попадись ему на глаза знаменитое пушкинское завещание. Наставил бы на страницу свой лорнет-ножницы, пошевелил губами и метнул бы из-под нависших бровей на собеседника недоумевающе-рассерженный взгляд. — «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит…» А? Как это прикажете понимать? Пиит! Да многого ли стоит тот, кто посмертную свою славу ставит в зависимость от того, что некто вроде его самого некогда помянет его стишки? Какое легкомыслие! А ежели этот самый пиит возьмет да и отдаст богу душу? От холеры помрет? От простуды? Значит, и вся слава невесть куда ухнет?.. Нет! То ли дело Державин, которому ваш любезный Пушкин взялся было подражать, да и того не сумел толком! Как у него? «И слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенна будет чтить». Вот! Вот истинная слава! Истинная память! Истинный памятник! «Металлов тверже…» Придумал-то я, конечно, неуклюже, но верится, что Державин в самом деле был — или был бы, мог быть — мил сердцу, а главное, рассудку Горбачевского; Державин с его представлениями о долге и о служении, присущими строгому российскому классицизму, с его подчинением всякой личности общему делу, всероссийскому,
славянскому, с его непререкаемым: «За слова — меня пусть гложет, за дела — сатирик чтит». Базаров, тот, помнится, являл разом и незнакомство с Пушкиным и презрение к нему, уверяя, будто он только и знал, что взывать: «На бой, на бой! за честь России!» Если бы этот насмешливый лекарь был прав, думаю, Иван Иванович как раз отнесся бы к Пушкину куда милостивее. «На бой, на бой!» — этого ему в Пушкине и не хватало. Как, впрочем, и Рылееву… Так что ж? Выходит, я веду к тому, что Горбачевский и ему подобные были и в их время вчерашним днем России? Благородным, достойным почтения, но вчерашним? Нет. Напротив! Он и такие, как он, приспели в самое время, — и больше того, они,
стародумы, были этому времени необходимы, им были призваны и избраны. Любая эпоха хочет равновесия. Рождая Бонапарта, она нуждается в аптибонапартах, в людях, которым идея личной власти и даже собственного возвышения чужда и морзка, кто готов всего себя отдать и подчинить делу народному, общему, общественному, — res publica. Перед лицом Наполеоновой карьеры, вначале блистательной, потом постыдной — от республиканского генерала до скипетра и короны, — но представляющей и некую единую линию, эти антнбонапарты казались носителями добродетелей устаревших, навсегда опровергнутых новой эпохой и ее ярчайшей личностью, тем же Наполеоном, а стало быть, шагом вспять, даже далеко вспять, чуть не к наивной античной демократии. Но они были шагом вперед, к демократии грядущей, которая восторжествует наконец в нашей несчастной России. И опасливая ревность «Записок», которые я сейчас читаю, к тем из товарищей, которые задумывали военную революцию — с помощью одной только армии и без участия народа, — как всякая ревность, подозрительная и оттого порою несправедливая, тоже очень понятна. Опыт революции французской, в огне которой родилась новая империя, не мог не предостерегать тех, кто по воспитанию и убеждениям был демократом и республиканцем, твердо решившим, что ежели восстание, так общенародное, ежели счастье, так общеславянское. По меньшей мере. Бедность? Низость происхождения? Близость к простому народу? Да, все это играло свою немаловажную роль, но еще не составляло главной и уж по крайней мере единственной причины. Надо и то ведь принять во внимание, что мало ли из нашего брата, разночинца и полуразночинца, вышло свирепейших монархистов, а купечество, стремительно поднимающееся из неразличимой тьмы и беспросветной бедности, оно и вовсе прямой оплот самовластия, — и напротив, откуда Софья Перовская? Из губернаторского семейства. А Николай Морозов? Сын ярославского магната, уверявшего, что в родстве с Петром Великим… Словом,
тамбыл демократизм духа, а не плоти, демократизм дворянский и чисто дворянский, возросший и на Плутархе и на Руссо, на идеях недавнего Просвещения и на примерах древней античности. Древией-то древней, но царь Николай знал, что делал, когда приказывал преподавать историю греков и римлян, — коли уж без нее, небезопасной, вовсе нельзя обойтись, — по крайней мере в наивозможном сокращении, и наоборот, о Финикии и Ассирии рассказывать студентам как можно пространнее. Не то чтобы давние деспотии выдавались за образец правления, но был, возможно, и умысел хотя бы утешить россиян: как, мол, ни кряхтим, а все-таки в таком сравнении и наша жизнь, господа, не в пример полегче… В экую историческую даль я забрел! А что — ближе? Что было с теми, о ком я читаю и думаю, в дни, прямо предшествовавшие разгрому Черниговского полка, пленению в Трилесах, самоубийству стоического поручика Кузьмина? Две драмы открывают передо мной «Записки». Первая — черниговская, где есть завязка, кульминация и развязка: решение Сергея Муравьева поднять полк, их обнадеженный марш к победе и крушение всех надежд под ударами гусар генерала Гейсмара. Вторая — с завязкой и развязкой, но без кульминации; драма но меньшая, однако другая. Как завязывалось? 20 декабря 1825 года. Шесть дней назад в Петербурге на Сенатской площади восстало и пало Северное общество, но в ту бестелеграфную пору ни до Новоград-Волынска, ни до Житомира, ни даже до Киева весть дойти еще не могла, и время южных заговорщиков течет пока в привычном ритме, не подгоняемое ничем извне. Петр Борисов сидит на квартире Горбачевского, и они толкуют, как разумнее готовить солдат, — ведь будет же наконец сигнал к выступлению. Приносят письмо. Еще не то, которого ждут с особенным нетерпением, но все-таки долгожданное. От Якова Андреевича, сослуживца и Славянина. Он командирован начальством в Киев, а заодно справляет там дела их общества: должен передать Бестужеву-Рюмину письмо, где они, Славяне, уверяют в готовности и просят указаний. В письме, впрочем, определенного мало. Бестужев повторяет, что час близок, не более и не точнее, — как вдруг… О, это подозрительное «вдруг»! Оно и в романах уже приелось, в «Записках» ему и вовсе не место, но — что делать? «Еще не было прочтено письмо, как, к удивлению их, Андреевич сам вошел в комнату в дорожном платье. Радость их была неимоверная. Он подал им письмо от Бестужева. Из сего письма они увидели, что главные члены Южного общества почитают необходимым начать действие ранее положенного времени; Бестужев просил Славян ускорить дело и употребить все усилия к приготовлению нижних чинов. «Нам представляется случай ранее, нежели мы думали, умереть со славою за свободу отечества, — писал он к Горбачевскому, — может быть, в феврале или марте месяце, голос родины соберет нас вокруг хоругви свободы». В сем же письме Бестужев просил Горбачевского вместе с Борисовым 2-м приехать к 15 января 1826 года в г. Киев. Известие сие чрезвычайно ободрило Славян». Совещаются всю ночь и в конце концов решают отправить Бестужеву-Рюмину памятную записку — документ поразительный, неподражаемый, очень Славянский! В нем все честь по чести, все на военную ногу, все предусмотрено, — отмечено, скажем, что они как артиллеристы не могут выступить в поход без прикрытия и оттого надобно наперед озаботиться о помощи со стороны пехоты и конных гусар. Но среди этих семи суховато-деловых пунктов — такой: «5. Немедленно по восстании, Славяне полагают необходимым объявить скорое освобождение крестьян». Немедленно… А? Каковы?! А известие о 14 декабря все в дороге. До Сергея Муравьева-Апостола ему идти еще пять дней. До Славян — шесть. Читаю «Записки» — и испытываю мальчишеское желание, о котором успел позабыть с тех пор, как оставил авантюрные романы вроде какого-нибудь «Монте-Кристо»: подтолкнуть события, обогнать и обмануть время, текущее до отчаяния неторопливо. Может быть, взять да и заглянуть в конец — вдруг окажется, что добродетель там все-таки торжествует и все, кто достоин победы и счастья, победили и счастливы? Но конец мне, увы, известен. И потому я не только не тороплю событий, но медлю с чтением… 26 декабря. Весть о 14-м наконец прибыла, и тут-то стрелка на часах Славян как будто сбилась с заведенного хода, пошла скачками, рывками, — о выступления в феврале или даже в марте речи уже не было. В эти дни в Новоград-Волынск приезжает старший Борисов, Андрей, еще отставной и, значит, свободный в передвижениях. На него и взваливают роль гонца и связного: «Записки» ведут чуть не дневник его путешествий. Он сновал, как проворный ткацкий челнок, и, казалось, его усердие вот-вот объединит Славян, разметанных по городам и весям. Еще немного — и… Сообщение, что Сергея Муравьева велено арестовать, даже оно, ошеломив, придало решимости. Планы были грандиозные и в то же время содержащие верный расчет. Восстать немедленно. Освободить Муравьева, если он арестован. Идти на Киев — или на Бобруйск. Запереться в одной из этих крепостей, — а уж там, того гляди, подоспеет 2-я армия, полки 3-го и 4-го пехотных корпусов, все, что обещано уверенно и надежно. Андрей же Борисов искренне подогревал уверенность и вселял надежду. Обещают поддержку своих соотечественников, передавал он, польские члены Общества Соединенных Славян. Рвется в бой со своим Ахтырским гусарским пылкий Артамон Муравьев. Готова артиллерия 2-й армии. Литовский корпус. Все это и заставило Славян нарушить свое слово, которое они дали, скрепя Славянское сердце, Сергею Муравьеву и Бестужеву-Рюмину, — таить замыслы от нижних чинов. Когда они оказались предоставлены сами себе, они и стали собою: совершили то, что всегда считали правильным, то есть напрямик обо всем рассказали солдатам. Слово есть слово, дисциплина есть дисциплина, и то, что в решительный час они поступились всем этим, означало одно: он, этот час, действительно наступает. Другого не будет. К несчастью, не наступил… Что было виной? Многое. Географическая раскиданность, — Горбачевский и тот находился со своей ротой в деревне Барановке, далеко от Новоград-Волынска и от Борисовых. Нерешительность одних. Необязательность других. Оплошности третьих. И так далее, и так далее, а главнее всего — скорое поражение черниговцев. Все это и породило драму Славянского Союза, может быть особенно тяжкую или по крайней мере просто особенную. Ту, которая как легла камнем на их души, так до смерти и не скатилась… Военная косточка, строевик, фронтовик, которому попались бы на глаза мои причитания, уж наверняка поморщился бы. Экий, сказал бы, дурацкий лексикон. Что ж, он будет по-своему твердо прав, и даже я, полнейший в этих делах профан, понимаю, что вызвало бы его профессиональную горечь: — Тут, молодой человек, не до ваших штучек словесных! Тут наша беда, солдатская, настоящая: пушки — не игрушки, слыхали? А вот как остались эти самые «не игрушки» без пешего и конного прикрытия, — и кончено! Да и черниговцы, без артиллерии оставшиеся, где ко всему Славяне заправляли, — они разве сила? Две половинки не сошлись, не соединились, те, что ее, силу, вместе-то и составляли, — разумеете? То-то… А случись по-иному, кто знает, как бы все обернулось? Все так. Но я-то, тоже по-своему размышляя о том, что произошло, — да нет, хуже, о том, чего трагически не произошло, — не могу не думать о вещах, так сказать, невещественных, нематериальных, неосязаемых, о таких, которые человек, чертящий диспозиции и считающий в тактических единицах, волен не принимать во внимание. И пусть не принимает, — я даже и стихи, застрявшие в памяти, вспомнить не постесняюсь, и не батальные какие-нибудь, не «Полтаву», не «Бородино», а так, всего-навсего о несостоявшейся, неразрешившейся природной грозе:
Но сила тщетная замлела,
И молний замкнутый колчан
Без грому спущен в океан.
Сила — но
тщетная. Тщетная — но
сила, да какая!.. Славяне оказались в мучительнейшем бездействии. В бездействии того — повторюсь: трагического — рода, когда сила, знающая про себя, что она сила, замкнута, скована, задушена обстоятельствами. И вот сознание-то, что она могла, что она должна была проявиться и грянуть, однако не проявилась и не грянула, — это сознание из тех, которые терзают ум и сердце до последнего часа. Кто знает, может быть, я романтизирую и романизирую судьбу Горбачевского, — признаться честно, он-то и есть та военная косточка, неприязнь которой я вообразил, — а все-таки, все-таки… Как хотите, но если существует в его петровском отшельничестве загадка и странность, то дело не обошлось и без той, давней, драмы бездействия… Человек — существо неблагодарнейшее. Объявляю со всей убежденностью. Возвращаюсь с почты домой, как из конторы, спокойно, — нет чтобы бежать своим, хоть и неровным, шагом, задыхаясь и откашливаясь. Распаковываю посылку от золотой моей сестренки — не разрываю бумагу, как прежде, нет, даже бечевку сворачиваю и прячу на случай. Ни дать ни взять гоголевский Осип. Вальяжно раскрываю четвертый номер «Русского Архива» за прошлый уже, за 1882 год и читаю — почти бестрепетно.
«Наше предположение о том, что «Записки» об Обществе Соединенных Славян (напечатанные во второй тетради «Русского Архпва» нынешнего года) принадлежат И. И. Горбачевскому, оправдались. Сочинитель этих «Записок» Иван Иванович Горбачевский родился 22 сентября 1800, близ города Нежина, умер 9-го января 1809 в Восточной Сибири, в Петровском Заводе, где в царствование Александра Николаевича он был мировым посредником, где его любило местное население и откуда он не захотел возвратиться в Европейскую Россию. Отец его, Иван Васильевич, служил некогда казначеем в губернском городе Могилеве и умер в Малороссии, уже после ссылки сына. Дед И. И. Горбачевского был священником, и Горбачевские находились в родстве с знаменитым архиепископом Георгием Конисским.
На сестре автора «Записок», Анне Ивановне Горбачевской, женился Илья Ильич Квист (бывший директором канцелярии главноуправляющего 1-ю армиею князя Сакена), и сын их Оскар Ильич удостоверил меня сличением почерка «Записок» об Обществе Соединенных Славян с находящимися у него подлинными письмами его родного дяди, что эти «Записки» действительно писаны Горбачевским.
Хранящийся у О. И. Квиста портрет И. И. Горбачевского подтверждает и усиливает действие, производимое его «Записками»: честная простота и умная правдивость видны в изящных чертах этого привлекательного лица. Его «Записки», по их беспристрастию и спокойному изложению, составляют настоящее приобретение нашей исторической печати и могут быть приравнены разве к «Запискам» Басаргина. Они производят впечатление отрезвляющее и поучительное, как для молодых пылких голов, так и для правителей.
П. Б.».
Отрезвляющее? Ну, это положим. На вторых плохая надежда, а первых тон «Записок», пожалуй, не только не утихомирит, но взбудоражит, — недаром их автор у самого Плутарха учился вдохновлять примером. Так что беспристрастие и спокойствие померещились тут П. Б., Петру Бартеневу, так же как и изящество черт Ивана Ивановича, — хотя, может быть, у Квистов хранится ранний его портрет, мне незнакомый? Верней же сказать, и спокойствие и беспристрастие в самом деле есть, да только происходят они уж скорее от силы характера, умеющего взнуздать свою пристрастную горячность, — силы, потребной тем более, что для такой неумирающей страсти узда нужна железная… Дочитал — и теперь вслушиваюсь в себя. Что, дрогнуло ретивое? Отлегло от души? Да нет, все как будто на месте, все тихо, потому что я уже давно и твердо, сличив если не почерк, то следы Горбачевского, оставленные им в памяти знавших его людей и здесь, в этих «Записках», верю и знаю: это он. Только он. Не кто иной, как он. Знал бы и верил, даже не напечатай Бартенев подтверждения, а если раньше даже и в мыслях не хотел утверждать его авторства, то разве что как дикарь, которому не дозволено называть табу. Мне рассказывали, что Николай Бестужев, нелепо простудившись и безвременно умирая в Селенгинске, сжал руками воспаленную голову и произнес чуть ли не последние свои слова: — И все, что тут… надо будет похоронить… Иван Иванович не похоронил, хотя, говорят, частенько каялся, кляня свою хохлацкую лень, что ему не хватило ни сил, ни времени, ни способностей написать историю всей своей долгой жизни. Что ж, ту историю не написал; жаль, до сентиментальных слез жаль, — зато успел написать эту. Хоть в том судьба оказалась к нему справедливой: человек, державшийся на этом свете и удержавшийся в этом Заводе одной памятью, человек, зоркий обратным оком, кажется, просто не мог не оставить «Записок», — по крайней мере, уж это оказалось бы несправедливостью какой-то наичрезмерной. И не мог написать их иначе, чем написал: он ведь и в них остался неизменным Славянином, умеющим уйти в тень, отбрасываемую их содружеством, растворившись во всех. Вдруг мне подумалось: если бы он узнал, что его труд впервые явился в свет как «Записки неизвестного», кто знает, не усмехнулся бы он удовлетворенной усмешкой? Что ни говори, а он немало сделал, чтобы и быть ежели не неизвестным, то незаметным; по-моему, нет в «Записках» фигуры, поданной так скупо и скромно, как подпоручик 8-й артиллерийской бригады Иван Горбачевский, — это он-то, один из виднейших членов Общества Соединенных Славян, кого императорский суд, на сей раз не ошибись, пометил в списке государственных преступников первого разряда почетным шестым нумером. Он не изменил Славянским демократическим правилам и в том, что, много знавший и видевший самолично, все же не захотел довериться только собственным наблюдениям и соображениям. В «Записках», как в артельном котле, переварились и перекипели рассказы многих и многих, «Записки» — итог разговоров, расспросов, расследований, они — плод его труда и в то же время дело общественное. Res publica, по-латыни.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОДВИГ
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 21 дня
«…Распахнулись двери кабинета, и вошел император Николай, быстрыми шагами подошел к пам,
— Чего вы хотели? Конституции?
— Нет, государь, — сказал Н.,— мы имели намерение образовать федерацию из всех славян…
— Я, государь, не могу справиться с такой идеей, чтобы объединить всех славян, а вы самовольно, сумасбродно задумали вершить судьбами народов…
Дальнейшую эпопею вы знаете
Рассказ И.И.Горбачевского в передаче П.И.Першина-Караксарского»
— Приблизьтесь!.. Генерал-адъютант Чернышев извлекает из этого приказного возгласа удовольствие, вполне понятное только ему, но несомненное, явленное напоказ, тычущееся в глаза, лезущее в уши. Повелел — и ждет, покручивая то ус, то аксельбант, точно перед ним не подследственный Иван Горбачевский, а венецианское зеркало, и он в нем отражается в полной красе, гордящийся затянутым станом и цветом лица. Нарумяненный, как… старая кокетка! Э, нет, последнее-то словцо еще не могло прийти на ум двадцатипятилетнему подпоручику, которому в те минуты было, пожалуй, и не до ядовитых наблюдений. Это, вероятно, подумалось гораздо после, задним числом, когда Басаргин, — кажется, он — рассказывал, как незадолго до событий двадцать пятого года застал Чернышева в полном смысле дезабилье и в смысле прямом
без прикрас. По служебному и неотложному делу он был как-то принужден заявиться к генерал-адъютанту в ночное время, прямо в спальню его, и с изумлением увидал вместо молодящегося красавца какую-то старуху в чепце, из-под которого клочились седые волосы… Непостижное дело — бессонница! В отрочестве, покуда Иван Иванович еще бегал Ванечкой, — это, положим, только для матушки, для отца он с пеленок стал Иваном, — он наслушался вдоволь, как родитель честит маету-бессонницу, коей мучился люто, но никак ие мог взять в мальчишеский толк: отчего? Ведь ребенку, которому никогда не хватает дня, хуже нет, как укладываться на ночь в постель, и хотя уж его-то, Ивана — Ванечку, не терзали оранжерейной заботливостью, все же мечталось: будь его вольная воля, вовсе не спал бы!.. Воспоминание заставило его улыбнуться — именно что заставило, протолкнувшись насильно сквозь тупую боль и выдавив на губы улыбку. Ежели бы так… А тут — когда и сама боль наконец-таки отступает и таится до случая на недальних рубежах, как неразбитый противник, даже в этот час сердце тоскливо стонет от неслыханного, немыслимого одиночества, — словно ты затерянный Робинзон. Только тот, из книжки, дышал надеждой воротиться в мир людей, а для тебя этот мир — вот он, рядышком, вокруг тебя: бескрайний, нерасторжимо и отчужденно слитный, равнодушно и ровно дышащий. Рядом — а что ему до тебя за дело? Нет между ним и тобой океанского расстояния, — стало быть, и стремиться некуда. Не так давно еще вот что утешительно думалось: что ж, худо без добра не ходит, пусть хоть такой целой, да зато обретаешь пронзительную силу памяти, резко выхватывающей картины, лица и имена из отжитого и, казалось, забытого, — так нет же, и это утешение оказалось из разряда детских мечтаний. Сама эта резкость болезненна и чрезмерна, от нее память двоится, как двоится изображение в вытаращенном глазу, слезящемся от напряженного вглядывания, а бессонница — она тоже род жестокого, изнурительного сна, разве что от нее не проснешься в счастливом поту: «Слава тебе, пронесло, приснилось…» Давнее и недавнее, несбывшееся и былое в бессоннице смешиваются и смещаются, так что потребно особенное усилие рассудка, чтобы время не наползало на время и воспоминание не сдваивалось, не туманилось, не расплывалось, — однако порядок тех допросов и десятилетия спустя видится с несмазанной отчетливостью. Да и как иначе: отработан был ритуал, отклонений отнюдь не допускалось, и, боже мой, сколько же раз все это было повторено… Иван Иванович прикрыл глаза.
«Присылаемого Горбачевского посадить по усмотрению и содержать строго.
С.-П. 3 февраля 1826 г»
Из «Реестра высочайшим собственноручным
его императорского величества повелениям,
последовавшим на имя генерал-адъютанта
Александра Яковлевича Сукина»,
составленного последним
Невская куртина Петропавловской крепости… да, покамест еще Невская; в Кронверкской он будет сидеть уже после того, как им всем объявят сентенцию, и это из ее окна, полузамазанного белой краской, увидит пятерых, идущих к виселицам. Нумер 23. То есть в этот арестантский покой Горбачевского привели в его первый же петербургский день, несколько часов продержав на главной гауптвахте и сняв начальный допрос; потом был нумер 31 в той же Невской куртине, да это все едино, ибо единообразно, как сама неволя. Деревянные внутренние стены в глубоких трещинах, потому что ставили их, разумеется, из сырого леса и железные печи, раскаляясь, сделали свое дело, — слава богу, для арестантов отнюдь не черное. Оплошка строителей облегчила возможность перестукиваться и переговариваться через ненадежные стены, не будучи услышанными часовыми сквозь двери — вполне надежные. Стол с ночником. Оловянная кружка. Тарелка — оловянная тож… Вот, между прочим, повод для размышления — грустного — и для вывода — вполне нравоучительного. Власть, привыкшая царить над холопами, холопство в них и ценя, сама заражается их духом, и любопытно бывает ее предпочтительное уважение к тем, кого она полагает главнейшими из своих врагов. Уважение палача, который пытает особенно опасного узника с особенным же усердием, а сам не без тайного страха и даже подобострастия поглядывает на него. В Алексеевском равелине, в девятом круге Дантова ада, по сравнению с которым Невская или Кронверкская куртины суть круги всего лишь шестой или седьмой, там, где заключенным приходилось круче, а подчас и голоднее, им подавали ко гнилым щам и подгорелой каше
столовое серебро! Намеренное издевательство, изощренное напоминание об отнятом благополучии? Нет, и тут была своя табель о рангах… Два стула. Помянутая благодетельница-печь. Деревянная кровать, крашенная зеленой казенной краской. Тюфяк, набитый мочалою. Грубого холста простыня. Солдатское госпитальное одеяло. Перяная подушка. Все? Кажется, все… Нет, позабылась необходимая вещь — стульчак. Как во всякую ночь, стоит тишина, нарушаемая — по крайней мере, до той счастливой поры, когда Михаил Бестужев придумал шифр для перестукивания и пустил его по цепочке, из нумера в нумер, — только крепостными курантами, непатриотически вызванивавшими английское: «God save the King»
,— впрочем, что еще им оставалось? Любезное отечество не торопилось обзавестись гимном вполне национальным, и куранты из часа в час продолжали уговаривать всевышнего, дабы он хранил заморского монарха. Но коридору вольно печатают шаг твердые каблуки — значит, гость: хозяева, то бишь караульные, ходят в валеных башмаках. Последняя печать — стук! — ставится возле твоей двери. Сквозь решетку махонького стеклянного окошка, прорезанного в ней и обычно закрытого фланелевым колпаком, в тебя утыкаются глаз и ус часового. Скрежеща и даже поскуливая, будто жалуясь на собственную заржавелость, отмыкается замок, — плац-майор Егор Михайлович Подушкин из отъявленных экономов, а масло, как нарочно, опять вздорожало. На пороге плац-адъютант. Значит, снова предстоит средневековая церемония. На голову надевают безглазый колпак… Правда, сия инквизиторская торжественность порою могла совсем по-российски упроститься самым что ни на есть фамильярно-домашним манером: случалось, плац-адъютант спохватывался, что и на сей раз забыл взять с собой положенное, и тогда набрасывал узнику на голову свой носовой платок, позволявший, особенно ежели исхитряться, примечать путь следования. Вели, однако, за руку, как слепого. Наконец колпак — или платок — сняты. Перед прозревшими глазами стол, крытый красным сукном, на нем — три шандала по три свечи, за ним — люди, имена, лица и самый порядок расположения которых (никогда, насколько помнится, не нарушаемый) запечатлелись с первого раза и уже надолго. Разве что, как с Чернышевым, память досказывает и то, чего в ту пору совсем не думалось и не было даже известно. Во главе стола тяжело восседает престарелый военный министр Татищев, маститый и малополезный председатель
«Тайного комитета для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества»;так некратко поименовано это суровое учреждение. По правую от председателя руку — его императорское высочество великий князь Михаил Павлович… Рыжий Мишка, как величали его в гвардии, всенародно объявляя тем о неуважении. Далее — князь Голицын. Генерал Дибич, начальник Главного Штаба. Самовар-паша — такова была уже его, Дибичева, кличка, также не свидетельствовавшая о чрезмерной почтительности. За Дибичем — генерал-адъютант Левашев; этот запомнился более многих. Любимец великих князей Николая и Михаила, он издавна прославился своей жестокостью, почти сладострастной. Рассказывали, что в бытность командиром гусарского гвардейского полка Левашев за малую и, больше того, за чужую вину так наказал старого заслуженного вахмистра: севши в своем дому обедать, велел бить того палками под самыми окнами, а когда за супом a la tortue
или, быть может, за рябчиком, черт его знает, чем он там чавкал или хрустел, переставал слышать палочные удары, тотчас о том и оповещал громогласно: — Не слышу!! К пирожному вахмистра как раз и добили. Такого рода истории, единожды охарактеризовав человека, о котором поведаны, не перестают его характеризовать и далее, — вернее сказать, он сам не перестает подавать к ним повод; сделавшись следователем, Левашев и тут упрямо
не слышал, то есть слышал только то, чего ждал и хотел… За Левашевым — любующийся собой Чернышев. По другую сторону красного стола — генерал-адъютант Голенищев-Кутузов… Вскорости именно он станет командовать на кронверке Петропавловской крепости палачами и ему крикнет Рылеев, сорвавшись с виселицы с обрывком гинлой веревки на шее: — Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз! За Кутузовым генерал-адъютант Бенкендорф, — ну, этому предстоит известность, слишком обильная подробностями, чтобы о нем припомнилось что-то одно-единственное. Генерал-адъютант Потапов. И полковник флигель-адъютант Адлерберг, — он членом Комитета не удостоен быть, зато составляет для самого императора записки о важнейшем из творящегося здесь. Наконец, в скромной стороне — Блудов, прикомандированный к следствию как бы на манер журналиста… Потом Пущин расскажет, что за два-три месяца до того, как он будет в Комитете жестко, словно жестью, шелестеть плотными своими листами, в дни междуцарствия, Блудов говорил в свойской компании: — Это удивительно! Вот уж месяц, как у нас нет государя, и, однако, все идет так же хорошо, — или, по крайней мере, так же плохо, как прежде! Не попробовать ли продлить сей срок, а, господа? Единственно для опыта? И, наверное, смеялся, сощуривая глаза, как щурит теперь, с вдумчивым любопытством вглядываясь в лицо подпоручика Горбачевского. Тайный комитет… Даже и сейчас, вспомнив его наименование, Иван Иванович чуть не сплюнул в сердцах.
Тайный! Положим, ему, безотлагательно учрежденному 17 декабря 1825 года, уже через месяц было определено более не именоваться тайным, но самым-то первым, неудержимо-непроизвольным порывом было — учредить тайну. Засекретиться. Будучи наверху, на вершине, спрятаться в подполье. Да и потом, вроде бы спохватившись и застеснявшись, что такие дела втайне делать даже и непристойно, от таинственности не отказались. Когда, уже решив судьбу подследственных и подсудимых, правительство надумало издать составленное Блудовым «Донесение Следственной комиссии» — теперь она называлась совсем скромно, комиссией, указывая на свою временную, а не постоянную роль, — цензура, сперва отнюдь не возразив, очень скоро опамятовалась, очнулась и негласно порекомендовала изъять из обращения этот документ — официальный, правительственный! Даром что и он был документом лживым. Вчерашний вольно-мыслитель умолчал о многом, среди чего оказалось стремление бунтовщиков к освобождению крестьян, к исправлению судопроизводства, к преобразованию войска, к уничтожению военных поселений и прочая, прочая; многое умалил и унизил, цель восстания объявил бессмысленной утопией, словно даже потешной, — да что там! Самого слова «восстание» не употребил ни единого разу, как и слов «заговор» или же «возмущение». Много, много позднее Горбачевскому попала в рука книга лондонского издания Герцена — Искандера «14 декабря 1825 г. и император Николай», где он и сподобился наконец прочитать блудовское «Донесение». Иван Иванович наставил на белых полях сердитых словечек «ложь», «ложь», а в самом конце, где заключительно значилось: «Скрепил это донесение действительный статский советник Блудов», начертал свою горбачевскую резолюцию: «И сочинил». Однако — для чего сочинил? Зачем? Мягкосердечные, из тех, кто знавал Блудова ранее и продолжал со смехом поминать его лихие противуправительственные каламбуры, в разговорах и пересудах застенчиво предполагали: для того и затем, чтобы облегчить участь тех, с кем водился в либеральные свои годы, представив их вину маловажной, а замыслы — всего только легкомысленными. Сомнительно, господа! Да и просто наивно, ежели не больше того. Как тут не распознать расчетливый поступок холопа, который спешит успокоить хозяина, заботясь о сытом своем холопстве? Не о хозяине даже заботясь, ибо холоп он лукавый и своекорыстный. Нет, о милости хозяина. Еще тайный или уже более не тайный, комитет или комиссия, он или она — учреждение это руководилось и составлялось людьми точно такого же рода. — Что побудило вас вступить в общество Славянское? — дознавался у Горбачевского допроситель его Чернышев; то есть делал вид, что желает дознаться. Дознания как раз и не было; люди, по должности призванные, — так, по крайности, объявлялось, — узнать истину, ее-то и не хотели. А приоткрыв ненароком, спешили утаить. — Что побудило?..— по шарманочно заведенной форме спрашивали всех и всякого. И слышали ответы, по большей части чистосердечные, из коих, не ходя далеко, уже можно было спешить составлять наказ для государя, озабоченного благом государства. — Любовь к отечеству, — рубили одни. — Пример самых образованных и нравственных мужей в общество, — сообщали другие. — Злоупотребления начальников, — жаловались-негодовали третьи. — Грабительство и воровство чиновников, бюрократии… — Общая безурядица сверху и донизу… И вот, слушая все это, генерал, назначенный на должность искателя истины, вдруг любопытствует: — От внушения ли других или от чтения книг? И дозволяет себе великолепное благодушество: — Ах, господа, господа! Вот вы небось читали и Монтескье, и Мабли, и всяких ваших Вольтеров, а я, благодаря бога, отроду не держал в руках ничего, кроме священного писания, и взгляните, сколько имею звезд, а в каком положении вы? По клятвенному уверению Николая Лорера, так или примерно так говорил ему Чернышев; кто-то вспоминал такие же слова Татищева — или, может быть, Голенищева-Кутузова? Все едино, ибо все едины, и дело тут не в причудах памяти тех, кого допрашивали, а в том, что отчего бы всем допрашивавшим было не усвоить этой самодовольной мудрости? Такая ведь утешительная мысль, — если, понятное дело, можно назвать мыслью намерение запретить мыслить. Так они были глупы? О, ежели б! Им было необходимо уверить себя и своего государя, что опасные замыслы заговорщикам были внушены — и хуже того: чужевнушены. Совсем недаром и Блудов в презренном своем «Донесении» не преминул уверить читателей — и прежде всего читателя высочайшего, — что 14 декабря есть всего лишь попытка привить к благородному российскому дубу лозу Шампани либо Бургундии, каковую прихватили с собой молодые люди, воротившиеся после военной кампании против Наполеона. И то было самым первым, на чем, читая, болезненно споткнулся Иван Иванович, и первым, что он яростно отринул: «Ложь». А ведь — замечая горестно в сторону — добились-таки своего. Было слышно, что кто-то из острых людей двадцатых годов, сочувствуя если не декабристскому делу, то помыслам, все ж не утерпел и пустил по свету каламбур: французскую, дескать, болезнь принесли из похода победители-офицеры. Хотя, снисходительно оставляя на веселой совести остроумца сам непочтенный характер французской, дурной то есть, болезни, трудно все же не возразить ему в главном. Нет. Не чужое они принесли. И не болезнь, а свое здоровье. Здоровье. Свое. Осознали, как здоровы и сильны духом и на что этот дух способен. Чем была тогда — ну хоть для него, для Ивана Ивановича Горбачевского, — Франция? Вольтером? Монтескье? Мабли? Разумеется, так, но этих-то он читывал у себя под Нежином, в Малороссии, а сама отчизна прославленных мудрецов давала примеры незавлекательные — хотя бы самовластие Бонапарта. Нет, одолев покорителя всей Европы, победители — к несчастью, не он самолично, опоздавший родиться, но как бы и он по праву патриотической причастности — узнали свою силу, о которой даже не подозревали. Разбудили ее в себе, — и куда ж ей было устремиться, как не против отечественных порядков? Беспорядков, сказать вернее?.. А следователям и судьям хотелось увериться в чужевнушенности заговора, — ибо откуда еще взяться крамоле в столь благоустроенном государстве? Им хотелось, говоря протокольным языком Следственного комитета, изобразив
силу виныподсудимых тяжкой, повинной смерти, изобразить ее в то же время и наилегчайшей, никак не заслуживающей ни особенных размышлений, ни, паче того, государственных выводов. «Цареубийца» — с этим, с одним-единственным словом на позорной доске, повешенной палачом на грудь, отошел в вечность Сергей Муравьев-Апостол. И четверо его товарищей. Ужасное ходит бок о бок со смешным, и Мишель Бестужев рассказывал Ивану Ивановичу, от всей души веселясь: — Одиннадцатого декабря… Или двенадцатого?.. Не упомню в точности, но в один из тех дней, когда Николай, ходивший еще в великих князьях, уже успел получить донос от Ростовцева, был я назначен со своей ротою на главную гауптвахту в Зимний дворец. При смене караульный капитан, предшественник мой, секретно передал мне секретный же приказ Николая Павловича: часовых у покоев его высочества ставить только самому капитану. Мне, то есть. Хорошо. Будет исполнено. Во втором, что ли, часу ночи прошел я с часовым к заветным дверям, а было темно, хоть глаз коли, ибо во всем коридоре одна только лампа и светилась. И вот впотьмах часовые, сменяясь, как-то сцепились ружьями. Железо — звяк, а по ночному тихому времени вышло особенно громко. Гляжу, в тот же миг полуотворяется дверь, а в ней физиономия Незабвенного: длинная, вытянутая, ни дать ни взять покойник. «Что такое? Кто тут?» — «Караульный капитан, ваше высочество!» — «А, это ты, Бестужев?» Узнал меня и успокоился будто… — Если б он мог предвидеть!.. — Да то-то и оно! «Что у тебя случилось?» — «Ничего, ваше высочество. Часовые при смене нечаянно скрестились ружьями». — «Больше ничего?.. Ну хорошо. Если что случится, то дай мне тотчас знать». И скрылся… Теперь вообрази, Иван, что с ним содеялось, когда увидал он меня во дворце через три дня, связанного!., — Воображаю… — Сомневаюсь! По глазам его — а и взгляд же был, доложу тебе! — я сразу понял, что он вообразил себе всю тогдашнюю ночь: вот он, вот я. А что, если б тогда? У-у… (Видишь, — заговорил он Чернышеву, а сам в меня все пальцем тычет, — видишь, как молод, а уже совершенный злодей! Без него такой каши не заварилось бы!»… — Бедняга! — рассмеялся Горбачевский, — А что бы он заговорил, узнай вдобавок, что это ты первым привел на площадь московцев! — Да нет! — досадливо отмахнулся Мишель. — Ты, Иван, все не туда! Экая для него была важность в ту минуту: Московский полк!.. Впрочем, Чернышев-то как раз вот вроде тебя… — Благодарю за такое сравнение! — Не вяжись к слову!.. Чернышев, говорю, именно с этой моею виной сунулся: «В самом деле, дескать, ваше величество, штабс-капитан может почитаться истинным зачинщиком бунта, поелику…» Но Николай все о своем, все о себе: «Нет, говорит, Александр Иванович, всего лучше то, что он меня караулил перед бунтом! Понимаешь ли? Он — меня — ка-ра-у-лил!!!» У страха глаза велики? Да нет, скорее, малы, узки, слепы — слепы на все то, что не касается прямой причины, порождающей этот страх. Когда узников Читы препровождали по чудесному Забайкалью, дабы сделать узниками Петровского Завода, Иван Иванович не удержался, чтобы не спросить у своего знакомца-бурята, того самого, что похвалялся диковинной кличкой Тыртыр: — А что, братец, говорят о нас промеж ваших? Знают ли, за что нас сослали? Быть может, потому, что дети степей только что перед тем выслушали назидательную лекцию Лунина об
угее, каковой он, Лунин, хотел сделать власти верховного российского
тайши, и поняли ее, как умели, то Тыртыр и отозвался живо: — Да-да! Знай! Ташна — так! И выразительно рубанул себя самого по шее ладонью, — а случившийся рядом Дмитрий Иринархович Завалишии вдруг так разобиделся, словно это был диспут в самом что ни на есть магистерском кругу и кто-то из наипосвященных преступно отказывался понять его заветную мысль и предназначение: — Так? Совсем не так! Мы хотели, чтобы всякий бурят — вот хоть и ты для примера — был равный и со своим тайшей и с генерал-губернатором перед законом. Понимаешь? Перед законом!.. На что смышленый кочевник закивал усердно: «Да-да! Понимай!», но притом улыбался улыбкой, говорящей, что вполне оценил осторожное хитроумие собеседника и истины у него теперь не отымешь. Так вот, молодым царем завладела и уж более не отпустила его от себя та же самая логика! Когда дознание, не стремившееся познавать, пришло к концу и наступила очередь судилища, то Верховный уголовный суд назначил три степени, возвел три ступени, от высшей до низшей, на которых расположились вины подсудимых — по своей важности, как она представлялась судьям. Ступень первая, высшая, наиважнейшая; разумеется, умысел на цареубийство. Вторая ступень: основание тайных обществ для общей революции. И третья: возмущение…
«Сила вины
Горбачевский в учреждении общества не участвовал; но в 1823 году первый вступил в общество Соединенних Славян, имевшее целью учреждение республики.
В августе 1825-го присоединился к Южному обществу, целию коего было введение в России республиканского правления.
Он был начальником одного из округов, составлявших присоединившееся общество…
Двум фейерверкерам и некоторым солдатам в разное время говорил кое-что, относящееся к возмущению, советуя одному из них терпеть все, ибо наступит, может быть, время, что не будет сего (взыскательности начальства).
Писал к Бестужеву (Рюмину) письмо, в котором уведомлял его, что
солдаты 8-й артиллерийской бригады с таким нетерпением ожидают начатия возмутительных действий, что офицеры, принадлежащий к обществу, не находят средств удерживать рвения их.
Имел от Бестужева на сие ответ, что
возмущение, может быть, скоро начнется…
Разделял цель Южного общества, объявленную Бестужевым, что введение нового порядка вещей в государстве непременно
требует уничтожения монарха,и хотя не помнит, чтобы при сем случае сказано было об
истреблении всей императорской фамилии,но сие
должно было уже разуметь.
По предложению Бестужева назначил сам себя в число цареубийц…
Правитель дел Боровкор».
Из Следственного дела подпоручика Горбачевского.
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 24 дня
«Что же хорошего… в умеренности, в хладнокровии, нелюбви пролития крови.?»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
И все-таки, все-таки — когда решительным днем 15 сентября 1825 года в Лещинском лагере, в командирском балагане Сергея Муравьева-Апостола, он, Иван Горбачевский, пометил крест-накрест свою судьбу, отчего это вышло так легко? Так незатруднительно?.. Нынче, ввечеру, заходил справиться о здоровье Харлампий Алексеев, из бывших его заводских учеников. Иван Иванович, слава богу, расслышал сердитое шушуканье в передней комнате, — ото, уж известное дело, Ирина выпроваживала незваного, ибо, по ее бабьему понятию, для него ничего нет целебнее, как лежать одному-одинешеньку и пялиться в потолок. Будто мало ему ночного бессонного одиночества. Он, напрягши грудь, громко кликнул ее. Явилась. Встала, скрестив на груди руки. — Ты что ж, матушка, людей от меня гонишь? Я ведь еще успею один в домовине належаться, — погоди ужо! Не он сердился, сердилась в нем неотвязная боль, и едва Ирина, заплакав, ушла, тотчас стало ее жаль. Позвать бы, повиниться и помириться, да в комнату уже, как всегда, стесненно, бочком, бочком вступал Харлампий, он же Кулёма, по прозвищу, заслуженному в былое время от малолетних сверстников. «И точно, кулёма, мешок, фетюк этакий», — по-ноздревски было мысленно заругался на него Горбачевский, сразу вспомнив, как некогда и ласковым словом, и строгим назиданием изгонял из души нищего мальчика вечную его робость перед всем и вся, — вот, не выгнал, и этого, стало быть, не сумел!.. Но вдруг самому стало смешно от собственной свирепости. Совсем омедведился, старый лежебока. Потом Ирина, отсердившись, принесла им чаю, который у них, спасибо кяхтинцам, не переводился, и разливала, не переставая, впрочем, красноречиво поглядывать на засидевшегося гостя, — Алексеев тут же понятливо подхватывался с места, но Иван Иванович его удерживал и удержал до ночи. Тот, правда, и сам не ушел бы, не будь Ирининых понуканий; он вовсю таращился на Горбачевского, будто видя это дивное диво впервые, и слушал, не доверяя ушам. Тот вдруг рассказал ученику то, о чем отчего-то остерегался говорить ему и его товарищам прежде, может быть, боялся представиться неким Брутом или, пуще того, романтическим хвастуном. Рассказал о 15 сентября. Да и так ли уж — вдруг? Память своевольна, ее не поставишь во фрунт, она не побежит с готовностью исполнять твое приказание, а сама выберет, над чем ей кружить, во что целить, и последние дни, вернее сказать, последние ночи он кружил вместе с нею над памятным днем, так много решившим в его судьбе. Все пытался дознаться — и у себя тогдашнего, и у себя нынешнего: неужто и вправду так легко было вызваться на пролитие крови, чьей бы то ни было? Если и так, объяснить все это не то что Харлампию, а и себе самому было как раз очень нелегко. Даже теперь. Да какое! Теперь-то — совсем нелегко, совсем непросто, чем дальше, тем, пожалуй, и тяжелее, потому что возраст, который отчего-то именуют возрастом мудрости, не столько преподносит ответы, сколько множит вопросы, за которыми ответы торопятся и не поспевают. И личный твой, малый опыт, с годами обременяясь всем, что ты сам узнал и услышал, теряет только твои очертания, оказываясь частичкою опыта общего. И — напротив: все, что было со всеми, но не с тобою, что просквозило мимо тебя, казалось бы, не коснувшись, оказывается и твоим тоже. Неотделимым. Неотличимым, Когда Иван Иванович еще в самом начале читинского каторжного житья, с многими из знакомых воссоединившись после разлуки, а многих и многих только что заимев в знакомцы, задался мыслью написать нечто наподобие записок, исполняя последнюю волю Сергея Муравьева-Апостола, он обнаружил в себе способность жадного собирателя. Приставал к товарищам, повидавшим то, что не привелось ему, всякую мелкую мелочь волочил в свою нору, как запасливый хорь, — вот тогда-то он и приметил впервые странное свойство памяти узурпировать то, что ей, как предполагалось, уж никак не может принадлежать. Разве что узурпаторству этому было не позавидовать. Оно ворошило совесть, пекло душу мукой — еще и чужой, словно собственной недоставало, — оно плодило вопросы, произраставшие из чужих судеб и действий, отвечать на которые следовало тебе: а что ж, дескать, ты, подпоручик Иван Горбачевский, сделал бы, окажись там-то и там-то, получи такую-то и такую-то возможность? Решился бы ты на все, что пообещал, поднялся бы вместе со своими солдатами, умер, пролил чужую кровь? Поднялся бы? Да, непременно. Умер? Что ж, коли нужно, не пожалел бы своей крови. А — чужой? Вот на это ответ застревал в душе, — хотя, если подумать, куда ж было деться от данной клятвы и от прямой невозможности отстать от товарищей в кровавом деле и не разделить с ними всего? Из происшествий бунта Черниговского полка особо и остро помнилось одно событие, о коем столько было расспрошено, слышано и передумано, что Иван Иванович сам порою переставал верить, будто его не было там, на месте, совокупно с Славянами из черниговских офицеров — с неистовым Анастасием Кузьминым, со Щепиллой, не уступавшим тому в неудержимости, с бароном Соловьевым, который, напротив, в самой горячке умел сберечь трезвую голову, и с сумрачно-деятельным двойным своим — как и Пущин — тезкой Иваном Ивановичем Сухиновым. Помнилось это не то чтобы больше других событии, нет, может быть, даже и меньше, как дело если не маловажное, то и нерешительное для хода и для исхода восстания, — но именно что особо, отдельно, само по себе, порождая и размышления, идущие стороной, наособицу. Да и не сказать, помнилось. Виделось. Жгуче жило перед глазами. Вот: черниговский полковой командир подполковник Гебель, расходившись, честит поручика своего полка Щепиллу, а тот вдруг, отступивши на шаг, отвечает взъярившемуся начальнику не словом, пылким или хоть грубым, но — ударом штыка. Смаху пропарывает живот… Дело вышло на самом исходе декабря 25 года перед выступлением взбунтовавшегося полка, когда Гебель, получивши приказ об арестовании Сергея Муравьева-Апостола с его братом Матвеем, отыскал их и исполнил, что ему было велено, однако же нос к носу столкнулся с черниговцамн-славянами, прискакавшими защитить Муравьева. И в один сумасшедший миг стихия возмущения смела все заграждения, все запреты, все недавние осторожности, смела и понеслась, не разбирая, не зная пути, во весь ее непредсказуемый, бешеный скок, помнится — видится! — будто в некотором замедлении, в застылости времени, как бывает в прозрачном и отчетливом сне. Видится движение за движением. Шаг за шагом. За ударом удар. …Шатаясь, тяжко пораненный Гебель удерживается все-таки на ногах, даже имеет силу бегом достичь дверей, но их уже занял барон Соловьев, забывший в этот момент о своей рассудительности, — он хватает подполковника обеими руками за волосы, тянет, клонит, валит на пол, и Щепилла с подоспевшим к нему Кузьминым яростно топчут и колют ненавистного. Соловьев же вспоминает о запертых Муравьевых. Врывается в комнату их заключения, однако в ней никого: братья, услышавшие шум драки, высадили окно и выбрались сами на волю. Впрочем, о том Соловьеву еще неизвестно. Он бежит сгоряча к выбитому окошку, выглядывает и видит, как уже сам Сергей Муравьев-Апостол бьет ружейным прикладом Гебеля, у которого хватило-таки сил выбраться на двор. Кто они были в эти минуты? Конечно, жестокие люди? Нет, нет и нет, ибо тот, кто жестокосерд неизменно и, стало быть, истинно, он неизменно и хладнокровен, самую жестокость свою являя в согласном союзе с рассудком, ее допускающим и одобряющим. А они… Среди казематских книг Горбачевскому подвернулось под руку «Житие Ф. В. Ушакова», сочинитель которого не выставил на титул своего имени, хотя, говорят, в подозрении на сей предмет находился не кто иной, как знаменитый Радищев. И, читая порою со снисходительной скукой, порою с живым любопытством, однажды Иван Иванович не удержался потянуться за гусиным пером — он долго сопротивлялся железным перьям, от души хуля новомодные выдумки, — и не пожалел чистой страницы, поставив жирное нотабене напротив слов, которые поразили его своей простодушной мудростью: «Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством тому служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и сама смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности». И — уж вовсе до умиления четко: «Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют…» Прямая и не имеющая сомнений логика бунтовщика: то благо, что только ведет к бунту, чем хуже, тем лучше, и, выходит, черниговский Гебель, бесцеремонный с солдатами и озлобивший офицеров,
частныйсей притеснитель, как и его набольший командир, царь, притеснитель уже не частный, но
общий, таковыми были,
по счастию человечества. Так? Да как сказать… Есть в этом логичном рассуждении что-то и неудобоприемлемое, — Горбачевскому приходилось слыхать об иных офицерах, притом членах тайного общества, которые были нарочно суровы со своими солдатами, объясняя суровость расчетом: пусть, дескать, их недовольство порядком будет сильнее. Но что, без сомнения, было счастием человечества, так уж это то, что находились люди, готовые сопротивляться притеснителям частным и поднять руку даже на общего притеснителя; ну а ежели самый добрый, самый благородный, самый благонамеренный — да, да, так! — человек доведен до крайности и до полного исступления, как же умерить степень его возмущения? И к нему ли обращаться с громовым обвинением в неумеренности? …Увидеть со стороны — значит обрести возможность опамятоваться, и зрелище, открывшееся из окна барону Соловьеву, побудило его вмешаться. Перескочив подоконник, он решил немедля прекратить мучения Гебеля… Однако же — как? Утишив Муравьева? Да, без сомнения, — но едва только Соловьев вырвал из рук у своего освобожденного командира ружье и ощутил холод его железа в своих руках, он вдруг обернул его против Гебеля и нанес еще один штыковой удар, снова в живот, нежданно для себя самого обнаружив намерение кончить вместе с мучениями раненого и самую его жизнь. Муравьев стоял между тем, дрожа от холода и возбуждения, и дышал на пальцы, которые застудил ледяным ружейным стволом, а Гебель, упрямо отказывавшийся помирать, бог знает какими силами приподнялся, побрел было прочь, да тут уж Кузьмин налетел, сшиб его с ног, ударив кулаком по шее, и принялся азартно и бестолково ширять во врага шпагою… Страшно? Еще бы нет! Но не одно это. Они убивали с той отчаянностью, какой никогда не бывает у настоящих убийц. Убивали, словно и не хотели убить, — уж во всяком случае не умели. Чушь, мистицизм, наваждение, но иной раз кажется: даже в том, что Гебель не умер-таки, отлежался, встал, причиной была не одна поразительная живучесть, не одна только крепость его сложения, но и невольная, однако и не случайная слабость сильных рук, готовых и приученных к открытому бою, но не расположенных убивать так. Словно возмущенное сердце, сгоряча приказывая руке убить, в то же время ее удерживало, — и было во всем том что-то необъяснимо, но ощутимо русское… Полно! Именно русское? Так ли? Точно ли? Страшно думать про то, как мучительно умирали июльской светлой ночью на кронверке Петропавловской крепости пятеро, — тем мучительнее, что угодили в неумелые руки казенных палачей, которые даже крепкой пенькой, негнилым товаром не умели разжиться. Страшно и то, что, когда в Зерентуе стреляли товарищей Ивана Сухинова, вознамерившегося перебить охрану, высвободить читинских затворников и уйти за границу, этот карательный замысел был доведен до дела из рук вон: ружья были, само собой, ржавые, палили и вкривь и вкось, солдатики потерялись и утратили меткость, — и точно так, как сорвавшихся с виселицы Муравьева, Каховского и Рылеева незадачливые исполнители казни принуждены были вешать снова, несчастных сухиновцев добивали штыками: новая кровь, добавочные мучения. Говорили, что Сергей Муравьев-Апостол, когда его подняли, чтобы опять подвести под ужасную перекладину, так и сказал: — Бедная Россия! И повесить-то порядочно не умеют! Сказал то, что должен был сказать он, и, может быть, именно он, в последний миг разгневавшись и обидевшись на отечественную нескладность, во всем явную, от собственного его восстания до последнего его мучения, — как, вероятно, и полковник Пестель должен был уйти в иной мир, не изменяя себе. Он, говорят, был непроницаемо-спокоен, и когда из-под ног его палач выбил пинком скамейку, тело осталось также спокойным, ни единого разу не дернувшись, будто он не хотел дать своим мучителям злой радости видеть собственные мучения. Будто он и в этот миг оскорблял их своим равнодушием к ним, к приговору и к самой казни… Но есть некое горькое утешение в том, что в самом деле и этого не умеют толком. Не приспособлены. Ну не лежит, что ли, душа у русского человека к исполнению такого обряда. Ведь не Голенищев-Кутузов вешал, — какой-то мужик, из людей, из народа, исполнял высочайшее приказание, и коли нету ему прощения, коли нет и не может быть снисходительности для избравшего ремесло палача, то не внушает ли все же надежды та среда, из которой палачи выходят такие бездарные? Закадычный друг-селенгинец Мишель Бестужев вспоминал, как сидел в Петропавловской, в самом Алексеевском равелине, — такая честь средь не очень многих вышла ему от императора Николая, — да еще на цепи, в оковах, а говоря прозаически, с руками, скрепленными и разъединенными толстым железным прутом; чтобы умыться, и для того потребно было изрядное ухищрение… — Вот уж когда никто б не сказал: рука руку моет, — каламбур у Бестужева не заставлял по себе скучать. И вот в эту пору произошел у него разговор с солдатом-прислужником, запомнившийся навечно. Тот, как всегда, пришел поутру с муравленой чашей воды, назначенной для затруднительного арестантского умывания, и, по предписанию всегда молчаливый, вдруг обратился тихонько к своему поднадзорному: — Гляньте на себя, ваше высокоблагородие! На что вы похожи стали? Видать, скучно вам, так вы книг попросили бы, что ли… — А разве можно? — Отчего же? Другие читают, почему ж вам не можно? — Ты говоришь, другие? А кто они? То есть кто именно подле меня сидит? — Бестужев… — солдат едва прошелестел губами. Николай! Брат! — Ну, а далее? — Там Одоевскнй-князь… Рылеев… — Скажи, ты не возьмешься снести записку к брату? — Оно, пожалуй, можно… Только нас за то сквозь строй гоняют… — Понимаешь ли ты, Иван, — рассказывал после Бестужев, — я, когда он мне это сказал, чуть на колени не упал перед ним… — А записку-то отдал? — Как можно! — Мишель вскинулся с таким негодованием, будто Горбачевский предлагал ему нечто постыдное. — Разумеется, нет! Спросил только: «Как хоть зовут тебя?» А он: «На что вам, ваше высокоблагородие? Я человек мертвый!..» То есть хотел он сказать… — Что ты мне объясняешь, будто я в Петропавловской не был? Мертвый — стало быть, за крепостные ворота не пускают… — Если бы так! Даже и в самую крепость нет ему ходу из равелина… Так вот, — продолжал Бестужев, поуспокоившись. — Я сразу вспомнил моего солдата, когда читал в каторге мемуары Сильвио Пеллико… Не пришлось читать? Напрасно!.. И сей доблестный карбонарий повествует, как, сидя в австрийской тюрьме, не успел однажды до темноты кончить своего ежедневного урока, — рачительные австрияки, видишь ли, ради пользы и, вероятно, для обращения к добродетели заставляли его вязать шерстяные чулки. Пеллико и заметь тюремщику, что ежели станет в потемках довязывать несколько еще не сделанных рядов, то, пожалуй, ослепнет, — а тот, пресентиментальный добряк, который без слез не мог говорить о своих liebe kleine Kinder
, и тут прослезился. «Oh ja
,— говорит, — это очень может случиться, но вы должны исполнить ваш урок, а я — свою обязанность»… Помолчали. — А что до благодетеля моего, — вздохнул Мишель, — то он-то сделался вскоре мертв уже в самом бесповоротном и натуральном смысле. В крепость после нас привезли новых узников, и кто-то из них его уж не пожалел. Тот взялся передать письмо или, не помню, может быть, деньги, был на том пойман — и… — Понятно, — буркнул Горбачевский. — Это уж как водится: чем еще у нас отмечают доброе дело, как не палками?.. Странно. Когда все это сходилось вместе в его памяти, и тот разговор с Бестужевым, и легкое, твердое «да», сказанное сорок три года назад, Иван Иванович не видел особенного противоречия между собою, согласно внимающим Мишелю, и собою же, поставившим крест в развернутом перед ним списке Славян. Положа руку на сердце: всякий ли — да и сам он тоже — мог бестрепетно уверять, будто, единожды давши клятву поднять пистолет или шпагу на императорскую особу, он всенепременно сдержал бы ее? Несбывшееся — не сбылось, и неприлично хвастать решимостью, которую не сможешь уже проверить и доказать: приведись, дескать, до меня, уж я бы… Не привелось, не выпал случай, такой, каков был, например, у Якубовича или Булатова, видавших 14 декабря нового императора на расстояний выстрела или шпаги; не было этого, и что теперь толковать? Но тут и решимость сама, буде бы случай все же представился, зависела не от страха перед пролитием крови, — страх, он сам по себе. Коли на то пошло, тут вообще было совсем другое. Года за два до событий декабря 25-го во 2-й армии, в Одесском пехотном полку, случился заговор — да, настоящий, ну почти точь-в-точь их лещинский, с той, однако, немаловажной разницей, что направлен был против лица, не в пример ниже стоящего. Командиром Одесского был тогда некий подполковник Ярошевицкий, подобие Шварца-зверя, как последнего называли семеновские солдаты, и, как Шварц, заслуживший ненависть всего полка сверху и донизу, от первого штаб-офицера до последнего нижнего чина. Наскучив терпеть его злобу, необразованность и служебную бестолковость, офицеры и образовали что-то вроде крохотного тайного общества: собрались, сговорились, порешили избавиться от полкового тирана и кинули жребий, кому быть мстителем и жертвой. Жребий выпал одному штабс-капитану, и тот, подчиняясь приговору всего товарищества, во время дивизионного смотра своим не по обстоятельствам вольным поведением нарочно вызвал на себя подполковничью грубость, а уж затем взялся ответить по-свойски. Выступил из рядов, стащил Ярошевицкого с седла и избил его в кровь — на виду у командира дивизии и перед строем, который в хладнокровном молчании наблюдал сию истинно гражданскую казнь. Штабс-капитан за свое покушение был, натурально, разжалован и пошел в Сибирь, сам став жертвою общего дела, но восстание, происшедшее внутри одного только полка, удалось без задоринки, — и если бы офицеры, вконец отчаявшись, не удовольствовались избиением командира, но присудили его к смерти, вероятно, и этот замысел был бы исполнен столь же четко. Того, кто был избран судьбою на эту кровавую роль, не остановил бы, пожалуй, перед угрозой товарищеского презрения и самый расстрел. Решиться поднять руку на командира всея Руси было несравнимо трудно, ибо тогда совершился бы переворот не в одном полку, но в целой империи. Кровь всегда кровь, пролита ли она царем или нищим, — она всякого вдруг делает равным другому; но совсем не равен был груз ответственности. Тем сентябрьским лещинским днем они согласились принять этот груз на свои плечи. Именно этот груз, никакой другой, только его, — стоило ли решаться на невозможно тяжкое дело в надежде меньшей, нежели осчастливить — разом — все отечество? И разом же отделаться от того, кто почитался главной преградой для этого счастья, главным виновником нынешних бед и сулителем бед грядущих?.. —
Не мне их судить. Говорили, что достоверно известно: эти слова печально изрек император Александр, услыхав о существующем и грозящем ему тайном обществе. Четыре слова — только-то. Возможно, сказано их было больше, но избирательная молва донесла только эти, голый смысл, самую суть, а ее, очищенную от излишеств, всегда нестерпимо хочется вращать, словно хрустальный куб, поворачивать этой и той гранью, при всяком ином повороте уловляя новый отблеск, новое понимание. Уже не услышать, как сам царь произнес когда-то это… самоосуждение? Или признанье бессилия? Но на что же дано воображение человеку? Итак, не мне их судить.
Не мне… Да, точно: не ему. Когда Бестужев — не Бестужев-Рюмин и не Бестужев Мишель, а брат последнего Николай — стоял перед Следственным комитетом, Голенищев-Кутузов, бывший ревнитель убийства императора Павла — если только убийца может стать бывшим — и будущий вешатель пятерых, солдафон, забулдыга, надумал вдруг устыдить человека, которого многие почитали гениальным: — Скажите, капитан! Как это могли вы решиться на такое гнусное покушение? — Я удивляюсь, — был спокойный ответ, — что это
вымне говорите. Генерал обратился в немую статую, неспособную, впрочем, украсить собою зал, в котором заседал Комитет, и усладить взоры даже своих соучастников, — не по причине его отменной некрасивости, а потому, что все происходило в присутствии сына убитого Павла, великого князя Михаила. А кто же не знал, что другой сын, самый старший, если не делом и даже не словом, то согласным молчанием был повинен в том же самом убийстве неугодного венценосца? Но ежели Александр оказался бы прав, произнеси он с особенным ударением это «не мне», сумел ли бы он найти — по совести — основание, дабы судить их?
Их! Немногим позже того, как царские эти слова были произнесены, когда сам он только успел «почить в бозе», его августейшая мать просила княгиню Софью Григорьевну Волконскую съездить в Таганрог, навестить овдовевшую императрицу Елизавету Алексеевну, с которой княгиня была дружна, и поддержать ее в горе. Между всем верное, тяжело было для умирающего сознавать, что сыскались в его державе злодеи, кои дерзнули действовать против ангела-государя. Волконская и передала, на что вдовица вдруг ответила с удивившей княгиню живостью: — Нет, матушка решительно ошибается! Напротив, государя мучило более всего то, что он принужден будет наказывать тех людей, мысли и стремления которых он совершенно разделял в своей молодости! Вот оно! Царь и сам сознавал, что, по неведомо чьему быстроумному выражению, не враги его изменили ему, перейдя на другую сторону, — нет, он сам туда перешел, он сам перебежчик, сам предатель того, к чему звал в молодых годах лучшие умы общества. Военные поселения как завершение либеральных мечтаний о благе общества и личной свободе; кокетство со свободою греков, кружки в церквах для помощи им и притом союз с Меттернихом, обман, отступничество, политическая грязь… Да, Александр изменил себе и, хуже того, изменил тому пути, на который сам направлял или хоть полубезвольно дозволял направлять Россию. И, рассуждая вполне логически, если измена карается, то кого карать в этом случае?.. «Не мне их судить». Что же, осталось четвертое, последнее слово. Последняя грань. Не мне их
судить? Случись все же — если бы да кабы, — что они, декабристы (которых, впрочем, тогда уж и прозывали бы как-то иначе, ибо не они же сами, но Александрова смерть избрала декабрь для их выступления), поднялись против него, продолжающего жить и царствовать, он, скорее всего, точно так же, как не захотел когда-то судить их намерения, отказался бы судить их поступки. То есть не захотел бы делать этого сам, самолично, собственноручно, со значением промолчал бы, как промолчал в молодые, в лучшие годы, не возразив убийцам отца, — и с меланхолическим ликом, с внутренним благосклонством, утирая слезы, следил, как судили бы — и сурово судили — другие. Хоть бы тот же бессрочный временщик Аракчеев, чьи нелиберальные установления в этом случае столь прекрасно оказались бы подтверждены вероломством тех, кому ангел-император так верил, так верил… А Николай? Ведь он-то еще не успел заслужить кару, заслуженную его старшим братом, и, стало быть, прав был Якубович, объясняя, что он клялся казнить ненавидимого им Александра, о Николае же речи не было, он другой и дело другое? Все-таки — нет, не прав, и не о том лишь речь, что скипетр переходил в жадные руки человека с дурной репутацией, не оставлявшего надежд на перемену в правлении — разве что в худшую сторону. Цареубийство было отчаянным, принужденным шагом тех, кто не хотел кровопролития, ненавидел всею душой кровожадность, кто ко всему
не умелубивать иначе как в открытом бою или в поединке. Заведенный порядок вещей не оставлял иного выхода, — и он же, этот самый неправый порядок, который им не удалось сокрушить, поставив их перед судом, по природе своей не мог не сосредоточить все свое грозное внимание именно на этом отчаянном шаге, пренебрегая тем, что к нему побудило. Чем доказал, что вразумлению поддаваться отнюдь не хотел и не мог. Само-то желание: все, что их волновало и ими руководило, свести к самому простому,
кугеюили
так(ладонью по шее), оно имело причины совсем не простые. Не в тупости следователей заключалось дело, — та, ежели и была, то, скорее, внушенная ими самим себе, благоприобретенная, — и не в мстительности императора, уязвленного страхом плоти. Когда бессилен закон, что толку взывать: «Будь на троне человек!», как воззвал к младенцу Александру Павловичу пиит Державин? Ну, положим, возьмет и послушается, будет во всем человеком, — что ж, и такое можно вообразить для ясности мысли. Это как прорубить просеку в дремучей чащобе, где иначе, того и гляди, заблудишься. Хорошо, послушался, — ну а дальше что? Ведь если даже его, так сказать, чаша добра опустится, груженная, до земли, а чаша зла взовьется до поднебесья, то и на этой на легчайшей чаше непременно найдется ядовитая какая-нибудь крупинка, которая, не имея вовне противодействия и противоядия, причинит несчастье подданным. И уж вовсе неотвратимы беды, когда на троне
не человек, то есть правитель бесчеловечный, дурной… Да что там! В глазах тех, кто желает благодатных гарантий закона, он и вправду становится
не человекомс такими-то и такими-то человеческими свойствами, а бездушно-телесным воплощением того, что может и должно быть уничтожено… Эти-то неповоротливые мысли Иван Иванович, помнится, тщился изложить Сергею Григорьевичу Волконскому во время последнего их свидання. Было так. Незадолго до того, как выйти манифесту, разрешающему им всем покинуть милую-немилую Сибирь, тот заворотил с какой-то своей дороги в Завод, проведать петровского медведя, с которым у него была обоюдная приязнь, — словно знал, что больше не свидятся. Теперь-то уж не заедет: далековато от здешних мест до Биаррица, где, писали, еще недавно обитал Сергей Григорьевич, — может, и обитает еще? Да не один завернул, а с сестрой, с Софьей Григорьевной, прибывшей из Петербурга повидаться со ссыльным братом, — к великому смущению Ирины, которая в толк не могла взять, как обращаться с сановной гостьей, как принимать настоящую — не чета братцу — особу княжеского рода; что до самого Волконского, то не верилось, будто он, простая душа, был когда-то и генералом и князем… В этот день Сергей Григорьевич слушал Горбачевского долго, ничуть не перебивая, по деликатному своему обычаю, — только усмехнулся легонько, когда тот уязвил поэта Державина, — а потом рассказал случай, словно бы сторонний их беседе. Рассказал, недоверчиво улыбаясь, — дескать, так давно было, что и было ли? — как после кампании двенадцатого года, да уже и после Наполеоновых ста дней, он, бывший в ту пору во Франции, вмешался в дело некоего молодого полковника-француза. Тот квартировал со своим полком в Гренобле, а когда Бонапарт, покинувши Эльбу, пошел через Канн на Париж, то, подобно маршалу Нею и многим прочим, перешел на сторону бывшего императора. По возвращении Бурбонов его, понятно, судили и присудили расстрел; Волконский был при произнесении приговора и слышал, как полковник, с хладнокровием узнав о своей участи, не захотел стерпеть упреков в измене Франции: — Нет, я не изменник! Я мог ошибаться в своих воззрениях на счет счастья моей родины, но измены я не совершил! Сергей Григорьевич, которому, в отличие от судей, доводы молодого человека показались справедливыми, пробовал ему помочь: прибег к своей невестке Зинаиде Волконской, имевшей доступ к влиятельным людям, — все тщетно, и больше того: узнав о его хлопотах, пришел в раздражение император Александр. — Я твердо помню, что он мне сказал тогда. «Советую вам, князь, не мешаться в дела страны, вам чуждой! Ежели вам некуда девать ваши силы, обернитесь лучше к нашей России!» Волконский лукаво глянул на собеседника. — Накликал-таки! — рассмеялся Горбачевский. — Как присоветовал, так и вышло! Обернулись! — Да, — с неожиданной серьезностью согласился Сергей Григорьевич, — покойный император оказался чуть не пророком… Но заметьте, Иван Иванович, он и рассердился оттого, что не хотел и не мог принять моей логики, то бишь логики того несчастного. Александр Павлович не меньше Бурбонов был убежден, что счастье родины всенепременно воплощено в лице того, кто родиной правит, — ни в чем и ни в ком иначе! Ежели он и не начинал царствование с этим убеждением, то с годами, конечно, в нем утвердился!.. Александр утвердился. Николай с этого начал. — Я верю вашему патриотизму, — сказал он при первом допросе Завалишину, — и надеюсь, что вы будете из числа тех, которые не станут разделять в мыслях своих государя от отечества. А когда, не остыв еще от пережитого страха, благодарил гвардию, оставшуюся на его стороне и решившую исход на Сенатской, то и тут отыскал слова, откровенные до прямого, чуть не простодушпого бесстыдства, приравняв кровавое мгновенье 14 декабря к ратному труду двенадцатого года…
«Храброе российское воинство! Верные защитники царя и отечества!
Кого из вас не поразила страшная весть, погрузившая нас и всю Россию в горесть неописанную? Вы лишились государя, отца, благодетеля, сотрудника в подвигах бессмертных.
Но да не унывают сердца ваши! Он свыше зрит на вас и благословляет плоды неусыпных трудов его об устройстве вашем. В самые дни горести вы, верные, храбрые воины, приобрели новую, незабвенную славу, равную той, которую запечатлели вы своею кровию, поражая врагов царя и отечества, ибо доказали своим поведением, что вы и твердые защитники престола царского на поле бранном и кроткие исполнители закона и воли царской во время мира».
Из приказа Николая 1 по российским войскам 15 декабря 1825 года
…Да, говорят, что, и умирая, Незабвенный помянул благодарно своих гвардейцев за то, что в 25-м они спасли ни много ни мало —
Россию! При таком убеждении, которое коренится и в самой натуре, и в воспитании, царю уже вовсе не нужно долго и многотрудно выслуживать себе звание Отца Отечества, каким увенчали в иные годы истинно Великого Петра. К чему, если собственная его польза с первого шага полагается пользой всего государства, его враги — врагами России, а расправа над ними, вдохновленная местью, признается как бы общественным делом, необходимым для общего блага?..
«И все это было построено для нас, за что? И кому мы все желали зла?»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 28 дня
«
Горбачевский(
Иван)… Был арестован вскорости после Борисова Петра. После сентенции в пятый (кажется) день был отправлен из Петербургской крепости вместе со Спиридовым и Барятинским в крепость Кексгольм…»
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
Каво люблю таво дарю.
Мне не дорах твой подарак дарага
Твоя любов.
Миленький дружок сей прими замок
Как любви залог
Можно ли было не рассмеяться, читая надписи, что красовались на замках и замочках их кандалов, — хотя, кажется, что за веселье? Само то, что им, отправляя в Сибирь,
прикрепляли шпоры, как изъяснялись на своем жаргоне тюремщики, надевали
брушлеты, говоря языком уголовных каторжников, или, как шутили уже они сами, подразумевая непрестанный кандальный звон, vivos voco
(любопытно было бы знать, слыхал ли об их остроумии Герцен, когда сопровождал свой «Колокол» латинским этим эпиграфом?), — это было и против закона и лишнее до бессмыслицы. Такая честь полагалась разве что каторжанам, которые были уже уличены в намерении бежать либо подвергались новому наказанию, да и возможно ли было опасаться побега с их стороны, если на каждого расточительно полагался отдельный жандарм? Тем не менее велено было прибегнуть к железам, и лишь одного добились влиятельные петербургские родственники, обеспокоившиеся суровою мерой: снисходя к их просьбам, разрешили не заклепывать кандалов наглухо, а запирать на ключ. Замков при этом, как водится, не оказалось — так же как негнилых веревок для исполнения страшной казни, — тогда-то кинулись по скобяным и мелочным лавкам и накупили наспех тех висячих замков, коими предназначено было запирать отнюдь не оковы, но жестянки и сундучки, отчего мастерившие их умельцы и снабжали свои изделия приятными сердцу, любвеобильными изречениями, празднично гравированными на яркой желтой латуни. С этого и начинался путь до Читы. Нет. Еще не с этого. Сперва будет утро 12 июля. И ночь на 13-е. Около одиннадцати поутру. Не по времени бойко стучат, приближаясь к 31-му нумеру Горбачевского, каблуки, — обычно в Комитет водят ночью. Дальнейшее, впрочем, по обыкновению: в дверном окошке являются непременные глаз и ус караульного, скулит замок, не переставая взывать к прижимистому Подушкину. На пороге плац-адъютант, — Пожалуйте! Однако на сей раз с ним нет колпака, и он не тянется к заднему карману, дабы задрать фалду и достать носовой платок. Новость: ведут вольно и зряче. Ведут задним двором, мимо адъютантской и лакейской толпы, собравшейся невесть на что глазеть. По боковому крыльцу дома крепостного коменданта Александра Яковлевича Сукина проводят в одну из комнат его, — и сразу перед глазами, точно мгновенно слепящий после продолжительной темноты свет, от которого хочется закрыться ладошкой, непривычное обилие знакомых лиц. Странное дело, однако: не успевши еще поочередно и радостно их признать и ощупать, прозревший взор примечает не тех, кто есть, а тех, кого нету, — как случается при встрече с давно знакомым лесом: вырубку видишь прежде, нежели сохранившиеся деревья. Нет Сергея Муравьева-Апостола. Нет Бестужева-Рюмина. Обнимаются. Вопрошают друг друга, зачем их собрали всех вместе и притом в дневное время. — Постойте, господа! Быть может, нам хотят объявить приговор? Сентенцию? — Помилуйте, что за сентенция? Разве нас судили? — Вообразите, князь, уже судили! И осудили! Торопливым шагом подходит протоиерей Мысловский, общий их духовник. Протягивает руку Оболенскому, который в арестантском своем уединении принимал и слушал его чаще и милостивее многих иных: — Вам будет сейчас читаться приговор, — приготовьтесь. Вы услышите, что преданы смерти… — Смерти?! — Да, да, но не верьте сему. Государь не хочет смертной казни, сердце царево в руце божией! И уходит, так же спеша, в соседнюю комнату, где будет неотлучно пребывать в ожидании нервических припадков и в окружении лекаря и двух цирюльников, изготовившихся к целительному кровопусканию, — в ожидании, слава богу, напрасном и в окружении, стало быть, бесполезном. Начинают выкликать поименно, поодиночке уводя в залу. Наконец: — Горбачевский! Ведут и его. Едва вступив, Иван Иванович зажмурился: в глаз ему тотчас скакнул солнечный заяц, пущенный одним из лорнетов, уставленных на входящего, как из партера. За неизменным красным столом митрополиты, архиереи, члены Государственного совета, генералы сидят в парадных своих облачениях. За ними стоит, нестройно толпясь, сенат. Князь Лобанов-Ростовский, министр юстиции, ведет себя так, словно в июльском зное, для утра и в самом деле чрезмерном, полный генеральский мундир давит его и душит: елозит по сидению своего высокоспинного стула, вдруг нервно вскакивает, как обжегшись, опять неуверенно садится, — зато белокурый, завитой, франтоватый, с уморительным лицом и такими же повадками обер-секретарь истинно наслаждается счастливо выпавшей ему ролью театрального премьера. Со звонкой внятностью он читает приговор, с доверчивым удовольствием взглядывая в лицо каждого и как бы радуясь тому удовольствию, которое он доставляет в свою очередь им, приговоренным, своим отчетливым, щегольским произношением, — обращается сперва к Трубецкому, потом, в порядке, в каком они все стоят, считая с правого фланга, к Оболенскому, к Матвею Муравьеву-Апостолу, к Петру Борисову, к Борисову Андрею, к нему, Горбачевскому…
«Государственные преступники первого разряда,
осуждаемые к смертной казни отсечением головы
…6. Подпоручик Горбачевский умышлял на цареубийство; обещался с клятвою на сие злодеяние и назначал других; участвовал в управлении Тайным обществом, возбуждал и подговаривал к бунту нижних чинов; в произведении бунта дал клятву; старался распространить общество принятием членов и возбуждал нижних чинов к мятежу».
Всепресветлейшему, державнейшему, великому
государю императору и самодержцу всероссийскому
Верховного уголовного суда всеподданнейший доклад
…За Горбачевским — к Спиридову. К Барятинскому. К Вильгельму Кюхельбекеру. К Якубовичу. К Александру Поджио. К Артамону Муравьеву. Порядок помнится в наисугубой точности, — закрой глаза, и вновь они станут строем вдоль стены. Затем по всем правилам актерства обер-секротарь делает значительную паузу, приспустив для выразительности веки, — будто, по актерской должности зная счастливый финал драмы, щекочет нервы у зрителей, которым и волноваться сладко, — после чего возвышает голос: — Но государь император в милосердии своем… И пошел, пошел…
Указ Верховному уголовному суду
«Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразный.
Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувствами милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить нижеследующими в них ограничениями.
1. Преступников первого разряда, Верховным уголовным судом к смертной казни осужденных, а именно: полковника князя Трубецкого, поручика князя Оболенского, подпоручика Борисова 2-го, отставного подпоручика Борисова 1-го, подпоручика Горбачевского… даровав им жизнь, но лишению чинов и дворянства, сослать вечно в каторжную работу…
Николай
.
Царское Село. 10 июля 1826 года».
…Обер-секретарь поворачивается на правой ножке и чуть не отвешивает поклоп благодарной публике — им то есть. Finita, дескать, lа commedia
, господа! Да церемония и впрямь была finita, как подобает комедии, а не драме. Когда их выводили на крепостной двор, дабы в комендантской зале могли поместиться и узнать свою участь осужденные по второму разряду, уже на лестнице грянул общий и громовой хохот. Иван Иванович в шуме и тесноте недослышал, что было причиной веселью, и переспросил. Оказалось, это бретер Якубович не утерпел, чтобы не отпустить
драгонаду, как он всегда именовал свои весьма нескромные шутки в память о любезном ему и славном по всему Кавказу Нижегородском драгунском полку. Назавтра, ночью, когда задолго до рассвета их соберут уже всех, независимо от разрядов, замкнут в каре, четыре стороны которого для надежности будут составлены каждая из четырех же плотных шеренг, станут жечь мундиры, не снимая с них орденов, и ломать над головами шпаги, тем знаменуя лишение чинов и дворянского звания. А еще едва неделю спустя в тот же 31-q нумер Кронверкской куртины Ивану Ивановичу принесут серую куртку и серые порты самого грубого солдатского сукна, — своя одежда не возбранялась, езжай себе в каторгу хоть во фраке и соболях, как захочется и как можется, но у него всего и добра было после мундирного аутодафе что одна рубашка; и одноногий Сукин провозгласит: — По высочайшему повелению вас велено отправить закованным! Еще не в самую Сибирь; еще будет Пугачевская башня Кексгольмского замка, после и Шлиссельбург, а уж оттуда: — Гись! Гись! Эй, соколики! Гните ножки по беленькой дорожке! Ямщику все едино, с каким седоком за спиною, вольным или не вольным, являть свою лихость; даже сквернейшая из дорог, Ярославский тракт, по которому, мощенному бревнами, они выехали из Шлиссельбурга в октябре 1827 года, в самую то есть распутицу, не способна была отвадить их меняющихся возниц от полуразбойничьих песен и разлюлималиновых прибауток. Зато гнусный нрав фельдъегеря, которого дьявол угораздил достаться четверым арестантам, увозимым в Читу сообща, — братьям Бестужевым, князю Барятинскому да Горбачевскому, — и ямщиков заставил вскорости приумолкнуть и приуныть. Своих подопечных-поднадзорных мошенник фельдъегерь замучил тем, что, загоняя до полусмерти лошадей — а легко ли загнать курьерскую сытую тройку? — дабы не платить прогонов, не давал, таким образом, отдыха и закованным седокам, кормя их к тому же чуть не одной простоквашей, покуда они, взбунтовавшись на сей раз вполне удачно, не пригрозили ему подать жалобу на его беззаконное воровство. Ямщиков же нещадно лупил эфесом сабли, что их четверых сперва только возмущало, а после едва не погубило. На одном из крутых спусков, которыми богата Томская губерния, когда фельдъегерь, ехавший вместе с Николаем Бестужевым, тычками и понуканием разогнал коней, а сам вдруг струхнул и, ухватив ямщика за плечи, завопил: «Держи!», тот в отчаянии и злобе бросил ему вожжи: — Нет, барин, ваше благородие! Теперь держи сам! На! Горбачевский, чей ямщик благоразумно удерживал коней, кативших телегу под кручу шагом, и по этой причине ничего не подозревавший, вдруг услыхал крик, ржание, скрежет и обернулся поспешно, — по счастию, в самое время. Ибо болван, не умея править, пустил в растерянности свою тройку прямиком на повозку Барятинского, который чудом успел спастись, вскочив верхом на свою коренную, — шестеро же лошадей, сцепившихся упряжью, бесясь, уже нависали грозовой тучею над Иваном Ивановичем. Тройка его, не слушая ямщика, понесла под гору, в безумном беге своем опрокинув телегу Мишеля Бестужева, едва не погибшего, а сам Горбачевский, на какое-то время лишившийся памяти, очнулся уже на земле, отброшенныи далеко в сторону, и, с трудом приподнявшись сквозь кровь, заливавшую глаза, — у него оказалось страшно разбито лицо — увидал стонавшего своего ямщика, который сидел у обочины, раскачиваясь и держась за сломанную руку, и одного из двух жандармских солдат, ехавших с ним, распластанного замертво. После выяснилось, что у несчастного сломан крестец и он умер, не приходя в себя. Бедная Россия, сказал бы, верно, покойный Сергей Муравьев, и до тюрьмы толком довезти не умеют… Фельдъегерь потом на коленях молил своих арестантов не доносить начальству, — и вымолил, что было с ним делать; собственные их раны и ушибы зажили, и при всем при том путь до Читы все-таки не единожды вспоминался беззлобно и даже с живым удовольствием, точь-в-точь как переход уже из Читы в Петровский, — глотком вольного воздуха меж двумя казематскими задыханиями, полетом от клетки до клетки. Что-то около семи тысяч верст, — по беленькой дорожке оно, глядишь, вышло бы и короче, да зима не спешила, даже по порожистой Ангаре еще катилась шугаи, Байкал пришлось огибать кругоморской дорогою; да, верст до семи тысяч, а почтовых станций, дай бог памяти, все двести восемьдесят четыре, — давний путь так отпечатлелся, что хоть рисуй на пари карту, не открывая глаз. Шлиссельбург. Новая Ладога. Тихвин. Устюжна. Весьегонск. Молога. Рыбинск. Романов. Борисоглебский. Ярославль. Кострома. Кадый. Макарьев. Унжа. Орлов. Котельнич. Вятка. Слободской. Глазов. Оханск. Пермь… Вот за Пермью-то, после ночлега, медленно взобрались на гребень хребта и с него увидали море-окиян лесу, зеленого до синевы, синего до лиловости. Ямщик остановил коней, словно бы чуя торжественность момента, оборотился: — Вот тебе, ваше благородие, и Сибирь! И пошло, покатилось, как под гору: Кунгур, Екатеринбург, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Тара… Два последних града остались памятны двумя происшествиями. В Таре, едва они, измученные перегоном, примостились ночевать, на постоялый двор к ним, догадавшись постучать, но не догадавшись дождаться позволения войти, ввалился человек, возраста немолодого и роста великанского: — Прошу покорно извинить, господа… Эй! И двое его челядинцев, пыхтя, втащили вслед за ним корзину, чуть ли не в рост с их хозяином. — Позвольте, господа, представиться: городничий здешний. Честь имею!..— великан приосанился и едва не пристукнул каблуками сапог. — Я, изволите видеть, офицер кавказский, понятно, из бывших. При Ермолове имел еще счастие служить, и Алексей Петрович меня отличал. Так что не примите, господа, за обиду: осмеливаюсь предложить вам своего хлеба-соли. Вот-с, дичинка… Сыр, из Томска вчера купец привез… Мадера, уверяю вас, совсем недурная… Ну и прочее… Да еще вот что… Замявшись застенчиво, он сунул руку за пазуху полустатского своего сюртука и осторожно, как взрывчатое вещество, положил на стол пачку немелких ассигнаций. — Признаюсь вам, господа, деньги эти я нажил с грехом пополам, не совсем чисто… Как бы это выразиться… Ну да что греха таить! Взятками, господа! В наших должностях много приходится делать противу совести, — должность такая, что и не хотелось бы, да уж исстари заведено. Так сделайте милость, возьмите эти деньги себе. А? Ей-богу! На совести у меня легче сделается. Снимите грех с души, господа, свершите доброе дело!.. Провизией они, сколько могли, с благодарностью угостились, от денег, понятно, отказались и долго потом на пути рассуждали о сем феномене-взяточнике. Да о феномене ли, полно? Когда человек желает облегчить свою совесть, это значит, что совесть у него есть. Знал ли что-нибудь городничий про них толком? Вряд ли. То есть знал, что судимы, уж разумеется, не за кражу и не за взятки, что из того же, из какого и он, сословия, что офицерских чинов — вдвойне, стало быть, свои. Но, как рассудить хорошенько, мало ли пускали об их деле глупых и грязных слухов, — вот для чего еще так нужна была правительству
тайна, — даже люди из образованных повторяли несусветную клевету. Ежели не придумывали ее сами. Передавали, что Измайлов, небезызвестный сочинитель в басенном роде и издатель «Благонамеренного», с верою или по крайней мере с охотою пересказывал, что, дескать, весь замысел 14 декабря сводился к тому, что злоумышленники напоили допьяна сторожа Казанского собора и, подкупив деньгами, вкатили в погреб под церковью две, не то три бочки пороху, — с тем чтобы в день отпевания покойного императора пустить все и всех на воздух. Но обманываемый и обманывающийся народ, особенно самый простой, чем он проще, тем больше ждет от властей предержащих самого что ни на есть дурного и несправедливого, и, к примеру взять, когда товарища их, бывшего командира Казанского пехотного полка Аврамова провозили в Читу с непременной остановкою в Ярославле, вышло вот что. Он хотел было снять шапку перед народом, запрудившим площадь, чтобы поглядеть на загадочного арестанта, но как она по случаю холодов была у него завязана под подбородком, то он благословил толпу, перекрестив ее на обе стороны. И в ней поплыли протяжные охи, да чуть было и не плач: — Господи! Гляди-ко, и митрополита в Сибирь везут, нелюди! Извечное недоверие к власти уже в крови не только у малых людей, но у самих ее представителей, у тех, кто, казалось, плоть от плоти ее, ее руки, ее ноги, каков и городничий тарский, и тут дело даже не в том, что человек, о котором жалеют, пострадал за доброе дело. Он
пострадал,этого одного довольно с лихвою, ибо тот, кто наказан властью, дурной и неправою в глазах большинства, заслуживает право на сочувствие и сострадание, даже если на самом деле наказан за плохие дела. Живя в Петровском Заводе, Иван Иванович вдоволь наслушался от уголовных каторжных про жалостливую доброту людей и про щедрость их подаяния, хотя, говоря по правде, даже и его, сморгонского студента, на этот счет немало сумел просветить приезжавший лет восемь тому в Завод литератор Сергей Максимов, которого он сам водил показывать их бывшие казематы. Тот, даром что сам петербургский, исколесил Россию, исколесил Сибирь, навидался, наслушался и уж умел не то что рассказать, но и показать в лицах, как, к примеру, российский
несчастненькийпромышляет себе доброхотное пропитание: — Бывало, офицер этапный спросит: «Ну, ребята, какими вас улицами вести?» — «Веди хорошими, ваше благородие!» — «Это я сам понимаю, что хорошими, да только какими? Поняли?» — «Поняли, ваше благородие. Вели в барабан бить для привлечения народу да прохладу дай», — «А прохлада, ребята, знаете нынче почем? Пятьдесят рублев. И барабан столько же. Стало, ровно сто рублев на меня, да десять на ундеров, да по рублю, считайте, на рядовых, согласны ли?» — «Идет, ваше благородие!»… Вот, значит, и они и мы в барыше. Москва подавать любит: меньше красненькой редко кто подает. Именинник, который на этот день выпадает, ну, тот и больше жертвует. И не было еще такого случая, чтобы партия какая не везла из Москвы за собой целый воз калачей, — мы-то и два воза наклали… Ничуть не хвалясь своим, кровным, спросим все-таки: англичанин или немец, пожалеет ли он этак своего колодника? Сомнительно. И ведь не по природному жестокосердию, совсем даже не потому, — оттого-то хвалиться нам и не пристало, — а потому, что верит в свой закон или хоть в своего короля, законом как раз и обузданного. А у нас, где вместо закона «столб, а на столбе корона», как сказано в чьих-то вольных стишках, нарушитель этого закона мил человеческому сердцу. Или, во всяком случае, доступен для сожаления, Вот наша беда — и вот спасение от беды, все разом, одно от другого неотрывно. Об этом начало думаться в Таре. В соседствующем Тобольске думалось про иное. За версту до него они повстречали князя Бориса Алексеевича Куракина, сенатора, который судил их с прочими в Верховном суде, а ныне ревизовал Западную Сибирь; и тот, учтиво их приветствовав, объявил, что среди ревизионных его занятий обретается и забота об их участи. — Я имею, господа, приятное… Да, так и сказал! — …приятное поручение от государя узнать о ваших нуждах. Не имеете ли вы жалоб на содержание или обращение? — Никаких, ваше сиятельство. Мы ни в чем не нуждаемся и ни на кого не жалуемся. Это решил оказать гордыню свою он, Горбачевский, для такого случая махнув рукой на мерзавца-фельдъегеря, которого стоило бы принести в жертву, но только не ради того, чтобы удовлетворить начальственный либерализм. — Но, может быть, вы желаете просить меня о чем-нибудь? Тогда Мишель Бестужев выставил вперед закованную свою ногу, и перед глазами озадаченного князя латунно блеснуло прелестное:
«МИЛЕНКАЙ ДРУЖОК СЕЙ ПРИМИ ЗАМОК…» — Видите, ваше сиятельство, — пояснил Мишель, не дожидаясь вопроса, — когда в Шлиссельбурге надевали на нас кандалы, то за неимением новых сняли старые с тамошних каторжных, и оттого они редко кому из нас по ноге. Да к тому ж кузнец шлиссельбургский второпях заковал ноги мои впереверт… Видите?.. Железа их растерли, и я теперь шагу в них не могу ступить. — Да… — Куракин продолжал пребывать в затруднении. — Но чего же вы хотите? — Как чего, ваше сиятельство? Разумеется, чтобы вы приказали меня заковать как следует, только всего. Это должен был приказать наш фельдъегерь, да не захотел. Лицо Куракина прояснилось, как у человека, испытавшего облегчение от сознания собственной беспомощности и, значит, безответственности. — Извините, — и поклонился вежливо. — Я этого сделать не могу… Злое сердце? Да нет. Просто — человек, даже для такого распоряжения не имеющий свободы и в ней не нуждающийся. Человек, свободный куда менее, чем городничий из Тары и уж тем паче московский мещанин, которому в голову не взбредет, что подать несчастненькому полтинник либо калач опасно и дурно. Человек, намного более их обоих согретый приязненным жаром власти и этой самой приязнью лишенный возможности следовать велению собственной души, даже отвыкающий от подобных велений. Готовый человек еще только начинающегося Николаева царствования. Тоже, если угодно, его добровольная и довольная жертва. …Тобольск. Тара. Каинск. Колывань. Томск. Ачинск. Красноярск. Канск. Нижнеудинск. Иркутск. Селенгинок. Верхнеудинск. Чита.
«Дальнейшую эпопею вы знаете…»
Из рассказа И. И. Горбачевского в передаче П. И. Першина-Караксарского
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Продолжение
В Санкт-Петербург,
Галерная, дом Пороховщиковой.
Ее благородию А… Е……П……
Любимая!!!
Три восклицательных знака бессмысленно вдавливаю я в бумагу железным пером, к которому так и не сумел привыкнуть мой сосед по Петровскому Заводу, неведомый Вам Иван Иванович Горбачевский.
Зачем? Бог знает. Я не так всеведущ, как он, и я не знаю.
Воображаю, как Вы растерялись бы и смутились, — а может быть, и рассердились, — если бы получили это письмо, которого я скорее всего, да просто наверняка не отправлю с почтой; Вы ведь никогда ничего не знали о моей любви к Вам, — уж в этом-то я проявил недюжинный талант конспиратора, чем, увы, не могу похвастать относительно дела, за отдаленное участие в котором я оказался и в местах не столь… да нет, именно столь отдаленных.
Правда, эту конспирацию было хранить до обидного просто: Вы, Ваша Недосягаемость, не отличались той подозрительностью, какой отличаются их превосходительства. Вам и в голову не могло прийти, что сутулый, вечно покашливающий, застенчивый до дикости и, вероятно, до умору смешной, признайтесь, Гаврила Кружовников способен на роль Ромео или хотя бы бедняги рыцаря Печального Образа.
Не пугайтесь. Я не смущу Вас сердечными излияниями. Мне нужно совсем немного: чтоб Вы сейчас, только сейчас потерпели и побыли моей благосклонной слушательницей. Я даже и говорить стану не о Вас, а совсем о другой женщине, к которой Вы бы меня не приревновали, даже если были бы на это способны…
Все-таки дьявольски горько, что этой ревности никогда но бывать, — но, как говаривал гоголевский Поприщин, ничего, ничего, молчание! Итак…
Каждое божье утро я тащусь в заводскую контору отбывать свою нестрашную, но постылую каторгу. И каждое утро иду улицей
Княжеской— так она зовется теперь, хотя иные из здешних обывателей по старческой забызчивости нет-нет да и назовут ее, как называли прежде:
Дамская.
Вы догадываетесь: потому, что когда-то на ней жили, как здесь говорят, секретные барыни. Не без труда, но я разузнал даже, где и кто именно обитал, и, проходя, напоминаю себе для душевного моциона. Вот дом первый — тут жила и тут умерла бедная Муравьева. Против — дом Ивашевой. Возле — Нарышкиной. Через улицу — Давыдовой. Дальше — Фонвизиной. По другой стороне — Трубецкой, Анненковой, Волконской.
Все дома целы, хотя одряхлели, конечно. И, глядя на них, я, в общем не признающий за собою сентиментальности, порою конфузливо чувствую, что близорукие мои глаза, скажите пожалуйста, на мокром месте. А говоря совсем по правде, даже и не конфужусь: в наш железный век, когда мы начали стыдиться, кажется, и самого очищающего стыда, может быть, нужно брать себя — про- стите мне бурсацкую грубость — за грудки и с позабываемым ныне трепетом ставить себя на колени перед головокружительной высотой духа. Например, перед этими слабыми женщинами, совершившими почти беспримерное, удивительное, загадочное…
Да, и загадочное. И, пожалуй, в ничьей судьбе эта загадка не затаилась так глубоко, — а значит, нигде больше и разгадка не кажется столь заманчивой и многообещающей, — как в судьбе и в душе княгини Волконской. Марии Николаевны.
Что я про нее знаю? (Впрочем, и Вы, ибо поэма Некрасова уж, конечно, не проскользнула мимо Ваших милых глаз.)
Будем вместе загибать пальцы.
Дочь генерала Раевского, легенды двенадцатого года. С Пушкиным знакомствовала в юности, — он, кажется, его и увлекался, правда, как многими. Была умна. Образованна. Хороша собой, говорили, необыкновенно: стройная, пышноволосая, смуглая, черноокая, —
девой Ганганазывали ее. Вышла замуж за князя Волконского, который был много старше ее — чуть не вдвое. Вышла без любви, по приказанию отца, и всего-то за год до восстания и до мужнина ареста. А за этот год почти его не видела и в одиночестве вынашивала ребенка.
И вот эта юная женщина, узнав о судьбе мужа, решается ехать за ним — не то что без колебаний, а явив поразительное упорство: отец, точно так же, как настоял на браке с Волконским, теперь приказывал ей остаться, а нрав у генерала был генеральский. Нет, поехала, — даже малого сына оставила, хотя ее предупреждали, что он без нее погибнет, как оно и вышло.
Истерика? Взбалмошность? Нет, нет и нет, — напротив, характер был твердый и сдержанный. Конечно, любовь? Но и этого не было…
Скажите, Вы помните, как в поэме Некрасова описывается первая встреча Марии Николаевны с мужем — уже в Сибири, на каторге? У меня под рукою стихов нет, но прозой перескажу: она говорит, что, увидав его в кандалах, пала пред ним на колени и, прежде чем поцеловать его самого, поцеловала оковы.
Каково? И что из этого с ясностью следует? Не то ли, что она при виде его не обезумела от счастья и горя, не бросилась ему на шею без памяти, не потеряла головы, — нет, помнила, понимаете, помнила себя, сознавала отчетливо, почему и зачем приехала.
Любовь и потом не пришла. Волконский-то был покоени счастлив, Мария же Николаевна — нет. Тем более при близком — теперь уже истинно близком — знакомстве оказалось, что люди они очень разные: жена была и осталась женщиной света и блеска, а бывший блистательный генерал-майор опростился, дружил больше с крестьянами и всему на свете предпочитал огородничество. По-французски говорил, как француз, а в женин салон приходил, пропахший скотным двором и с сеном в бороде, — да и салону-то заметно предпочитал базар, где любил покалякать с мужичками, как равный с равными.
Огородником, надо сказать, был гениальным: и в Чите, и в Петровском Заводе, и в Иркутске, на поселении, заводил такие оранжереи, выращивал такие дыни, арбузы, артишоки, чуть ли не ананасы, что все диву дивились, — я об этом и читал, и слухи по сей день доходя г.
Как-то, еще на каторге, несколько декабристов на досуге стали выдумывать в шутку, определяя характер друг друга: вот если б каждому из них пришлось оказаться в шкуре Робинзона Крузо, то какую бы книгу — но только с условием, что непременно одну-единственную, — он бы с собою взял? И сообща порешили, что Оболенский, конечно, выбрал бы Библию; Горбачевский — Плутарха, если не учебник алгебры; Завалишин — чистую тетрадь для записывания своих собственных мыслей, потому что ничьих чужих он не жаловал. А Волконский прихватил бы на необитаемый остров «Огородника» Левшина или же «Альманах опытного садовника».
Но покуда я не о них…
Короче говоря, со стороны Марии Николаевны не было тут ни страстной любви, ни взаимного понимания, ни благоразумия даже: вспомните судьбу маленького сына, оставленного и погибшего. А вот подите же: все-таки эта во всех отношениях удивительная женщина совершает свой удивительный поступок, а я через столько лет согласен, всем на удивление, бухнуться на колени перед ее домом, без нее опустевшим.
Другие декабристки прекрасны не менее, но с ними все проще, яснее, во всяком случае.
Александра Григорьевна Муравьева мужа своего Никиту боготворила. Трубецкие славились как наинежнейшие супруги, один без другого дышать не мог. Прасковья Анненкова, в девичестве Полина Гебль, — ну, тут темперамент француженки и жизненная сила модистки, работницы, хлебнувшей лиха: у самого императора Николая вырвала позволение ехать за невенчанным мужем, много раз рожала, самого Анненкова нянчила, все терпела и была счастливее самой счастливой.
У каждой есть прямое объяснение, зачем и за кем поехала. А тут?
Что ни говорите, странный поступок, непонятный поступок, — и знаете ли, что я думаю? Что, когда такой поступок свершается, тут уж надо раздумывать не только над характером человека, его почему-то свершившего, но и над временем и средой. Они все вместе его свершили. И чем поступок страннее, непонятнее, головоломнее, тем он нам больше об этом времени скажет. Да еще самую суть, самый дух его прояснит.
Поверьте, я не парадоксом увлекся; парадоксы вообще не в моем вкусе, я человек, по-российски всегда надеющийся из любого хитросплетения сыскать прямой и простой выход, во всяком хаосе гармонию обнаружить.
Если бы Мария Николаевна всецело доверялась сердцу, как ему доверились Трубецкая и Муравьева, она, возможно, и осталась бы, не поехала, — сына, ею рожденного, она, надо полагать, любила крепче, чем полузнакомого мужа. Но она последовала долгу. И чести. Только им, — ничто более в Сибирь ее не толкало.
Знаете ли, кого мне напомнила странным образом — видите, вновь странность, и тут от нее никуда не деться — княгиня Волконская? Еще одну княгиню, только не во плоти и крови, а сочиненную. Пушкинскую Татьяну — да, да, из «Евгения Онегина», которого так сладострастно потрошил во время оно наш былой кумир Писарев. Та ведь тоже, оказавшись перед выбором: любовь или верность, страсть или честь, выбрала — честь и верность.
Подумаем с Вами вместе: какая разница судеб — и какая близость! Мария Волконская идет за своим нелюбимым генералом на каторгу — Татьяна остается со своим нелюбимым генералом в петербургском свете. Однако и там и тут исполняется человеческий долг. Там и тут утверждаются простые и высокие понятия личной чести и личного достоинства. Там и тут… помните? «И буду век ему верна».
Там и тут женщина выбирает свою судьбу, потому что уже имеет возможность выбрать, и это для нее важнее — даже! — велений любящего сердца.
Малая толика фантазии — вправду совсем небольшая, смелости не требующая. Почему бы нам не представить себе, что Татьянин генерал, подобно генералам Волконскому, Фонвизину или Юшневскому, тоже замешался бы в тайное общество? А что? Возможное дело! Возрастом он, скорее всего, никак не старше того же Волконского, если с Онегиным водит старую дружбу, и тоже, судя по всему, был на войне с Наполеоном, — почему бы и ему не разделить их судьбу?
Если же так, то станем ли мы сомневаться, что и Татьяна его судьбу также разделит?
Вот как я расфантазировался, — впрочем, как видите, нечрезмерно. Но суть не в том. Мария Николаевна не только не любила мужа, но и знать не знала про тайные их дела: он ее не посвящал. Может быть, просто не успел, кто теперь скажет. И тем не менее она сразу поверила, чю прав Сергей и его друзья, а не ее отец и братья. Но тому, что витает в воздухе и что улавливается самыми чуткими и чистыми из натур, она уловила лучшее, благородное, впитала в себя — и без всяких иных, очевидных, общепонятных причин оказалась способна сделать то, что сделала.
Мы их всех зовем привычно уже, особенно после Некрасова: декабристки. Но Волконская — декабристка и самом что ни на есть полном, самом буквальном смысле. Не только героическая жена декабриста, но как бы одна из них, из героев декабря 1825 года. По самосознанию. По самоотречению.
О Сергее Григорьевиче я Вам написал словно бы несколько шутейно — с любовью, конечно, но все же… Огородник, мол, скотный двор, сено в бороде. А ведь и тут, если разобраться серьезно, тоже — подвиг. То есть не в чем-то ином, не в заговоре и возмущении, это само по себе, а вот даже именно в этом: огородник, скотный двор, сено.
Не торопитесь решать, будто я зарапортовался от теперешней моей почтительной и нежной любви к этим людям. Говорю я в самом деле серьезно.
Только начну объясняться издалека. С себя самого начну — куда дальше?
Я — выродок. Еще и прежде, в мои вольные годы, я непонимал товарищей, для которых «дворянин» уже звучало как «не наш», «чужак», а то и «вражина». Не умел я в себе пробудить этой ярости, хотя, зачем таиться, стеснялся своей мягкотелости; и пробовал пробудить, — нет, не вышло.
Полудворянство, что ли, мое тому причиной? Да нет, и половинка-то эта, все отцовское наследство, у меня непородная, мелкопоместная, всего ничего, — разве сравнить с Вашим небезызвестным родом? Притом же я замечал, что на дворян — на всех, скопом, не разбирая, — кидались, бывало, с особой яростью те, что сами оттуда; грех первородный соскребали с себя, не щадя кожи.
Дело прошлое, и простите, что поминаю, но ведь и Вы, случалось:
— Дворяне… племя царских рабов… историческое бессилие… только новые люди способны…
Уж не знаю, в чем дело, — может, и в том, что я какой-никакой, а все же историк, да еще восемнадцатым нашим веком успел позаняться, тем, где дворянство только росло и обещало расти, где оно страну просвещало и двигало.
В общем, как бы там ни было, а история забывчивости не любит, для нее забывчивость — смерть…
Словом, как видно, был я уже готов, сам того даже не ощущая, заинтересоваться вплотную людьми, до которых мне в наших заботах и планах вроде и дела не было. И начал меня к ним и к себе приобщать сосед мой, которого я Вам уже представил, Горбачевский Иван Иванович.
Знай я за собою способности и амбицию беллетриста, кажется, о ком угодно из его товарищей-декабристов мог бы я, наплевав на цензуру, сочинить роман или повесть: какие события, страсти, повороты судьбы, любовные потрясения! А о нем — нет, не сумел бы. Да и в голову бы не взбрело. Ибо — про что писать? Что в его долгой жизни
случилось?
Ничего.
То, к чему он готовился, на что решался, в чем клялся, — переворот, восстание, революция — обернулось для него мучительной драмой бездействия: действие, хотя бы и трагически неудачное, обошло его стороной. А потом? Сперва следствие, суд, каторга — общая судьба, которую не выбирают. Но когда наконец появился выбор, тогда началось… да если бы началось, так ведь нет, продолжилось не понимаемое даже друзьями упрямое, одинокое сидение сиднем в Петровском Заводе, бок о бок со стенами собственной тюрьмы, откуда, казалось, только бы и бежать, — все и убежали, уехали.
Дважды судьба предлагает ему переворот в жизни — то, в 1839 году, выбрать новое место для поселения, попригляднее, то, уже в пятьдесят шестом, переселиться в саму Россию, по которой изныло сердце. И дважды свобода выбора принимается Горбачевским как свободный отказ от этой свободы.
Что-то подобное было еще в году двадцать восьмом, в Чите, куда донеслась весть о царской милости — о дозволении снять наконец кандалы; тогда он, Иван Иванович, среди прочих друзей по Обществу Соединенных Славян противился этой потачке или подачке, этой капле свободы, которую только и мог отмерить им от своих щедрот император, и стоял на том, чтобы оковы были оставлены.
Только потом подчинился — не по-солдатски, не воле начальства, а по-республикански. Воле большинства.
Странныйчеловек непонятных поступков, — понимаете ли, куда клоню и с кем исподволь сопоставляю его при помощи неуклюжего подчеркивания?
В одиночестве, которого не дай бог Вам узнать, и мысли становятся одинокими. Не мыслями даже, а мыслью, единой, настойчиво сосредоточившей вокруг себя все, что вступает в голову. В этом — не счастье, нет; не покой, куда там, — но спасение душевное: у тебя находится цель, куда ведут все твои пути, как бы они ни петляли и каким бездорожьем порою ни выглядели.
Мои дороги — так получилось — ведут к нему, к Горбачевскому, и, как видите, даже беглое размышление о княгине Волконской, даже неотступная память о Вас не уводят от него, а к нему возвращают. И теперь, когда я пере…..
(
Фраза не окончена. Так у автора,
то есть Г. Р. Кружовникова.)
БЕССОННИЦА 1869 года. Января 3 дня
«Я жил и живу между русским народом, не отделяясь от него никогда; такое уже мое положение, такие обстоятельства и такое место. Тут много любопытного, замечательного, интересного; а ссыльные, что за народ любопытный, — оклеветанный, убитый, но люди умные, рассудительные, даже — скажу тебе странную вещь — люди очень добрые и честные. Многих я из них видел, говорил с ними, многим я был даже приятель; что они рассказывают — это поэзия. Что твои в журналах повести стоят против рассказов и их приключений! Я никогда не читаю журнальных повестей; мне, если скучно, заведу разговор с ссыльным — вот тебе и повесть, да еще какая! Говорят, что они много врут, пускай себе врут, эта ложь основана на исторической достоверности, и на то у меня есть ум, чтобы из его рассказа взять все достоверное, хорошее и любопытное. Здесь был Максимов, писатель, он хотел все узнать в три дня и уехал. Так не живут с народом, и так в короткое время нельзя его узнать; жаль, что так случилось, а он человек умный».
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
— Ну, Иван, удивил! Экая ты, как погляжу, забубённая головушка! Я положительно жалею, что мы с братом так и не сговорили тебя перебраться к нам жить. Жаль, право, жаль! Да и тебе уж, верно, не было бы так одиноко. — К вам? В ваши пески Ливийские? Нет, Мишель, благодарю покорно! Это мне вас жаль, тебя и покойного твоего Николая, что приковали себя к скале Селенгинской. Между кем ты живешь? Несколько купцов, казаков и офицеров — это не народ. А у нас тут… — Ну, ну! Опять пошел хвалить свою дремучую берлогу, сморгонский студент! Ты и упрям-то совсем по-медвежьи. Впрочем, вы, Вологда, все были таковы. Один к одному… — Как? Вологда? Почему Вологда? Разве вы оттуда родом, Иван Иванович? Я думал, из Малороссии… Это уже вступил с вопросом Петя Караксарский, двадцатилетний купчик из новых, из просвещенных, у которого любопытствующие глаза круглились на все вокруг, но тотчас сам позабыл о своем вопросе, отвлеченный и развлеченный происходящими чудачествами и чудесами. Да и Бестужев, недоверчиво посмеиваясь, все поглядывал на Горбачевского, широко принимавшего в своей доме немалочисленных гостей, будто не верил, что перед ним точно он, медведь, петровский отшельник, — да что там они, новоприезжие, если и сам Иван Иванович иной раз спохватывался, словно бы бросив на себя их, сторонний, изумленный, взгляд: — Я ли это? Мой ли дом? В самом деле, черт знает что творится: инженер Николай Николаевич Дубровин под бубенечный бряк выделывает фантастические крендели и частит не совсем послушными ногами, отчаянно откалывая русскую, а костюм у танцора самый что ни на есть неподходящий для отечественных коленцев: шаманский, да не маскарадный, а подлинный, — для такого развеселого случая хозяин дома не пожалел разорить свою тщательно охраняемую коллекцию вещей, относящихся до бурятского дикого культа, от железных полудоспехов-полувериг и ярких лохмотьев, обшитых бубенчиками, до натуральных черепов, торчавших некогда на шаманских шеях. Гулять так гулять, озорничать — так вволю, и хозяин-трезвенник только со смеху покатывается, когда наплясавшемуся инженеру приходит в ум новая затея, чуднее прежних: превратить шаманские черепа в заздравные кубки — на манер того, как дети степей почтили когда-то по-своему голову павшего князя Святослава: — А, господа? Взгляните! Умный был шаман! Целая бутылка хересу в башку поместится! И опять скачет Дубровин — нет, не наплясался, — выкрикивая смешную абракадабру, будто бы подражающую шаманским заклинаниям; от души веселится Мишель Бестужев, бесценный гость; Иван Иванович сам поднимается и, встав в комически напыщенную позу, читает громогласно — он! — чьи-то стихи; помалкивает неодобрительно Ирина, не переставая исправно потчевать гостей. Это нынчо, завтра будет ее черед, ее добродетельный верх, и когда Горбачевский утром едва приподнимет над подушкой виноватую голову, кряхтя и откашливаясь, она не утерпит заметить с ласковой злопамятностью: — Это вас давешний шаман
пежит. Мучит то есть. Веселье вышло из ряду вон, потому что нерядовыми были гости, вернее, гость, Мишель, нежданно нагрянувший в Петровский Завод ранней и теплой осенью… которого же года? Да, 1862-го. Семь с лишком лет минуло — и два уже с той поры, как Бестужев подался в Россию. Тогда он явился в Петровский в чине архитриклина, попросту говоря, распорядителя свадебного застолья, каковое имело быть по случаю второго бракосочетания селенгинского богатея и мецената Старцева с петровской поповной. Праздничный поезд в добрый десяток экипажей, перенабитых гостями, загулявшими с самой первой версты и не дававшими повыветриться веселью и хмелю на протяжении всех двухсот верст от Селенгинска и до Завода, ворвался, как Батыева конница, и по всем стародавним правилам Петровский был отдан во власть нагрянувших на несколько дней сряду, с той, однако, немаловажной разницей, что нашествие встречено было с восторгом. Мишель царил на пиру, точнее сказать, на пирах, которые сменяли один другой, в согласии со своим пышным свадебным чином, блистал и без чинов, просто как записной остроумец, словом, был на виду и нарасхват, и Иван Иванович с алчностью изголодавшегося лакомки сожалел, что не может заиметь его в полное и жадное свое владение. Смешно признаться, наглядеться не мог на него, как влюбленный какой-нибудь, когда они наконец усаживались друг против друга: так он и помнится до комка в горле, тогдашний, уже постаревший Михаил Александрович, с почти седой головой на жилистой шее, открытой белым распашным воротом сорочки, сероглазый и горбоносый, с бритыми баками и подбородком, с неизменным черешневым чубуком, выныривающим из-под низко нависших усов и распространяющим запах жуконского табаку, — и запах-то мил до трогательности, даром что сам Иван Иванович жуконский едва терпел, обходясь им по необходимости, когда не было денег и случая разжиться любимым лафермом. Наутро после буйного маскарада собрались в свой каземат. Ехали, веселясь по-вчерашнему, тем более что Мишелю не пришлось долго отыскивать предметы для своих острот: древняя коляска Горбачевского, крашенная охрой, была тотчас объявлена той колесницей, на какой вознесся пророк Илья; гнедым, бывшим, правду сказать, не первой молодости, тоже досталось порядком; не был обойден и татарин Ахмет, невесть отчего пожалованный на сей день в возницы, — да, впрочем, и сам Иван Иванович, не заблуждавшийся относительно его кучерских способностей, все беспокоился по заботной хозяйской должности: — Ты, Ахмет, только гляди не обороти нас! Тише, ради бога, тише, Ахмет, бестолковая ты голова! Аи, сейчас оборотишь! На что Бестужев, пользуясь беспечным положением гостя, откликнулся: — Ну что ж! Превратимся, значит, в оборотней! Гони, Ахметка! Как это у вашего брата, у ямщиков? — сильно польстил он татарину. — Гись! Гись!.. В каземате, однако, попритихли. Ходили, щупали, непонятно зачем, стены, узнавали свои нумера, комнаты далеких и покойных товарищей. А когда вошли в их общий зал, то Мишель вдруг вспомнил свою роль наставника при юном Караксарском, остановился посредине и обратился к опекаемому с пафосом: — Взгляните, Петя! Вот здесь — да, да, здесь! — мы, бывало, все собирались. Для чтений литературных, для музицирования. Лекции, вообразите, читали, кто во что горазд, а гораздых-то было… Слышишь, Иван? — живо повернулся он к Горбачевскому. — Ты-то помнишь? Корнилович, к примеру сказать, чем был не профессор истории? Как он нам про императриц излагал! А Муханов, рыжая борода, чем при нем не адъюнкт? Господи, и головы же были! Муравьев Никита — какой дока в стратегии! Оболенский — в греческом! Лекарь наш, Вольф, ну, тот, натурально, в анатомии… — И в химии, ты позабыл! — с нежданной ревностью вторгся Горбачевский в сладостное это воспоминание. — А уж Завалишин… — Да, конечно, и Завалишин… — вяло согласился Бестужев. — Успокойся, воздам должное любезному твоему приятелю. Что другое, а в математике с астрономией он… Петя Караксарский подошел к слезящейся, облезшей стене и с видимым почтением стал в ней ковыряться. — Что вы там нашли, юноша? — спросил Иван Иванович. — Я?.. А вот — гвоздик! На память… И тут Горбачевский, твердо зная, что несправедлив к молодому и деликатному бестужевскому выученику, сердясь на себя за несправедливость и не имея силы ей противостоять, заворчал — от этого неуютного сознания еще пуще: — Ну ясное дело! Гвоздик!.. Ах, господа! Молодое поколение! Нашли тоже, чем и как поминать! Из чего, подумать, забаву сотворили! Это еще в Чите, как сняли с нас по манифесту оковы, так тамошние слесари, стыдно сказать, навострились из них кольца железные делать да торговать ими! — Постой, Иван! — обиделся Бестужев. — Что ж здесь-то дурного? Ежели помнишь, это мне пришла в голову мысль сделать из наших цепей кольца. Мне первому — и мы же с братом Николаем их смастерили для сестер и для матушки! — Помилуй, Мишель, да разве я об вас говорю? Для сестер, для матушки — святое дело! Они над этими кольцами небось слезы лили, вас вспоминаючи, для них этим кольцам и цены нету! А тут что ж — по рублю, по два? — Ну… Тут и твоя правда. Отчасти… — Разгорячась, словно в Мишеле взыграла вдруг вековечная обида художника на подражателей. — Да кой черт, отчасти! И той цены давать не следовало бы! Читинские-то слесари, они ведь подделкою занялись! Настоящие наши цепи уже бог знает куда канули, а они все колечки выпиливают. И что прикажешь делать, коли им из Кяхты, из Верхнеудинска, из самого Иркутска заказы поплыли? Все модницы с ума сошли! — Вот! Модницы… Я и толкую: из чего моду, забаву сделали? Из крови? Из мытарств наших каторжных? Вы не конфузьтесь, милый юноша, — догадался наконец Иван Иванович обратиться к оробевшему Караксарскому, — и не сердитесь на старика. На вас я, точно, понапрасну рыкнул. Но только как подумаешь… Знаете ли, что, когда пятерых наших казнили и средь них Сергея Муравьева, в киевских, говорят, лавках вдруг новые жилеты явились, ленты всякие, материи шелковые, я уж не знаю, что там еще, — и все двухцветное. Черное с красным. И все втридорога, конечно. Разумеете?.. Ах, ну да, вы-то этого не можете знать. Цвета Черниговского полка — вот в чем приманка… Нет, Мишель, ты как хочешь, а я тебе даже больше скажу. Вот, слыхал я, в столице продают из-под полы наши карточки — с коллекции покойного Николая, брата твоего снято. Что ж, лестно? Благородно? Смело? Оно пожалуй, да только я думаю, теперь-то, когда вон и наших допустили в Россию, и манифест о крестьянах вышел, хорошо смотреть на карточки да восхищаться — не карточками восхищаться, не нашими усатыми физиономиями, а собою! Дескать, экий я смелый да бесшабашный! Я! И как это нынче легко и безопасно благородным да смелым себе казаться! Горбачевский махнул рукой. Помолчали. — Знаешь, Иван, — вздохнул Бестужев, — словно бы ты и прав, да уж больно суров. Можно ли так? Ну да, не все молодые люди глянут на карточки Рылеева и Апостола и тут же им уподобятся, это дело обычное. Но согласись, бурбон ты петровский, лучше пускай он из моды — да, да, из моды, не кривись и не вскидывайся — Рылеева в бумажнике прячет, чем шефа жандармов. И потом позволь, ты себе сам противоречишь. Хорошо нынче им легко своим благородством кичиться — согласен. Но прежде-то это небезопасно было, — а ты и прежними недоволен! Что, разве я не прав? — Может быть, может быть, — неохотно пробурчал Иван Иванович. — Может, и прав. Я одно знаю: ежели что вдруг модою стало, ежели всякая барыня, надевши колечко железное, себя уже чуть не княгиней Волконской мнит, Марьей Николавной, это, по мне, хуже всякого забвения. Пусть забудут — потом, коли вправду понадобимся, авось воспомянут. С тем меня и возьми, бурбона! И Мишель, которому впору было вновь возразить, а то, пожалуй, и осердиться на несносного упрямца, вдруг посмотрел на него с укоризной, но и с такой обнаженной нежностью, что у Горбачевского засвербило в душе, — хотя он, если б его спросили, объяснил бы, что нет, мол, только в носу, оттого и нежданные слезы. — Я же сказал: Вологда. Вечная Вологда. Неисправимая Вологда. Да. Именно так они прозывались в читинской тюрьме — Вологдой. Они, Славяне, державшиеся тесно, теснее других, и поначалу не без гордо-самолюбивой отчужденности, — гордость, впрочем, подстегивалась сознанием неуверенности в себе, в армейцах, кончавших всего лишь кадетские корпуса, и по этой причине далеко не столь образованных, как блестящие и блистающие Трубецкой или Лунин. Вечная готовность к самозащите, она саму уязвимость превращает обычно в подобие ощетинившегося оружием бастиона. Они с подчеркнутостью соблюдали свой суровый Славянский устав, являя в общем собрании крайнюю степень непримиримости, как было с оковами, которые не соглашались снять, выказывая презрение монаршей милости, — и очень помнится, как именно в тот самый читинский день Мишель Бестужев, еще такой молодой, тонкобровый, нагибается к Горбачевскому и говорит, улыбаясь, почти то же и так же, как скажет через тридцать с лишним лет: — Кремни вы вологодские! Камни вы преткновенные! У-у, валуны! А и в самом деле — почему вологодские? Почему — Вологда? Теперь уже и не вспомнить, кому первому взбрело ла ум и у кого спрыгнуло с острого языка это прилипчивое наименование. Это — и другие прочие, потому что были еще Москва, Новгород, Псков, говоря же совсем попросту, три большие — кроме их, четвертой, Славянской, — тюремные комнаты, где арестантов содержали вместе, комнаты, названные так хотя и с шутливостью, но не бессмысленной. В первой, получившей имя древней столицы, жили товарищи, которых они, Славяне, сперва окрестили по ощутимому контрасту с собой:
наши аристократыили же
наши богачи. Во второй, будто и впрямь на оживленном новгородском вече, сошлись, как нарочно, те, кто неустанно рассуждал о политике, о философии, о вопросах экономических, ища друг в друге не столько единомыслия, сколько, наоборот, разномыслия и дорожа им как возбудителем споров. Третья комната была словно бы младшим отделением второй и почтительно прислушивалась к тому, что говаривалось там, как и подлинные псковичи в далекие времена слушались Господина Великого Новгорода и ловили отзвук его авторитетною веча. Три имени, стало быть, объяснимы, но — Вологда? То ли неведомый изобретатель клички имел в виду провинциальность, заштатность этого города сравнительно с громкославными Новгородом или паче того Москвой, то ли… но и вправду не вспомнить. Если что и запало в память, так это их, Славян, начальная задетость неперворазрядным прозвищем и его, Горбачевского, ответный задиристый выпад: — Не беда! Напротив! Сказывают, царь Иван Васильевич намеревался столицу из Москвы как раз в Вологду перенесть! — Так не перенес же, — урезонил кто-то из своих, справедливо ловя собрата на не слишком последовательной логике. — Не случилось того. — Тогда не случилось, а что впереди — поглядим! Такая вот гуляла в нем резвая мальчишеская амбиция. Да они и все еще в те поры были молоды — нет, не только летами, а иные и совсем не летами, но, кажется, даже пожилой, на их подпоручичий взгляд, Волконский и его высокочиновные сверстники переживали в Чите молодую свою пору. И понятно: они только еще начинали новую жизнь, оказавшуюся такой долгой, жизнь уже не офицеров, полагавших решить свою судьбу и судьбу отечества однократным, резким, командирским жестом, поднимающим роту или полк, но тягучую жизнь узников, неспособных переменить ее своей волей, — что было всего непривычнее и всего мучительнее. Они учились жить. — Чита была наша юношеская поэма… Так сказал — уже в Петровском Заводе — Иван Пущин, сказал, будто взгрустнул о навсегда покинутом крае счастливого детства, и бывший тут же непременный Михаил Бестужев взорвался саркастическою иронией, даром что сам, как никто, умел видеть свет в самой кромешной тьме и, по словам брата своего Александра, поэта, не только что равнодушно, но весело нес крест: — Ах, поэма? Еще и юношеская? Стало быть, что-то такое наподобие романтических сочинений твоего друга Пушкина? «Кавказский… pardon, Читинский пленник»? «Забайкальский фонтан»? А ты помнишь ли, милый друг, казематы наши, где мы были набиты как сельди в бочонке? Тесноту, духоту, грязь и все происходящие от того наслаждения? Или то, как спервоначалу приходилось притираться друг к другу — сколько затронутых самолюбий, сколько обид нечаянных!.. Разумеется, Бестужев говорил чистую правду, вот только — всю ли? И, странное дело, Горбачевский, даже он, именно он, совсем не склонявшийся одобрять лицейскую оранжерейную чувствительность, какая ему почудилась в пущинском замечании, не мог не согласиться в душе со своим петербургским тезкой. Поэма?.. Положим, для него-то Чита оказалась скорее уж ученым трактатом либо энциклопедическою статьей, коли уж подыскивать ей сравнения из мира словесности. Как и иные Славяне, он стал усерднейшим посетителем лекций, которые в их Академии — таким высокопарным манером шутя, они знали, что имеют право на громкое имя, — взялись читать доброхоты из образованнейших; сам читал с самодельной кафедры свою любимую алгебру, выучился по-немецки и по-французски. Но действительно было в читинском их заточении нечто важное и значительное, что не поддается материальному исчислению, не исчерпывается прямой практической пользой, что неосязаемо и, пожалуй, неопределимо, однако же — есть, существует, вот оно! Поэма? Да пусть хоть и так. Юношеская? Что ж, отчего бы и нет? Это в Петровском Заводе наступила уже пора отчетливой, трезвой прозы, а тут, как и впрямь бывает в стихах, сочиненных молодым человеком единственно от сознания своей молодости, — говорят, что бывает, сам, слава богу, не сочинял, — все еще не уложено, не отлажено, взбалмошно. И обнадеживающе. То не была лучезарно-бессмысленная, точно улыбка младенца, надежда, без которой никогда не обходится юность, как бы ни были скованы ее веселые силы. Скованы — вот негаданный каламбур, мгновенно вызывающий четкое воспоминание: бывало, заслышишь за казематной дверью звон кандалов, странным образом мелодически преображенный, а там распахнется дверь, и кто-то влетит, выкаблучивая польку или мазурку и самые цепи свои кощунственно обратив в подобие каких-нибудь там цимбал или литавр из полкового оркестра: — Почту привезли, господа!.. И не та обнадеженность, уже осмысленная, обсужденная, многажды многими или, по крайней мере, иными обоснованная, но, увы, все же наивная, — будто царь, образумившись и остыв, непременно их амнистирует и притом в самом скором времени, потому что как же иначе, если столь явно, что их заговор был всего лишь вынужденным плодом скверного положения всероссийских дел, а намерения были такими деловито-разумными? К тому ж России только что сопутствовала удача в турецкой кампании, — самое, дескать, время сменить гнев оскорбленного самодержца милостью великодушпого победителя. Наконец, луч, вдруг появившийся в их беспросветной жизни, не был прежде всего связан даже и с планом побега, немалое время таившимся от глаз начальства, но широко обсуждавшимся среди своих, решавших, куда бы податься, если они сумеют разоружить караул, состоявший всего из пехотной роты да полусотни сибирских казаков. На юг, в Китай, через Маньчжурию и Даурию? На юго-восток, до Амура и по Амуру — в Америку? На запад, к Европейской России? На север, по тундре к Ледовитому морю? Все манило, и все по рассмотрению оказывалось невозможным. То есть все эти причины весьма способствовали поднятию настроения, но были преходящи и, больше того, сменялись горькими разочарованиями. Суть таилась в другом. Открывалась та простая истина, открыть которую есть дело всегда самое непростое, нередко долгое и порою мучительное; обнаруживалось, что ежели нет надежды освободиться по прихоти смягчившегося правительства и нельзя обрести свободу собственными силами, то можно — жить. Что и это — жизнь. Только-то. Жизнь не может состоять из одних утрат, — в таком случае она вовсе даже и не должна именоваться жизнью, являясь всего лишь затянувшимся умиранием. Жизнь, любая, если она только и взаправду жизнь, это чреда плюсов, преобладающих над минусами (помогай, алгебра!), чреда открытий и обретений, каждое из которых обещает впереди очередное, новое, слагает будущее, множит надежду. Они обретали сознание своего братства; это они-то, спорившие и даже ссорившиеся друг с другом в виду революционных планов, которые вот-вот должны были осуществиться, они, не знавшие до суда в лицо многих своих единомышленников, а то и не слыхавшие про них, — их всех незаметно и властно сближало единство дела и цели. Цели недостигнутой и дела проигранного, но, как очевидно открывалось теперь, живых, сбереженных, сохранившихся в них, навсегда неразлучных с ними, — и, значит, все-таки не совсем проигранных. Все-таки осуществленных. Именно это прочное ощущение приходило в Чите, потому что одна статья — стосковавшись друг по другу, да и просто по лицам людей, не караулящих и не карающих тебя, радостно встретиться во время гражданской казни, победив тяжесть этого мига — мига, не долее, — а совсем другое было пройти испытание казематным бытом. …Еще в читинском заключении они замыслили, а в Петровском Заводе создали Большую свою Артель, ибо два пуда плохой муки в месяц и два рубля без двух копеек деньгами, получаемые наравне с уголовными каторжными, их пропитать не могли. Артель заботилась — и прекрасно заботилась — о содержании и пропитании узников, положив на каждого в год по пятисот ассигнациями; она покупала гуртами скот и откармливала его, шила одежду и сапоги, имела цирюльню и аптеку; она провожала на поселение, не оставляя отъезжавших без денег, и помогала рабочим Завода; она была учреждением образцовым; ее Устав мог гордиться, что его тринадцать разделов и сто шесть параграфов все до мельчайших мелочен предусмотрели и оговорили, — и в перегруженной памяти Горбачевского особой, небеглой метой мечены те два года, когда его, Ивана Ивановича, набирали хозяином, как патриархально именовался главный артельный распорядитель: обуза, под которую лестно было подставить плечи. Но Артель ко всему была еще, выражаясь в единожды принятом стиле, практическим продолжением их юношеской поэмы, материализацией самой идеи равенства и независимости. Кому пришло бы на ум стыдливо считаться: я, мол, кругом неимущ, и мне унизительно знать, что в общий котел, из которого я черпаю по необходимости, другие жертвуют щедро дарящей десницей? Не было жертвований и даров. Не было ни благодетелей, ни благодетельствуемых. Они были равны в занятиях ремеслом, различаясь или гордясь разве что титулами признанных мастеров: искуснее всех штопал чулки Трубецкой, первейшим огородником был, конечно, Волконский, хотя сначала многие тщились оспорить его первенство; лучшим токарем — Артамон Муравьев, закройщиком — Оболенский, фуражечниками — Бестужевы. И точно так же немыслимо было вменять в особую заслугу тому же Трубецкому, что он, имея на то возможность и не имея нужды чем-либо пользоваться из Артели — как человек состоятельный и женатый, — ежегодно вносит от двух до трех тысяч в ассигнациях, точно как и Волконский, и Никита Муравьев, и прочие. Благодарить их за это было не только немыслимо — оскорбительно. Еще много раньше, во время следствия, полковнику лейб-гвардии Финляндского полка Михаилу Фотиевичу Митькову родные прислали в крепость узел с бельем и английским фланелевым одеялом, однако едва Митьков узнал от соседей, что очень немногие из них имеют эту скромную роскошь, он завязал узел и отправил обратно. Пользы другим он тем не принес и не ждал от них благодарности, — он сам нуждался в самоотвержении, только всего. А много позже, в Заводе, Сергей Григорьевич Волконский по какому-то, не припомнить, поводу взялся назвать, чего лишился, пойдя в каторгу, — лишился, как он полагал, навсегда. И называл, запинаясь от долготы перечисления. В Нижегородской губернии родового имения полторы тысячи душ… да в Ярославской, кажется, более пятиста… в Таврической благоприобретенного десять тысяч десятин… в Одессе дом двухэтажный каменный… еще и дача близ сего благословенного города… Притом вспоминал отнюдь без плотоядности, совсем не так, как гурман перебирал бы в голодной памяти устрицы и дупелей, которых едал в лучшие времена, и вновь пожирал бы мысленно, истекая подлинною слюной, — напротив, в голосе и глазах угадывалось даже некоторое удивление. Неужели все это было его? И неужели он, пусть в незапамятные лета, думал, что это необходимо для жизни? Тогда Волконский произнес очень запомнившееся: — Как бы ни сложилась судьба, я вот в чем убежден совершенно. Я тайному обществу уж за одно то благодарен, что оно мне дало минуты свободы — то есть счастия. В товариществе я постиг, как сладостно самоотвержение от аристократических начал. Вы понимаете меня? И Горбачевский, в богачах и аристократах уж никак не ходивший, ответил без колебания: — Да. Я вас понимаю. Потому что это он понял давно — в ту еще пору, когда отказался от своих помещичьих прав. И теперь он, нищий с незапамятных времен и потому в этом отношении как бы даже старейший и опытнейший, нежели Сергей Григорьевич, слушал его с полным сочувствием, хотя тот сравнительно с ним и в каторге, всего, казалось, лишенный, оставался еще богачом несметным. Это особенного значения не имело, оба они, и генерал-майор князь Волконский, и подпоручик дворянин Горбачевский, потерял чины и состояния, потеряв без заметного сожаления, в этом оказались равны. Ибо богатством можно мериться, когда им владеешь, им можно даже гордиться — отчего бы и нет? — добросовестно приобретая, но когда теряешь или отдаешь собственной волею, тут свой счет, не на остаток, а на утрату, на готовность отдать, на то, что счету как раз и не подлежит…
«Никогда никого не забуду, — и кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомцах-сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро».
И. И. Горбачевский — И. И. Пущину
ИЗ ТЕТРАДИ Г.Р.КРУЖОВНИКОВА Продолжение
Любимая! Мое первое письмо к Вам я начал — и не дописал. Совсем не только потому, что вдруг прибежали из заводской конторы: управляющему, изволите видеть, срочно понадобился прошлогодний счет, который… Впрочем, эта канцелярская материя скучна не только для Вас, но и для меня самого. Когда я вернулся, ничто не мешало мне вновь сесть к столу и продолжить фразу, оставленную на полуслове. Ничто — кроме горько нахлынувшего: зачем?! Зачем писать, если письма все равно не отправишь? Зачем дразнить свое сердце, когда оно и без того скукожилось в беспросветном одиночестве? Не дописал. А вот теперь — продолжаю. Потому что, пока корябал, видел Вас перед собой, бросив же, затосковал круче и понял: мне совершенно необходимо говорить с Вами, хоть так, видеть Вас, пусть не воочию, не как в былое — подумать только, недавнее! — время, когда Вы в общем крике и споре, случалось, обращали и на меня снисходительное внимание: — Господа! Что это наш Гаврила Романович нынче безмолвствует?.. Будто я когда-нибудь витийствовал. — …Что же вас не слышно, коллега? — Да, Кружовников, — тут же старался кто-нибудь бесстыдно Вам угодить, — видать, ты не в тезку своего удался… Как там у него? «Слух пройдет обо мне…» А Вы — смеялись, хотя, признаться, шутка была совсем не из удачных, мне же надоела донельзя. «И ты туда же», — смиренно думал я, разве что в мыслях позволяя себе это приятельское «тыканье»… Что говорящему нужен слушатель — истина, не мною рожденная, но я-то не соглашусь на кого попало. Мне, чтобы выговориться, нужны Вы. Тем более что тут уж я заставлю Вас слушать и дослушать меня, тут Вы меня не прервете, потрясая, как бывало, кулачком-орешком, и не смутите шуткой насчет моего пышно-нескладного имени. На чем, бишь, я в прошлый раз остановился? На
странности, на
непонятности— для нас, нынешних, или по крайней мере для меня — характера и судьбы Ивана Ивановича Горбачевского. И не его одного. Чем поразительны для меня они — все, в целом? Объяснить не объясню, но хоть чувству дам выплеснуться. Да и пишу я не ученый какой трактат, а письмо — любимой женщине о любимых людях. Они, поднимаясь, никак не могли представить, что именно обретут в конце концов. Кто-то из них признавался: он так твердо был уверен в линейной ясности двух, только двух исходов — «или успеем, или умрем», — что о третьем и не подумал. О том, чтобы продолжать жить побежденным. Поверженным. Их веселая, безоглядная духовная сила проявилась вначале в том, что они готовы были терять: жизнь, богатство, избранное положение в обществе; кто и не был богат, не был знатен, ведь и те были недосягаемо далеки от страдающих низов. И теряли. Если бы не было боязно, сказал бы: с легкостью. Да и скажу — чего бояться? Потому что как скажешь иначе, когда одни из тех, о ком я читал и слышал, говорит сразу после суда, что самые цепи свои несет на себе с гордостью; что счастлив делить судьбу старшего брата, который тоже идет на каторгу; что видит в своем положении — как бы Вы думали, что? — поэзию. А другой замечает со всей степенной серьезностью, что правительство, столь жестоко и безрассудно их наказав, дало им право — право! — смотреть на себя как на очистительные жертвы будущего преобразования России. Вновь прошу Вас заметить: говорит так, будто у него не отняли все, что он имел, а, напротив, все дали. Третий же, услыхав приговор и узнав, что наказан легче прочих соратников, вдруг плачет. От неожиданного облегчения? Нет же! — Что это значит? — спрашивает его удивленный и строгий товарищ. — Мне стыдно и досадно, что приговор мой такой ничтожный и я буду лишен чести разделить с вами ссылку и заточение. Известны слова Рылеева — из услышанных от него на Сенатской площади: — Последние минуты наши близки, но это минуты свободы. Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою. Но те, кого
лишили честиразделить участь казненных, кто уцелел, кто пошел на долгие годы — а обещалось, что навечно, — в Сибирь, ведь и они сумели до самых последних дней дышать внутренней своей свободой. Пусть не все до единого, но многие, большинство, они — как явление и понятие. Им самим не всегда верилось, что такое будет возможно. Открываю книгу одного из декабристских мемуаристов, барона Розена, — она у меня есть стараниями сестры Катерины, Вам известной. Читаю — а Вы послушайте: «Будущность нашу на поселении рисовал он (это Розен о Лунине) самыми мрачными красками, утверждая, что всем нам предстоят только три дороги, кои все поведут к погибели: одни женятся, другие пойдут в монахи, третьи сопьются». В монахи никто не постригся; жениться женились — на местных, притом многие счастливо; не спился… что ж, по сравнению с будущим поколением можно снова сказать: никто, — словом, «все мы», то есть они, не погибли. Не потеряли себя, — а как знать, вдруг да в чем-то и обрели? Я ведь и впрямь не шутки ради помянул огороднический гений Волконского. Конечно, можно и пошутить не без грусти: князь, садящий капусту наподобие древнего императора Цинцинната; можно всерьез опечалиться: тот, кто мог быть государственным мужем, становится всего только земледельцем, — какой общественный убыток! Но, как я сказал уже, есть над чем и призадуматься. Тем более — один ли Волконский? Невероятный Николай Бестужев, которому прочили будущее всероссийской знаменитости в словесности и науках и который, лишенный простора, проявил невероятное же число побочных талантов: он и живописец, и столяр, и слесарь, и часовых и ружейных дел мастер, и изобретатель всего на свете, и прочая, прочая, прочая, несть конца, — притом все умел на том уровне, которого достигает лишь истинный мастер. А философ Петр Борисов, который был принужден обрести себя заново в тончайшем искусстве акварельного художника? А лихой полковой командир Артамон Муравьев, проникающий в тайны тибетской медицины? А… Нет, не перечислить всех, кому пришлось стать кем-то совсем иным, чем они могли и должны были стать, — но ведь стали, выстояли! Это власти стыд и позор, которая не сумела, не захотела использовать на благо страны их дарования, — им же, их стойкости только слава! У того же Рылеева в «Войнаровском», где он многое угадал наперед: и их сибирскую ссылку, и геройскую верность жен, есть сожаление и страдание:
Горит напрасно пламень пылкий,
Я не могу полезным быть:
Средь дальней и позорной ссылки
Мне суждено в тоске изныть.
Вот чего, однако, не предсказал и пророк Рылеев: они-таки стали
полезными, победив судьбу и свой приговор. Ремесла — это далеко не все, я о них и речь-то завел больше для сугубой наглядности, — а школы, библиотеки, а всякие прочие способы просвещения, неоценимые и, к несчастью, неоцененные? Они и вправду по-робинзоновски обживали и облагораживали — уже одним своим стойким примером — этот весьма обитаемый, но еще дикий остров. Отчего с такой нежной гордостью поминают здесь моего Ивана Ивановича? Я выведывал и прикидывал, — да, следы им оставлены самые вещественные. Манифест о крестьянской воле он ждал с недоверием и недоверчиво встретил. Правда, узнав о нем, не удержался, расплакался: «Тридцать лет с лишком надеюсь!», но все было не по нем, реформа казалась медлительной, полуобманной, и когда доходили известия, что бывшие ссыльные Свистунов, Розен, Кривцов, Назимов, Михаил Пущин взялись в далекой России за мировое посредничество и согласились — как там говорилось в царевом указе? — «быть примирителями и судьями интересов двух сословий», он с искренней сумрачностью не понимал, как возможно примирить исконно непримиримых. — В рай, судари мои, силою гнать не годится, — говаривал он раздраженно. — Поведешь туда, а кнут свою дорогу укажет, как раз в ад… Он сам когда-то отказался от помещичьих прав и до смерти своей полагал, быть может, наивно, что стоит сказать мужикам: «идите куда угодно», как все образуется, — впрочем, замечу, что совсем не наивна была убежденность, что крестьянскую судьбу нельзя решать, не спросившись у тех, за кого решают. Однако это раздражение оказалось все-таки пересилено. В Европейской России дела шли, по скептическому суждению Ивана Ивановича, не так, как должно, — когда же он видел, что делается или, точнее, чего не делается в его Заводе, тут было не до ворчливого скепсиса. Рискую совсем Вам наскучить, но раз уж я здесь пребываю в роли словно бы местного архивариуса, вот Вам доступная мне цифирь, — прикиньте, насколько же не суха была она для Горбачевского. Уже в марте 1861 года, прямиком за манифестом, касающимся крепостных крестьян, вспомнили о Сибири: был подписан указ об освобождении горнозаводского люда из его крепостного состояния, от обязательных работ. Прекрасно! А на деле — надувательски медленно. Нет, и медленно, и надувательски. В том же 1861-м освободили лишь тех мастеровых, что пробыли — и пробыли безупречно! — в своей неволе больше двух десятков лет. Таких в Заводе оказалось, по прихотливому представлению начальства, всего 41 человек. Только. На следующий год пощедрели: отпустили прослуживших больше пятнадцати лет (их уже с семьями набралось числом 807), да 45 мальчиков, детей ссыльнокаторжных, также тащивших взрослую лямку. Год 1863-й: наконец отпущены все рабочие. Мужского полу набралось их 254. Неторопливо, а главное, толку-то? В таком удалении от метрополии, производящей законы, кабала меняет свое наименование, но кабалой остается — да с розгами, с мордобоем, не говоря уж об экономических притеснениях. И вот Вам то, что по совести уже не могло не явиться, — письмо в нашу контору, там мною найденное и, разумеется, списанное:
«Господин Военный губернатор Забайкальской области от 8 января 1865 г. за № 50, вследствие полученного им предложения господина генерал-губернатора Восточной Сибири, назначил меня к исправлению должности мирового посредника Петровского горного округа, в которую я и вступил с настоящего числа сего января месяца, о чем честь имею уведомить Петровскую горную контору.
Исправляющий должность мирового посредника >Иван Горбачевский».
Значит, не удержал при себе зачесавшихся рук, хоть и знал, что они заранее повязаны. Стесненный, он сделал немало (если Вам покажется, что немного, ну-ка переведите наш захолустный Завод хотя бы во всесибирский масштаб). Учредил общественную библиотеку. Школа возникла при его решительном соучастии и руководстве. Даже с торговлей пытались управиться — и управились, открыв потребительское общество и при нем необходимейшую для бедняков мясную лавку на паях, торговавшую в два, а то в три раза дешевле, чем перекупщики. Ну, тут, впрочем, хозяйственные дарования Ивана Ивановича, слишком известные по его собственному разорению, дела бы не выручили, да был, слава богу, его же, Горбачевского, выученик, кузнец из ссыльных Афанасий Першин, личность, судя по тому, что я слышал, оригинальная. Иван Иванович начал с того, что обучил кузнеца грамоте, а потом они вместе читали и «Колокол», и «Полярную звезду», и тем более «Современник», — откуда, между прочим, и позаимствовали идею своего потребительского товарищества. Першин выбран был волостным старшиной, чему весьма способствовал Горбачевский, и известно ли Вам, что он устроил в Заводе не что иное, как забастовку, когда подговоренные им рабочие по гудку на два часа бросили работу, добиваясь — и, вообразите, добившись — облегчения? Вот Вам, кстати, среди множества бедственных последствий нашего удаления от столиц хотя бы одно, да все-таки преимущество. Здесь беспредельнее и сам начальственный гнет, и, случается, противостояние ему. Утешение, конечно, невеликое, ибо последствия бедственные преобладали и побеждали. Лавка, увы, проторговалась от чрезмерных усилий продавать честно и дешево. Школа не удержалась дольше семи лет. Библиотеку после смерти Ивана Ивановича разворовали. И все-таки, поверьте мне, я грущу — и не грущу. То, что обычно кажется нематериальным и легко преходящим, порою тверже и постояннее многих вещественных дел. Я вижу, как светлеют лица даже ожесточившихся людей, когда они рассказывают мне о Горбачевском, — и в этом для меня источник надежды. Когда вспоминают: «
При нем не смели лгать», я думаю: пока не забылся этот молчаливый запрет, ложь в их душах еще не совсем победоносна. А если б им рук не вязали? Если бы царь позволил им развернуться — повторю — в масштабах Сибири, не говоря обо всем государстве? Куда там! Не только что народного просвещения, к которому власти, даже дозволяя его, должны относиться опасливо, — от них и никакой пользы не хотели, даже такой, что самим властям была практически выгодна. Вот — чуть было не написал: забавный случай, — но нет, тут не позабавишься. Генерал-губернатор Муравьев-Амурский, прознав, что Николай Бестужев изобрел ружейный замок невиданной простоты, как говорили, державшийся всего на одном шурупе или на чем-то в этом роде, — в этом я, понимаете сами, профан совершеннейший — уломал его сделать образчик для представления великому князю Константину Николаевичу. Сделал. Представили. И — как в воду. А солдатики небось и по сей день маются, собирая и разбирая замки, хитроумные и многосложные. Совсем не уверен, что Вы прочитали некий «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», — «Русь» не из тех журналов, которые чтутся или хотя бы читаются в Вашем (а прежде — нашем) кругу. Да и ко мне позапрошлогодняя журнальная книжка попала чистым случаем, хотя я в петровском своем уединении до чтения стал неразборчиво жаден. Тем не менее — рад, что попала, ибо наводит на мысли не больно веселые, однако — на мысли, и вот что (послушайте-ка) происходит под занавес этой печальной комедии или «цеховой легенды», как надумал окрестить свое сочинение автор, — может быть, и не сочинил, а записал где-то? Персонаж этой легенды, косой умелец Левша, побывавший в туманном Альбионе, вывез оттуда урок, полезный для отечества: ни в коем разе не чистить, как у нас это водится, ружейных стволов толченым кирпичом. И умирая в полиции и от полицейского же усердия, заповедал непременно довести важную весть до государя-императора. Догадываетесь, чем это кончилось? «Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены… А доведи они Левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был». Так-то, — а мы еще будучи непримиримыми реалистами, брюзжим на литераторов, что много, дескать, выдумывают. Какое! Где уж нашей словесности тягаться c ежедневными нашими буднями? Ведь в бестужевском случае довели-таки — не до царя, так хоть до великого князя, — толку-то что?.. Возвращаюсь, однако, на круги своя. Вот что мне подумалось. То, что
онивышли на Сенатскую площадь, то, что подняли Черниговский полк, что замыслили устранить деспота, — решения, разумеется, жертвенные. Героические. Это прекрасно — но и понятно, странного тут ничего нету. Героизм — это, может быть, прежде всего способность человека оставаться самим собою там, где это, кажется, просто невозможно. Быть естественным в условиях противоестественных, будь это — все равно — пожар, наводнение, война или существование без вольного воздуха при деспотизме. Они, декабристы, и были героями истинными — в разные часы своей жизни являя свой героизм по-разному. Они оставались собой, теми, какими были рождены и воспитаны, выходя на Сенатскую и сговариваясь о цареубийстве. В который раз говорю: это понятно, это не странно, потому что за этим и давний опыт дворянской фронды, и офицерское доблестное умение презирать смертельную опасность в бою или на дуэли, и в конце-то концов даже отечественная традиция расправляться с неугодившим монархом, подававшая им пример и надежду. То есть тут сама история их сословия приходила на помощь. Но вот то, что и пойдя в Сибирь, в норы, в дыры, и застрявши там на долгие годы, они не опустились, — разве что опростились, обжились средь народа, что само по себе заставляет снять перед ними шляпу или картуз, и для чего тоже нужна была особая сила души, нужна та самая легкость, с какою они расставались со знатностью и богатством, да хоть и просто с дворянским званием и каким-никаким достатком, но только легкость, теперь уж испытываемая долго, жестоко и страшно… ох, и завернул же я бесконечно-невылазный период… словом, то, что в Сибири они не пропали духовно, вновь оставшись собою, и только собою, вот этому история дедов и прадедов их научить не могла. Горбачевскому в двадцать пятом году и было от роду двадцать пять, сколько столетию; столько же исполнялось или исполнилось многим из них, — да, впрочем, и те, кому, как Волконскому, было больше, даже они с малыми исключениями угадали сложиться, сформироваться духовно как раз между 1812-м и 1825-м, в удивительный и краткий миг истории российского дворянства. Тогда, когда оно
ужепрониклось духом свободы и независимости, обнадеженное и «прекрасным началом» Александровых дней, и идеями, принесенными из Франции, и сознанием победителей самого Наполеона. И тогда, когда
ещене получило ужасного удара oт Николая, разгромившего их, а с ними и их воспылавшие иллюзии. Миг истории, написал я. Нет. Неверно. Для истории мигом могут быть — и исчезнуть единым мигом — тягучие десятилетия, для людей, которые в них завязли, продолжающиеся бессчетно. И всего несколько лет способны как бы сами стать ею, историей. Памятны ли Вам герценовские слова из его книги с развитии революционных идей в России, которую — припоминаете? — я же когда-то и вручил Вам на секретный предмет прочтения? Если нет, повторю с охотой. После 1812 года, писал Герцен, в русском обществе стали все чаще проявляться чувства рыцарские, те, что до сих пор не были ведомы нашей аристократии, по происхождению плебейской и возносившейся над народом только милостью царей. За холопскую то есть выслугу. За рабские добродетели. Уж никак не за рыцарское достоинство, которое неотделимо от независимости самой что ни на есть реальной, когда феодал может тягаться с монархом — по-европейски — в могуществе. Николай как раз и уничтожил это воспрянувшее достоинство, установив власть бюрократии. Я за многое его ненавижу. За это — тоже. Очень. Век восемнадцатый был веком выскочек, и впрямь выскакивавших, как чертики из табакерок, с пружинной силой и ошеломляющей неожиданностью: у нас — «птенцы гнезда Петрова», да и иные из «Екатерининых орлов» (и ей отдадим должное); в Европе — дети часовщиков, ставшие создателями «Женитьбы Фигаро» и «Общественного договора» (так и слышу: тик-так, тик-так, трак-такт!), сын нотариуса Вольтер и ножовщика — Дидро, Даламбер-подкидыш, взращенный вдовой стекольщика, мелкопоместный дворянишка из корсиканского городишки Аяччо, скакнувший в императоры. Там были выскочки. Здесь появились выползки. Взгляните, как раскладывает по полочкам плоды тридцатилетнего Николаева царствования тот же Андрей Розен, немец, аккуратист, — и полки дымятся и обугливаются, в самой обстоятельной холодноватости какая пылкая горечь оскорбленных надежд… Но не буду мешать Андрею Евгеньевичу:
«Исследования о тайных обществах, заговорах, восстаниях раскрыли все состояние государства повсеместно, во всех видах, и гораздо подробнее, нежели как это было возможно дознать государю и министрам его — иными средствами. Правительство не воспользовалось этими указаниями, а только еще сильнее стало питать подозрение к тайным обществам и ненависть к либерализму до такой степени, что шалости школьного юношества, непринужденная беседа молодежи беспрестанно страшили его видениями заговоров и отвлекали внимание от дел важнейших…»
Все-таки — не утерплю, высунусь со своим словечком. Видения, принимаемые за материальность, — и, конечно, караемые тоже весьма осязаемо — могут стать действительностью и становятся ею. Это закон не физики, но истории и политики. Преследование за слово оборачивается ответным делом, и когда теперь даже ненавидящие правительство с осуждением и печалью говорят о напрасности революционного желябовского террора, я, соглашаясь с этим (да, да!), спрашиваю: а кто его породил? Кто окончательно врыл столбы того холодного здания, в котором недовольным нечего и думать, чтобы договориться с теми, кто всем доволен? Когда судят Шелябова и других, а во время суда философ Соловьев на публичной лекции призывает «простить безоружных», когда писатель Лев Толстой вразумляет царя, что революционерам надобно противопоставить тот идеал, из которого они же исходят, не понимая его и кощунствуя над ним, то есть идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло, — как, скажите, можно надеяться, что эти слова достучатся до сердца, к которому обращены, после
свершившегося цареубийства? Хорошо, кабы достучались, да… В том-то и дело, что Александру III трудно простить убивших его отца, — если угодно, по-человечески трудно; а если бы да кабы когда-то простил своих врагов Николай, их, покушавшихся только словом? Если бы не впился, точно клещ в ухо, в это их намерение, прежде всего в него, чуть ли не в него в одно? Если бы, задарив на допросах изъявлениями понимания и посулами, не отказался от мысли хоть в чем-то признать обоснованность их недовольства? Что — тогда? Но я позабыл о Розене; прошу прощения, почтенный Андрей Евгеньевич:
«Цензура была строжайшая; иностранные книги по точным наукам были дозволены; но сочинения по части политики, философии, религии, истории, политической экономии, правоведения допускаемы были с величайшею разборчивостью. В университетах закрыли кафедры философии и вместо нее преподавали психологию и логику. Иностранцам запрещено было преподавать науки в России; русским юношам запрещено было учиться в иностранных университетах; своих преподавателей русских было очень мало; где же было образоваться и научиться? Разве в кадетских корпусах!
Зато войска имели с лишком миллион, да какая выправка солдат! какая выездка коней! Учения и движения приводили зрителя в удивление, по точности и быстроте, по знанию воинского устава. Чрез несколько лет миллионное войско было увеличено сотнями тысяч бессрочно отпускных солдат и кантонистов. Такое войско действительно наводило страх на весь мир. Тридцатилетие началось войною и кончилось войною».
Проигранной самым постыдным образом. Когда Николай скончался, темные слухи, что он — будто бы — ушел по своей воле, не стерпев сознания своего поражения и даже чуть было не вины перед Россией, которую никуда не вел и привел в никуда, эти слухи добрели и до Петровского Завода. Здешний мой приятель Харлампий Алексеев, хорошо знавший Горбачевского, говорит, что Иван Иванович озадачился и в первые часы был словно бы тронут. — Странная смерть… Очень странная… Несмотря ни на что… Такие осколки застряли в памяти Алексеева, и их достаточно, чтобы понять озадаченность и над нею задуматься. Да подобное вроде бы уже и бывало? «Простим ему неправое гоненье» — это Пушкин в минуту душевной щедрости отпускает обиду — кому? Самому обидчику своему, гонителю царю Александру. А тут поговаривают, что, мол, смерть есть как бы покаяние и искупление, — так не простить ли и младшего братца? Горбачевский — все-таки не прощает. «
Несмотря ни на что» — эта оговорка дорого стоит, тяжело тянет, как камень на шее. Это — не позабытое, не отпущенное тому, кого они, декабристы, между собой и называли с ядовитостью — Незабвенный. Тут со стороны Ивана Ивановича, думаю я, другое: желание исконно добросовестного человека быть и к главнейшему из врагов справедливым. Холопы не взвешивают на весах добро и зло, вину и васлугу; они обожают и проклинают вкупе, чохом, «без тонкостев». Понимаю Горбачевского, уважаю его намерение, — асогласиться все-таки не могу. Если даже и в самом деле — чему не верю — Николай решился покончить с собой, то это бегство с поста. Политик не смеет отчаиваться, государь, как полководец, не имеет права дезертировать. Солдат-дезертир достоин презрения. Царь-дезертир — миллионнократно. Заговорил я Вас? Но — потерпите. Еще недолго. Итак, вот он, Горбачевский: непостижимый сидень, странный лежачий камень, упрямством своим удивлявший, а то и раздражавший людей, которые его любили и полагали, что понимают. Когда, отбыв каторгу, он сказал, что остается
здесь, это еще всем казалось — и им самим объяснялось — сравнительно просто. Звавшим его к себе на дружеское сожительство он отвечал чуть ли не с превосходством человека, который, шалишь, свою выгоду понимает. Если тянули в Читу, возражал, что Петровский Завод по сравнению с сей дырой столица. Если приглашали в деревню, хлебопашествовать, он брал еще выше тоном и восклицал, что это было бы не меньшей глупостью, чем променять Санкт-Петербург на Акатуй. А братьям Бестужевым, любившим его, сам пенял, что они не иначе как сдуру избрали для жительства место бесплодное и безлюдное, пески Ливийские, — так аттестовал он Селенгинск, где зима бесснежна, весна засушлива, лето изнурительно, где ветер наносит песчаные сугробы, — и вправду ни дать ни взять африканская пустыня. Но годы шли, разумные доводы вызывали все больше сомнений в их практической объяснимости, и непонятность росла. Она стала всеочевидна, когда… но не хочу миновать документа, копию которого отыскал во вверенном мне заводском архиве.
«Забайкальское
Областное
Управление
—
25 октября 1856 г.
№ 430
—
Чита
Господину Управляющему Петровским Горным Округом.
Всемилостивейшим Его Императорского Величества Манифестом, изданным в 26 день августа н. г. по случаю коронования Их Величеств и особо Высочайшим Указом, данным в этот же день Правительствующему Сенату, дозволено находящемуся в Петровском Заводе Государственному преступнику Ив. Горбачевскому возвратиться на родину с воспрещением, впрочем, въезда в С.-Петербург и Москву, при чем возвращено ему и дворянское достоинство…»
Вот оно: «и братья меч вам отдадут». Только не братья, стало быть, и свобода принимала его не так, как в надеждах мерещилось Пушкину.
«…Уведомляя об этом, честь имею покорнейше просить объявить об этом Господину Горбачевскому и истребовать от него лист гербовой бумаги 90 копеек серебряного достоинства…»
Опять! Дался же им этот рубль без гривенника!.. Впрочем, виноват: возглас мой будет Вам непонятен, да и бог с ним.
«…на написание ему свидетельства о возвращении ему дворянского достоинства.
Исправляющий должность Военного Коменданта
Полковник Корсаков».
Добавлю, что через несколько лет племянники-санкт-петербуржцы добились и большего — выхлопотали у царя разрешение дядюшке жить в столице. У них уже взяли подписку о поручительстве, за новоиспеченным — нет, так и недопеченным — жителем Петербурга уже загодя был учрежден надзор, словом, дело ставилось правительством на солидную полицейскую ногу, и… И ничего. Товарищи подавались в Россию, кто сразу, кто погодя. Он все сидел. Множу треклятый вопрос: почему? Говорили, что ехать ему некуда и не на что. Что до «некуда», об этом я уже сказал, а что будто бы не на что… Так ведь те самые племянники из Петербурга, сыновья сестры Анны Ивановны, в супружестве Квист, были — один инженер-полковником и адъюнкт-профессором Николаевской академии, другой — подполковником и командиром Санкт-Петербургской инженерной команды, третий — действительным статским советником: последнего куска Иван Иванович у них никак бы не отобрал. Вот то, что, может быть, гордому человеку, привыкшему, напротив, других оделять из тощего кармана и от широкой души, и родственный, радушный кусок горчил, это уже иная статья. И она ближе к тому, к чему я полегонечку и подкрадываюсь. Разумеется, Вы, как всякая женщина, заподозрите тут привязанность сердечную, — что ж, женская чуткость вас не обманула. Да. И — нет. Нет — и все-таки да. Иван Иванович доживал и дожил век холостым, но не сказать чтобы совсем одиноким. Много, больше двадцати, лет рядом жила и любила его Ирина Матвеевна, Ириньюшка, домовитая красавица родом из
семейских, как именуют сами себя раскольники, переселенные из России
семьями. И дети были, Александра и Александр; уж не знаю, почему родители надумали окрестить их так единообразно, — скорее всего, подсказали святцы. Детей Горбачевский любил, особенно, по известной отцовской привычке, сына: вечно нянчился с ним, таскал на плечах, учил рисованию, французскому языку, игре на фортепиано, потом и ремеслам, кузнечному и токарному, — к несчастью, произошло то, что происходит часто с детьми, предпочтительно обожаемыми. Александр пробовал то и се, пошел было по торговой части, потом убежал на прииски; обнадежив отца и мать, женился на девушке из почтенного дома, но все не впрок: избаловался, спился, пропал. Так, значит, вот что удерживало и удержало Ивана Ивановича в Заводе — дети, невенчанная жена? Снова мысленно и виновато разведу руками: да… и нет. Не знаю. Удерживало — без сомнения, ибо если даже у Горбачевского к Ириньюшке и не было истинной страсти (а поразведав и поразмыслив, заключаю: увы, не было), то был долг порядочного человека. Но могло ли удержать, если бы тяга
тудабыла намного сильнее тяжести, удерживающей
здесь? Женился же Оболенский на простолюдинке, няньке из дома Пущина, увез в Россию, где она из вольноотпущенной стала княгиней, — отчего бы и про Горбачевского нечто подобное не намечтать? Как бы то ни было, все это помаленьку, по-своему отвечает на наш незакрытый вопрос: почему? Почему не уехал? Почему остался? Но, отвечая, никак не ответит. И недаром же Иван Иванович Пущин, лучше многих знавший Ивана Ивановича Горбачевского, понять его отказывался решительно. Сам Горбачевский, рассказывая об этом, как-то разволновался; передаю со слов все того же самого Алексеева, который клянется, что помнит твердо, — даже записывал по горячему следу, и хотя бумагу потом потерял, запись крепче врезала в его память эти слова: — Он (понимай: Пущин) еще в сороковых годах писал к Завалишину обо мне: что за охота или неволя ему оставаться сторожем нашей тюрьмы? Мне Дмитрий Иринархович тогда же передал… Заметьте: сторож своей… но нет, я оговорился. Что очень и очень важно,
нашей, общей тюрьмы. Снова странное, недоуменное сочетание слов, будто произнесший их непроизвольно пожал плечами, — и снова в странности этой есть обещание разгадки: не только частной, но общей, касающейся не одного Горбачевского, а их всех. Однако дальше: — Вольно было Пущину так говорить, — он-то, кажется, зная меня, мог понять. Характер мой такой, что мало думаю о себе. Всегда я воображал, что живу на месте только временно; всегда у меня мысли и чувства были обращены не на заботы о себе и приобретение на будущее, а на другое дело, давно прошедшее; всегда я жалел о проигранном и этого никогда не мог забыть. Ничто не могло бы меня заставить забыть, о чем я прежде помышлял, что намеревался сделать и за что пожертвовал собою… Вот — наконец-то ответ приоткрылся. Еще в Петербурге мне передавали чью-то шутку, пущенную с сочувственной, но и надменной снисходительностью: декабристы, дескать, увековечились и окостенели в своем 14 декабря. Для них даже много лет спустя так и не настало 15-е. Прямо про Горбачевского! И, что бы там ни замышлял остроумец, это едва не самое лучшее и похвальное, что про Ивана Ивановича можно сказать. Он остался
век верен(вспоминаете?) тому, в верности чему поклялся единожды. Остался пожизненным декабристом. Даже… как бы это сказать половчее?.. ну да ладно, скажу, как скажется, стал им в еще большей степени, чем был до 14-го и в пору 14-го. У Горбачевского, не в пример его многим товарищам по делу и по несчастью, в прежней жизни, до того, как он вступил в тайное общество, не произошло ничего такого, что наполнило бы ее той значительностью и тем смыслом, каких, как видно, всегда ждала и хотела его взыскующая душа. Даже сильной любви, кажется, не было — не повстречалась, не повезло. За годы неволи он
рос, вырастая и внутренне и, так сказать, внешне, в глазах других. Из не самого заметного участника восстания, вернее сказать, полуучастника, — ибо, готовя восстание и готовясь к нему, в решающий момент он волей досаднейших обстоятельств оказался отрезан от тех, кто мог и сумел восстать, — он в конце концов стал человеком, ум и совесть которого привлекали к нему уважительнейшее внимание, на кого ссылались и в кого верили. Одна немолодая, милая дама, знавшая Горбачевского и, как водится, тоже не бывшая свободной от любопытства, отчего он навек остался в Заводе, сообщила мне его ответ, — разумеется, так, как он ей запомнился и как мог запомниться: — Лучше быть первым в деревне, чем в столице последним! Дама и услыхала по-дамски: так Иван Иванович сказать не мог, — утверждаю с полной самоуверенностью, хотя я, в отличие от нее, его не застал и не видел. Слишком громко, хвастливо, не по его, не по-горбачевски, но если этот кокетливый перевод его истинных слов перевести обратно, можно услышать нечто, напоминающее истину. Да, он в самом деле стал одним из первых, не обдумывая этого, не лелея честолюбивых планов. Просто — стал, осуществился, взошел на высоту своего назначения. Не богатство биографии, которая предшествовала аресту, суду и каторжной ссылке; не блестящее воспитание; не воздействие мощных умов, оказавшихся с детства рядом; не успевшийуже закалить юную душу опыт деятельности — ничто из того, что было у Волконского, у Трубецкого, у Оболенского, у Никиты Муравьева, еще у многих и что является личной удачей, принадлежностью частной судьбы, то есть в той или иной степени случаем, не способствовало Горбачевскому стать тем, чем он стал. И оттого его странный, его непонятный, по крайней мере, не всеми понятый пример с особенной, обнаженной ясностью говорит о том, что было свойственно им всем, вообще. О существе их великого подвига, который лишь начался перед 14 декабря, 14-го продолжился, не больше того, и еще долго, долго, долго длился, будучи — без особых даже на то претензий — невыносимо дерзким, оскорбительно непреклонным, нескончаемо революционным вызовом тем, кто вживался в Николаев порядок, принимая его условия. Знаете ли, к чему еще подталкивает меня расходившееся воображение? Еще к одному вопросу: а что, если б судьба повернулась не так? Что, если бы подпоручик 8-й артиллерийской бригады Иван Горбачевский — великим чудом — оказался не изобличен властями как заговорщик и цареубийца? Или если бы — также чудом, никак не меньшим, — Следственный комитет порешил бы его простить? Предположение безумное, но в безумстве своем имеющее логику, как говаривал, коли не ошибаюсь, шекспировский Полоний. Потому что, зная финал, жаль предполагать, что его, финала, могло и не быть. Не могу, конечно, сказать, чтобы Горбачевский был сознательно благодарен такой судьбе, — для подобной самомучительной радости он был слишком естествен и ясен. Но эта судьба стала его судьбой, и он имел в себе спокойную силу ее — даже ее — обратить на построение своей личности, а не на разрушение ее. Находить в страдании удовольствие есть занятие противоестественное и даже — духовно корыстное. Будучи обречен на страдание, но уверяя себя и других, что так оно лучше, что так хорошо и даже прекрасно, человек обычно тем самым готовится предъявить миру счет: «Видишь, я пострадал, я стражду, — так возмести!» Но это все равно что — свершая нечто для блага народа — заранее высматривать пьедестал и сочинять для него достойную тебя надпись. Человек выбирает, как ему жить или как принимать то, что выбрала за него судьба, и для себя самого тоже, — это нужно жестко напоминать себе, чтобы стать и остаться собою… но нет, как видим, возможно и нечто иное, высшее: надо, несмотря ни на что, упрямо оставаться собою как раз затем, чтобы стать, воплотиться, осуществиться в степени, на которую сам ты не рассчитывал. А теперь я уже зафилософствовался, не так ли? Что ж, вот — уже совсем на прощание; напоследок, — еще одна из загадок, загаданных Горбачевским. Здесь запомнили его фразу: — Я-то не из больших Иванов, но Петровский Завод — мой Иван Великий. Запомнили, не поняв, — может быть, потому и запомнили: удивление помогло. Не понял и Ваш покорный слуга. Вернее, долго но понимал, пока в руки мне не попала старая-престарая книга, изданная тому почти семьдесят лет и носящая бесконечное, по обычаю тех легендарных времен, заглавие. Именно: «Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии». Не устали? А мне почему-то до трогательности милы эти старинные титулы, которые, начавшись, никак не могут решиться на то, чтобы кончиться и, стало быть, хоть о чем-то не оповестить любезного читателя, — может быть, потому милы, что на них отпечаток неторопливой жизни, тепло общения, не спешащего ограничиться деловой, голой сутью, изначальное понимание, что человеку потребно не только необходимое, ему нужно и что-то сверх, лишнее… Говоря уже не по-старинному, а по-нынешнему, то есть короче, полузабытый — нами, во всяком случае, — автор, Федор Глинка, кстати сказать, причастный к замыслам декабристов и за то поплатившийся, не без символического умысла описывает свое восхождение на колокольню Ивана Великого, что в Московском Кремле:
«Смотрите, люди движутся, шевелятся, бродят, как муравьи. Какое смятение, какая суета — это волнение
воплощенных страстей!Кто стоит на Иване Великом, тот преыше их. Вот выгода быть на высоте. Как малы кажутся нам сверху все эти толпящиеся внизу люди! Точно восковые куклы! Можно ли завидовать кому из них и желать быть на его месте? Кажется, нет. Но там внизу есть графы и князья, богачи и вельможи, — разве знатность, богатство и блеск их титулов не поражают нас? — Нимало: я смотрю с Ивана Великого и ничего не вижу под собою, кроме шумной толпы, составленной из конных и пеших карликов! Всходите чаще на Ивана Великого, то есть приучите дух ваш возноситься превыше предрассудков и великолепия, и тогда гордость и страсти всегда оставаться будут у ног ваших…»
Прелестно? Погодите, будет еще лучше:
«Вступая в чертоги сильного временщика, скажите тотчас воображению своему. «На Ивана Великого!» Тогда, обозрев его не снизу, а с высоты, вы можете говорить с ним, как Гуливер с царем Лилипута…»
Гордыня? Нет, — особенно если иметь в виду Ивана Ивановича. Спокойное, твердое, ясное понимание того, что постоянно и что преходяще, что истинно и что ложно, что стоит памяти, что забвения, — в этом ему пособником был его собственный Иван Великий, не устремляющийся ввысь, в московское небо, а протянутый вдоль и вдаль, по российской земле, по сибирской, на семь тысяч верст вперед. И уходящий на сорок с лишком лет назад, от его последнего рубежа, от 1869 года, в год трагический и заветный, в 1825-й… Вот и все. Не все, что я думаю о Горбачевском, далеко не все, что хотел бы сказать Вам, — все, что сумело вместиться в это письмо, которого Вы не прочтете.
БЕССОННИЦА 1869 года. Января 6 дня
«Ты скажешь, зачем я сержусь? Я знаю, что ты всегда молишь бога и за своих врагов, но это мне не мешает высказать тебе мои чувства».
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
— А знаешь, Иван, кто был истым предтечей нашей Большой Артели? Да, длинен-таки оказался тот день, когда они с Мишелем Бестужевым в последний раз навестили собственную тюрьму. Куда длиннее себя самого. — Нy? He догадался, об ком я? Горбачевский не торопился откликнуться: он видел, что шутка уже на устах Мишеля и, чтоб с них спорхнуть, в его помощи не нуждается. — Петропавловский наш плац-майор. Помнишь подлеца? Как не помнить? Не будь у незабвенного Егора Михайловича Подушкина… Незабвенного? Нет. Оставим этот титул наиглавнейшему из тех, кому ничего не следует забывать, императору Николаю, а мелюзгу Подушкина окрестим, пожалуй, хоть незабываемым… Итак, не будь у незабываемого плац-майора никаких душевных достопримечательностей, один вид его не мог бы стереться из памяти, а запах — из нее выветриться: толстый, плешивый,
корпузый с остригом, как сказали бы здесь, в Заводе, краснорожий, что, как и вечное водочное амбре, всенародно оповещало о тайном пристрастии Подушкина, да еще с провалившимся носом — монстр! Бог шельму метит, так или иначе, — пометил же он невзначай шлиссельбургского плута-коменданта фамилией Плуталов, — вот и Егор Михайлович, столь обильно меченный, шельмовал соответственно широко. «Батенька… Повремените, потише-с…» Скользкий и ускользающий, Подушкин то лебезил перед ними, причитая, что вот-де и сам Алексей Петрович Ермолов при императоре Павле сиживал под его присмотром, а ныне уж и не кланяется, загордившись, — так что, глядишь, господа, и с вами, с нынешними, то же будет. То, ободренный суровостью следствия, почитал декабристов пропащими и уж тогда вовсе переставал стесняться: помимо доброхотных даяний, перепадавших ему от узников, надеющихся получить весточку с воли или чуточное послабление в тюремном режиме, к его потным рукам липли вещи, каковых дарить ему никто отнюдь не намеревался, — часы, перстни, портсигары. Воровство для него было более чем расчетливая потребность обогащения, а страсть, стихия, — и немудрено, что девятый вал алчности в конце концов захлестнул его, потерявшего всякую осторожность. Он лишился должности, когда открылась огромная взятка, полученная им у арестанта из новых, который был привлечен по делу о восстании в Польше, — Подушкин согласился рискнуть за семьдесят тысяч и передал от него поляку-соучастнику письмо… — Помнишь грешневую размазню? — О! А в ней масло — как будто черт сплюнул: зеленое, тухлое, горькое! — А
штииз капусты, мерзлой или гнилой? — Смех и кручение головою. — Нет, Иван, сей муж дал нам примерный урок стоицизма и равенства. Ему предписано было — что? Всех содержать разно. На генералов приходилось в сутки… не припомнишь, сколько именно? — Откуда? Я, как тебе известно, до генеральских эполет дослужиться не успел. — Ну так у меня, стало быть, память покрепче. По пяти рублей на душу, вот сколько. На штаб-офицеров — по три. На обер-, каковы и мы с тобой были… — Рубль с полтиною! — Точно так! А Подушкин? Он всех уравнял, всех оставил голодными, — чем не республиканская душа? Недаром его Незабвенный не пощадил, якобинца эдакого! — Ты, Мишель, веселишься, а мне и в самом деле удивительно, что царь не простил ему такой малости, как мздоимство. И Шервуда засадил в Шлиссельбург точно так, как тех, на кого тот донес, — не пожалел, даром что Верный! — Что ж, и у любимого слуги — даже у шпиона любимого! — должен быть свой предел, за который ни-ни; иначе что ж за власть, ежели она низшим позволяет не меньше, чем высшим? Ну, а Подушкина и вовсе — разве же за воровство наказали? За взятку? — За что же? — За честность, разумеется! — Ну… Привык я к тебе, а все-таки… Нет, Мишель, ты уж без всякого смысла зашутился! — Ничуть не бывало! Рассуди сам. Его наказали за то, что, взявши взятку, он за нее расплатился, честь по чести. Просьбу-то он исполнил. Письмо — передал. А то, что мошенник, это не порок, а пожалуй, что и надежнейшая из добродетелей. Занят воровством, так в крамолу не подастся. Некогда. Помнишь, кто-то из наших рассказывал: когда его только привезли в крепость, он там увидал коменданта, одноногого Сукина, а перед ним навытяжку — степенного господина с Анной на шее. Сукин тому: «Как? И ты здесь по тому же делу с этими господами?» — «Нет, ваше превосходительство, — отвечает тот мало что не с гордостью, — я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов». У коменданта гора с плеч: «Ну слава богу, любезный племянник!» Вот как — притом что сам-то Сукин, говорят, не брал и воров не жаловал… Да будь я царь, я бы этого господина не то что простил, а еще и Владимира к Анне навесил, — на, носи, пусть видят, что ты всего только вор, а не бунтовщик!.. Отшутившись, заговорили с грустью. Отчего и впрямь самовластие с такой неотвратимостью предпочитает — не по прямому, быть может, расчету, а нюхом, брюхом, чующим выгоду нутром, — грязных слуг, словно именно грязь и делает их отменно верными? И сколько же стоит это России, разворованной и распроданной! Как это воздействует пагубно на нестойкую человеческую породу! Да и почему ж не по расчету? Нет, и расчет есть, вполне не стесняющийся, ибо с чего же тогда Николай, собираясь отметить доносчика за донос, унтер-офицера Шервуда за предательство тайны Южного общества, возвел его в дворянское звание, как будто бы предполагающее благородство? Император Александр, к которому поступил Шервудов донос, тот, по крайности, заплатил деньгами, притом не щедрой рукой, всего-то тысячу целковых, как и привыкло вознаграждать за подобные услуги правительство, содержащее тайную полицию и тайных агентов, — дело непочтенное, однако понятное. Но присовокупить к английскому имени русский титул
Верный, — для этого надобно было самую верность толковать как преданность слуги господину, как рабскую то есть добродетель, за которую не только можно извинить душевную низость, но даже ее всемерно и особенно поощрять как гарантию благонадежности, ибо что ж за раб без приниженности и низости? — Ты, Иван, слыхал о дворянском его гербе, который Незабвенный повелел составить Сенату? Я уж и сам не припомню его описания в точности, но помню, что в верхней его части, на поле небесного, кажется, цвета сиял в лучах вензель усопшего Александра, а снизу этак тянулась рука — надо полагать, самого Шервуда, — и персты сложены, как для присяги. Заметь, тянулась из облаков, стало быть, понимай: рука свята, как свято и само деяние Верного. Ни дать ни взять перст божий, который царю на наш заговор указал!.. Только вот рука-то потом потянулась вроде бы и пониже, к чужому карману… Да, точно. Новоявленный Верный оказался весьма чуток к логике власть имущего и свое посвящение в благородные тотчас истолковал как дозволение и впредь оставаться неблагородным. Из унтер-офицеров он сделался прапорщиком, после — поручиком, из провинциального армейца — лейб-драгуном, но в гвардейском полку, где сослуживцы презирали его за прошлый шпионский подвиг и за нынешние мошеннические проделки, не ужился; поступил в жандармы, однако оказался очень уж нечист на руку: то выманит у простоватой купчихи немалую сумму в шестнадцать тысяч, то попросту уворует из казенного портфеля тяжебные документы. Все до поры прощалось — как не прощать? — пока новая афера и впрямь не превзошла положенный предел, не превозмогла монаршей терпеливости и не привела его в Шлиссельбургскую крепость, где он и пребывал с 1844 года по 1851-й. Празднуя четверть века своего восшествия на престол, Николаю было негоже не осчастливить в этот день слугу, который восшествию посильно споспешествовал, — слугу хоть заблудшего, да Верного… — Шпионов надо? — кричали, бывало, ребятишки в Чите, завидя ведомых на работу декабристов и разумея всего лишь грибы, невинные шампиньоны, которые, кстати прибавить, сами декабристы и научили читинцев собирать и есть. Надо! Надо шпионов, куда ж без них, и зазывный торговый вопль, их всех немало смешивший, потом не раз оказывался нежданно пророческим, как и положено тому, что исходит из младенческих уст. Шпионство лезло из всех щелей, — сам комендант Ленарский смертельно дрожал
шпигонов, по его выговору, — порою же оно являлось оттуда, откуда его никак не следовало ожидать. Так, в марте 1828 года шпионство заявилось в Читу по этапу, пройдя пять тысяч верст прикованным к железному пруту, канату и цепи, в нежном обличье девятнадцатилетнего Завалишина-младшего, Ипполита. По зимнему времени их в тот день не повели работать ни на Чертову Могилу, ни даже на мельницу, — кто сапожничал, кто токарничал; он, Горбачевский, как раз собирался латать свой причудливый архалук и критически разглядывал непрошеную прореху. Отворилась дверь, забряцали кандалы, и в их вологодскую комнату без стука и спроса вошел юноша, продолжавший горделиво, через плечо ответствовать идущему следом: — Вы, жалкие людишки! Разве вы можете понять меня? Разве вы в состоянии постигнуть мое назначение? Озадаченный пафосом этой тирады, Иван Иванович тем не менее, уже будучи наслышан о новоприбывающих и сразу углядевший броское фамильное сходство, приветливо было поднялся навстречу юному братцу Дмитрия Иринарховича, но тот едва удостоил его взглядом. — Где понять? — послышался из дверей язвительный и одновременно ущемленно-самолюбивый голос кого-то, видимо, из бедственных спутников Ипполита. — Где уж? Ведь мы, известное дело, серая лошадка. А ты… Может быть, ты, Завалишин, полагаешь сделать карьеру Наполеона? Ха-ха… Гордо вскинулась голова, и смешок тут же примолк подавленно. — Отчего же нет? Знайте! Если только мне удастся то, что я задумал, то от самой Читы до царского дворца я умощу себе дорогу трупами! И первою ступенью к трону будет брат мой! …Дикая, нелепая, ни на что и ни на кого не похожая фигура! — Ну уж и ни на кого! — рассердился Бестужев, услыхав это от Горбачевского; рассердился не в первый раз, потому что и услыхал пе впервые. — Оставь! Это у них родовое! И старший брат почти таков же! — Опомнись, Мишель! — Точно так! Вспомни, как сам он рассказывал, что в 1824 году после кругосветного плавания с Лазаревым получил аудиенцию у императора Александра и предлагал тому какой-то таинственный проект Вселенского, видишь ли, Ордена Восстановления. Да пусть бы то были только бредни, так нет же! Что он там проповедовал? Чуть не идеи Священного Союза. А? Каков молодчик? — Ну, Мишель, хватил! Уж и Священный Союз… Да не забудь, что он среди прочего царю и дело говорил. Предлагал что-то разумное насчет Российско-Американской компании, — а в этом он понимал. Советовал занять Сахалин и Амур… — Вот, вот! — подхватил саркастически Бестужев. — И золотоносные земли в Калифорнии также!.. Нет, Иван! Любезный твой Дмитрий Иринархович — авантюрист большой, да, сказать правду, и не слишком чистой руки, вот что. Недаром он всегда норовил всех нас рассорить!.. А как ханжил, как кидался в мистицизм! Право, удивляюсь тебе. В иных случаях я за тобой такой доверчивости вовсе не примечал! — Где ж тут доверчивость? Я просто хочу быть справедлив, вот и все. Сообрази, сколько ему было лет, когда он интимничал с Александром. Двадцать! И мы с тобой не были старики, а он-то на четыре года нас обоих моложе. Знаешь ли, Завалишин сам вспоминал, что у него в ту пору нашли при обыске ящик, где хранились уже готовые символические одежды этого самого Ордена: туника белого, кажется, атласу с красным крестом, меч, как водится, обоюдоострый, железный скипетр и прочие всякие игрушки… Да, да, именно что игрушки! Он мне признавался, что с трехлетнего возраста уже учился грамоте и никогда, ни в какие лета, ни во что не играл. Вот и не наигрался! — Ах, Иван! Тебя бы в Следственный комитет, авось всем нам, да и тебе тоже, не такой положили срок каторги! Скажите на милость, как умилительно! Да он и про младенчество свое тебе рассказывал, чтоб похвастать, что он и трех лет был уже не таков, как все! У меня от его самохвальства всегда уши вянули. Уверяю тебя, иногда он мне сумасшедшим казался! Как его послушать, так во всем тайном обществе он один и был делу голова, а все прочие только что исполняла его приказания, да и исполняли-то дурно. Признаюсь тебе, я и в образованности его весьма сомневаюсь! — Помилуй!.. — Не проси, не помилую! Изучить девять языков так основательно, чтоб переводить Библию с еврейского да сличать перевод с греческим, латинским и прочими текстами? Пуф! Верно говаривал покойный брат: «Дмитрия Завалишина надобно узнать ближе, чтобы он перестал нравиться»… — Помню, как же! Только и то помню, что Николай, сказавши это, добавил: хотя Завалишин всюду поспешает со своим непременным «я», однако и доброго сделал немало. А что до меня, то, по-моему, так: напротив, он сразу мало кому поправится, его нужно узнать поближе, чтоб полюбить… — Боже, какая любвеобильность! — Хорошо, будь по-твоему. Не полюбить. Оно и вернее. Но уж оценить хоть и трудновато, да можно. И надо. Если хочешь, в том и глупость царя Александра, что он такого человека не оценил, — правда, как слышно, тут Аракчеев с Нессельроде постарались… Ты говоришь: самохвальство, сумасшедший… Правда твоя: Завалишин для меня и то невыносим бывает. Но разве он лжет? Да он просто так себя видит. Себя — и все вокруг. А сумасшествие… Пусть бы и так, давай соглашусь на пробу. Скажи: замечал ли ты, что те, кого мы почитаем сумасшедшими, ныне как-то уж больно хитро сваливают с ума? Все больше себе на пользу. А Дмитрий Иринархович что ни сотворит, все против себя самого! Вот и его баталия с графом Муравьевым-Амурским… Я, признаться тебе, сам ее прежде не понимал никак. Сам ворчал: и чего задирается? Разве не лестно нам, россиянам, заиметь Севастополь еще и на Тихом океане? И сейчас скажу: лестно, — да какой ценой, вот загвоздка! И не прав ли Завалишин, что, людей жалеючи, которые в подножие славного дела трупами ложатся, восстает против жестокости и бездушия? — Это он от ревности больше. Оттого, что сам когда-то предлагал Амур завоевать, а ныне лавры первооткрывателя не ему достаются! — Ну, этак ты, пожалуй, скажешь: и нам ревновать надо, что крестьян без нас освободили, хотя мы первые это замышляли… Да и пусть даже ревнует! Что с того? Главнее всего, что Дмитрий Иринархович вон на какого Голиафа раскрутил пращу… Шутка?! Горбачевский чуть помолчал. — А Ипполит… Нет, Мишель! Эти два яблока, даром что от одного корня, а далеконько раскатились…
«Движимый усердием к Особе и Престолу Вашего Императорского Величества и ныне имея случай открыть уже тайну, долго тлевшуюся под скопищем различных непредвиденных обстоятельств, спешу очистить сердце, горящее любовию к Отечеству и Царю справедливому, от ига, его доселе угнетавшего».
22 июня 1826 года юнкер артиллерийского училища Ипполит Завалишин семнадцати лет подал императору Николаю донос на брата своего Дмитрия, содержавшегося уже в ожидании суда под арестом. Брат обвинял брата в измене отечеству и шпионстве в сторону иноземных держав, — сие, разумеется, живо заинтересовало правительство, юнкер был тотчас взят, переведен с Елагина острова на Пороховые заводы и содержался под секретнейшим караулом. Первый донос, впрочем, свидетельствовал, что доносчик не набил еще на этом ремесле свою шкодливую руку. Братьям дали очную ставку, на которой младший пылко уличал старшего в преступном сговоре с некими офицерами, неким профессором и даже двумя некими подданными Испанского королевства, упирая на явный иностранный подкуп: откуда ж иначе у Дмитрия мешки, туго набитые гинеями и талерами? Заговорщик против правительства, науськанный, как и следовало ждать, внешними врагами России! Следователи хищно встрепенулись, но… — Мне решительно ничего не стоило доказать им, — рассказывал Горбачевскому Завалишин-старший, — что это всего лишь остатки моего жалованья, полученного за время службы на фрегате. Притом ничтожные и к тому же в испанских пиастрах и голландских ефимках… Дмитрий Иринархович и это произнес с такой намекающей гордостью, будто обнаружение столь простой истины на самом-то деле потребовало от него особенных логических ухищрений. И сощурился со снисходительной мягкостью, жалея-таки родную кровь: — Дурачок! Простофиля! Он, как сам потом признавался, ожидал, что его немедля сделают флигель-адъютантом, а угодил, как и я, в крепость!.. Да, за доставленное разочарование Ипполита посадили в Петропавловскую, разжаловали в рядовые и сослали в Оренбургский гарнизон. Но то, что казалось концом, стало началом. Юнец матерел стремительно. В Москве, через которую лежала его дорога на Оренбург, он, оступившийся полуангел, чей вид взывал к слезливому состраданию, обошел начальника внутренней московской стражи, и тот разрешил ему вольно гулять пo городу, — за что облагодетельствованный, едва покинув гостеприимный град, послал донос на благодетеля. А дальше — больше: во Владимире, сбежав от нерасторопных сопроводителей, явился к губернатору графу Апраксину, назвался комиссионером — по фамилии, чтоб долго не думать, Иванов, — получил открытый лист на свободный проезд и щедрые прогоны; зато уж и губернатор после принужден был слезно доказывать, что самозваный Иванов гнусно лжет и он, граф Апраксин, ни сном ни духом не возглавлял Владимирского тайного общества, какового общества к тому ж вовсе и нету. Не оправдался — лишили его губернаторства. Но истинным поприщем стал Оренбург. Рядовой-готлангер, Ипполит сразу был принят за своего в офицерском обществе… — Да и как было его не приблизить? — оправдывались бывшие оренбургские офицеры, из-за него угодившие на каторгу. — Судите сами! Мы на него как на героя, как на страдальца глядели! Мальчик, почти дитя, а сколько уже претерпел!.. Притом и он, казалось, был с нами как на духу: без всякого страху открылся, что сослан за попытку освободить из крепости старшего брата, — и попытка-то, говорил, чуть-чуть не удалась! Сущий пустяк помешал!.. А сверх того он нам поведал, что заговор совсем не разгромлен 14 декабря, что он, напротив, только еще поспевает и что сам он, Завалишин 2-й, есть посланник тайного и могущественного общества, имеющего быть во Владимире, где во главе заговорщиков сам губернатор! Каково? Могли ли и мы со своей стороны не открыться ему, что и у нас, мол, есть некий кружок, где офицеры наши собираются, беседуют обо всем и хотя еще не готовы действовать, но настроены противуправительственно?.. Нет, право, он казался таким искренним! Вот теперь уже Ипполит показал, что не по летам зрел. Он склонил молодых офицеров бросить пустые разговоры и составить собственный заговор. Не поленился изготовить печать новоявленного общества. Сочинил устав и инструкцию, предписавшую четкий план действий. Именно: поднять знамя восстания в Оренбурге и маршем идти на Казань, по дороге бунтуя деревни. А по завершении этих трудов командир Оренбургского корпуса генерал Эссен получил от готлангера Завалишина доклад: он-де прознал о злоумышленном заговоре, намеренно вошел в него с благомысленной целью узнать короче испешит сообщить о сем по начальству, называя преступников поименно. Но уж тут коса, самонадеянно возомнившая себя вострою, нашла на такой камень, который было не своротить и дубовым кряжем. Многоиспытанный Эссен вмиг сообразил, что, если передать донос выше, в главных виновниках ходить не злополучным прапорщикам, а ему: зачем недоглядел? И одна ложь была сокрушена другой. Следствие хитроумно заключило, а суд подтвердил, что Завалишин-младший завлек в тайное общество людей неопытных и малоумных, а увидав, что за ним и за ними учредили надзор, — ибо начальство отнюдь не дремало! — поспешил дать делу выгодный для себя оборот… …Кого приговорили к четвертованию, кого к повешению; провинциальный самовластитель Эссен, в пример и подражание самовластителю державному, приговор смягчил, отмерив своим гарнизонным шесть, восемь, двенадцать лет каторги, но доносчику — надо думать, не без удовольствия — положил первый кнут. Вечную каторгу. Император, утверждая приговор, явил уже свое, монаршее снисхождение: всем сократил каторжные сроки ровно вдвое, и только Ипполит остался опять-таки при своих. Его это, впрочем, не угомонило, он даже из-под караула исхитрился послать царю навет на Эссена, но Николай не только что не поверил, а, напротив, перевел оренбургского командира в Санкт-Петербург, наградил графством и сделал генерал-губернатором. Каждая милость — как дуля, злорадно показанная обманщику: ты меня однажды провел и еще хочешь? Так на же! На! На!.. Горбачевский всякий раз посмеивался, когда его мысленному озорному взору представала эта соблазнительная картина, когда-то воображенная и уже не уходившая из головы. Забавно, в самом деле, но так ведь и чудится, что могучий российский самодержец лично и сладострастно схватился с ничтожным, но упрямым доносчиком, взявшимся и его одурачить, — схватился, будто и вправду поверил в его узурпаторские амбиции и возможности: я тебя, сукин ты сын, как никого, упеку, а врага твоего, как никого, обласкаю! Ты у меня узнаешь, как в Наполеоны метить! Но сам Ипполит — что он? Чем был влеком? Юной глупостью? — Дурачок! Простофиля!.. Нет, любезный Дмитрий Иринархович, не то! Тогда, выходит, чистое безумие? Мания? — Да, да! Именно мания! Уверяю вас, он сумасшедший! Он нам такое о себе говорил! Такое!.. Когда нас только еще собирались отправлять из Оренбурга по этапу и стали списывать с нас приметы — ну вы знаете, на случай, если кто замыслит бежать с дороги, — он уверял, что у него на груди родимое пятно в виде царской короны! А по плечам он будто бы мечен изображением скипетра! И еще, и еще поразмысли, Иван Иванович: может, всему виной извращенность натуры, испорченной не природой, а воспитанием? Несомненно, не без того. Когда старший брат уговорил товарищей допустить в их круг младшего, как якобы трепетно нуждающегося в исправлении достойным примером, тот всех поразил отсутствием какого бы то ни была стыда. Не выказывая ни малейшего раскаяния и, как видно, даже не ощушая его, потому что притворства, какое бывает у самолюбивых виновников, тут не было и следа, он беззаботно пел и свистал, проходя мимо прочих узников, — и все сами были принуждены делать вид, что не примечают негодяя. Он и потом не менялся и меняться не помышлял. В Петровском Заводе за буйство был закован в кандалы и присужден к тяжелым работам, в Верхнеудинске за ябеду — сечен, в Кургане за пьянство и воровство… ну, и далее, далее… даже вспоминать мерзко… Итак, сумасшедший? Весьма вероятно. Урод? Без сомнения. Но любой натуре, самой чудовищной из чудовищных, выпадает свой час, когда даже уродство ее приходится ко времени и ко двору. Ипполит и пришелся как раз ко двору, к царскому, к Николаеву двору, даром что был не приближен, а отвергнут. Доносам его поверили — это главное; поверили хотя бы сперва, да не только сперва; обманутые Ипполитом бедняки так ведь и потащились в Сибирь по канату, будто взаправдашние заговорщики. Оказался ненужным доносчик. Донос пригодился. Верили, ибо верилось. Николай не хотел допустить, что раскрытый заговор — вот он тут, весь, а не часть его; так что Ипполит, лгавший доверчивым оренбуржцам, невзначай выкладывал то, о чем царь думал неотступно. Страх перед заговорщиками, затаившимися неведомо где и неведомо до какого сроку, принуждал доверять хоть на первый случай любому шпиону, а шпионство, в свою гнусную очередь, только множило страхи. Сама ярость, с какой Николая покарал доносчика, была яростью человека, который, прознав, что этот заговор ложный, не успокоился, а пуще того насторожился: ежели провели его самого и провели — даром — драгоценное время, значит, отвлекли его взор от того сокровенного места, где непременно зреет неразгаданная опасность. Уж не нарочно ли провели? Не с дальним ли умыслом обманули? А коли так, то — да, надо, надо шпионов, и чем их больше, тем… спокойнее? Нет, покой не приходит, но исхода уже не предвидится, и сыск в домах, в бумагах и в душах надолго, если не навсегда, становится потребностью целой империи, в которой тон задает по обыкновению первый ее дворянин… — Сказать тебе правду, Мишель, когда я подумываю, в какую же ярость пришел Николай, узнавши, что проведен, что Ипполит все заговоры сочинил, мне тут еще и вот что слышится: «Неумеха! Щенок! Бездельник! За этакое дело взялся, не зная толку! Не берись, коли не разумеешь!» — Это ты что ж, царев, что ли, голос услышал? — Его! — Поздравляю, сподобился! К Иоганне д'Арк, говорят, святой голос снисходил, а к тебе… — Погоди. Не насмешничай. Я дело говорю. Помнишь ли, каков царь был на допросах? Передавали, когда Каховский стал ему говорить, что отечество и народ несчастны, что, ежели бы Николай был на нашем месте, он бы сам, как мы, поступил, — а царь, слыша это… — Знаю. Заплакал. — Да! И стал уверять Каховского: «Я сам есть первый гражданин отечества!.. Кто может сказать, что я не русский?..» А с Гангебловым? Как распознал, что перед ним юнец, ведь поматерински запричитал: «Что же вы, батенька, наделали? Ах, что наделали?» Взял его под руку, стал с ним ходить: «Видите, я с вами откровенен. Платите и мне тем же…» Как тому было не растаять? — Чт? Гангеблов! Он и брату моему Николаю, когда тот ему в глаза выложил, что покойный Александр сам был во всем виноват, что у нас шестьсот тысяч законов, а закона нет, не то что выслушал, а руку протянул: «Спасибо за откровенность, Бестужев, ты мне глаза открыл. Даю честное слово, ты отделаешься только годовым заключением». И обедать дал, да еще с шампанским. Брат после говорил, что никогда так дорого не платил за бутылку «Клико»… — Именно! Он, император то есть, ведь умен был, отого не отымешь! Он сразу понял, на чем тут надобно играть. Понял, что эти люди на благородство падки, что они навстречу откровенности сами душу откроют, что честное слово для них и есть честное… Лучшее в них разглядел — и как использовал… Куда Ипполиту? И впрямь — недоумок! Неуч! Вот кто умелец! Вот кто мастер! Он, Николай! Вот кто посеял неверие и недоверие… Поверишь ли, я, вспоминая те годы, себя самого ловлю: не чересчур ли был мнителен? Что Николай нас боялся, даже и сославши сюда, этого как не понять? Но то, что и меня подозрения мучили, особенно как нагляделся на того ж Ипполита, это, скажу я тебе… Да ты помнишь ли, как в Завод году, чтобы не ошибиться, в тридцать третьем, зимою, заявился с непонятной какой-то ревизией некий жандармский ротмистр? А при нем в писарях человек лет этак сорока. Так и вижу его: франт франтом, сюртук гороховый и белье белизны необыкновенной… — Так это Медокс! Разумеется, помню! Мы ведь с братом знавали его по Шлиссельбургу, — тебя туда в ту пору еще не привезли из Кексгольма, а он, бедняга, досиживал чуть не тринадцатый год. Еще Юшневский тогда обучил его тюремной нашей азбуке и хоть через стену, а с ним подружился. Я и по Заводу помню его, — преинтересный собеседник, и уж вот где… Бестужев приостановился и приосанился, дабы ощутимее нанести укол позабытому было Дмитрию Иринарховичу. — …Вот где была истинная-то образованность. Кажется, все на свете знал и умел, словесность, историю, рисовал, как сам Доу, а языки знал, словно родные, — и по-немецки, и по-французски, и по-английски… Да английский-то, впрочем, кажется, и был у него родным. — Точно, он. Медокс. А по имени, ежели не совру, Роман… Да, так и есть. Не соврал. А почему помню? Потому что Вольф, завидев его в Петровском, кинулся ему на шею: «Любезный Медокс! Какими судьбами?» И замешательство вышло: Медокс-то, он взаправду Медокс, да только Вольфа в глаза не видал. «Как так? Ведь вы такой-то?» — «Точно так, такой-то». — «Василий?» — «Нет, извините, Роман». Оказалось, наш лекарь с его братцем в Московском пансионе воспитывался, так, говорит, очень схожи. — Прекрасно, да ты к чему его вспомнил? — Сейчас объясню. Тогда и вы с Николаем его обласкали, и Пущин Иван Иванович, — он-то его и прежде поминал, говорил, как, мол, этот несчастный, все ли еще в тюрьме, — ну про Юшневских и не говорю. А я… Я ведь тоже с ним потолковал. Собеседник, каких поискать. Все о Кавказе рассказывал и знал его, будто там вырос. Но притом… Понимаешь ли, все тебе до того живописно изобразит, как его глазами видишь, а вот самих-то глаз и не видать. Ускользают. Ты этого не замечал? — Нет как будто. Да тебе это примерещилось, — ты же странного рода бирюк. Молчишь себе, молчишь, а между тем… — Может быть. Может быть, примерещилось. Я ведь к тому и веду. Спрашиваю его: «А вы на Кавказе долго были?»… Мне это, видишь, потому любопытно, что у меня в то время там покойный брат служил, — его, как и твоего, Николаем звали… «Нет-с, — отвечает, — не очень долго». — «А что там, позвольте спросить, делали?» — «Я имел поручение». — «Не секрет ли, какое?» — «Прекрасное поручение». И молчит. Я тоже молчу. «Но, — говорит, — зависть, интриги испортили сие предприятие». Вот и возьми. Станешь допытываться, а он будто не слышит, — начнет про обычаи горцев, про то, про се… — Все-таки не понимаю тебя. — Я сам себя не понимаю, — вздохнул Иван Иванович. — В том и стыд. Гляжу, слушаю да и… Нет, чепуха! Наваждение проклятое. Вот что значит, ежели в человеке сеют недоверие. Вы все его так хвалили, а мне… (Но тут автор повести не выдерживает и уже во второй, последний раз заговаривает с читателем без посредников. Горбачевский никак не мог знать, кто был тот писарь, приезжавший в Петровский Завод в начале 1833 года вместе с жандармским ротмистром Вохиным. Не знал и не узнал. Обидно и глупо, если но этой неизбежной причине о нем ничего не будет знать и читатель. Излагаю коротко, сухо; за подробностями отсылаю хотя бы к книге С. Я. Штрайха «Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века». Москва, 1923. Итак… Означенный Роман родился то ли в 1793-м, то ли в 1795-м в Москве, у «славного Аглинского Эквилибриста Меккола Медокса», который сперва тешил российскую публику своим первоначальным ремеслом, потом, остепенившись и разбогатев, стал содержателем театра: между прочим, поставил первым в старой столице «Недоросля», — есть и фонвизинские письма к нему. Сын был изгнан отцом из дому «за распутство». Служил полицейским писарем, затем армейским унтером, в главном 1812 году вступил в ополчение, — но геройских поступков не вышло. Наоборот, он украл у своего начальника две тысячи рублей, на которые сшил себе мундир офицера лейб-гвардии. Странная прихоть? Дальше будет — страннее. «Я написал себе инструкцию, — это уже он сам излагает, — будто бы данную мне по высочайшему повелению правившим должностью военного министра князем Горчаковым, с предоставлением власти действовать по совету командующего на Кавказской линии, не спрашивая разрешения по дальности расстояния». По пути на Кавказ он предъявлял губернаторам и городничим еще и фальшивое предписание от министра финансов — и т. д. и т. п.; словом, казначейства перед ним радушно распахивались, и дорога была устлана ежели не розами, то ассигнациями. Корысть? Она ли? И только ли она? Трудно сказать, — и вернее, едва ли. Бес авантюризма сидел в недюжинном, надо признать, человеке, а эта разновидность нечистой силы не будет сыта тем, что купишь за деньги, ей подавай и что-то сверх того. Кавказское ополчение — вот что грезилось Медоксу, тени Минина или Жанны д'Арк смущали его; другое дело, что святая роль… роль, именно она, не больше и не выше того, казалась ему достижимой мошенническими средствами. Так или иначе, а кавказская казна полегчала на десять тысяч рублей, ополчение, разумеется, собрано не было, зато последовали: разоблачение, арест, наконец, Петропавловская и Шлиссельбург, где Медокс много лет спустя и познакомился с декабристами. А они, по обычаю добрых людей, и в нем увидели собственное подобие. Что дальше? В феврале 1827 года — всеподданнейшая и покаяннейшая просьба о помиловании. Перевод в Вятку под надзор полиции и новая встреча с Пущиным, которого везут через этот город на каторгу. В Вятке не усидел. Бежал, подделав паспорт, а следом, наугад, наперехват, пошел размноженный циркуляр Бенкендорфа. Помогло было: в марте 1828 года Медокса схватили в Екатеринодаре, отправили в Петербург, но по дороге он снова бежал — в Одессу, где целый год терся возле друзей и родственников декабристов, козыряя шлиесельбургским знакомством. Писал оттуда царю… О чем? Неизвестно, но в конце концов непонятнейшим образом очутился в Иркутске. Как бы рядовым солдатом, но притом и желанным гостем, почти своим человеком в доме Александра Николаевича Муравьева, декабриста, единственного из них, кого царь сослал в Сибирь без лишения чинов и дворянства и который играл в Иркутске роль замечательно парадоксальную: будучи городничим, сам пребывал под полицейским надзором. Жил Медокс вольно. Ходил в штатском. В деньгах — по причинам для окружающих непонятным, — не нуждался. Окружающие и не знали ни о его тайных свиданиях с приезжими жандармами, ни о письмах царю и Бенкендорфу. Если бы знать, как говорили чеховские сестры. Но оставляю в стороне житейские подробности, оставляю интриги, без которых Медокс не мог, — важно другое. То, что в руках Медокса оказался ящик, служивший для потайного хранения писем узников, пересылавшихся вопреки начальственному запрету в Россию, — и в 1832 году он сообщил шефу жандармов, что им, Медоксом, будто бы обнаружен опаснейший заговор, для чего он, Медокс, и просит вызвать его в столицу. Чем не Ипполит?! Вызывать, однако, не торопились, и Медокс старания умножал. Донос следовал за доносом: на городничего Муравьева; на иркутского гражданского губернатора Петровский Завод нарочного; что известил Юшевского о скором приезде своем в Россию и просил принять его в тайное общество; что принят; что получил рекомендательные письма к петербургским заговорщикам; что у него в руках ключ к тайнописи, через которую декабристы между собою сносятся, — и ключ, и диплом на звание участника заговора он изготовил, конечно, сам. Николай — опять! — поверил, — и наконец-то для полного завершения операции Медокс был допущен в Петербург. К Бенкендорфу он явился чуть ли не как долгожданный гость: «А, Медокс? Давно ли ты приехал?» — «В-вчера, в-ваше сиятельство!» (он заикался). — «Ты будешь жить в Петербурге?» (Вопрос, выдающий ленивое сладострастие силы, позволяющей бессилию хотя бы высказать свое желание.) — «В-ваше сиятельство, в России нет человека без звания, а я, ваше сиятельство, зв-вания никакого не имею. П-прошу пожаловать мне какое-нибудь п-повышение». Бенкендорф — смеясь, ласково: «Зайди, братец, на днях…» Дали звание отставного солдата. Зажил Медокс, однако, не по нижнему чину. Щеголял, шиковал, раскатывал в модном фаэтоне, женился на молодой и богатой, чем рассердил и Бенкендорфа, но был прощен; поселился в Москве, на Плющихе, не переставая давать Третьему отделению посулы сочинить наилучший проект раскрытия всероссийского заговора. Жандармам это наконец справедливо надоело. Дали краткий, в восемь ден, срок представить проект, — и Медокс еще раз бежит, прихватив женин капитал. Опять циркуляры. Опять погоня. Прячется, переодевается, меняет парики и накладные бороды. И — последний арест. Как с Завалишиным-младшим, обманутое доверие императора обернулось суровейшим приговором, и никакие заверения лукавого шпиона в расчет не берутся. 25 июля 1834 года Медокса запирают в надежный Зотовский бастион Петропавловской крепости, в особый арестантский покой № 5. 30 июля переводят в знакомый ему Шлиссельбург. Освободил его новый царь, Александр II, только в 1856-м, — все-таки хоть ненамного, а прежде, чем амнистировал декабристов. Медокс едет в Каширский уезд, в имение умопомешанного брата, и умирает от двукратного апоплексического удара в 1859 году. Все. Эту необыкновенную историю я могу оставить без комментариев, — потому что она сама комментарий к судьбе Ипполита Завалишина. И еще потому, что та давняя эпоха и имущие в ней власть сделали все, чтобы эта история стала — ну пусть не совсем обыкновенной, но уж во всяком случае не исключительной. Люди разного возраста, происхождения, состояния, темперамента, образования и т. д. и т. п. Медокс и Завалишин оказались почти двойниками в главном и мерзостном деле своей жизни: оба стали добровольными — первыми на Руси! — провокаторами, оба пользовались высочайшей доверенностью, оба испытали тяжкий гнев власти, не простившей им того, что провокация оказалась ненастоящей. Непоследовательной. Недостаточно профессиональной, что ли). На следующее утро прощались. Свадебный обоз с веселым, но уже утомленным и оттого нарочитым гамом заворачивал оглобли, чуть свет увозя в Селенгинск поповну, ставшую купчихой, и Горбачевский в своей колеснице с неуклюжим Ахметом на козлах провожал его верст с десяток. Бестужев до поры ехал с ним. Дурацкое дело — прощание. Люди не навидались, не наговорились, не насытились друг другом, а последний совместный час проходит все-таки в обоюдной неловкости, будто все переговорено сполна и наступило уже пресыщение. Молчали, хотя и молчали по-разному. Иван Иванович — насупясь, а Михаил Александрович — оживленно вертя головой, словно окрестности Петровского были ему в новую новинку, и время от времени обмениваясь с теми, кто ехал в ближайших экипажах, бодро-многозначительными окликами, на самом деле не значащими ничего: «Ну, как оно?» или «Утро-то, а?» Разлука мутно тяготила обоих. Несколько погодя, когда хочешь не хочешь, а понимаешь, что все равно не успеешь сказать о главном — или о том, что кажется главным именно потому, что не было сказано, — Бестужев с ходу стремительно заговорил о первом, что попало на ум и не имело связи с их беседами вчерашними и позавчерашними. Вот из журнала «Русское слово» просили у него статью о селенгинских краях, и он все терзался, что непростительно ленится и, стало быть, своего забайкальского слова но держит… — От тебя я, что ли, Иван, заразился твоей знаменитой ленью? …Ан цензура, как нарочно, за что, неведомо, журнал не то запретила вовсе, не то приостановила, черт ее разберет, и теперь он может лениться, не угрызаясь. — Но скажи мне, к чему было составлять комитеты для преобразования цензуры, когда ко всему, что ныне творится, можно было дойти и кратчайшею дорогой — дорогой нашего Незабвенного? Если будут в месяц запрещать хоть по три издания, то к новому году тысячелетия России мы, пожалуй, останемся с одним журналом мерзавца Аскоченского. Хороша гласность! Она и доселе-то была косноязычна, не разберешь, о чем — бу-бу — лепечет, а теперь и вовсе ходит с замком на устах!.. Иван Иванович откликнулся, подхватил, но, подхвативши, беседы не удержал. Беседа так и не заладилась, и только потом, когда они, доехав до договоренного рубежного места, вышли из коляски, обнялись, прослезились оба, — тогда они и почувствовали, что вот, настало-таки мгновенье, когда неотложно надобно, вцепившись один в другого, говорить, говорить, говорить, говорить, выкладывая наконец самое что ни на есть сокровенное. Настало — и… Мишель, пересев в экипаж к юному Пете Караксарскому, отъехал, стал удаляться и уменьшаться, по неизбежному обычаю оборачиваясь всем своим крупным туловищем, помахивая рукой и, казалось, говоря своим старательным видом: «Ну, чего торчишь? Езжай, старина, восвояси! Сколько же можно махать…» — а Горбачевский все же стоял и стоял, слыша за спиной терпеливое кряхтенье Ахмета. Стоял еще и тогда, когда уже ничего не стало видно вдали. Потом влез в колесницу, тяжко накренив ее на левый бок; Ахмет, конечно, не догадавшийся повернуть лошадей прежде, на своем наречии закричал на них, то ли жалостно угрожая, то ли грозно упрашивая, повернул наконец, по нерасторопности опять-таки едва не оборотив себя и хозяина, и все вместе, коляска, Ахмет, лошади, седок, двинулось, равномерно скрипя, домой. Солнце поднялось высоко, сопки, обросшие хвоей, из черных сделались черно-зелеными, завод уже приближался, подавая голос, то есть шум и стук, и Иван Иванович говорил, говорил, говорил с Бестужевым и с другими, соглашался, не соглашался, то успокаивал расшумевшегося друга, то сам возвышал голос, — все, разумеется, молчком, тихомолком…
«Все ваши тамошние перемены, конечно, меня лично радуют, но для нас, сибиряков, ничего они не значат — нам здесь от них не лучше и не хуже; у нас все по-старому: те же порядки, тот же произвол, та же дичь в промышленности и во всей жизни. Может быть, говорят здесь, нужны для России улучшения, но для Сибири их не нужно — все хорошо; и если бы кто из вас приехал сюда (что боже сохрани!), то нашел бы все так, как было в 1826 году. Это я говорю правду, для тебя особенно это должно быть и видимо и ясно.
Говорят, что от столицы до Иркутска уже давно проведен телеграф, но все же нам не легче; вчера здесь получено письмо из Иркутска, в котором пишут, что в эту столицу Восточной Сибири не получено пятнадцать почт, по случаю скверной дороги; это пишу к тебе для того, что я уже другой месяц ни единого слова не получаю из России; телеграф, разумеется, сделан для богатых, 50 коп. серебром за каждое слово до Петербурга положена цена.
Бестужев Михаил пишет ко мне, что сам нездоров, и дети его тоже больны; все собирается ехать в Москву, но когда это будет, не знаю…»
И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Окончание
Постскриптум к неотправленному письму.
Не могу объяснить почему, но мне вдруг стало жаль и даже неловко расстаться и с Вами и с Иваном Ивановичем на патетической ноте.
Впрочем, кажется, могу. Попробую.
У человека, над которым нельзя и не за что рассмеяться, мне кажется, нарушен душевный порядок, — даже если это переизбыток добродетелей и совершенств, то все же переизбыток, перекос, подобье уродства.
Знаете ли, что Горбачевский, этот загадочный сторож своей тюрьмы, имел здесь, в Заводе, еще и славу наивного чудака, — вот одна из историй подобного рода, слышанная мною от нескольких, причем, заметьте, ни один из рассказчиков не отнесся к чудачеству со снисходительным превосходством. Все, рассказывая и смеясь, светлели лицом.
Горбачевский дружил с многими из инонародных ссыльных, — а их, к слову сказать, было немало: гарибальдийцы из отряда Франческо Пулло, пришедшие на помощь восставшим полякам, разумеется, и сами польские повстанцы. Вот кто-то из этих последних, не тем будь помянут, находясь в доме Ивана Ивановича, и позволил себе шутку с его Ириной, неловкую и небрежную.
Хозяин резко вспылил. Гордый поляк ушел, не попрощавшись.
На следующий день встречаются они у кого-то в гостях, и Горбачевский, всех обходя с протянутой для приветствия рукой, не минует и своего обидчика. Тот:
— Как? Вы на меня больше не сердитесь?
— Ах, да! — Иван Иванович чуть не плюнул с досады на свою мягкотелость. — Я и позабыл совсем, что на вас сержусь!
Не умел этого. Плохо выходило.
Взрослый ребенок? Но это лишь первое, что приходит в голову. Первое — и весьма сомнительное.
Ребенку легко быть простодушным и добрым, — мир открыт ему навстречу, мир не приготовил ему подвохов, вернее, ребенок о них не подозревает. Ему так же легко и возможно быть добрым, как и жестоким.
Тут совсем другое. Объяснюсь.
В моей честолюбивой юности я превыше всего завидовал людям талантливым — как получившим самый редкий из земных и небесных даров. С годами я не стал считать, что талантами пруд пруди, — просто заметил, что есть еще нечто даже более редкостное. Ум. Разумеется, подлинный, то есть способность спокойно и мощно осмыслить окружающее, отделив истинное от ложного, постоянное от случайного, знание от иллюзии, — ум, а не практическая сметка.
Теперь, пообтершись, я знаю, что и это еще не самая редкая редкость. В нашем мире сложнее всего остаться и быть совершенно естественным, душевно ясным, я даже решительнее выражусь: нормальным.
Да, да! Таким, кто имеет силу не поддаваться общим психическим поветриям, когда даже талантливые и умные могут творить нечто, что противоречит их уму и таланту; не поддаваться озлоблению, корысти, суетности, зависти и прочему, прочему…
У меня в Петербурге был приятель, — да Вы его знаете и сейчас узнаете; он любил повторять:
— Это трудно, как высшая математика!
Но я думаю, что куда труднее, не сбиваясь, знать и помнить основы простой алгебры, которую любил Иван Иванович. А то и наипростейшей арифметики. Трудно — и нужно — знать, что какие бы перемены ни случались в мире, какой бы царь ни вступал на трон и какие бы сюрпризы ни преподносил прогресс, сколько бы видимых и внушительных оснований у людей ни было говорить: «Э, батенька, нынче времена другие», А + В будут составлять ту же сумму, а дважды два останется равно четырем. Отчизна пребудет отчизной. Свобода — свободой. Верность — верностью. Любовь — любовью.
Всегда. Несмотря ни на что.
Отстаивать эти простые истины и есть самая что ни на есть трудность. До героизма.
Мой Горбач… Но нет, не назову его так. Не только потому, что боюсь фамильярничать. Просто
горбачомздесь называют (вот Вам еще одно, последнее из сибирских словечек) беглого с каторги, — вероятно, потому, что на спине его, как горб, бугрится котомка. Стать быть, уж Ивану-то Ивановичу эта кличка никак не подходит.
Итак, мой Горбачевский из этих, из редчайших людей. Он герой, да! Но он еще и потому герой, что героизм его ему самому незаметен, прост, даже — простодушен. Им нельзя не восхититься, но и улыбнуться над ним можно.
Я сказал: мой…
Что ж, так и есть. Он и в самом деле не просто тот полузагадочный человек, который родился на первом году нашего века под Нежином, прожил тут, в Заводе, по соседству со мной, без малого сорок лет и умер — по точному счету — 9 января 1869 года. Не только я, Гаврила Кружовников, принадлежу ему как полюбивший его, но в некотором смысле и он принадлежит мне. Он, тот и такой, про которого я Вам сбивчиво и невнятно рассказал, составляет лишь часть себя истинного, ту, что я сумел в нем разглядеть и попробовал понять.
Не больше того. Но и не меньше.
А теперь — прощайте, любимая. Совсем прощайте.
БЕССОННИЦА 1869 года. Января 8 дня
«Если бы мне удалось написать или описать свою жизнь, оно было бы очень любопытно. Начиная с 1812 года, когда мне было уже 12 лет, когда мы бегали от французов и за французами; потом мое воспитание в гимназиях у иезуитов, потом в корпусе, описать бы все это; как нас учили, какие были учителя, понятия того времени, нравы, обычаи, начальство, которое я в это время видел, что об них говорили, и проч., и проч. Все это я помню и помню так, что могу судить справедливо и описать как следует, потому что я по своему положению почти не имел детства; я не помню, чтобы я был ребенком, отроком, юношею, — так были развиты понятия и такова была жизнь моя; причиною всему было — тогдашние обстоятельства и обстоятельства семейства нашего. Потом вступление в тайные общества; тут широкое поле является для описания; мы, кроме того, что исполняли службу честно и аккуратно, мы еще трудились, читали, писали, работали; шныряли везде, — забыли родных, радости и веселие… За все это попали в крепость и в Сибирь. Тут с этой эпохи опять новый мир; аресты, тюрьмы всех возможных родов (даже я сидел под арестом двое суток в церкви, как я тебе сказывал), — каторжная работа; потом поселение не лучше казематов и каторжной работы; потом рассеяние наше по всей русской земле, смерть товарищей, потери и проч., и проч.».
И. И. Горбачевский — М. А. Бестужеву
— Едва я вышел на поселение и стал жить здесь, в Чите, очень скоро пред всеми начало выступать мое личное значение, вполне независимое от значения нашего общего… Короткий взгляд в сторону помалкивающего Горбачевского, и Завалишин вновь берется за юного приезжего из Петербурга, по обыкновению стремительно-гладко катя свою, будто единожды писанную и навсегда затверженную, речь: — Все начальники, от низших и до самих генерал-губернаторов, до сенаторов, наезжавших с ревизией, до архиереев и прочих, — словом, все до одного искали совета моего и содействия, так что если у кого возникало затруднение, последнее средство всегда было такое: «Надо спросить Дмитрия Иринарховича». Что ж до народа, то он питал ко мне доверие безусловное. И понятно: я был не только что безвозмездным, но жертвующим собой врачом, учителем, советником и заступником, — когда граф Муравьев-Амурский еще в первый раз попытался удалить меня вероломнейшим образом из Читы, Михаил Карлович Кюхельбекер так и писал ко мне: «А что будет с бедным народом, который в твое управление и в самом деле поверил было, что справедливость может жить на земле?»… Впрочем, ведь и сам мой враг, Муравьев, покамест слушался моих советов, исполнял свою должность недурно. Он мне прямо сказал, в лицо: «Дмитрий Иринархович, я сознаюсь, что я круглый невежда, и отдаюсь вполне вашему руководству. Но у меня вы найдете много доброй воли, может быть, несколько энергии, и я пользуюсь доверием государя». «Что ж, — сказал я, — в самодержавном правлении это значительная сила…» К несчастию, это длилось недолго. Он оказался шарлатаном большой руки и в самом деле невеждой, — а первое свойство на Руси всегда проистекает из второго. Потому что… — Да! Совершенно справедливо! Я сам не один раз убеждался в этом на пути из Петербурга в Сибирь!.. Иван Иванович изумленно глянул на молодого, картинно бородатого гостя в казачьем мундире, у которого хватило духу прервать самого Завалишина, и уже опасливо — на остановленного витию-хозяина. Тот с кислой учтивостью ждал, что последует дальше. — Я вам сейчас расскажу… Когда я проезжал через Нижний Новгород, то тамошний портной, который взялся сшить чехлы для моих чемоданов, обратился ко мне за помощью. Вообразите себе, он, оказывается, выдумал вечное движение — каково? Говорит, работал шестнадцать лет, наконец сделал, «да, только, ваше благородие, эти шары у меня, видите, глиняные, раз махнешь — и на кусочки. А я, — говорит он, — может, через это движение всю нашу Россию обогатить могу. Она ужо вот как в гору пойдет, только бы мне теперь тут железных пружин наставить этак, думаю, с несколько тысяч, — они, видите, распирать будут и нe пущать назад. Капитала нет, вот беда, но только я эту машину всячески сделаю, разве смерть возьмет». — И что же вы? Помогли ему? — спросил Завалишип, торопя конец рассказа. — Какая помощь? Дал ему два рубля, а он: «Я вам, ваше благородие, за ваши рубли тысячами отдам!» Вот я и говорю, господа! — Юноша оживился, его глаза вспыхнули, а завалишинские вновь скучно погасли. — Ведь он, может быть, талантливый человек! Если бы к его способностям да знание, он не стал бы отыскивать perpetuum mobile, а выдумал бы какую-нибудь полезную машину. Первое дело — грамотность и школы, в школах — геометрия, механика… Но Дмитрий Иринархович посчитал, как видно, что проявил уже достаточно снисходительности. — Да, да, несомненно… Словом, я полагаю, что всюду надобно подавать личный пример, быть во всем образцовым. И потому даже самые враги мои из местного начальства никогда не смели предъявить мне известный упрек, что легко, дескать, критиковать, а трудно делать, так как я… Иван Иванович слушал привычно, по опыту зная, что речи Завалишина нужно пропускать сквозь ненапряженный слух, как пропускают через расслабленно раздвинутые пальцы песок, в котором надеются обнаружить какой-нибудь ценный камешек: песок протекает, падает струйками под ноги, и ты словно бы даже не осязаешь его, ты бесчувствен к нему, покуда — цоп! — разом не сожмешь пальцы, ощутив на ладони долгожданную твердость. Он полуслушал и сердечно жалел этого маленького, поворотливого, надменного, необыкновенного человечка. Бедный Дмитрий Иринархович! Судьбе мало показалось наградить его всеми горестями, какие выпали на их общую долю. Она к тому же дала ему в жены тяжко больную женщину, одержимую маниями и галлюцинациями; потом, когда он намучился, но и обвык, ударила по нем смертью жены; вообще била часто и больно, а главное, надо ж ей было выдумать столь несчастный характер! Кто он? Человек, взысканный дружбой и уважением заметных и замечательных личностей; не говоря уж о зрелых, то есть сибирских, годах, он еще с младых ногтей ходил в кругосветное плаванье под началом самого Лазарева, дружил с Нахимовым, с литератором Далем… Казалось, довольно и этого? Нет, не довольно, а мало, мало, мало, и вот ему непременно нужно поведать, что Лазарев, знаменитый не только флотскими подвигами, но и отменнейшим крутонравием, этот поистине волк морской, как агнец, внимал восемнадцатилетнему своему мичману. Что будущий герой Синопа и Севастополя Нахимов влачился за ним послушливой, бледной тенью. Что другого севастопольского героя, Корнилова, он, состоя юным преподавателем Морского кадетского корпуса, жучил жестоко: — Строгость, господа, строгость и строгость! Вот мой девиз! Все так. Но он и человек дарований редкого качества и количества; образованный неправдоподобно, — немудрено, что Мишель Бестужев засомневался; объятый желанием решительно во всех обличать порок и решительно повсюду восстанавливать справедливость, — это желание, да еще нетерпеливое, без опаски и без оглядки, разумеется, всегда ввергало его во вражду с самыми сильными мира сего. Таким был для всех для них — еще до позапрошлого года, до отставки — генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский, и ведь не самохвальство завалишинское смешное, даже не язвительное злословие, а неудобная правда, правда, угодившая в цель, стала причиной того, что могучий граф, хотя сам уже и покинул генерал-губернаторство, но задним числом, вчерашней силой, давлением, переданным по инстанциям, выслал своего критикана… Куда — выслал? Трудно поверить, нелепо произнести: не туда, куда немногим ранее он отправил еще одного надоедливого правдолюбца, Петрашевского, который поехал по своей волей из Иркутска туда, где покруче и побезлюдней, в Минусинский край. Нет, хоть и тоже из ссылки в ссылку, да не из суровой в суровейшую, а в противоположном направлении — из Сибири в Россию, из Читы в Казань! Лишь бы с глаз долой! Изыди, сатана! Худо дело, если даже столь крупных людей, какой граф Николай Николаевич, приближенные холуи могут восстановить против неуемного, пожалуй, что и вздорного — да! — но честного спорщика и тем обращают просвещенного вельможу в тяжелого самодура. И вот отчего — слышишь, Мишель, в своем далеке? — нужны Завалишины. Они раздражают, согласен, раздражают порою назойливо и чрезмерно, подмешивая к истинным обличениям причуды дурного своего характера, но когда от них освобождаются грубой силой, отмахиваясь от их злословия вкупе с их же правдой и правотой, это всегда означает приход беззакония и распада… — А совсем недавно — вообразите!.. Ба! Опять неугомонный петербургский мальчик, которого даже струящаяся борода не старила, вопреки очевидному его желанию, а еще более молодила, одолел читинского говоруна. — Вообразите! Я заезжал в Кудар… Это село на Хараузе — без малого тысяча жителей, зажиточное, нарядное, с каменной церковью — любо глядеть! Останавливаюсь на квартире, располагаюсь отдохнуть с дороги, вдруг входит молодой человек, моего примерно возраста, лет двадцати, с такими, знаете ли, предлиннейшими волосами, которые у него косичками вьются назад. Рекомендуется: «Учитель здешнего училища». Я: «Очень приятно». Садимся. Разговорились — и что же я узнаю? В таком богатом селе учеников мало, училище скверное, одна печь на всю большую комнату, в которой то холодно, то угарно, ни столов, ни скамеек, ни досок. Писали прошения губернатору, чтоб разрешил сделать в училище доски да столы, — нет, не отвечает, не до того сердечному. А уж учитель… «Я, видите ли, сюда попал против моего желания. Хотел было в Верхнеудинский округ помощником к бухгалтеру — отказали. А как основали здесь училище, губернатор и велел назначить учителя из тех, кто просился кем бы то ни было, лишь бы только в Верхнеудинский округ. Меня и назначили. Впрочем, хочу проситься в Николаевск, у меня там родственники». — «Да там есть ли училище-то?» — «Нет, но я и не по этой части, а так, на службу. Скучно возиться с этими мальчишками…» Что скажете, господа? Ну с учителя нечего взять, но каков мерзавец Жуковский, губернатор забайкальский? О, я про него много слыхал — жандармская пакостная натура! Только и думает что о слежке и сыске, ни о чем больше!.. Славный мальчик. Из новых, а какой славный! Вот и с ним привелось повидаться, из тех, кому жить да жить; если, глядишь, вспомнит тебя в собственной своей старости, выходит, и ты еще вроде как бы живешь. Расфантазировался, старый медведь, — чуть не по-завалишински? Рассиропился? Есть, есть грех. Хотя, как додумаешь, кажется, будто живешь на свете не свои шестьдесят два, а еще и все сто чужих, чтобы не прибедняться: жизнь словно бы удлинилась, растянулась — и назад и вперед. Сибирь удлинила. Живуч ссыльный народ; когда после каторги товарищи начали отправляться на поселение, им, говорят, еще попадались жильцы, казалось, навсегда отошедших эпох. То найдется француз, просящий несколько су, — не привык, бедолага, к семишникам и пятиалтынным, — сосланный Павлом и наглухо забытый в Сибири его сыновьями. То некий древний граф в нагольном тулупе, — того-то еще Потемкин удостоил ссылки, тот-то еще с матушкой Екатериной игрывал в ломбер. Да что! Когда он сам только сбирался в Сибирь, вернее, когда его собирали, то на неторопливом пути от Петропавловской и до Шлиссельбургской крепости Горбачевский обрел пристанище в Кексгольмском замке, имел
особливый покойв круглой его Пугачевской башне — и самих пугачевских дочек видал, темноликих старух, пробиравшихся по крепостному двору пугливым бочком. Как только знаменитого бунтовщика четвертовали на Москве, дом его в Зимовейской станице спалили, пепел пустили по ветру, погорелое место окопали рвом и огородили, — после, не успокоившись, и всю станицу снесли: дело забвения у нас всегда делается так рьяно, что глубже укореняет память. А жен, коих у Емельки было числом две, сына, дочек, трехлетнюю и шестилетнюю, Христину да Аграфену, — в Кексгольм, откуда они так и не вышли. Вошли же — жутко помыслить — в 1775-м… Да. Славный мальчик. Чистый. Как огонек: пых, пых! Бог весть что из него потом случится. Пообтешется ли, поутихнет? Хватит ли этого юного пламени на всю его длинную жизнь? Хорошо, кабы хватило. Когда ненароком повстречались с ним у Завалишина в Чите, он отрекомендовался Петром Алексеевичем. Сказал, что наслышан о нем, о Горбачевском то есть, что даже имеет к нему поручение от племянника Оскара Ильича Квиста… Сообщил о себе: кончил Пажеский корпус, но в гвардии не остался, не захотел. Раздумывал, поступить ли в университет или податься в неведомую Сибирь, распахнувшую для цивилизаторов свои нецивилизованные просторы. И подался, записавшись в Амурское казачье войско. По фамилии же… вот проклятая память: то было помнил, теперь же… Кажется, титулом князь, а что дальше? Нет, пропащее дело…
«Сегодня утром познакомился с Горбачевским… Он пишет в Петровском Заводе и теперь выехал прокатиться, по совету докторов. Он остановился у Завалишина (между прочим, они на «вы»…). Горбачевский среднего роста, оброс бородой, лицом, вернее, бородою, немного напоминает Адлерберга 2-го, только лоб очень высокий и крупный. Только что я вошел и был ему представлен, как он особенно дружески принялся говорить со мною. Я привозил ему посылку (карточки декабристов) от его племянника Квиста. Квист писал ему обо мне, что вот-де человек едет в такую глушь, вот-де решимость. Горбачевский говорит мало, больше слушает, зато трещал Завалишин. Он не умолкал просто, пересыпал анекдотами… Впрочем, я должен был скоро уехать, да и Горбачевский собирался ехать в Завод, а в Чите побывать уже на обратном пути».
Дневник П. А. Кропоткина
Было это в феврале 1863 года. Шесть лет назад, почти что день в день. А совсем немного спустя Иван Иванович выедет из Петровского в Верхнеудинск, дабы перехватить Завалишина на тракте, ведущем в Россию, и навсегда распрощаться: выжили-таки добра молодца. Теперь не заедешь в Читу — и силы нет, да и не к кому, — теперь не нагрянет из Селенгинска Мишель: слава богу, хоть далеки, а живы. Хотя бы они, потому что скольких же нету из читинских и петровских друзей и знакомцев, уходивших и уходящих по одному. Нет Одоевского. Нет Андреевича. И Никиты Муравьева нет. Нет Швейковского Якубовича. Артамона Муравьева. Лунина. Иванова Ильи, их Катона. Нет Громницкого. Братьев Борисовых. Спиридова. Вольфа. Николая Бестужева. Тютчева. Якушкина. Пущина Ивана Ивановича. Михаила Кюхельбекера. Бечаснова. Трубецкого. Басаргина. Оболенского. Волконского. Он, Иван Горбачевский, все живет…
«…Всегда я жил и живу надеждою — следовательно, я жил, как в тюрьме, т. е. думал всегда, что в ней живу временно, не мог никогда помириться с мыслью, что надобно подумать и о себе, и о будущей своей жизни и чем-нибудь себя обеспечить; все к черту, ничего но надобно, лишь бы осуществилась идея».
И. И. Горбачевский — Д. И. Завалишину
Никогда никого не забуду…
И. И. Горбачевский — И. И. Пущину
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|
|