 |
|
Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Борхес Хорхе Луис :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Война и мир. Том 1 :: Миша Ласкин :: Арестант :: Дюна (Книги 1-3) :: The Beach :: Лебединая песня :: Шипы и розы (Шепот роз) :: Справочник по реестру Windows XP :: The Boarding House :: Ivy Day In The Committee Room |
Полосатая спинка. РассказыModernLib.Net / Природа и животные / Радзиевская Софья Борисовна / Полосатая спинка. Рассказы - Чтение (стр. 7)
А лето всё-таки лучше. Но в это лето пришла большая беда — война. — Она какая, война? — спросил Ванятка, но мать только заплакала и обняла их обоих крепко-крепко: — Хорошо бы тебе век не знать, какая она, сынок. Отца теперь дети видели редко. Приходил он больше ночью, с ним ещё один или два человека, свои из деревни, а чаще незнакомые. Мать знала, когда его ждать, с вечера не ложилась, прислушивалась. Ванятка ничего не замечал, набегается за день и спит как убитый. А Манюшка на самый тихий стук просыпалась, вскочит в рубашонке — и к отцу. Пока он ест, а мать ему мешок собирает — хлеба и еды всякой, Манюшка с него глаз не сводит. А раз вдруг сказала: — Тять, возьми меня с собой. — Куда? — удивился отец. — В партизаны, я ведь знаю. — Да что ты говоришь?! — воскликнула мать. Но отец остановил её, обнял Манюшку и сказал серьёзно, как взрослой: — Знаешь, дочка? Так помни, никому про то говорить нельзя. И меня погубишь и других. — Не скажу, — ответила Манюшка, тоже твёрдо, как взрослая. Теперь она даже с Ваняткой ссорилась меньше, сама его не задирала. Раз он изловчился, опять ленточку из косы выдернул. Манюшка вспыхнула было, но сдержалась, молча оторвала красную тряпочку и опять косу завязала. Ванятке даже дёргать стало неинтересно. Играть с Манюшкой тоже прежней радости не было: если и заберётся на печку, всё равно не хочет слушать, что Котофеич рассказывает, а сидит и своё думает. Ванятка уж сам пробовал послушать, прикладывался к Котофеичу ухом, пока тот не заворчал и нос ему не оцарапал. И всё равно ничего не понял: мурр да мурр, и как это Манюшка разбирается! Теперь Ванятка всё чаще стал убегать в деревню к товарищам. Играли в войну. Только вот сначала никто не соглашался немцев представлять. В конце концов договорились: одни будут «наши», а другие «не наши». В этот день Ванятка заигрался в деревне, проголодался промёрз и потому торопился домой. На крыльцо он взбежал одним духом, распахнул дверь да и замер на пороге: за столом на лавке, у окна на табуретках, на кровати сидели и лежали чужие люди. Говорили они тоже по-чужому, непонятно. Ванятка всё ещё стоял в дверях, разглядывая незнакомцев как вдруг к нему подбежала мать, схватила за руки и потащила в угол за печку. А сама шепчет: — Молчи, молчи, Ванятка! — И лицо у неё сделалось белое, как печка. Ванятка недовольно потянул руку: не тут-то было, не вырвешься. Один чужой встал, подошёл к ним и проговорил как-то странно, вроде и по-нашему и не по-нашему: — На тфор не ходить. Убию! — И показал нож, большой, как у дяди Егора. Таким он к Октябрьской поросёнка колол. Мать охнула. — Мамка, не бойся! Сегодня тятя из лесу придёт, он их прогонит, — сказал Ванятка и тут же вскрикнул: Манюшка больно ущипнула его за руку. — Молчи! — прошептала она ему в ухо, так что даже щекотно сделалось. — Молчи, Ванятка. Это немцы! Они тятю убьют… Немцы! Ванятке сразу захотелось зареветь, но он вдруг понял, что делать этого нельзя, и только спрятал голову в складках материнской юбки — всё не так страшно. От его валенок на полу натаяла большая лужа, прямо Манюшке под ноги. Но Манюшка и ноги не передвинула, точно окаменела. И лицо у неё тоже сделалось как у матери: белое-белое… Понемножку Ванятка осмелел, начал из-за печки выглядывать. А немцы всё не уходят. Тот, с ножом который, отрезал кусок одеяла и ногу себе обворачивает, толсто-толсто. — Он тятю тоже так резать хочет? — спросил Ванятка, но мамина рука зажала ему рот. А Манюшка вдруг взяла другую мамину руку и прижала к глазам, она всегда так делала, когда хотела приласкаться, и тихо пошла из-за печки к двери. — Стой! — крикнул тот, что резал одеяло, и приподнялся на кровати. Но другой засмеялся и показал на окошко, залепленное снегом. Манюшка, словно и не слышала их, спокойно открыла дверь, на минуту остановилась на высокой пороге. Мороз белым паром окутал её худенькое тело в грубой рубашонке и кофточке. — Манюшка… — всхлипнула мать и закрыла лицо руками. Метель замела все дороги, все тропинки. Снег, липкий, влажный, скопился в затишном месте на густой еловой ветке и вдруг тяжело и мягко, точно из засады, упал на плечи человека в белом полушубке с винтовкой. Человек пошатнулся, схватился рукой за шершавый еловый ствол. Его правая лыжа с размаху воткнулась в маленький снежный холмик. — Фу-у, на лыжах и то замучился, — сказал человек и, сняв рукавицу, протёр запорошённые весёлые глаза. — Ровно леший с дерева на плечи скокнул. Дядя Степан, далеко ещё бежать? — Задержаться надо маленько, — отозвался другой, постарше, тоже в белом полушубке, и поправил под рукой автомат. — Светло очень. Моя хата хоть и в лесу и немцев там будто не слышно, а всё поберечься лучше. — Степан помолчал, поправил ушанку и договорил вдруг совсем другим, потеплевшим голосом: — Ребят два месяца не видал, а Манюшка бедовая, вся в меня. Я, говорит, тоже с тобой хочу. В партизаны. Я знать давал с Костей, сегодня, мол, буду. Как ждут-то! Ты это чего? Передний нагнулся к лыже, завязшей в сугробе, и стоял не разгибаясь. Степан шагнул к нему. Белая фигурка в домотканой рубашонке, сжавшись клубочком, неподвижно лежала в снегу. — Она! — проговорил Степан внезапно охрипшим голосом и повалился на колени. Маленькое тельце чуть пошевелилось, когда он рывком прижал его к груди. — Она… Вась, да что же это? — Не теряйся, дядя Степан, — откликнулся Вася и проворно скинул меховые рукавицы. — Живей, в полушубок с головой заворачивай. Пристыла маленько, ничего, отогреется. Вертай назад. — Назад? — словно во сне проговорил Степан. Манюшка, с головой укутанная в полушубок, неподвижно лежала у него на руках. — А ты думал — куда? Немцы там, ясное дело. Не теряйся, Дядя Степан. Шагай знай. Там разберёмся. Землянка вместила столько людей, сколько могла, но не столько, сколько хотело в неё войти. Люди столпились у входа, заглядывали в маленькое оконце. Говорили шёпотом, словно боялись разбудить кого. Вася не отходил от Степана. — Оживела! — обрадованно воскликнул он. — Глазами моргает! Дядя Степан, не плачь. Не теряйся, дядя Степан! — И тут же, не скрывая, сам кулаком вытер глаза. А Манюшка тем временем, и правда, пришла в себя, но видимо, ещё не совсем, потому что не удивилась ни землянке, ни тому, что отец сидит около неё. Но вот она вздрогнула, приподнялась на нарах. — Тятя, — сказала она. — У нас немцы. Не ходи. Убьют! И тут силы её кончились, она опустилась на подушку и закрыла глаза. — Видно, и бежала-то тебя спасать, — сказал старый партизан и бережно накрыл девочку полушубком. — Теперь ей только спать да спать. Собирай народ, Степан! Манюшка спала долго и крепко под тёплым полушубком, а проснувшись, увидела: землянка пустая, на столе горит маленькая лампа-коптилка, а в углу на чурбашке сидит незнакомый вихрастый мальчишка и смотрит на неё сердитыми глазами. — А тятя где? — спросила она и испугалась: вдруг мальчишка скажет: «Он тебе приснился». Но мальчишка шмыгнул носом и вытер глаза кулаком. — Ушёл, — сказал он. — Все ушли. Немцев бить, которые в вашей хате. — На этом он уже откровенно всхлипнул. — Из-за тебя всё! Меня не взяли. Тебя нянчить оставили. Ишь, сама чуть не с меня ростом! Воды, говорят, подать. А что ты сама не напьёшься? Вон в углу ведро. Пей, хоть лопни! — А мне такую рёву-корову и вовсе в нянки не нужно, — рассердилась Манюшка и хотела было с нар прыгнуть — показать, что она в мальчишке не нуждается. Не тут-то было: голова у неё закружилась, и ей пришлось снова лечь. — Ну что? — усмехнулся мальчишка. — Лежи уж лучше. Коли надо, и впрямь воды подам. Но Манюшке стало не до ссоры. — К немцам пошли… А может, тятю убьют, — тихо проговорила она и осторожно приподнялась на локте. — Ты скажи, не убьют его? — Чего там убьют! — Мальчишке понравилось: девчонка, видно, заноза, а его спрашивает. — Разве такие дела делаем. Из-за тебя меня вот не взяли. Я бы им показал… Манюшка внимательно на него посмотрела. — Может, и вправду не врёшь, вихрастый, — задумчиво проговорила она. Мальчишка обиделся. Перемирие, которое уже налаживалось, лопнуло. — Вихрастый, — передразнил он. — У самой, гляди, коса крючком, даже из сугроба торчала. По крючку и нашли с красной тряпкой. Манюшка подняла руку, неуверенно потрогала косичку. — Я шибко бежала, — с усилием заговорила она, припоминая. — Шибко. Не замёрзнуть чтобы. А потом… — Чего потом-то? — заинтересовался мальчишка и подошёл ближе. — Ты скажи, чего потом? Эх, да она опять спит. Дела! И опять я её, несчастный, сторожи!.. Мальчишка махнул рукой и снова устроился на своём чурбашке. Но ему не сиделось. То и дело он выбегал из землянки и слушал, не хрустнет ли где снег под осторожными шагами. Ждать было жутковато: мягкие шорохи подступали к землянке со всех сторон, ползли с вечерними косыми тенями. И вот, наконец, по-настоящему хрустнуло. Кажется, лыжи шуршат. Наши? А кто его знает… Мальчугана как ветром сдуло вниз, в землянку. Скоро в землянке снова стало тесно. Вместе с партизанами тётка какая-то пришла и с ней мальчишка, Манюшки поменьше. Мать она ей, что ли? — Манюшка!.. — только и сказала мать, да так и приникла к ней, руками обхватила. А Манюшка проснулась и спросила: — Мамынька, это ты, а тятя-то жив ли? Ой, вижу, тятя, живой ты!.. — Живой, — ответил Степан и, как был в полушубке, поднял Манюшку с нар и прижал к себе. — Спасла ты меня, доченька, ведь я к немцам прямо в лапы шёл! Манюшка крепко обхватила шею отца, отстранилась и посмотрела ему в глаза. — А мне с тобой можно остаться? — спросила она. — Вон у тебя какой-то мальчишка чужой. И ещё дразнится: по косичке с ленточкой, говорит, нашли. Степан потрепал её по щеке: — Уж и с ним поцапалась, бедовая! И мать с Ваняткой, и ты тоже тут останетесь. Теперь немцы, если опять к нам домой наведаются, никого не помилуют. Мы им там жару дали. Только ты с Сенькой не вздорь, вы у нас оба вроде связные будете. — Пусти Манюшку, — попросила мать. — Вот, оденься, дочка, всё я тебе принесла. Нельзя ей было одеться. В кофтёнке пошла. Не думала я её живую увидать… — Зато с ленточкой! — засмеялся отец и ласково потянул за косичку. — Ишь распустилась. Мать, ты ей опять завяжи. — Не надо, — заговорил вдруг один партизан и протянул руку. — Дай-ка, мать, ленточку. Мы по кусочку себе на рукава пришьём. На память, как дочка отца спасла. Манюшка вся вспыхнула и за мать спряталась. Кто-то тихонько потянул Манюшку за руку. Она живо обернулась: Сенька! И уж совсем собралась было показать ему язык, а он говорит: — Ты мне тоже кусочек дай. Ладно? Я больше дразниться не буду, как мы оба с тобой теперь связные. ПЛАТОЧЕК 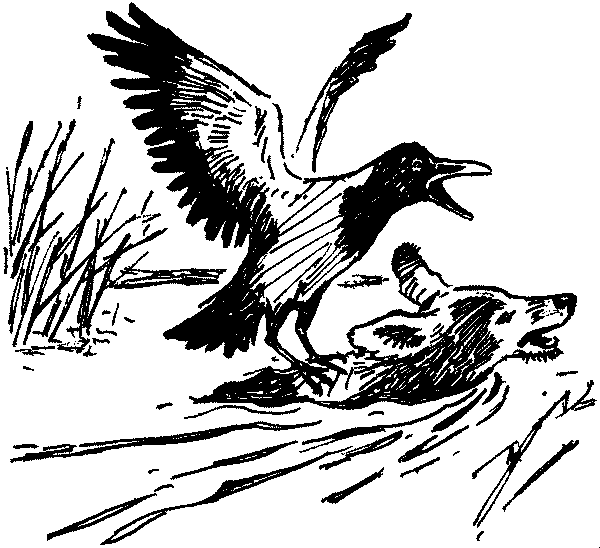 Рыжий большеголовый мальчишка держал в руках ворону. Одной рукой он прижимал её к груди, а другой щёлкал по носу. Ворона изо всех сил мотала головой, пытаясь освободиться. Перья на загривке стали у неё дыбом, а глаза были злые и испуганные. Она тяжело дышала, широко раскрыв клюв, и пыталась каркнуть. Но каждый раз при этом мальчишка щёлкал её по носу и взвизгивал от удовольствия: — А, ты так? А, ты так? А я — вот так! Мальчишка, как нам показалось, был сильный и сердитый. Его рыжие волосы блестели, хитрые серые глаза тоже, а редкие зубы так и оскаливались при каждом щелчке. Мы с сестрёнкой стояли, взявшись за руки, держа в свободной руке по корзиночке, полной земляники. На глазах у нас были слёзы жалости к бедному воронёнку и страха перед его мучителем. Нам обеим хотелось убежать домой или хоть спрятаться за кустом. Но вместо этого мы, дрожа и не сводя глаз с загорелой веснушчатой руки мальчишки, подходили к нему всё ближе и ближе, точно кролики к удаву. А он, не замечая нас, сидел на пне, широко расставив босые ноги, и всё щёлкал и щёлкал воронёнка по раскрытому беспомощному клюву. — А я — вот так! — повторил он и вдруг, подняв голову, увидел нас, перепуганных, жавшихся друг к другу. На минуту он остановился и даже опустил руку. Его глаза обшаривали кусты вокруг нас, убеждаясь, что мы единственные свидетели его развлечений. Успокоившись, он сдвинул брови. — Вы чего тут потеряли? — спросил он нас, по-прежнему крепко держа воронёнка левой рукой. Воронёнок хрипло пискнул. Мы вздрогнули, посмотрели друг на друга и обе почувствовали, что страх куда-то пропал, жалость к воронёнку сделала нас храбрыми. — Отдай воронёнка! — проговорили мы разом и сделали шаг вперёд, тяжело дыша от волнения и держась за руки. Мальчишка удивился. Серые глаза его снова забегали по кустам — не близка ли нам неожиданная помощь. Затем, прищурившись, он высунул длинный язык и вдруг засмеялся. — А что дашь? — спросил он меня и снова щёлкнул воронёнка по носу. Мы переглянулись и одновременно протянули ему корзиночки с ягодами. Мальчишка покачал головой. — Ягод я и сам наберу, вишь — удивили. Нет, вы платки свои давайте, обе, тогда отдам. — И он показал на наши яркие платочки. Их нам сегодня надели в первый раз с приказанием не запачкать и не потерять. Мы опять посмотрели друг на друга. — Живо давайте! — прибавил мальчишка, заметив наше колебание. — Сейчас давайте, а то задушу. Вот! — И он стиснул воронёнка так, что тот замотал головой и жалобно пискнул. Это решило дело. Мы быстро развязали новые платочки и протянули ему. — Давай ворону! — решительно сказала я, стараясь смотреть мимо веснушчатой руки. Одной рукой мальчишка по-прежнему крепко держал воронёнка, другой быстро схватил добычу и принялся засовывать её за пазуху в расстёгнутый ворот рубашки. Мы следили за ним, затаив дыхание. Вот один только кончик торчит, голубенький, словно цветочек, но вот и он исчез. — Спрятал, — прошептала сестра, и голос её дрогнул. — Держите вы, сами вороны! Мальчишка бросил воронёнка мне прямо в лицо, рассмеялся и, выхватив у меня из рук корзиночку с ягодами, быстро побегал под горку, перепрыгивая через пни. Я еле успела поймать воронёнка, чтобы он не оцарапал меня судорожно растопыренными лапками, и осторожно прижала к груди. И воронёнок понял ласку. Он рванулся было у меня из рук, но вдруг притих и задышал ровнее. Пёрышки на голове у него опустились, и клюв закрылся. Озлобленное выражение пропало, из злого драчуна он вдруг превратился в измученного и усталого детёныша. Мы уже забыли о платочках. Мы стояли и гладили его кончиками пальцев, заглядывала ему в глаза и радостно смеялись. — Понесём скорее домой, — сказала Катя. — Покормим его, он и приручится. Ведь приручится, а? — Он уже приручился, — уверенно заявила я. — Смотри, он не боится, понимает, что мы не позволим его мучить. До дома было недалеко. Он стоял на краю вырубки, где мы собирали землянику, и издали было видно, как мама развешивала мокрое бельё на кольях забора. — А платочки-то унёс, — тоскливо прошептала Катя уже перед домом. — В чём мы теперь ходить будем? — Старые наденем, — храбро отвечала я, стараясь не показать, что и у меня губы задрожали. — Мама не рассердится, она добрая, мы всё расскажем. Мама и правда не рассердилась, даже улыбнулась, хоть и покачала головой. — Эх вы, защитницы, — сказала она. — Теперь будете ходить в старых платках. Ну, хорошо, несите свою птичку в сарай, отдохнёт она там. Только смотрите, чтобы цыплят не таскала. И воронёнок поселился в сарае. Приручать его не пришлось. Осмотревшись на новом месте, он подскакал к нам и, раскрыв рот, с криком стал махать крыльями. — Это он просит есть, — сказала мама. — Намочите хлеба в молоке и дайте ему немного, чтобы не обкормить, а потом воды с ложечки. Но обкормить его было нельзя. Он ел целый день всё, что угодно: хлеб, мясо, картофель. Сам есть он ещё не умел. Мы запихивали ему пищу прямо в горло, так что иногда он кашлял и задыхался. Но, проглотив, он опять скакал за нами по сараю и кричал ещё громче. Мы были в восторге. Кормить его нам нравилось так же, как ему — есть. Мы сидели на полу с чашками в руках и громко смеялись, когда он хватал нас за пальцы. На третий день мы решились выпустить его из сарая. — Вот увидишь, что он приручился, — уверяла я сестру, хоть сама и боялась немного: а вдруг улетит? Воронёнок на минуту остановился на пороге, оглянулся и… поскакал за нами по дорожке, будто собачонка. А мы смеялись и прыгали от радости. — Иди, иди! — звали мы воронёнка. — Иди, мы тебя ещё покормим. Иди, Платочек! Платочком мы назвали его в память о том, что мы отдали за него. Воронёнок остался во дворе, а мы побежали домой — принести ему чего-нибудь вкусненького. Вдруг на дворе поднялся скандал. Куры кричали так, словно увидели ястреба. — Катя, скорей! — закричала я. — Наверно, ястреб цыплёнка схватил. — И мы бросились назад. Никакого ястреба не было, за него отдувался наш бедный Платочек. Он тоже кричал, но от боли, голос его тонул в общем гаме, а куры клевали и щипали его, только перья летели по воздуху. Мы со слезами ринулись в бой и выхватили воронёнка чуть живого. Он весь дрожал. — Противные, гадкие! — кричала Катя и плакала. — Бедный Платочек, за что это они тебя? — За цыплят, — сказал отец, который тоже пришёл на шум. — Вороны часто таскают цыплят, и куры это знают. Смотрите, чтобы ваш Платочек за это не принялся! Весь день воронёнок не ел, сидел в углу сарая и так жалобно смотрел на нас, что казалось, будто он умирает, и ночью мы горько плакали в подушку. Но на следующий день он встретил нас как ни в чём не бывало: махал крыльями и ел за два дня сразу. Пришлось продержать его в сарае до тех пор, пока он не научился летать. К этому времени он стал удивительно красив. Питался Платочек у нас, вероятно, лучше, чем на воле, поэтому был крупнее других ворон, и пятно на голове было тоже чуточку больше. — Правда, наш Платочек в платочке? — говорили мы. И забавно же было смотреть, как он дразнил кур в отместку за первую встречу. Сядет на забор, невысоко, но так, чтобы его достать было нельзя, и смотрит. Куры соберутся, кричат, сердятся, а он нагнётся и отвечает им: — Карр! Карр! За сестрой и за мной Платочек бегал, как собачонка, прыгал на колени и заглядывал в глаза. Мама наша целый день хлопотала по хозяйству, а папа уходил на работу очень рано, так как жили мы на окраине и идти было далеко. Но мы только радовались этому: раздолье, свобода. За огородами нашего пригородного посёлка текла речка и начинался лес, тот самый, в котором мы собирали ягоды в где нашли воронёнка. Ходили мы туда всё лето и близкую его часть знали хорошо. Но дальше, за весёлой, болтливой речкой Незванкой, начинался старый еловый лес, тёмный и таинственный. И жил в нём один лесник, про которого ходили странные слухи, и была у него чёрная с белой кисточкой на хвосте собака, громадная и злая, по кличке Волк. — У неё кисточка, знаешь, зачем? — шёпотом говорила мне Катя, и её большие голубые глаза делались совсем круглыми от страха. — Эта кисточка, чтобы её леснику было и ночью видно. Они вместе ночью охотятся. Собака зайцев ловит, леснику носит. А раз мальчика маленького собака в лесу загрызла. Как за горло схватит… он и крикнуть не успел! А лесник мальчика в реку бросил. Это тётка Дарья маме рассказала. А мама засмеялась и говорит: «Всё это глупые выдумки. Если бы мальчик действительно пропал у кого, мы бы знали. Да и кто пустит ребёнка ночью в лес?» В тот вечер мы долго сидели на печке и шушукались. За окном гудел ветер, и, когда мама открывала дверь, он вырывал её из рук и хлопал ею так сильно, что весь дом вздрагивал. — А ты веришь? — спрашивала я, замирая от страха и желания, чтобы это и в самом деле было правдой. — Конечно, верю! — убеждённо отвечала Катя. — Мальчик-то был чужой, заблудился, потому его и не искал никто. Вот как тётка Дарья говорила, — закончила она и торжествующе посмотрела на меня. Я была побеждена. Долго, прижавшись друг к другу, сидели мы на печке. Лампа под зелёным абажуром ярко освещала стол, а в углу сгустились полутени. — Ну, запечные жители, — весело сказал наконец папа, отодвигая книгу, — пожалуйте ужинать и марш спать, а то за день-то набегались. Смотрите, ваш Платочек уже третий сон про белые булки видит. Мы засмеялись и соскочили с печки. На столе стоял чугунок с кашей и кринка молока, а мама возилась около печи, вынимая горячие пироги. Ворона и правда спала, сидя на спинке кровати — на своём любимом месте, под которым мы с Катей аккуратно расстилали лист бумаги… Совершенно приучить к чистоте нашего воспитанника нам не удавалось. Услышав возню за столом, Платочек сейчас же сорвался с места и перелетел на спинку отцовского стула. Здесь он всегда сидел и высматривал, нет ли на столе чего по его вкусу. Завидев пирог или белую булку, он прыгал на стол, хватал кусок побольше и перелетал на подоконник или, если окна были открыты, улетал в сад и там съедал добычу. Иногда прятал её в свой заветный «сундук» на крыше сарая, под дранкой. В этот вечер окна были закрыты. Платочек быстро наелся и стал сердито стучать в стекло носом, положив недоеденный пирог на подоконник. — Ффффф, — шипел он. Окно не открывалось, а пирог надо было спрятать непременно: вдруг кто соблазнится и утащит. — Не выпускайте его, — сказала мама. — Потом опять стукаться начнёт, — впускай его, а всем уже спать пора, завтра рано вставать. Как ни сердился Платочек, пришлось остаться дома. Взъерошенный и злой, он караулил на подоконнике кусок пирога и неблагодарно ущипнул меня за палец, когда я подошла погладить его. — Ну и сиди! — рассердилась я и пошла умываться. — Девочки, — через минуту позвал нас отец и тихонько засмеялся. — Посмотрите, что ворона выделывает! Платочек сидел на кровати и с сердитым бормотаньем запихивал пирог под подушку. Готово! Он с торжествующим видом отошёл и, подозрительно покосившись на нас, взлетел на спинку кровати. — Молодец, ловко спрятал! — смеялись мы и вперегонки прыгнули на кровать — устраиваться на ночь. «До моего пирога добираются! Э, нет! Не позволю!» Разъярённая ворона в одну минуту оказалась на подушке и ринулась в бой. Рраз! — и Катя с криком схватилась за щеку. Два! — закричала и я от сильного щипка за ухо. А Платочек, весь взъерошенный, широко расставив лапки и распустив крылья, боролся за своё достояние. Тут уж вмешался папа и перенёс пирог на пол, в уголок, под газеты. Мы были незаслуженно обижены, щека и ухо болели. — Из-за противного пирога, — плакала Катя, — из-за пирога на нас бросился, на своих матерей! И мы успокоились только тогда, когда придумали жестокую месть: заведём какую-нибудь другую птицу и будем любить её больше, чем неблагодарную ворону. Уже засыпая, я почувствовала, как Катя дёргает меня за руку. — Знаешь, я боюсь, что даже нарочно не смогу другую птицу полюбить больше Платочка. Правда, обидно? Но у меня уже не хватило силы ответить. Утро выдалось ясное и такое тёплое, что мама вынесла самовар на столик перед окнами. За ночь обида прошла, мы сидели за столом весёлые, а Платочек клевал хлеб с творогом. — Чего он только не ест! — удивлялась наша квартирная хозяйка, толстая ворчунья Мария Яковлевна. — На, Платочек, Что ты с этим делать будешь? — И, смеясь, подала ему большую конфету. Платочек вежливо взял конфету и огляделся — есть не хочется, на крышу лететь лень. Куда же спрятать? А, догадался! Слетев на землю, он положил конфету на песок и несколькими ударами клюва закопал её. Мария Яковлевна опять засмеялась и палочкой выковыряла конфету. Хорошо, что палке не больно. Здорово же её клюнули! Ворона рассердилась и задумалась. «Неужели всё-таки лететь на крышу?» Около конфетки крепко спал щенок Урсик. Ворона осторожно, с видом доктора на операции, шагнула к нему и, потянув пушистый хвост за самый кончик, раскрутила его и закрыла им конфетку. Вот это чистая работа! С довольным видом ворона отступила, и вдруг перья на её голове так и встали от негодования: хвост мгновенно пружиной закрутился на спину, а конфетка так и осталась лежать на виду. Скорый на расправу, Платочек в ярости щипнул собачонку и уже без всякого стеснения опять потянул за хвост. Бедный Урсик спросонья страшно перепугался, вырвал хвост из вороньева клюва и на этот раз крепко прижал к животу. Ворона зашипела, как гусак, и, долбанув Урсика в живот, снова вцепилась в несчастный хвост. Щенок не выдержал и с отчаянным визгом побежал к дому, а Платочек летел за ним и ещё несколько раз успел тюкнуть его клювом за непослушание. Вернувшись назад, он потащил конфетку на крышу сарая и долго разбирал там своё имущество. Мы все просто умирали от смеха. — Надо как-нибудь заглянуть в его запасы, — сказал папа. — Вороны, как сороки, любят таскать самые неожиданные вещи, особенно всё блестящее. Ну, мне пора, будьте умницами, девочки! И папа ушёл. Мама занялась шитьём, а мы, послонявшись по огороду, пошли домой за корзиночками. — Мама, мы в лес за ягодами. Можно? — Только далеко не ходите, — ответила мама обычной фразой и занялась своей работой. А лес с нашего пригорка виден был далеко-далеко. Вблизи солнечный и весёлый, а дальше — нерубленый, густой в таинственный. Я вдруг расхрабрилась. — Катя, давай возьмём ворону и хлеба и пойдём вон туда, далеко, хочешь? Катя робко посмотрела на меня. — Да, а лесник-то, помнишь? И собака у него… Но я была неустрашима. — Ну, и пожалуйста, не хочешь — не надо, одна пойду. Это прежде девочки были трусихами и мальчишки над ними смеялись, а теперь у нас разно… разноправие, — и я гордо взглянула на Катю. Катя посмотрела на меня с уважением. — А что это — разноправие? — Это… это… вот когда тебе будет девять лет, тогда и узнаешь, теперь не поймёшь! — Ещё два года ждать, — с грустью сосчитала Катя. Положив в корзиночки по большому куску хлеба с маслом, мы вышли из дома. Перебежали по шаткому мостику речку Незванку и зашагали к вырубке. Ворона и Урсик, как всегда, увязались за нами. Урсик весело бежал впереди, а Платочек по-прежнему никак не мог приспособиться к нашим шагам. Крылья уносили его слишком быстро вперёд. Приходилось поджидать нас на какой-нибудь ветке и скучать. А если бежать по земле — коротенькие ножки не поспевали за нами. И вот Платочек, залетев метров на двадцать вперёд, опускался на землю и принимался бежать что есть силы, спотыкаясь и оглядываясь — скоро ли его догоним. Утомившись, он садился ко мне или Кате на плечо, но спокойно ему не сиделось, и он снова принимался за свои фокусы. Платочек сердился и шипел, а мы смеялись до упаду и незаметно всё шли и шли извилистой тропинкой между пнями и громадными старыми соснами. Наконец ворона придумала такое, что мы от удивления даже смеяться перестали и чуть не выронили из рук корзинки. Поднявшись кверху, она опустилась Урсику на спину и запустила крепкие когти в его пушистую шкурку. Урсик взвыл и заметался. Ворона сидела как в цирке, покачивалась, но держалась. Однако Урсик не собирался сдаваться. Он бросился на землю, перекатился на спину и чуть не подмял ворону под себя. Своенравная птица не выдержала. И славно же отделала она непослушного щенка: долб в спину, долб в загривок, цап за ухо! «Что, теперь будешь слушаться?» И Урсик, поджав хвост, бросился бежать, а ворона опять уселась ему на спину, слегка распустив крылья для равновесия, очень довольная своей выдумкой. Но вот тут-то она и просчиталась. Урсик, покорившись силе, далеко не примирился со своим унижением и придумывал план мести вороне. Случай представился неожиданно. Мы давно уже свернули с вырубки в густой старый лес и совсем неожиданно вышли к незнакомой речке. Мы остановились было и оглянулись назад. Вдруг мимо нас пулей пронёсся Урсик с вороной на спине и прыгнул прямо в речку. Сознательно он это сделал или нет, но водой ворону сшибло с его спины, и наш бедный Платочек с криком закружился в быстром течении. Пёрышки его намокли, он бился, а вода несла его всё дальше. С плачем мы кинулись бежать по берегу, продираясь сквозь кусты. Корзинки с ягодами бросили — не до них было. А Платочек кричал всё тише и уже несколько раз окунался в воду с головой. Не помня себя, я прыгнула в речку. Протянутые вперёд руки вцепились в растопыренные крылья Платочка, но я сама в ту же минуту пошла ко дну. О том, что не умею плавать, я и не подумала. Вдруг кто-то схватил меня за шиворот, потянул кверху, и я оказалась на берегу, всё ещё судорожно держа в руке полуживого воронёнка. Круглая веснушчатая физиономия со знакомыми рыжими вихрами весело смотрела на меня. — Вот те на!.. — протянул мальчишка. — Я тебе ворону подарил, а ты её в речке топишь! — Я не топлю, — задыхаясь, ответила я, — это её Урсик утопил. Тут с плачем прибежала и бросилась мне на шею Катя. — Я думала, ты утону-у-ула! — плакала она. — И хорошо бы сделала, — отозвался мальчишка, и лицо у него стало злое-злое. — Она мне все удочки перепутала и рыбу распугала. Возьму вот тебя и её тоже (он показал на Катю) и утоплю опять, а вороне шею сверну! Мы прижались друг к другу. День был полон слишком сильных впечатлений, и нам нестерпимо захотелось домой. — Мы не знали ведь про рыбу! — дрожащим голосом сказала я. — Отпусти нас, пожалуйста! — То-то, отпусти! — смягчился довольный нашим испугом мальчишка. — А чего вы мне за рыбу-то дадите? Мы тоскливо переглянулись. — Ничего у нас нет, — жалобно сказала Катя. — И платочки старые. А корзиночки мы потеряли. Отпусти так! В эту минуту в кустах что-то зашумело и на поляну выскочила… громадная чёрная собака с белой кисточкой на кончике хвоста. Меня забила лихорадка, и не только от купания. — Испугались! — подмигнул мальчишка. — Ну, ладно, ничего вам не будет. Дорогу-то домой знаете? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
|||||||