 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Ожидание (три повести об одном и том же)ModernLib.Net / Детская проза / Погодин Радий Петрович / Ожидание (три повести об одном и том же) - Чтение (стр. 2)
У моего сотоварища на барже все женщины с ребятишками да старые матери-бабки. Шли ночью. Хоть и светлая, а всё ночь. Уже Кронштадт – спасение ихнее – вот он, из воды торчит. Беда на беду ложится: у моего сотоварища на барже лопнул буксирный трос. Баржу разворачивает волной. Волна та накатистая шла, гонит баржу на мелкое место. Буксиру повернуть невозможно, бо у него на гаке ещё две баржи с народом. Переговорили, как положено морякам, на сигнальном морском языке, – порешили. Пошел буксир в Кронштадт, а мой знакомец якоря бросил. Ждут люди, когда буксир за ними обратно вернётся, спокойно ждут, без паники, бо тут паники не должно. Дети спят. Женщины дремлют. Бабки совсем без сна, они мало за свою жизнь спали, а к старости и совсем разучились. Мой сотоварищ на носу был, с буксирным тросом занимался. Жена его у надстройки. Там она тент приладила ситцевый, в красную розочку, чтобы ребятишкам в тени спать, когда солнце встанет. Замечал, когда солнце над морем ещё не поднялось, – облака розовые? Будто перьями по всему небу. А вода тёмная. В этот час оно и случилось. Прямо из розовых облаков спустились они со своими бомбами. За сто вёрст видать – груз не военный – мирные женщины с ребятишками. А они ж налетели, будто на крейсер. Вода от взрывов, как пиво, вверх лезет. Ребятишки в рёв – какая у ребятишек защита? Жмутся под ситцевый тент и ревут. Мой сотоварищ бросился на помощь бежать. Взрывом оторвало палубную обшивку, свернуло трубой. Запеленало его в эту трубу. Сперва сознание от него ушло, мабуть, на целую минуту. А когда возвратилось, он вокруг глянул. Баржу перерубило на две половины, и каждая половина тонет сама по себе. А между ними народ тонет. Мой сотоварищ рвётся из железных своих пелёнок – рукой не шевельнуть, как в клещах. А народ тонет. Нос высоко задрался, почти свечой – большое пространство воды видно. Ребятишки тонут. Женщины прилаживают их к плавучим обломкам: может, продержатся, пока помощь поспеет, может, прибьёт волной к берегу. А не прибьёт их волной к берегу: сверху их из пулемётов топят. Взрослый мужик молча старается умереть. Ребятишки – они же теснятся друг к дружке и плачут, они смерти не понимают. И вот в этой беде моему сотоварищу все эти ребятишки его родными детьми показались. Он закричал. Зовет их. А что пустой крик в море? Такая есть боль, – когда жена, когда дети на твоих глазах тонут и их вдобавок из пулемётов бьют, а ты им помочь не умеешь. Он кричал летчикам: «Гады вонючие, в меня цельте, вот я!». Голову высунет из трубы, чтобы в него попало. А не попало – всё в железо да в железо. Корма с надстройкой ушла под воду быстро. Носовая часть не тонет дальше. Мабуть, на грунт встала, мабуть, воздух скопился в самом носу. Мой знакомец над водой повис. В лицо ему волна тычет. Море опустело. Узлы, плавучие ящики, чемоданы унесло к берегу. Только тент ситцевый, под которым ребятишки прятались, плавает. Мой знакомец долго кричал в пустое море. Плакал один. И когда его вытащили из железа матросы с «морского охотника», он кричал, ребятишек звал. Не хотел он жить. И в госпитале кричал. Свесится с койки к полу, его же ж привязывали, и кричит – зовет ребятишек. А никто ему не откликнется… * * *
Дождь гудел на асфальте. Было совсем не понятно, как может небо скопить в себе столько воды. Удивленные люди уже не пытались перебегать улиц. Люди жалели милиционера, который стоял на перекрёстке. Старушка в чёрном пальто, с плешивым усталым терьером на поводке попросила: – Молодые люди, отнесите милиционеру мой зонт. Пожалуйста, будьте любезны. – Спасибо, мамаша, то есть гражданка, я тут, – раздался чей-то смущенный голос. И все увидели милиционера. Он стоял под карнизом, в толпе промокших насквозь студентов. – Боже, какая стихия! – вздохнула старушка. Автобусы проплывали мимо, не отворяя дверей. – Я у вас не про такую боль спрашивал, – сказал Вандербуль старику. – Это ж она и есть, самая наитяжёлая физическая боль. И воздух вокруг, а дышать нечем. И ухватиться не за что, а если и ухватишься, оно, как трухлявое дерево, под рукой сыплется. И ты будто воешь, а звуку твоего не слышно… Когда через неделю мой сотоварищ очнулся в госпитале, – узнал от главного врача, что нога у него сломана, два ребра смяты и ключица наружу, не считая нарушения внутренних органов. «Это во мне враз заживет, – сказал он врачу. – От этого я не дюже страдаю. Я теперь такой человек, что и смертельную боль приму спокойно и независимо от прожитых годов». – Может, вы про себя рассказывали? – спросил Вандербуль. Старик усмехнулся, посмотрел на свои бурые, словно сплетённые из шнурков руки. – У меня своя биография, у него своя. Я недавно с ним познакомился – в позапрошлом годе. Он в Новороссийске сейчас проживает по инвалидности. Он же ж в конце войны ослеп и сейчас слепой. Он же ж какую силу в себе имеет – на кабана ходит с собакой. По шороху стреляет, по звуку. Дождь ударил ещё сильнее. Казалось, он пробивает асфальт и земля, пропитавшись влагой, плывёт под асфальтом, и мостовая рухнет сейчас. И рухнет город. – Я у вас всё равно про другое спрашивал, – сказал Вандербуль. – Такая сказка есть… Был один король, а у него – полководец. А у полководца был помощник. Король был очень знаменитый, потому что у него был полководец очень хороший. Он королю все войны выигрывал. А помощник завидовал и от зависти задумал злодейство. Король был обжора, у него от этого часто живот болел. Когда у него живот болел, у него настроение портилось и он на всех бросался. Помощник подождал, когда у короля живот заболит, и нашептал ему на ухо, что полководец готовит в войске измену. Король приказал полководца позвать и как закричит на него: «Говори, пёс-изменник ты или нет?!» – «Я твой верный солдат», – сказал ему полководец ровным голосом. «А чем докажешь?» – «Даю руку на отсечение». Король выхватил свой обоюдоострый меч и отсёк полководцу руку. И ни один мускул не дрогнул у полководца на лице. Вот какой был, – Вандербуль вздохнул и даже закашлялся от восторга. – Вот я про что спрашиваю. Ему руку отсекли, а у него даже брови не шевельнулись. Старик засмеялся. – Красивая твоя сказка. Только, думается, она не для жизни, а так – вроде бы для картинки. Для жизни она дюже красивая. Дождь оборвался внезапно, только отдельные капли шлёпали по асфальту. На улице стало шумно и очень людно. Осторожно ступая, вышла из ворот пёстрая кошка. Голуби вылетели из-под карнизов. – Славный был дождь, – сказал старик. – Хочешь, в кино пойдём, картину посмотрим? Всё равно я сейчас свободный от дела. – Спасибо, – пробормотал Вандербуль. – Я домой. Он пожал старикову руку. Старик попридержал его. – Тебе куда? – Туда. – Значит, нам в одну сторону. Прохожие покупали сигареты с такой поспешностью, будто билеты на киносеанс, который уже начался. Старик взял пачку махорочных и коробку болгарской «Фемины». – Для угощения, – объяснил он. – Твои родители кто? Вандербулю стало неловко. – Обыкновенные, – прошептал Вандербуль. Он даже не знал, где работает его отец-инженер. Отец никогда не рассказывал о себе ничего такого, чем Вандербуль мог бы похвастать. Не отличался его отец ни силой, ни ростом, ни бойкостью в разговорах. Мать у него тоже была обыкновенная. Вандербуль вдруг почувствовал себя обворованным и униженным. Ему стало ясно, что жизнь обошла его, не одарив с рождения гордостью за родителей. Мимо прошел пожилой моряк с широкой нашивкой. «Капитан, – подумал Вандербуль. – У этого есть чем гордиться». Он позавидовал капитанским детям и, не глядя на старика, соврал: – Мой отец капитан. Его корабль налетел на старую мину у Курильских островов… Никто не спасся. – Значит, ты моряцкой породы, – пробормотал старик. – А мамка что же? Снова замужем? Или вдовствует? Люди врут, чтоб возвыситься. Ложь потащила Вандербуля в щемящую смуту, где каждый человек может увидеть себя хоть самим Прометеем. – Она в больнице. Может быть, умерла… – Вот как, – остановился старик. Вандербуль смотрел в землю. Струйки грязной воды текли по асфальту. – А я, старый леший, тебе рассказываю. Вот почему ты болью интересуешься. – Я у тёти живу, – сказал Вандербуль. Он ещё был высоко в своей лжи и чувствовал, что придуманные страдания сжимают сердце не слабее, чем настоящие. Ему даже показалось, что великие герои тесно столпились вокруг и смотрят на него, как на равного. И он поднял голову. За деревьями, за чёрными крышами торчали антенны и клювастые краны. По Межевому каналу буксир тащил баржу. Пахло корюшкой, будто свежими разрезанными огурцами. – Я домой, – сказал Вандербуль. На просмолённых досках дрожала радуга. Автобусы разрывали её, но она снова смыкалась. Старик проводил Вандербуля до самых ворот. Дворник Людмила Тарасовна подметала асфальт. – Что с ним? – спросила она. – Может, его машиной задело? Старик угостил её сигаретами – распечатал коробку «Фемины». – Напрасно так думаете. Кто же ж такого хлопца заденет? Славный хлопец. И вы тоже славная женщина. Старик попрощался с Вандербулем. И когда он ушёл, Вандербуль почувствовал, что остался один на всем свете. СЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА Вандербуль позвонил своему товарищу Геньке. Генька распахнул дверь и потащил Вандербуля по тёмному коридору. – Хочешь, я тебе электрический граммофон заведу? – сказал Генька в комнате. – Серьезная музыка успокаивает нервы. Вандербуль посмотрел на него пустыми глазами. – Не нужно. Меня из больницы прогнали. Генька остановился с пластинкой в руке. – Жалко. Генька всё знал про боль. И никто не видел, как он плачет. Сейчас он стоял перед Вандербулем, рассматривал граммофонную пластинку, словно она разбилась. Вандербуль тоже смотрел на эту пластинку, переминался с ноги на ногу. Генька вытер пластинку рукавом, поставил её в проигрыватель. В динамике загремели трубы, заверещали скрипки, рояль сыпал звуки, словно падала из шкафа посуда. Музыка была очень громкая, очень победная. – Что делать? – спросил Генька тихо. Вандербуль уже знал: нужно сделать такое, чтобы люди пооткрывали рты от восхищения и чтобы смотрели на тебя, как на чудо. * * *
– Позовём ребят, – сказал Вандербуль. Пришли Лёшка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра. Сидели на кухне. – Я опущу руку в кипящую воду, – сказал Вандербуль. – Кто будет считать до пяти? У Лёшки обвисли уши. Люциндра вцепилась пальцами в табурет. Шурик проглотил слюну. – Ты опустишь? – Я. Шурик забормотал быстро-быстро. – Давай лучше завтра. Завтра суббота. Генька, ни на кого не глядя, зажег газ. Поставил на огонь кастрюлю с водой. – Я буду считать, – медленно сказал Лёшка-Хвальба. Он встал, прислонился к стене, прилип к ней, как переводная картинка. – Если человек хочет, пускай хоть застрелится. Люциндра и Генька переглянулись и побледнели. – Нетушки, – прошептала Люциндра. Она повернулась к Лёшке, сказала с неожиданной злостью: – А ты молчи, молчи! Я сама буду считать. – И спрятала под табурет исцарапанные лодыжки. – Считай, – Лёшка плюнул на чистый линолеум. – Только вслух. Огонь под кастрюлей был похож на голубую ромашку. На дрожащих её концах переходил в малиновый с мгновенными ярко-красными искрами. Вандербуль пытался представить себе героев, с улыбкой идущих на казнь. Великие герои окаменели, как памятники, занесённые снегом. Донышко и стены кастрюли обросли пузырями. Мелкие, блестящие пузыри налипли на алюминий, словно вылезли из всех его металлических пор. Несколько пузырьков оторвались, полетели кверху и растворились, не дойдя до поверхности. Потом вдруг все пузыри дрогнули, стремительно ринулись вверх. На самом дне вода уплотнилась, заблестела серым свинцовым блеском, поднялась мягким ударом и закрутилась, сотрясая кастрюлю. – Ты кого-нибудь ругай на чём свет стоит, – научил его Генька. – Тогда не так больно. В кухне было тихо и очень безмолвно. Только клокотала вода, беспощадно горячая. – Закипела, – прошептал Шурик. Лёшка сказал, отступя от стены: – Ну, давай. Люциндра захлопнула рот дрожащей ладонью. 
«Кого бы ругать? – подумал про себя Вандербуль, – Может быть, генерала Франко? Франко дурак. Фашист. Ну да, дурак, подлец и мерзавец!» Перед ним всплывала фигурка, похожая на котенка в пилотке. Лохматенькое существо скалило рот. Оно было смешным и жалким. Вандербуль засучил рукава, посмотрел на ребят, онемевших от любопытства. Взял свою левую руку правой рукой, словно боялся, что она испугается. «Франко, ты дурак! Беззубый убийца. Всё равно всем вам будет конец!» Сунул руку в кипящую воду. «Фра-а – а!!» – закричало у него внутри. Он забыл сразу все слова и проклятья. Мохнатенькое существо оскалилось ещё шире и пропало в красных кругах. Воль ударила ему в локоть, ринулась в ноги. В голову. Воль переполнила Вандербуля. Вышла наружу. «Ба-ба – ба…» – стучало у Вандербуля в висках. Он отчетливо слышал, как ребята перестали дышать, как громыхает в кастрюле вода, как жалобно трётся о форточку занавеска. Как Люциндра считает с пулемётной скоростью, почти кричит: – Раздватричетырепять! Он выхватил руку из кастрюли. Шагнул к раковине. Генька уже открыл кран. Под холодной струёй боль опала. Ноги перестали дрожать. «Может быть, зря, – медленно думалось Вандербулю, – может быть, я останусь теперь без руки». Но это его не пугало. Рука набухала на глазах. Пальцы растопырились в разные стороны. Люциндра заплакала. Лёшка-Хвальба то открывал, то закрывал рот, словно жевал что-то горькое. Шурик-Простокваша подошёл к кастрюле, уставился в бурлящую воду. Поднял руку… Генька оттолкнул его и выключил газ. * * *
В больнице Люциндра кричала охрипшим голосом: – Нам нужно без очереди! Несчастный случай случился. Мальчишки почтительно мялись за Вандербулем. Рука у него обмотана полотенцем. Боль ударяет в локоть толчками, жжёт плечо, кривит шею. Вандербулю было спокойно, словно свалилась с него большая забота, словно он победил врага беспощадно могучей силы. Люди провожают его взглядами, в которых сочувствие и сострадание. А он улыбается. И сострадание переходит в обиженный шепот: – И чего улыбается? Может, ему руку отнимут… А он улыбается. Доктор – молодой парень – постучал карандашом по губе, попросил санитарку выйти и тогда спросил: – Сколько держал в кипятке? – Не знаю. Люциндра считала до пяти. Только быстро, по-моему. По-твоему – доктор заложил руки назад и заходил по узкому кабинету. – Ух, – говорил доктор, сжимая за спиной чистые-чистые пальцы. – Глупость всё это. «Хорошее дело быть доктором, – думал Вандербуль. – Доктору нужно всё понимать». Он улыбнулся врачу, и тот нахмурился ещё больше, – наверно, застеснялся своего несолидного вида. – Очень было больно? – Как следует. – Не орал, конечно. Доктор осторожно обмыл руку жидкостью, подумал и наложил повязку. – Без повязки лучше. Повязку я для твоей мамы делаю. Приходи, – сказал доктор. – Спасибо, приду, – сказал Вандербуль. – А как вас зовут? Доктор опять рассердился. – Я тебя не в гости зову. В гости ко мне хорошие дети ходят. Вандербуль засмеялся. Доктор покраснел и добавил, не умея сдержать досаду: – Будешь ходить на лечение и на перевязку. Герой. «Я бы к вам даже в гости пришёл, – подумал Вандербуль, глядя, как доктор пишет в карточку свои медицинские фразы. – Конечно, доктора должны уметь и кричать, и ругаться, но так, чтобы от этого становилось легче больным и раненым людям». – Люциндра тоже хочет стать доктором, – сказал он, прощаясь. – Ей это дело пойдёт. Она очень добрая, хоть и делает вид. Доктор выставил Вандербуля за дверь. Когда ребята узнали, что ожог не такой безнадёжный и рука будет цела, ушло чувство подавленности. Ребята возликовали. Они кружили вокруг Вандербуля, трогали его бесстрашную руку, заглядывали в глаза и были готовы поведать каждому встречному о мужестве и молчании. Зависти не было. Люди завидуют лишь возможному и желаемому. – Я думал, ты струсишь, – говорил Лёшка. – Гад буду, думал. – И я думал, – бормотал Шурик. – А я знала, что вытерпишь. Я всегда знала, – ликовала Люциндра. – Я ещё тогда знала. Генька шёл впереди, рассекая прохожих. Во дворе, развешенное на просушку, полоскалось бельё. Всюду, где не было асфальта, малыши в ботах старательно ковыряли землю. Дворник Людмила Тарасовна читала роман-газету. Она сидела под своим окном на перевернутом ящике. Вандербуль прошёл мимо неё. Ему казалось, что он окружён сладким паром. Обожжённая рука держалась на марлевой петле, перекинутой через шею. Рука болела, но что значила эта боль! 
Людмила Тарасовна закрыла роман-газету, скрутила её тугой трубкой, но даже не заворчала, заворожённая лицами Лёшки-Хвальбы. Шурика-Простокваши, девчонки Люциндры и гордого Геньки. Они шли вокруг Вандербуля, как ликующие истребители вокруг рекордного корабля. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. И она сказала одно только слово: – Да-а… Что это означало, никто не понял, но все почувствовали в этом слове что-то тоскливое и угрожающее. ИСТОСКОВАВШИЕСЯ КОРАБЛИ Вандербуль поднялся к себе на этаж. Ребята стояли рядом с ним, они были готовы принять на себя главный удар. Мама открыла дверь и долго смотрела Вандербулю в глаза. Забинтованную руку она будто не замечала. Лицо её было неподвижным. Только подбородок дрожал и подтягивался к нижней губе. Мама пропустила Вандербуля и закрыла дверь перед ребятами. В комнате у стола сидел старик Власенко. Перед ним лежал пакет с серебристой рыбой. Вандербулю показалось, что больная рука оторвалась от туловища и бьётся одна, горячая и беспомощная. Он вцепился в неё правой рукой и прижал к груди. – Что это? – спросила мама измученным голосом. – Обжёг. – Ну вот, – сказала мама, как о чём-то давно известном и всё равно горьком. Старик поспешно поднялся. – Я теперь пойду, – сказал он с досадой. – Извините великодушно. Старый леший, или ты от старости умом помрачнел? – бормотал старик, расправляя в руках мятую кепку. – Рыбу вы всё же возьмите. Это же селёдка дунайская, самая первейшая рыба. Поедите за ужином, или гости придут. Он надел кепку. Вытер лицо платком. Кепка ему мешала, он сбил её на затылок. – Проводи меня, сиротина, до остановки. Мама хотела возразить, но подбородок у неё снова запрыгал, и она промолчала. Вандербуль бросился к двери. Он выбежал на лестницу, промчался мимо друзей, которые стояли в парадном, и остановился перед Людмилой Тарасовной: она преградила ему путь метлой. Людмила Тарасовна спросила, словно клюнула в темя: – Куда? – А вам что?! – закричал Вандербуль. – Что вы все лезете? Сзади подошёл старик. Крепко взял его за плечо. – Давайте ругайте! – закричал Вандербуль. – Ну, наврал… Ну! Старик вывел его на улицу. Вандербуль смотрел на прохожих, но видел только серые пятна. – Что ты сделал с рукой? – Сунул в кипяток. Старик прижал подбородок к ключице, отчего борода его вздыбилась. – Сколько людей за вас жизнь отдали, а вам мало. Старик пошёл. Вандербуль глядел себе под ноги. – А вам что?! – вдруг закричал он. – Чего вам надо?! * * *
– Милиция? У нас убежал сын… Он ушёл днём. А сейчас уже ночь… Я всех обзвонила… Нет, мы его никогда не бьём… Пожалуйста. Я на вас очень надеюсь. Я вас очень прошу… Светлая чёлка. Глаза тёмные, серые. Брюки джинсы – техасские штаны… Да нет же, не заграничные. Такие брюки продаются в наших магазинах. Они очень удобные для ребят, на них карманов полно… Зовут Василием. Фамилия Николаев… Особые приметы? У него забинтована левая рука… Не знаю. Кажется, обжёг… Спасибо большое. Во время этого телефонного разговора Вандербулев отец стоял у окна, смотрел в мокрую ночь. Он курил сигарету. Мама положила трубку, и аппарат коротко звякнул. – Кажется, всё у него есть, – сказала Вандербулева мама. – Так чего ему нужно? – Взрослеть, – ответил отец. Ночь чёрная, плотная. Вокруг фонарей кипят жёлтые шары, тьма вокруг фонарей зелёная, а дальше, за домами, – густо-фиолетовая, как высохшие в банке чернила. Вандербуль подошёл к воротам морского порта. Взбирались ввысь красные лампочки. Они висели на подъёмных кранах, далеко предостерегая идущие в ночи самолеты. В море качались, пересекались расплывчатые силуэты – одни темнее, другие чуть посветлее ночи. Мерцали неяркие блики. Вандербулю показалось на миг, что весь порт забит ржавыми грузовыми пароходами, греческими фелюгами, рыболовными шхунами, тральщиками и белотрубыми океанскими лайнерами. И все эти корабли прислушиваются к скрипу сходен. Ждут. Потому что давно, они уже позабыли когда, в их трюмах сидели голодные тихие зайцы. Корабли истосковались по сердцу, которое живёт в самом тёмном углу их старательного и молчаливого тела. Дождь мочил волосы, падал за шиворот, стекал по спине к пояснице. Вандербуль открыл дверь вахты и сразу с порога сказал: – Згуриди Захар, с острова. Вахтер посмотрел списки, потом пристально глянул на Вандербуля. – Ты вроде потолще был. Вандербуль поднял обожжённую руку. – Когда вам руку легковухой отдавят, и вы похудеете. – Как же тебя угораздило? – Поскользнулся. Проклятый дождь, везде скользко. Вахтёр покачал головой и уткнулся в газету. Ветер шёл с моря, качал фонари, прикрытые коническими отражателями. По бетону, позванивая, летела серебристая обёртка от шоколада. За морским каналом на острове был завод. На острове жили рабочие. На острове спал сейчас Згуриди Захар – одноклассник. За большим пакгаузом темнота уплотнялась, становилась чёрным корпусом океанского корабля. Огней на борту почти не было. У трапа ходил пограничник. Вандербуль спрятался под навесом, за бумажными мешками. Где-то под ложечкой сосали тоска, неуютность и чувство бесконечного одиночества. Вандербуль следил за пограничником, грудью навалясь на мешки. Здоровой рукой он нащупал в тюке бананы. Бананы привозят зелеными. Вандербуль с трудом отломил один, надкусил не очистив и выплюнул. Мякоть у банана была твёрдая, вкусом напоминала сырую картошку, вязала рот. Когда виноватый задумает себя оправдать, то первым делом ему покажется, будто его не понимает никто. Что вокруг только чёрствые, равнодушные люди. И от этого он станет себя жалеть, а из жалости есть один только выход – возвыситься. – Я докажу, – бормотал Вандербуль. – Я таких там дел понаделаю. Вы ещё обо мне услышите… – Он не знал, где это там, он был твёрдо уверен, что отыщет то самое место на земле, где сейчас дозарезу необходим Вандербуль. Где без него ничего не двигается, где без него царят уныние и растерянность и уже покачнулась вера в победу. Он придёт. Он поднимет флаг. – Вы ещё пожалеете… – бормотал Вандербуль. Он сидел долго. Наверно, вздремнул. К пограничнику подошли матросы. Они смеялись, говорили, картавя: – Карашау. Пограничник стал смотреть их моряцкие документы. В этот момент Вандербуль переполз пирс и повис на локтях под трапом. 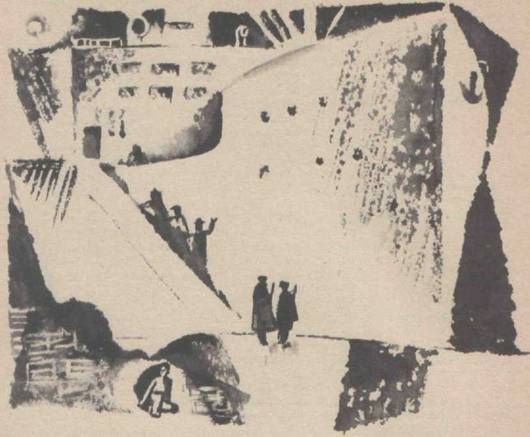
Матросы смеялись, пританцовывали, шаркали остроносыми туфлями. Смех замер где-то вверху, в хлопанье дверей, в затихающей дроби шагов. Между пирсом и кораблём, словно пойманные в западню, бились волны. Брызги, смешиваясь с дождём, долетали до Вандербуля. Пограничник повернулся к трапу спиной, втянул голову в ворот шинели. Вандербуль здоровой рукой взялся за трап и, опираясь на локоть левой, полез, неслышно переступая с плицы на плицу. Он надолго повисал над узкой полоской воды, зажатой между пирсом и чёрным корпусом корабля. Волны схлёстывались друг с другом, жадно ловя отсветы бортовых огней. С трапа стекала вода. Одежда насквозь промокла. Вандербуль лез выше и выше. Правая рука занемела, левая – больная – ныла. Боль отдавалась в плече. Вандербуль запрокидывал голову, слизывал дождевые капли с верхней губы; капли были солёные. Почти у самого борта Вандербуль с нижней стороны перелез на дорожку трапа и на четвереньках вполз на палубу. Вахтенного на палубе не было, это Вандербуль заметил, когда лежал под навесом. Капитан, наверное, рассудил, что пограничник у трапа – охрана более надежная, чем десять вахтенных. Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили. Он ещё не отдохнул достаточно, когда почувствовал сквозь сон мягкие толчки, но он не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками – и тогда спускаешься на ветку или куда захочешь. И висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами. Вандербуль улыбнулся во сне и, когда почувствовал падение, быстро замахал руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам. Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза. Он увидел море вокруг, серое и пустынное. Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, о которых знали всегда, но увидели в первый раз. – Бонжур, Магеллан, – вежливо сказал один из матросов. Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на горизонт, – может быть, там осталась его земля?.. Может быть, с другой стороны. Он посмотрел в другую сторону. Матросы засмеялись, закивали головами. Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлёпал ему по щекам мокрой ладонью. «Хоть бы дождик пошел, – подумал вдруг Вандербуль, – тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас всё отступило. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть. НА БЕРЕГУ Офицер-пограничник Игорь Васильевич вылез из такси и легко, по-командирски, поприветствовал Людмилу Тарасовну. Вандербуль сонно вывалился за ним следом. Утро. Облака над городами бело-розовые, как пастила «зефир». Людмила Тарасовна сидела над своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене. – Знаете его? – спросил пограничник. – Ещё бы. – Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю! Но ничего не поделаешь – пойдём. Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку. – Откуда вы его? – спросила она. – Из Калининграда, оказией. Людмила Тарасовна заторопилась. – Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу. Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя. – Хорошо, – сказал он. – Я днём наведаюсь… – Он вздохнул и пробормотал: – Письмо, правда, приказано вручить лично. Приветствую вас. До свидания. – Он ещё раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю:– Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что… Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре. – До свидания, Магеллан! – крикнул Игорь Васильевич. В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе. Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота. Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у неё что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощёчину. – Плачь! – Что вы, Людмила Тарасовна, – сказал Вандербуль. – Плачь, говорю! – она бросилась к шкафу. Она рылась в нём, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца. – У матки нервные слёзы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что. Плачь, тебе сказано! Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой. Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол. Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала. – Что с вами делать? – бормотала она. – Мерзавцы. Мучители. – Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. – Этот-то, твой дружок, Генька, с третьего этажа спрыгнул. – Что с ним? – прошептал Вандербуль. Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||