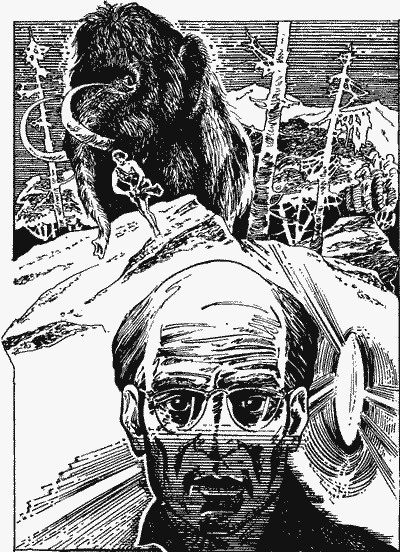— Кто знает, — сказал Ленька.
— Уж лучше упасть на Солнце, чем торчать в Марианском желобе, — пошутил я.
Неуклюжая получилась шутка.
Марианский желоб — глубочайшая впадина в Тихом океане, протянувшаяся на полторы тысячи километров. Словно сам Посейдон проложил гигантскую борозду с крутыми склонами и плоским дном шириной от одного до пяти километров. А потом зачем-то разделил ее порогами на несколько частей — депрессий.
Наша задача — обследовать каждый метр посейдоновой борозды и, заполнив носовой отсек найденными контейнерами с радиоактивными отходами, направиться прямиком к Солнцу. Мы пронзим толщу воды, вырвемся в небо, преодолеем притяжение Земли, а затем, прицелившись поточнее, спикируем на Солнце. И в точно рассчитанный момент выстрелим носовым отсеком, словно артиллерийским снарядом по цели, а сами, добавив к отдаче тягу тормозных и маневровых двигателей, выйдем на околосолнечную орбиту, с нее спустимся на околоземную и, состыковавшись с новым отсеком, дозаправившись всем необходимым, снова углубимся в Марианский желоб — продолжать бесконечный поиск…
Однообразная, монотонная работа. Никакой романтики! Неудивительно, что на эксплуатационном факультете гидрокосмического института всегда недобор. Когда-то шли в монастырь, теперь записываются в гидрокосмонавты.
Вероятно, нас могли бы заменить роботы. Считается, однако, что наше скучное дело требует нестандартной логики, а потому доверить его можно только людям, пусть даже таким дубинам в сравнении с роботами, как я и Ленька.
Кстати, я — командир, он — бортинженер. Но с этим у нас нет проблем. Когда весь экипаж огромного корабля — два человека, субординация утрачивает смысл. Конечно, если прикажу, Ленька подчинится. Только до сих пор мы обходились без приказов.
Проблема в другом: наш красавец-корабль официально не имеет собственного имени. В единоборстве традиций космонавты взяли верх над моряками. Морские суда носят громкие имена: «Ермак», «Челюскин», «Витязь»… Испокон веков! А космические корабли? «Союз-1» и далее по номерам.
Вот и получилось, что наш корабль не «Альбатрос» или «Андромеда», а всего лишь «Фотон-187». «Фотонов» сотни, расползлись по океанскому дну, точно крабы.
Впрочем, мы с Ленькой решили проблему элементарно: «Фотон-187» фигурирует лишь в отчетах и приходно-расходных ведомостях. Для нас же он, вернее, она — «Голубка».
Смешно, сентиментально? Быть может! Но (парадокс!) мы любим нашу «Голубку», любим свое дело, каким бы нудным и бесперспективным ни казалось оно остальным. Не всем же петь в опере, сочинять симфонии, строить мегаполисы, возрождать парки и розарии. Прав фантаст двадцатого века: кому-то надо быть «мусорщиком!» Мы впряглись по собственной воле, никто не заставляет нас прозябать на дне, а затем сломя голову нестись к Солнцу…
И все же… Каждый взлет к Солнцу — праздник, каждый спуск на дно желоба — начало будней, которые длятся недели и месяцы. Сейчас, например, пошел второй месяц очередной подводной вахты. За это время мы очистили полтора погонных километра Марианского желоба. Легко подсчитать, что на весь желоб понадобится тысяча месяцев, или восемьдесят три года. Три из них прошло, осталось восемьдесят, а это значит, что мы обеспечены работой до глубокой старости и еще дольше.
Да, субординации мы не придерживаемся. Но разделение обязанностей у нас четкое. Потому и не нужны приказы. Впрочем, не только потому…
Управление кораблем во всех режимах — на мне. Ультразвуковая локация придонного грунта, обнаружение контейнеров и прочей пакости, радиационный контроль, погрузка с помощью биоэлектрических манипуляторов — Ленькина забота. Он же стреляет носовым отсеком в Солнце, по его излюбленному выражению, «подбрасывает горючего в топку». В зависимости от настроения, дразню его «снайпером» либо «кочегаром».
Во время выстрела распоряжается он, как и при погрузке контейнера. А я наблюдаю…
Унылая картина — дно Марианского желоба. На такой глубине обитают лишь бактерии (их, разумеется, не видим) и несколько десятков видов беспозвоночных, так называемое население ультраабиссали. Водорослей нет в помине. Вечная ночь, мгла. В свете прожекторов — ровное, однообразное дно. Этакое вывернутое наизнанку высокогорное плато — гигантский разлом земной коры. Океанское ложе устлано здесь рыхлыми серыми терригенными осадками. В них мы и роемся. Каждая находка (будь она неладна!) — награда за долготерпение.
Наступил желанный день, когда Ленька, отстегивая электроды биоманипулятора, бросил через плечо:
— Отсек заполнен, пора отчаливать.
Меня удивило, каким тусклым тоном это было сказано. Если бы я тогда знал…
— Устал? — спросил я Леньку.
— Есть немного…
— Иди отдыхать. Сейчас моя очередь!
Когда всплываешь, а затем взлетаешь к Солнцу впервые, это событие, какое бывает раз в жизни. После вырабатывается привычка, потому что все повторяется вновь и вновь. Но ощущение праздника остается. Представьте: мертвая чернота океанской бездны медленно отступает перед надвигающимся светом, он набирает мощь и вдруг взрывается, обрушивается слепящей лавиной. Сердце полнится безотчетным, неосознанным ликованием.
Перед выстрелом ликование переходит в азарт, нервную дрожь… Кульминация, пик. Корабль вздрагивает. Торможение вдавливает в анатомическую кривизну кресел. Теперь нужно в считанные минуты скомпьютеризировать оптимальную траекторию выхода: масса «снаряда» всякий раз иная, различна и отдача при выстреле.
И вот управление кораблем передано автомату — вс», конец празднику, возвращаемся в будни…
Праздник всегда короток.
— Пора, — сказал Ленька, облачаясь в противорадиационный скафандр.
— Еще десять минут…
Ленька не ответил, шагнул в шлюз, задраил за собой люк.
— Порядок! — послышался его голос, потом донеслись первые такты «Индонезии» — без слов и, как показалось мне, в минорном ключе. Частотная характеристика устройства связи безукоризненна, чего нельзя сказать о Ленькином слухе. Я решил, что Ленька по обыкновению фальшивит.
Затем наступила тишина.
— Как дела, старик? — спросил я, прикрывая шутливым тоном охватившую меня тревогу.
— Слушай внимательно, командир!
Никогда раньше Ленька не обращался ко мне столь официально. Обычно слово «командир» он произносил с дружеской усмешкой. Сейчас я ее не почувствовал…
— Сядь в кресло, пристегнись, — продолжал Ленька. — Сейчас мы расстыкуемся, и я включу тормозной двигатель.
— Ты с ума сошел! — завопил я. — Стреляй и мигом назад! Приказываю!
Я кинулся к пульту управления, почти дотянулся, но резкое торможение сбило меня с ног. Лежа на полу, я отыскал взглядом обзорный дисплей: Солнце — светлый кружок и на его фоне черное пятнышко — промежуточная ступень с неотстрелянным носовым отсеком — сошли со своего места в центре экрана и медленно смещались к периферии.
— Что ты наделал!
У меня перехватило горло.
— Я не мог поступить иначе, командир. — Голос Леньки звучал так громко и разборчиво, словно мы по-прежнему были вместе. — В носовом отсеке ядерная боеголовка. При выстреле она бы взорвалась. Ее сплющило давлением воды. Как еще не раздавило!
— И ты…
— Лучше один, чем оба… и «Голубка»… А промежуточная ступень отстыковывается только изнутри, ведь обычно в этом нет надобности. Скажи там конструкторам насчет нестандартной логики…
— Ты знал о боеголовке с самого начала?
— Да.
— Почему не сказал?
Пауза. Я зримо представил, как Ленька пожимает плечами.
— Зачем?
— Нужно было оставить!
— Она могла взорваться в любой момент. Прежде чем решиться, я… Ведь если не мы, то кто же?
— Как посмотрю в глаза людям? — простонал я.
— Не беспокойся, командир. Есть же черный ящик, в нем запись нашего разговора. Ты не виноват. Должностное преступление совершил я. Только судить меня уже не придется…
— Кто дал тебе право решать за нас двоих? На твоем месте был бы я!
— Знаю, командир. Поэтому и скрыл от тебя.
— Никогда тебе этого не прощу! — выпалил я дурацкую фразу.
— Когда-нибудь простишь, — ответил Ленька серьезно. — А сейчас выполни мою просьбу, ладно? Споем напоследок!
«…Песня вдаль течет, моряка влечет в полуденные твои края. Ты красот полна, в сердце ты одна, Индонезия, любовь моя…»
Я не пел — надрывно кричал, словно криком своим мог спасти Леньку.
И не сразу заметил, что он умолк.
Я включил автопилот, задал программу посадки на Главную базу, сел в кресло и… зарыдал.
Как жить дальше? Снова в Марианский желоб, без Леньки, с кем-то другим? Не смогу!
И я понял: как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, одно я выполню наверняка — напишу реквием и посвящу его Леньке. Ведь перед тем, как поступить в гидрокосмический институт, я с отличием окончил консерваторию по классу композиции. Искал что-то свое, срывался… Сочинил симфонию, она провалилась. Вторую тоже освистали — в переносном смысле, конечно.
«Бездарь!» — вынес я себе приговор и оставил музыку. Думал — навсегда. А Ленька верил в меня. «Твой талант еще заработает!» — сказал он мне как-то. И вот, музыка бунтует в моей душе, требует выхода». «Requiem aeternam dona eis…» — «Покой вечный дай им…»
«Твой талант заработает!..» Я вдруг уверился в этом. Неудачи были закономерны: мало понимать рассудком, что «симфонизм — это художественный принцип философски-обобщенного диалектического отражения жизни в музыкальном искусстве». Только собственный жизненный опыт, только рубцы на сердце, радость и боль, весь круговорот бытия могут дать материал для «отражения» и «обобщения». А у меня материала не было. Я пытался превратить вакуум чувств и переживаний в нечто великое. Обязательно великое — малое меня не устраивало! Тогда я еще не дорос до понимания того, что гегелевское «свое другое» — результат развития «по спирали».
Ничтоже сумняшеся, я пытался эксплуатировать технические возможности компьютерных музыкальных инструментов, эту богатейшую палитру выразительных средств. Меня научили ими пользоваться. Но не дали и не могли дать главного — того, что достигло трагической кульминации час назад. Того, что пришло ко мне на дне Марианского желоба и в полете к Солнцу…
Я выстрадал свое право на симфонию. Предстоит долгая и тяжкая работа — она меня не страшит. Пусть на нее уйдет вся моя жизнь, неважно. Пусть я создам одно единственное произведение, но оно должно быть достойно Леньки.
Героическая симфония «Реквием Марианского желоба». Квинтэссенция проблем жизни и смерти. Воплощение идеи долга и самопожертвования. Синтез будней и праздников…
Я не претендую на первенство. Моцарт в своем великом «Реквиеме» уже выразил мир человеческих переживаний с исчерпывающей полнотой. Впрочем, почему «исчерпывающей»? За четыре столетия человек стал другим. Изменился и мир его переживаний. Моцарт не испытывал гнетущей тяжести океанского дна и упоительного единоборства с Солнцем. Если бы он побывал там, где были мы…
Я должен превзойти Моцарта, потому что развитие происходит по спирали, и мой виток — следующий. Моцарт передал мне частицу своего гения, Ленька заставил обрести веру в себя, жизнь не поскупилась на переживания.
Я познал секрет бессмертия. И сделаю бессмертным — не себя! — Леньку… Он будет жить в моем «Реквиеме», переживет вновь и вновь все, испытанное нами за три наших лучших года. А вместе с ним — люди будущих поколений, счастливые люди, живущие на заново расцветшей Земле: не зря возрождают леса и парки, возвращают плодородие полям. Люди будущего должны быть счастливы. Об этом позаботились мы с Ленькой и продолжают заботиться миллиарды современников.
«Реквием Марианского желоба»… Его лейтмотивом станет наша песня, наш гимн, только в минорном ключе, как пел в свой последний час Ленька.
ЧАСТИЦА ДУШИ
Что случилось с Алексеем Федоровичем? Уже был куплен билет до Симферополя, в домике на Чайной горке готовились к приезду гостя, и вот он в самолете, но летит не в Крым, а в киргизский город Ош, откуда берет начало Памирский тракт…
Вдруг защемило сердце, встала перед глазами панорама снежных вершин на голубизне неба. И Плотников решил:
«Еду!»
«Глупо!» — язвительно откликнулось второе «я».
«В последний раз! — оправдался перед ним Алексей Федорович, а сам тоскливо подумал: — Неужели действительно в последний раз?»
Что отняло его у отпускного крымского покоя?
В 123 километрах от Хорога жемчужина Памира Джиланды. На берегу хрустальной горной речки горячий, почти кипящий, источник. В два каменных домика с бетонированными комнатами-ваннами вливаются потоки воды — клубящейся сероводородным паром и чистейшей ледяной. Смешиваясь, они образуют божественный коктейль.
Блаженство погрузиться в жгучую жидкость, обновляющую душу и тело, Плотников испытал всего четыре раза, но оно врубилось в память пожизненно. И сейчас Алексей Федорович летел в Ош, жаждая этой живой воды, которая возвратит ему если не физическую, то душевную молодость…
Да, самые яркие жизненные впечатления Плотников связывал с двумя «Па…» — Памиром и Парижем. Одно и другое было для него словно плюс-минус бесконечность. Высокогорная пустыня с ее необозримыми инопланетными ландшафтами, целомудренными нравами, замедленным темпом жизни, казалось бы, непримиримо противостоит красочному легкомыслию, порочности и пресыщенности гигантского муравейника, в котором роль юрких, неутомимых букашек играют люди. Но при всей несхожести этих двух «Па…» они являют собой диалектическое единство противоположностей; им в равной мере присущи красота и величие…
В Париже Плотников побывал лишь однажды, за несколько лет до Памира, и провел там четыре незабываемых дня. Что может оставить в памяти короткая туристическая поездка? Но ведь вспышка молнии почти мгновенна, а высвеченная ею картина иной раз запечатлевается на всю жизнь.
Плотникова всегда забавляли туристы, заносившие в блокнот каждое слово гида, наивно восторгавшиеся красочной витриной, парадным фасадом, неоновой рекламой, пестрой и для неискушенных глаз беззаботной уличной толпой. Они напоминали ему ограниченного от природы, но очень старательного студента, принимающего за абсолют каждую строчку учебника.
Сам Алексей Федорович не насиловал никогда свою память информацией, которую можно в любое время с куда большей объективностью извлечь из справочника или энциклопедии. Он не вел дневников, о чем, впрочем, иногда сожалел. На первых порах снимал слайды и кинофильмы, оседавшие потом в коробках. Изредка просматривал их, но всякий раз оказывалось, что воспоминания более ярки и жизненны. Уличная память в конфликте с фактами, слайды лишь возбуждали досаду и желание убрать коробку подальше, забыть о ее существовании.
Потом фотоаппарат и восьмимиллиметровая кинокамера вообще были заброшены. Сознавая невозможность получить за несколько дней детальное представление о стране или городе, Плотников предпочитал представлению впечатление, причем впечатление интегральное, обобщенное, как бы состоящее из отдельных крупных, слегка размытых мазков, напоминающее яркостью и фрагментарностью витраж или мозаичное панно.
В Париже у Алексея Федоровича был знакомый — Владимир Алексеевич Гарин. Незадолго до этого его назначили в ЮНЕСКО на довольно крупный пост директора департамента (начальника отдела).
Гарин дал Плотникову свой парижский адрес, хотя вероятность воспользоваться им представлялась обоим равной нулю.
Но вот, назло теории вероятностей, Алексей Федорович шагает по вечернему Парижу, легко ориентируясь в его планировке, минует ярко освещенную площадь Согласия и выходит на фешенебельную Де ла Мот Пике. Ощущение такое, будто город давно и хорошо знаком, много раз виден, исхожен из конца в конец. А в этом доме, ну конечно же, живет Гарин!
Темный подъезд, в глубине рубиновая точка. Плотников на ощупь движется к ней, протягивает руку, инстинктивно нажимает — оказывается, это кнопка лифта. Вспыхивает неяркий свет. Алексей Федорович заходит в кабину, и свет за его спиной гаснет.
Как только лифт остановился, зажегся плафон на лестничной площадке.
Дверь открыла жена Гарина.
— Ты посмотри, Володя, какой у нас гость! — позвала она, глядя на Плотникова так, словно тот вышел не из лифта, а из летающей тарелки.
Их знакомство было почти шапочным, но, встречаясь за границей, знакомые становятся приятелями, приятели — близкими друзьями, друзья — почти родственниками. Плотников явно перешагнул через пару ступенек — прием ему оказали родственный.
Утром Гарин подъехал к отелю на бирюзовой «Волге». Насколько легко ходить по Парижу, настолько трудно водить машину — одностороннее движение превращает улицы в лабиринт. Владимир Алексеевич минут сорок колесил вокруг отеля, прежде чем сумел к нему подъехать.
И вот уже Гарин ведет машину, а Плотников, с развернутым на коленях планом Парижа, командует «налево-направо», точно штурман во время ралли.
За эти четыре дня они объездили и исходили весь город. В Булонском лесу Алексею Федоровичу посчастливилось самому ненадолго пересесть за руль.
Спал он три-четыре часа в сутки. Расставшись с Гариным, бродил по улицам, пока не валился с ног. Побывал в Лувре, Музее современного искусства и Соборе инвалидов, ухитрился заблудиться ночью на Монмартре и спрашивал дорогу у стайки веселых женщин, выпорхнувшей из погребка, а те, видимо, не поняв ломаной английской речи, смеялись и одаривали его воздушными поцелуями.
Фрау Лаура кое-чему научила Плотникова: он отказался от «Шипра», нейлоновых рубашек и сшитых на заказ дорогих, из чистошерстяной «сжатки», костюмов. В Париже на нем была готовая чешская пара, а запах одеколона рождал ассоциации с огуречным рассолом. И все же неподалеку от распростершей неоновые крылья «Мулен-Руж», то ли на бульваре Клиши, то ли на улице Пигаль, проходя поздним вечером сквозь строй начинавших еженощное бдение магазинчиков, витрины которых пестрели разнокалиберными Эйфелевыми башнями, катушками порнографических фильмов, мимо погребков с кричащей рекламой стриптиза и крошечных барчиков, где, сидя на высоких табуретах, лицом к стене, косматые юноши смаковали сквозь глазок все тот же стриптиз, но в экономичном узкопленочном варианте, Плотников услышал:
— Эй, русский! Заходи, не пожалеешь! Что, испугался?
Алексей Федорович действительно испугался и даже ускорил шаг. Он дорожил моральным обликом.
Большое впечатление произвел на него Нотр-Дам де Пари, знаменитый собор Парижской богоматери. Как раз в это время собор ремонтировали. Прокопченные за столетия стены пескоструили до кипенной белизны и укрывали грязно-зелеными полотнищами.
По соседству с Нотр-Дам паразитировали сувенирные лавчонки «Квазимодо» и «Эсмеральда», в них торговали аляповатыми подобиями химер с фасадов собора и прочими сувенирами.
Плотникова поражали непритязательность и назойливое однообразие парижских сувениров, всех этих шариковых ручек — фигурок президента де Голля и Эйфелевых башен, от значка-подвески до настольной полуметровой пирамиды из тусклого сплава.
«Где же хваленый французский вкус? — недоумевал Алексей Федорович. — Наш пресловутый ширпотреб, и тот не столь аляповат. Видимо, причина во всеядности туристов: спрос порождает предложение».
Сам Плотников тоже не удержался, купил химеру-подсвечник из мягкого камня и к нему — натуральную восковую свечу, избежавшую таким образом участи быть сожженной в соборе.
Удивили и контрасты прославленной французской парфюмерии: утонченные и дорогие — на вес золота — духи, флакончик размером с ампулку, а рядом литровая бутыль раз в двадцать дешевле.
Гарин устроил для гостя дегустацию французских вин, которыми они нагрузили корзину в гигантском универсаме (такая форма торговли была для Плотникова внове, и он нервничал, самовольно набирая не оплаченные еще товары, — а вдруг выйдет скандал, стыда не оберешься). Какое же разочарование испытал Алексей Федорович, пригубив вечером по рюмочке из каждой бутылки!
— И эта кислятина пользуется мировой репутацией?
— Ну что вы! — сказал Гарин, наслаждаясь произведенным эффектом. — Первоклассные вина не для простых французов. Во всяком случае, в универсаме их не купишь.
Владимир Алексеевич отличался обаятельной уродливостью, которая так привлекает женщин. Он был лыс и, не снимая, носил берет. На лбу красовалась большая шишка, длинный кривой нос подчеркивал асимметрию лица. Глаза, искрящиеся умом и весельем, усиливали сходство с Сирано де Бержераком.
В отличие от Плотникова Гарин сливался с парижской толпой, как неотъемлемая ее часть. Лавируя во встречном потоке, он не умолкал ни на минуту, успевая переброситься словцом с каждым встречным.
— Когда вы успели так овладеть французским? — поразился Алексей Федорович.
— Рабочий язык в нашем департаменте — английский. Его я таки знаю: как-никак, год провел в Штатах.
— По научному обмену, кажется?
— Вот именно. А французский… им я просто пользуюсь.
— Как так?
— Выучил десяток-другой фраз и прекрасно обхожусь ими. Бонжур, мадам! — поклонился Гарин, уступая дорогу женщине, и та расцвела в ответной улыбке.
Париж… Алексею Федоровичу казалось, что в каком-то ином измерении он провел здесь полжизни. Но ни за что на свете не согласился бы Плотников с положением эмигранта, пасынка этого милого сердцу и в то же время чужого города!
Гидом у них была маленькая опрятная старушка из «бывших». Нищета угадывалась в каждой складочке ее аккуратного, много раз перешитого платья, в том, с какой надеждой ожидает она необязательного приглашения к обеду, в недомолвках…
Гарин вскользь упомянул, что недавно вставил зубы и выплатил за них дантисту стоимость «Волги». Когда Плотников удивился, почему он не сделал это в Союзе, Владимир Алексеевич лишь хмыкнул. Ну ладно, директор департамента, в конце концов, может позволить себе такой расход, а старушка-гид или взятый наугад из толпы «средний» француз?
…Алексей Федорович покидал Париж, сознавая, что расстается с ним навсегда. Никогда более не доведется ему постоять в шоке перед фреской Пикассо, погрузиться в огненное море Елисейских полей, ощутить под ногами камни Бастилии, разрушенной через год после ее штурма восставшим народом в начале Великой французской революции, проплыть на речном трамвае, широком и плоском, как баржа, излучинами Сены. Но он благодарил судьбу за то, что смог приобщиться к величию и нищете Парижа, оставив взамен частицу души.
* * *
— Время милостиво к человечеству, но безжалостно к человеку, — произнес Леверрье задумчиво.
— Превосходная мысль, Луи, — похвалил Милютин. — И главное — очень свежая!
Они сидели в маленьком кафе на смотровой площадке Эйфелевой башни и любовались Парижем, заповедным городом Европы.
— Мы не виделись почти четверть века, а желчи у вас…
— Не убавилось? Увы, мои недостатки с годами лишь усугубляются.
— И все же я люблю вас, Милютин, — признался Леверрье. — А ваша язвительность… Иногда мне ее не хватало. Было плохо без вас, как было бы плохо без Парижа. И вот мы снова вместе, но время вас не пощадило. Где ваши всклокоченные черные волосы? И вы еще подшучивали над моей лысиной…
Милютин рассмеялся:
— А вы садист, Луи. Но, может быть, давно не смотрели на себя в зеркало? То-то, друг мой… И все же я тронут. Вы делаете мне честь, сравнивая мою язвительность с красотой милого вашему сердцу Парижа.
— Подумать только, — поежился Леверрье, — что всей этой красоты могло и не быть, если б Ле Корбюзье воплотил в действительность свой кошмарный план…
— Как вы относитесь к Эйфелевой башне? — спросил Милютин.
— О, это символ Парижа, его жемчужина. Любой парижанин…
— Увы, Луи. Так думали не всегда. Помните манифест «Работники искусств против башни Эйфеля?» Вот слушайте… «Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы, страстные любители не нарушенной до сих пор красоты Парижа, протестуем во имя французского вкуса, искусства и французской истории и выражаем свое сильнейшее негодование проектом возведения в центре нашей столицы чудовищной и бесполезной Эйфелевой башни… Чтобы понять, что произойдет, достаточно хоть на мгновение представить себе высоченную, смехотворную башню, возвышающуюся над Парижем наподобие гигантской фабричной трубы, подавляя своей дикой массой собор Нотр-Дам, Сен Шапель, Дом инвалидов, Триумфальную арку, все наши униженные монументы… В течение многих лет мы будем видеть падающую на город, наподобие чернильного пятна, одиозную тень одиозной башни».
— Невообразимая чушь! — простонал Леверрье.
— Среди подписавших манифест были Александр Дюма и Ги де Мопассан. Так что не поднимайте руку на Корбюзье, Луи. Он ведь хотел спасти Париж. Жаль, что не смог… И теперь перед нами грандиозный музей. Вам нравится жить в музее?
Леверрье пожал плечами!
— Я живу в пригороде.
— Вот видите, — проговорил Милютин. — Города стареют, как и люди… Только не так быстро. Впрочем, я куда старше, чем вы думаете. Помните слова Эдгара Дега: «Талант творит все, что захочет, а гений только то, что может»? Это о моей матери, я боготворю ее… Уже получив Нобелевскую премию за вакцину от рака, она сказала мне: «Если бы я могла начать жизнь сначала, никогда не стала бы врачом. Слишком во многом чувствую себя бессильной».
Несколько минут оба молчали.
— Мало кому посчастливится предугадать свое истинное призвание, и уж совсем редко случается разглядеть в себе талант — он виден лишь со стороны. А уж гений… Здесь слово за потомками, — молвил Леверрье. — Я инженер. Утверждают, хороший инженер. Но еще никто не заподозрил во мне таланта!
— Бросьте, Луи, — поморщился Милютин.
— Я ортодокс, в этом все дело… А вот вы — совсем другой человек. Вы действуете вопреки утвердившимся представлениям, вразрез с опытом, наперекор логике…
— Значит, моя сила в невежестве?
— Отнюдь. Просто вы интеллектуал высочайшего класса.
Милютин щелкнул зажигалкой.
— Слово «интеллект» в переводе с латинского означает «ум». Но почему-то мы предпочитаем назвать человека интеллектуалом, а не умником. Да и «умник» приобрел в наших устах иронический оттенок.
— Вы правы, — согласился Леверрье. — Франсуа де Ларошфуко в своих «Размышлениях на разные темы» несколько иронически классифицировал типы ума. Наряду с «могучим умом» он выделял «изящный ум», «ум гибкий, покладистый, вкрадчивый», «здравый ум», «деловой ум», «ум корыстный», «ум веселый, насмешливый»…
— Хватит, хватит! — замахал руками Милютин.
— …»тонкий ум», «ум пылкий», «ум блестящий», «мягкий ум» «ум систематический» и даже «изрядный ум»!
— Словом, сколько голов, столько и умов. И какой же ум согласно этой классификации у меня?
— Ваш ум нельзя классифицировать, — серьезно сказал Леверрье. — Я бы назвал его дьявольским.
— Старо, Луи. Еще тридцать лет назад вы заявили, что я и бог и дьявол в одной ипостаси. Кстати, это убийственно точная характеристика большинства людей. Вот вы говорите: «Интеллектуал». Одного интеллекта мало.
— Чего же вам не хватает?
— Я индивидуалист, вы знаете. Чувствую себя электроном в вакууме. И пусть электрон-одиночку называют свободным, толку от такой свободы мало. Лишь упорядоченный, целенаправленный поток электронов способен освещать жилища, приводить в движение машины, обогревать… И только в сотрудничестве друг с другом люди находят силы для преодоления преград, воздвигаемых природой… и самими же людьми. Вы спрашиваете, чего мне не хватает? Видимо, я потерял частицу души. Крошечную частицу. Увы, понял это слишком поздно. Что дали человечеству мои открытия? Кого я сделал счастливым?
Леверрье протестующе повысил голос:
— Это уж слишком! Благодаря таким, как вы, человечество достигло благополучия!
— Испытание благополучием, возможно, самое трудное из всех, выпавших на долю последнего поколения, — нахмурился Милютин. — Благополучие расслабляет. А интеллект не имеет права расслабляться, смысл его — работать…
— И вы еще считаете себя индивидуалистом? Да при всей вашей гениальности вы — ячейка общечеловеческого мозга!
— Вы полагаете, что я работаю от имени человечества? Сам того не сознаю, но запрограммирован? Кто знает…
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
Три года назад в институт пришел новый ректор — молодой (сорок с небольшим), но известный профессор, доктор наук Игорь Валерьевич Уточкин. Он сменил на этом посту «холодного» (то есть не имевшего докторской степени) профессора Марьина.
Марьин, старый, опытный служака, много лет болевший астмой, был типичным консерватором, придерживающимся излюбленного англичанами принципа: «ноу ньюс — гуд ньюс» («нет новостей — хорошая новость»). Институт стал при нем тихой заводью.
С местным начальством Марьин ладил: не приставал с просьбами по хозяйственным нуждам, не требовал фондов на строительство, безропотно снимал с занятий студентов для всякого рода неотложных дел областного, городского и районного масштабов. Министерское начальство до поры терпело Марьина, но нередко вызывало «на ковер»: институт из года в год устойчиво занимал предпоследнее место среди родственных вузов.
Достигнув пенсионного возраста, Марьин резонно и своевременно рассудил, что лучше уйти самому, чем дожидаться, пока тебя «уйдут», и подобру-поздорову отбыл в теплые края.
Уточкин принялся за дело рьяно. Начал он с переоборудования ректорского кабинета, который счел непрестижно скромным. Кабинет отделали дубовыми панелями и синтетической кожей, в стены встроили шкафы, пол во всю ширь застлали ковром, мебель сменили. Смежное помещение (его прежде занимал научно-исследовательский сектор) превратили в комнату отдыха, соединенную с кабинетом скрытой — под панель — дверью.
В комнате отдыха (злые языки окрестили ее «будуаром») кожей были обтянуты не только стены, но и потолок. Диван, кресла и стол на низких ножках создавали интимную обстановку. Приглушенный свет подчеркивал ощущение уюта.