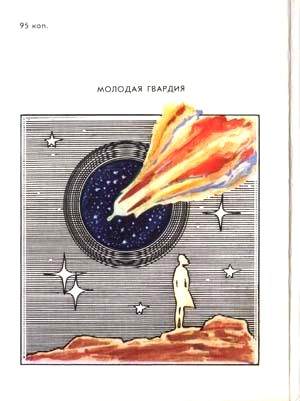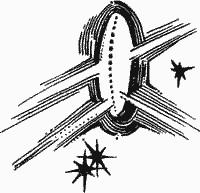Лето выдалось жаркое. Профессор Алексей Федорович Плотников, изнывая от духоты, перебирал бумаги на письменном столе. Временами он машинально массировал лицо — побаливал тройничный нерв.
«Ни черта не могут медики, — с раздражением думал профессор, — сижу на анальгине, а все ноет…»
Под конец учебного года, как всегда, накапливалась усталость. Скорее бы ГЭК,
кафедральный отчет, последнее заседание институтского совета (на факультетский можно не пойти) и долгожданный отпуск… Ялта, милая Ялточка! Домик на Чайной Горке, море…
«Опять эта рукопись из «Радиофизики»! — поморщился Плотников. — Лежит, а ведь давно надо было отослать рецензию».
Он перелистал рукопись и скривился от боли:
«Вот накручено, надо еще разобраться. Часа два уйдет… Поручить Иванчику? У него дел по горло с защитой… Ладно, вернусь из отпуска — сам напишу, не откладывая. Да и куда больше откладывать, неудобно, ей-богу, обещал ведь!»
Он почувствовал вялые угрызения совести, подумал, что вот так же и с ним поступали господа рецензенты, задерживая порой публикацию на год-другой, но тотчас оправдался:
«Я же не сидел без дела, четвертую главу закончил, остались пустяки, монография на выходе».
Зазвонил телефон. Сняв трубку, Плотников услышал надтреснутый голос главного бухгалтера Саввы Саввича Трифонова:
— Нехорошо получается, Алексей Федорович, по отраслевой лаборатории у вас опять перерасход. Вынужден доложить ректору.
Плотников недолюбливал Трифонова. Вот и сейчас мысленно представил гладкую, блестящую яйцевидной формы голову главбуха, запекшуюся черную слюну в уголках губ, вечно обиженное выражение подслеповатых глаз… Стало совсем тошно.
— Ну и доложите! Ректору причина перерасхода известна, — сухо ответил профессор и, отведя трубку в сторону, добавил: — Бегите, докладывайте, формалист вы этакий! Не на себя потратил, на дело!
— Что-что? — не расслышал Трифонов, но профессор уже положил трубку.
В дверь постучали.
— Войдите! — отозвался Алексей Федорович.
На пороге стоял ничем не примечательный молодой человек с непомерно пухлым портфелем.
— Можно?
— Садитесь. Что угодно?
— Я прочитал вашу книгу «Неиссякаемое в обычном», и мне кажется… я думаю… именно вы сумеете меня понять.
Профессор усмехнулся:
— Что у вас? Статья, диссертация, научно-популярная брошюра? Или, быть может, открытие?
Молодой человек извлек из недр портфеля папку.
— Ого! — присвистнул Плотников, взглянув на титульный лист. — «В. В. Стрельцов. Теоретическое обоснование риализуемости возвратно-временных перемещений». Да-с… Слово «реализуемость» пишется через «е»!
— Простите, — взволновался Стрельцов, — машинистка ошиблась, а я и не заметил. Ну, конечно же, ре-а-лизуемость… реализуемость, — неуверенно повторил он.
— Это что же, путешествия в прошлое? «Янки при дворе короля Артура»? А вечный двигатель вы случайно не изобрели? — в голосе Плотникова торжествовала ирония.
— Что вы, что вы… — смутился Стрельцов. — Понимаю, тема необычная, но сравнивать с перпетуум-мобиле… Каждый школьник…
— Не стоит апеллировать к авторитету каждого школьника, — прервал Плотников. — И обижаться нечего. Лет двадцать назад попросили меня прорецензировать для Физматгиза рукопись, страниц шестьсот, — «Теория вечного двигателя». Современный математический аппарат, наукообразие — позавидовать можно. А в письме на имя главного редактора автор написал: «Я наслышан о так называемом законе сохранения энергии — физфак окончил. Но решительно не согласен. Книгу издайте, на это по Конституции имею право. А в предисловии, если угодно, можете отметить, что концепции автора в корне ошибочны и противоречат тому-то и тому-то. Пусть история нас рассудит».
— И напечатали? — простодушно приподнял плечи Стрельцов.
— Да вы шутник?! — фыркнул профессор. — Вечный двигатель, машина времени? Начитались дурной фантастики!
— Вы же сами в «Неиссякаемом…» писали…
— Что писал? Там принципы! Основополагающие закономерности! Рабочая гипотеза!
— Вот и я рассматриваю время как бегущую волну сложной формы, описываемую системой многомерных функций, — вскинул руку Стрельцов. — Несколько минут назад вы сказали мне: «Войдите». Потом повторили: «Войдите!»
— Не повторял.
— Нет, повторяли, но в другом измерении! Потому что бегущая волна времени не затухает, она существует вечно, и любая ее фаза не исчезает, а лишь перемещается от измерения к измерению.
— Значит, и через миллион лет я буду иметь удовольствие с вами беседовать? Что за чушь!
— Но математически все обоснованно, — запротестовал Стрельцов. — Бегущая волна несинусоидальной формы, будучи разложена в ряд…
У Плотникова снова заныл тройничный нерв.
— …дает прямые и обратные гармоники…
— И если выделить обратную гармонику, — насмешливо сказал Алексей Федорович, — то можно переместиться в иное измерение, например, туда, где сейчас палеолит?
— Так точно.
— Да что вы заладили: «так точно»! В науке нет ефрейторов, запомните!
— Я понимаю… — снова смутился Стрельцов. — Это помимо воли.
— Давайте рассуждать, — неожиданно для самого себя предложил профессор. — Путешествия в прошлое, если абстрактно, я подчеркиваю, аб-стракт-но допустить, что они возможны, это типичная обратная связь!
Стрельцов кивнул:
— Абсолютная истина.
— Вы хотели сказать «тривиальная истина». Вот именно! Оказавшись в прошлом, человек стал бы орудием этой самой обратной связи — положительной или отрицательной, судя по обстоятельствам.
— Фантасты давно решили этическую проблему обратной связи. Законом должно стать невмешательство! — сказал Стрельцов.
— Невмешательство пришельцев из будущего? Че-пу-ха! Вы инстинктивно прихлопнули комара, и тот не успел заразить малярией Наполеона. Бонапарт выиграл решающее сражение, а будь комар цел, оно оказалось бы проигранным.
— Нужно стабилизировать условия, при которых…
— А с другой стороны, — перебил профессор, — почему нельзя вмешиваться? Что это за жизненная позиция — невмешательство? Наблюдать со стороны, как на Хиросиму сбрасывают атомную бомбу? Прогуливаться по Освенциму, отворачиваясь от газовых камер и печей, в которых сжигали трупы замученных? Максвелл в сорок восемь лет умирает от рака. Ландау попадает в автомобильную катастрофу… Иметь возможность и не вмешаться? Да это было бы преступлением! Преступник вы, молодой человек, вот кто вы такой!
— Но это не я придумал! — в смятении воскликнул Стрельцов.
— Вы, не вы — какая разница! Тем более, что путешествия во времени противоречат закону причинности. Конечно, было бы заманчиво бросить зерно знания в глубину веков, чтобы затем, через сотни лет, собрать обильный урожай. Но если бы наши потомки могли проникать в прошлое, они бы это делали. История была бы исправлена, переписана набело, хотя бы методом проб и ошибок! Но раз мы знаем: существовали рабство, инквизиция, чумные эпидемии, войны, фашизм, то, следовательно, вмешательства из будущего так и не произошло.
— А может, пока рано? Может, пусть люди пробуют и ошибаются? — с надеждой проговорил Стрельцов, и его круглое, усыпанное веснушками лицо приняло мечтательное выражение.
«Мальчишка, совсем мальчишка, — подумал Плотников. — Ишь как глаза разгорелись… Не замечает грани между фантастикой и жизнью. Небось всюду ему мерещатся алые паруса, романтик, «перпетуум-мобиле»! Неужели и я когда-то был таким? Нет… война помешала, наверное. Но что-то есть в нем мое… Или во мне — его. Впадаю в детство, испытываю дефицит романтики? Возможно… Впрочем, это уже суета сует и томленье духа!»
— Занятный разговор, — произнес он вслух. — Только не имеет отношения к науке!
— Так вы не возьмете мою работу? — спросил Стрельцов огорченно.
— Отчего же… оставьте… — устало проговорил профессор.
* * *
Странный сон приснился Плотникову. Он шел, а небо гремело, обрушивало раскаленные дротики молний. Плотников ощущал одновременно и суеверный страх перед разгулом стихии, и гордое наслаждение собственной силой, ловкостью, умением противостоять этому не прощающему ошибок миру, и опьяненность испарениями леса, и настороженность к звукам, каждый из которых мог оказаться сигналом опасности.
Он шел поступью зверя. Свисавшая с плеч шкура издавала запах мускуса. От нее исходило тепло, без которого не прожить в суровое время, впоследствии названное верхним палеолитом.
Ледниковый период, похолодавшая, но все еще плодоносная Земля, недра которой переполнены нефтью, реки изобилуют рыбой, леса — зверьем. Сорок тысячелетий спустя, в эпоху Плотникова, от всего этого останутся крохи. На месте лесов встанут гипертрофированные города, реки обмелеют, озера заполнятся сточными водами, месторождения нефти истощатся…
Он шел, сжимая в огромной, жилистой — неузнаваемой — руке кремневую дубину, которой владел виртуозно. Быстроту реакции, способность к мгновенным подсознательным решениям, не по расчету — по наитию, властному озарению отнимет цивилизация. Взамен придут раздумья, самоанализ, комплексы, стрессы, переоценки ценностей… Все это еще будет… будет… будет…
В зарослях раздался треск, послышался тяжелый топот. Плотников замер, мышцы его напряглись. Темная громада вырвалась из чащи. Молния высветила огромные бивни, густую шерсть, на фоне которой выделялись грубые, длинные, щетинистые волосы; на шее и задней части головы они образовывали гриву, спускавшуюся почти до колен.
«Мамонт, всего лишь мамонт!» — с облегчением подумал Плотников и повернулся на другой бок.
* * *
Будучи по натуре человеком добрым, Алексей Федорович Плотников изобрел удобнейший прием: отзывы на сомнительные работы перепоручать аспирантам. Это экономило время и повышало объективность: кому, как не молодым, близки свежие идеи, которые может и не оценить консервативный, хотя бы в силу своего возраста, профессор!
Особым доверием Плотникова пользовался аспирант Иванчик — работоспособный, услужливый и безотказный: он и лекцию за шефа прочитает, и мебель на своем горбу перетащит, и замок в профессорскую дверь врежет.
Диссертация Иванчика, развивавшая ранние работы профессора, была уже принята советом; вскоре предстояла защита.
Профессор знал своего аспиранта со студенческой скамьи. Примерный во всех отношениях, «патентованный отличник», как о нем говорили, Иванчик привлек внимание Алексея Федоровича старательностью и усидчивостью, но, увы, не ярким талантом.
«Не всем же звезды с неба хватать!» — успокаивал себя Плотников, рекомендуя его в аспирантуру.
И вот прошли три года. Диссертация сделана, статьи опубликованы, акт внедрения получен, экономический эффект (на благо отраслевой лаборатории) баснословный, по принципу: «бумага все стерпит». Но неспокоен что-то профессор. С защитой будет порядок: приличия соблюдены. А выиграет ли наука?
«Да бог с ней, с наукой… — думает Алексей Федорович. — Человек-то полезный, это главное! — И тут же поправляет себя: — Не мне одному, всему обществу. На таких работягах земной шар держится. Кстати, вовремя о нем вспомнил: пусть полистает опус этого, как его… В. В. Стрельцова».
Взглянув на титульный лист, Иванчик и глазом не повел:
— К какому сроку нужен отзыв? — спросил он.
— За неделю управитесь? — строго взглянул профессор.
— Да, — послушно кивнул Иванчик.
Через пару дней отзыв лежал на столе профессора.
«Автор формально подходит к использованию функций, без должного обоснования распространяя результат на реально протекающие физические процессы… Понятие обратных гармоник времени лишено смысла…»
— А нельзя ли помягче? — миролюбиво предложил Алексей Федорович, вспомнив разговор со Стрельцовым и почувствовав к нему мимолетную симпатию («занятная фигура, «перпетуум-мобиле»!").
— Это же сплошная безграмотность. Взгляните сами, — тихо возразил Иванчик.
— Черт-те что! — возмутился профессор. — Корову через «ять» пишет!
И над росчерком Иванчика поставил свою подпись.
Спустя несколько дней он, не глядя в глаза Стрельцову, вернул рукопись.
* * *
Еще лет десять назад Плотников был заядлым путешественником. Как-то он вместе с главным инженером Памирского автотранспортного объединения Дарвишем Абдулалиевым и водителем Джеролом возвращался в Ош из поездки по Памирскому тракту. Позади остался последний со стороны Хорога перевал Чиерчик. Вечерело. Алексей Федорович и Дарвиш дремали на заднем сиденье «Волги». Вдруг Джерол закричал:
— Смотрите, что это?!
Прямо перед ними слева направо над горизонтом плавно двигался со скоростью примерно один угловой градус в секунду вертикальный эллипс, словно оттиснутый серебром на сумеречном небе. Был он раза в два меньше полной луны.
За эллипсом тянулся расходящийся пучок серебристых полосок-лучей, похожий на фотографический треножник. Концы лучей испускали жемчужное сияние. Но вот эллипс окутался мраком, словно выплеснул чернильное облако. Когда еще через три-четыре секунды мрак рассеялся, «треножник» остался на месте, постепенно тускнея, растворяясь в темнеющем небе, а эллипс продолжал двигаться в том же направлении и с прежней скоростью. Вот он скрылся за грядой гор, выплыл из-за нее и снова исчез из поля зрения — навсегда.
Плотников испытал мистический ужас пополам с эйфорией, словно ему, матросу каравеллы Колумба, повстречался в открытом море «Летучий голландец».
Алексей Федорович сознавал, что никогда не постигнет тайны, потому что издали созерцал лишь внешнюю ее оболочку. Жар-птица промелькнула перед глазами, не оставив после себя даже крошечного перышка… Будучи ученым, он знал, что наука не всесильна, что некоторые «законы природы», кажущиеся сегодня незыблемыми, завтра предстанут в ином, возможно, кощунственном с нынешней точки зрения толковании…
Сказать: «я видел своими глазами НЛО — неопознанный летающий объект»? Обыватель так бы и сделал, а потом взахлеб рассказывал бы об инопланетном космическом корабле, придумывая все новые и новые подробности. Но Плотников думал иначе: «Мне посчастливилось наблюдать нечто, не поддающееся определению». Он предложил Дарвишу и Джеролу нарисовать увиденное и сам тоже взял листик бумаги. Рисунки получились похожими, не совпало лишь число лучей «треножника» — никто не догадался их сосчитать.
С тех пор «Летучий голландец» затаился в глубине памяти, время от времени давая о себе знать…
Едва Стрельцов вышел из кабинета, Алексей Федорович почувствовал беспокойство.
«А вдруг я ошибся? — подумал он. — Просмотрел что-то большое, настоящее, прошел мимо, упустил жар-птицу?»
И тут же привычно успокоил себя:
«Ну, что нового предложил Стрельцов? Это же, в сущности, микровариант, микроповорот давно разработанных фантастами идей, парадоксов вмешательства во временную причинно-следственную связь…»
Вот бы поразился «Перпетуум-мобиле», узнав, что саркастически настроенный профессор с молодых лет увлекается фантастикой! А между тем Плотников и сам писал короткие фантастические новеллы, впрочем, не принимая это свое занятие всерьез и даже посмеиваясь над собою, как посмеиваются над необидным, пустяковым пороком, только подчеркивающим достоинства. И в то же время увлечение фантастикой давало ему возможность беспрепятственно и безотлагательно реализовать (пусть на бумаге!) самые дерзкие творческие замыслы, и даже не замыслы, а помыслы.
Он был искренен в литературном творчестве, верил: все, о чем писал, могло происходить на самом деле, пусть в ином измерении, в других вселенных… Как ученый Плотников отвергал работу Стрельцова, как фантаст сочувствовал ему и даже жалел, что не вник в его идеи.
«А если бы Стрельцов переделал свой опус, сочинил бы повесть или, на худой конец, рассказ? Было бы интересно… Хотя он же корову пишет через «ять»! Машина времени, хронотрон… Исчерпанная тема? Ну-ка, посмотрим, так ли?»
* * *
Римский полководец Марцелл, против которого мне пришлось воевать, поставил на моей могиле памятник с изображением шара, вписанного в цилиндр. Эпитафия гласила, что их объемы соотносятся как 2: 3 — самое изящное из моих открытий. Памятник пришел в запустение, был восстановлен Цицероном, сицилианским квестором, потом…
Не верите? Думаете, я сумасшедший? Допустим. Но что вы скажете о казусе с римским флотом? Имеются веские свидетельства, что Архимед, то есть я, во время осады Сиракуз римлянами сжег их суда лучами света. Историки преподносят этот достоверный факт как легенду, дабы не быть осмеянными физиками: ни зеркала, ни линзы ни в состоянии настолько сконцентрировать световую энергию, чтобы можно было поджигать корабли с берега. Сделать это способен лишь лазер. Но признать, что Архимед располагал лазером, значит… А ведь иного объяснения не придумаешь!
И вот историки, спасовав, пытаются взять жалкий реванш, выдавая за факт притчу о том, как Архимед, найдя способ определить соотношение золота и серебра в короне Гиерона, выскочил из ванны с криком: «Эврика!» — «Нашел!» — и в чем мать родила выбежал на улицу. Эта побасенка даже вошла в энциклопедии… при молчаливом попустительстве физиков!
Но скажите, если Архимед (тот самый чудак, чуть не опрокинувший ванну!) не уничтожил в действительности римскую армаду, все эти галеры и галионы, как ему удалось на два долгих года растянуть осаду Сиракуз? Может быть, у него был свой флот? Увы… Береговая артиллерия? Ее не существовало в помине! Так что же?
Лазер! Лазер! Лазер!
Почему именно он? Да потому, что лазерное оружие в тех условиях было наиболее эффективным! Представьте, сколько понадобилось бы пушек, чтобы потопить флот Марцелла? Сколько снарядов, не говоря уже о ядрах! Я же обошелся одним-единственным лазером на углекислом газе с добавкой… Впрочем, тс-с-с… не будем выдавать военную тайну!
Все еще считаете меня сумасшедшим? Тогда вспомните легенду о том, как я был убит римским солдатом. Марцелл вроде бы приказал сохранить мне жизнь, когда город будет взят предательским ударом с суши, но невежественный солдат не узнал меня. Я же сидел, погруженный в размышления над развернутым чертежом, и даже не слышал шума битвы. А увидев внезапно возникшего воина, сказал:
— Бей в голову, но не в чертеж!
Этим словам умиляются, дескать, Архимед собственную жизнь ценил меньше, чем чертеж, олицетворявший науку. Впоследствии, устыдившись столь вопиющего пренебрежения логикой, фразу подправили так:
— Не трогай моих чертежей!
Подумайте, человек, два года успешно возглавлявший оборону Сиракуз, не только позволил захватить себя врасплох, но и встретил врага, словно пай-мальчик драчуна, вознамерившегося отнять игрушку.
А ведь никакого пренебрежения логикой в первой, истинной, фразе не было. Я неспроста подставил голову. Если бы воин повредил «чертеж», то я вряд ли находился бы сейчас перед вами. Потому что чертеж на самом деле был пленочным хронотроном, который содержал в поликристаллической структуре мой информационный код и как раз тогда транслировал меня из античности обратно в современность. Какого бы я свалял дурака, попросив воина:
— Будьте добры, не причините вреда хронотрону, иначе в двадцатый век возвратится лишь часть человека, именующего себя Архимедом, а не весь «целиком и полностью», как пишут в газетах.
И я сказал:
— Бей в голову!
Ведь голова, как и тело, уже не представляла ценности, поскольку моя сущность была скопирована, преобразована в последовательность импульсов, заложена в память хронотрона и находилась в процессе трансляции, где-то на рубеже эпохи Возрождения.
Солдат и впрямь был невежествен. Он принял хронотрон за никому не нужный чертеж. Впрочем, и вы вряд ли обнаружили бы разницу. Тем более, что я чертил не на ватмане и не «Кохинором».
Но почему Архимед все же сдал Сиракузы, хотите спросить? Просто в конце концов понял, что вмешиваться в ход истории бессмысленно!
Ну как, все еще не убедил? В таком случае, когда придумали интегрирование? Лет триста назад? Неправда! Именно я в послании к Эратосфену (слышали о таком?) изложил основы интегрального исчисления. В точности по своему студенческому конспекту, у нас высшую математику читал Арбузов, забавный такой старик, вместо «интеграл» говорил «крючок»; распутаем, мол, нетабличный крючок в пределах от нуля до бесконечности! Ну вот, послание затерялось, раскопали его лишь в начале двадцатого века. И ахнули: боги Олимпа, не вы ли водили пером Архимеда?
Видимо, легче поверить в Зевса, чем в то, что твой современник оборонял Сиракузы во время второй Пунической войны!
Но рассудите: если в древности некто Архимед изобрел лазер и придумал интеграл, то почему я не мог осуществить хронотрон — машину времени? Это при нынешних возможностях, в эпоху современной научно-технической революции, — раз плюнуть. Логично? Ну, наконец-то! С Марцеллом справиться было легче, ей-богу! А раз я вас поборол, гоните выкуп — на сооружение нового хронотрона!
Куда делся старый? Видите ли, когда я был Александром Македонским…
Алеша был в семье единственным и очень поздним ребенком. На свет его извлекли щипцами — чуть выше левого виска так и осталась заметная вмятинка. Родился он отнюдь не в сорочке, а мертвым. Мать тоже была при смерти, ее спасали, а тельце сына отдали практиканткам. Те поочередно опускали трупик в горячую и холодную воду; когда он неожиданно закричал, уронили в тазик и помчались за акушеркой.
Мать наконец очнулась. Мальчика поднесли к ней. Взглянув на его огромную отечную голову, она прошептала:
— Боже, какой урод…
Впоследствии оказалось, что Алеша вполне нормальный ребенок. Мать в нем души не чаяла. Нянча его, она пела:
«Лешок, голубой глазок».
Рядом был детдом. По случайности именно в нем воспитывался будущий академик Форов. Он, бывало, подпевал через открытое окно:
«Лешок, золотой зубок».
Но чаще доносилась популярная среди беспризорников песня:
«Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет, я остался сиротою, счастья-доли мне нет…»
Отец Алеши стал большевиком в марте семнадцатого. У Плотникова сохранился снимок тех лет: длинные волосы, пенсне, кожаная куртка, маузер…
После гражданской войны отца, недоучившегося студента-медика, направили поднимать и укреплять здравоохранение в Крым, где он когда-то воевал с белогвардейцами, затем — оканчивать институт. Отец остался в нем… директором.
Алеша запомнил на всю жизнь нечаянно подслушанный разговор.
— Ну почему так? — недоумевала мать. — Мы живем в комнате без удобств, а ты отказался от квартиры!
— Я коммунист, — ответил отец.
Года два, во время учебы отца, Алеша с матерью прожили вдвоем. Это было, пожалуй, самое счастливое время в жизни. Мать брала его на ночь в постель и перед сном напевала:
«Хорошо нам, Леша, в гнездышке родном, пусть гудит сердито вьюга за окном!»
Алеша любил купаться. Так приятно было барахтаться в теплой, ласковой воде. А потом мать обмывала тельце обильной щекочущей струей и приговаривала:
«С гуся вода, с гуся вода, а с Леши болезни и худоба!»
После его дразнили: «
Толстый, жирный, поезд пассажирный…» Еще одно яркое, запомнившееся навсегда впечатление относится к столу. До сих пор стол возвышался над Алешей как монумент. И вдруг, встав на цыпочки, мальчик увидел ровную и гладкую крышку. Увидел впервые сам, не с маминых колен. А ведь прежде она была выше уровня глаз! Значит, он стал таким же большим, как стол…
Пришло время, и Алеша поступил в школу, сразу во второй класс. Младший по возрасту, он обогнал ростом одноклассников. Мать не раз внушала:
— Смотри не дерись, еще покалечишь кого-нибудь!
Он так и рос маменькиным сынком…
В тридцатых годах родители поселились в подмосковном поселке Лосинка, Лосиноостровске. Вскоре поселок переименовали в честь полярного летчика Михаила Сергеевича Бабушкина, участника челюскинской эпопеи и высокоширотной экспедиции ледокола «Садко», Героя Советского Союза, родившегося поблизости и погибшего при авиационной катастрофе. Позднее Лосинка, как ее по-прежнему будут называть старожилы, войдет в черту Москвы.
Они жили в двухэтажном, дощатом, отштукатуренном снаружи и изнутри доме, похожем на барак, — такие дома называли стандартными. К их крошечной квартире в торце дома примыкала веранда, имевшая два входа — со двора и из комнаты. С годами она обветшала, наружную дверь забили.
Веранда не отапливалась, поэтому пользовались ею только летом. Тогда ее облупившийся фасад заплетал вьюнок с бледно-розовыми слабоароматными цветками, и дом, при очень развитом воображении, можно было принять за старинный рыцарский замок.
На веранде доживал век старый комод. Ящики его рассохлись, им уже давно не пользовались по назначению, но и не выбрасывали. Это были владения Алеши.
В ящиках комода скрывался хаос, самый настоящий первозданный хаос, полная противоположность порядку — по-гречески «космосу»: железки невообразимого происхождения и предназначения, радиолампы, шурупы, пружины и многое другое из того, что несведущие люди считают бесполезным хламом. Алеша копался в нем с наслаждением, словно старьевщик, и всякий раз находил что-то неожиданное…
В памяти Плотникова комод ассоциируется с дядей Мишей, Михаилом Павловичем, младшим братом матери. В гражданскую войну был он рядовым красноармейцем, а в тридцатые годы — киномехаником. Кино тогда уже обрело голос, и дядя часто возился со звуковоспроизводящей аппаратурой, что-то в ней усовершенствуя. Делал он это с явным удовольствием.
Примостившись рядом, Алеша разглядывал большие стеклянные радиолампы и алюминиевые цилиндры электролитических конденсаторов, вдыхал елейный аромат расплавленной паяльником канифоли.
Как оказалось, дядины уроки не прошли бесследно. Михаил Павлович заразил-таки племянника своей страстью, но так никогда и не узнал об этом: вспышке Алешиной «болезни» предшествовал довольно длительный скрытый период.
Но вот Алеша прочитал небольшую книгу под названием «Веселое радио». Автора не запомнил и лишь сорок лет спустя выяснил, что книга принадлежит перу писателя-фантаста Немцова. Наверное, это была лучшая из его книг. Полная неистощимой выдумки, почти циркового блеска, виртуозной изобретательности и юмора, она заворожила Алешу и словно спустила курок, который взвел дядя.
Так в тринадцатилетнем возрасте будущий профессор стал радиолюбителем.
В Москве на Арбате находился тогда очень странный магазин. Он не был ни комиссионным, ни антикварным. Возможно, теперь его назвали бы магазином уцененных товаров, но и это не отразило бы сути. Магазин был волшебным. В нем продавали старые-престарые радиоприемники, чуть ли не времен Попова и Маркони. Откуда они брались, оставалось тайной. Там Алеша купил за бесценок двухламповый ПЛ-2, выглядевший так, словно его только что изготовили, но упорно не желавший работать.
Потом были муки творчества, и наконец наступил миг, когда первый сделанный его руками приемник вдруг ожил. Произошло это в ночь на первое января тысяча девятьсот сорок первого года.
Говорят, хуже всего — ждать и догонять. Алеша предпочитал последнее: ожидание пассивно и оттого мучительно. Ждать он просто не умел и никогда этому не научился. Вот и тогда не стал дожидаться подходящего времени.
У родителей были гости, в тесной комнате звенели бокалы, играл патефон. Алеша проскользнул на веранду. Его отсутствия никто не заметил — взрослые оживленно обсуждали международное положение («и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!»).
Стоял трескучий мороз. Стекла на веранде заиндевели, вдоль щелей образовались ледяные сталактиты, алмазной пылью посверкивали подоконники и проемы дверей. Священнодействуя, Алеша присоединил к приемнику батареи, надел наушники, медленно повернул ручку настройки, и… сквозь трески и шорохи эфира прорвалось негромкое, чистое и разборчивое звучание.
Алеша не вслушивался в смысл слов, воспринимал их как музыку. Они и были для него музыкой.
Много лет спустя, уже работая в НИИ, Плотников вспомнил этот эпизод, испытав нечто подобное. После нескольких месяцев упорных неудач наконец удалось отладить опытный образец профессионального радиоприемного устройства — одного из самых сложных по тому времени. Как и в далекую новогоднюю ночь, он включил питание, надвинул на уши телефоны и услышал необычайной красоты музыку: передавали Первый концерт для фортепьяно с оркестром Петра Ильича Чайковского.
Никогда впоследствии Плотников не испытывал такого эмоционального потрясения: сказались крайняя усталость, граничащая с опустошенностью, удовлетворение от законченной работы, расслабленность, неожиданность. И многокомпонентный сплав чувств под действием музыки Чайковского вызвал в душе резонанс, по силе подобный шоку. Слезы застилали глаза Плотникова, струились по щекам, благо в это позднее время он, презрев требования техники безопасности, работал один.
Но этот день еще ожидал его в будущем…
Началась война. Ее приближение чувствовалось задолго. Все разговоры заканчивались ею. Большим успехом пользовалась книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой живописался молниеносный разгром посмевшего напасть на нашу страну противника.
Во дворе Алешиного дома стоял деревянный, посеревший от времени и дождей стол. По вечерам на нем «забивали козла». Днем же он пустовал; поблизости сушилось белье, бродили ленивые коты.
Алеша любил, возвратившись из школы, забраться на стол, лечь навзничь и смотреть в небо. Оно запомнилось голубым, безмятежным, а отнюдь не предгрозовым. По нему плыли невозмутимые облака, отбрасывая на лицо Алеши короткие тени.