 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Иакова Я возлюбилModernLib.Net / Детская проза / Патерсон Кэтрин / Иакова Я возлюбил - Чтение (стр. 8)
Мама не помогала. Бабушка отравляла каждый миг своей злостью, но мама, слегка наклонив голову, словно борясь с ветром, молча ходила по дому, говорила мало, только в ответ, да и то когда он очень нужен и сравнительно безопасен. Мне было бы легче, кричи она или плачь, но она не плакала и не кричала. Зато она предложила вымыть окна, мы всегда их мыли в конце крабьего сезона. Я чуть было не возразила, но увидела ее лицо и поняла, что ей нужно побыть вне дома, хотя она об этом и не скажет. Я натаскала ведер теплой воды, взяла нашатырь, и мы с ней мыли-скребли целых полчаса. Из окна у входа, где я работала, было видно, что бабушка несмело заглядывает в гостиную. Войти она не могла хотя бы из-за артрита, но действия наши ее насторожили. Поглядывая на ее тощую физиономию, я испытывала разные чувства. Сперва я странно гордилась, что моя тихая мама ущучила сварливую старуху хоть на какое-то время. Потом мне стало стыдно своего злорадства. Всего неделю назад меня тронуло ее детское горе. Потом я рассердилась — как-никак, умную, добрую, красивую маму просто травят! И, наконец, озлилась на маму, зачем она все это допускает. Я подвинулась с ведром и стулом к ней поближе. Она что-то весело напевала. Из меня просто вырвались слова: — Понять не могу! — Что, что? — Ты была умная. Ты ходила в колледж. Ты была красивая. Зачем тебя сюда понесло? Она никогда не удивлялась нашим вопросам, и улыбнулась сейчас, но не мне, а какому-то воспоминанию. — Сама не знаю, — сказала она. — Я была немножко… романтичная. Хотелось уехать из нашего городка и проверить на деле свои крылья, — она засмеялась. — Сперва я решила отправиться во Францию. — Во Францию? — может, я ее не удивляла, но она удивить меня могла. — Точнее, в Париж, — она встряхнула головой, выжимая тряпку над ведром, стоявшим на соседнем стуле. — Видишь, какая я была обычная. У нас в школе все девочки моего возраста хотели уехать в Париж и написать роман. — И ты хотела? Роман? — Нет, я — стихи. Даже кое-что напечатала. — Напечатала стихи?! — Честное слово, это ерунда. Как бы то ни было, отец меня в Париж не пускал, взбунтоваться я не посмела. Тут мама умерла, — прибавила она, словно это объясняет, почему она отказалась от Парижа. — И ты вместо этого поехала сюда? — Мне казалось, это романтично, — она снова скребла. — Такой заброшенный остров, здесь нужно учить детей. Мне… — она засмеялась, — мне казалось, что я — из этих, первопроходцев. А кроме того… — она обернулась и посмотрела на меня, дивясь моей тупости, — я чувствовала, что найду здесь себя. Как поэт, конечно — но вышло иначе. Я снова сердилась. Особых причин не было, но тело охватывал гнев, как тогда, при Каролине. — Ну и как, нашла? — спросила я с посильным сарказмом. Мама, видимо, решила не обращать внимания на мой тон. — Да, и очень быстро, — ответила она, отскребая что-то ногтем. — Я нашла, что искать нечего. Я сорвалась, словно она меня обидела, говоря так пренебрежительно о себе. — Почему? Нет, почему ты поставила на себе крест? — я швырнула тряпку в ведро — серая вода забрызгала мне ноги, — спрыгнула со стула и скрутила несчастную тряпку, словно это чья-то шея. — У тебя были все шансы, а ты их отбросила ради вот этого! — и все той же тряпкой я показала на бабушку, глядевшую на нас из-за стеклянной двери. — Луиза, я очень тебя прошу… Я отвернулась, чтобы их обеих не видеть, и сдержала рыдания. Чтобы остановить слезы, я хлопнула рукой по стене. — О, Господи милостивый, было бы ради чего! Мама слезла со стула и подошла ко мне. Стояла я у обшитой досками стены, трясясь от злости или от горя, кто его знает. Она встала так, чтобы я ее увидела, и приподняла руки, словно хочет меня обнять, но не смеет. Я отскочила в сторону. Неужели я боялась, что она меня коснется? Неужели я думала, что она заразит меня своей слабостью? — Ты могла сделать что угодно! — воскликнула я. — Стать кем только хочешь! — Я и стала, — ответила мама, опуская руки. — Этого я и хочу. Никто меня не заставлял. — От такой жизни жить не захочется! — Я ее не стыжусь. — Только мне ее не подсовывай! — сказала я. — Я не буду такой, как ты! Она улыбнулась. — Верно, не будешь. — Я не хочу гнить тут, как бабушка! Уеду отсюда и… и что-нибудь сделаю. Она не мешала мне говорить, просто стояла и слушала. — Ты меня не удержишь! — Я и не собираюсь, — сказала мама. — Я не удерживала Каролину, не буду удерживать и тебя. — Каролину! Так это ж она ! У нас все для нее, как же! Каролина умная, Каролина тонкая, Каролина красивая! Конечно, мы жизнь должны отдать, чтобы весь мир это увидел! Дрогнула она, хоть капельку, или мне померещилось? — Что ты хочешь от нас, Луиза? — Отпустите меня! — Тебя никто не держит. Ты никогда не говорила, что хочешь уйти. Ой, Господи, а ведь правда! Мечтать я мечтала, но и боялась. Я была привязана, к ним, к острову, что там — к бабушке, вцепилась в них и боялась чуть-чуть расслабить хватку, чтобы не оказаться снова в чистой, холодной, забытой корзине. — Вот я выбрала остров, — сказала мама. — Я по своей воле оставила родных, ушла и построила жизнь в другом месте. Как же я тебе откажу? И ты вправе выбрать. Но, — взгляд ее держал меня, взгляд, а не руки, — Луиза, мы с папой будем по тебе скучать! Мне очень хотелось ей поверить. — Правда? — спросила я. — Как по Каролине? — Что ты, больше! — отвечала она, подошла и легко, одними пальцами погладила меня по голове. Я ничего не спросила. Я была слишком благодарна за эти скудные слова, разрешившие мне, наконец, покинуть остров и растить свою, отдельную душу, выйдя из-под длинной, длинной тени, которую отбрасывала сестра. 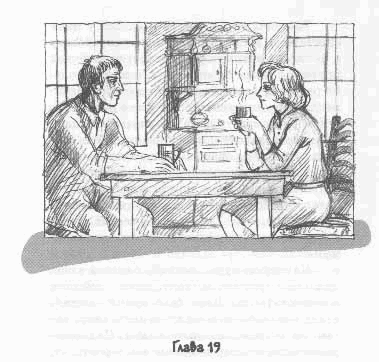 Глава 19 Каждую весну надо ставить новые ловушки. Крабы — особые существа, они не полезут в проволочный домик, если наживки не первой свежести, а проволока заржавела или залеплена морской травой. А вот если вы им подбросите чистую вершу с коробочкой свеженького корма, они понесутся туда на всех парах — и окажутся на рынке. Так начала и я той весной. Все у меня блестело и сверкало. По маминому совету я написала инспектору от графства, который приезжал к нам на экзамены, и он был только рад представить меня к стипендии Мэрилендского университета. Сперва я решила до сентября помогать дома, с крабами, но папа и слышать не хотел. Наверное, родители боялись, что если я сразу не уеду, я потеряю запал. Сама я не беспокоилась, но ехала с удовольствием, так что в апреле жила уже неподалеку от университетского городка, и помогала в кафе, дожидаясь летней сессии, когда смогу переехать в общежитие и начать заниматься. На втором курсе, весной, я нашла в специальном ящичке записку, меня вызывали к консультанту. День был яркий, синий, и мне казалось, что я иду по загончику, где там, на острове, ползают крабы. Пахло весенним цветением; направляясь в ректорат, в кабинет, я напевала, радуясь жизни. Почему-то я забыла, что в жизни, как и в крабьем садке, много мусора. — Мисс Брэдшо, — сказал консультант, вычистил трубку и выбил ее вдобавок в пепельницу прежде, чем я предложила мою помощь. — Мисс Брэдшо. Так. Это вы. Откашлявшись, он обстоятельно набил и зажег трубку. — Да, сэр? Прежде чем продолжать, он попыхтел. — Вижу, вы неплохо учитесь. — Да, сэр. — По-видимому, выбрали медицину. — Да, сэр. Я на подготовительном. Специальный курс. — Так, так… — он попыхтел, потом пососал трубку. — Вы всерьез решили? Такая привлекательная барышня… — Всерьез, сэр. — Собираетесь стать сиделкой? — Нет, сэр. Врачом. Увидев, как я решительна, он оставил трубку в покое и сказал, что, как ни жаль, попасть в институт невозможно «даже такой способной студентке», очень уж много возвращается демобилизованных. И посоветовал в конце семестра заняться тем, чем занимаются медицинские сестры. Несколько дней я ходила сама не своя, а потом решила, что если хочешь не сходя с места ловить крабов, приходится передвигать загоны. Я поехала в Кентукки и поступила в школу медсестер, где готовили к тому же акушерок. Что ж, буду повивальной бабкой, поживу в горах, где врачей не хватает, а потом, когда наберусь опыта, уговорю начальство послать меня в медицинский институт. Перед самым концом занятий на доске вывесили список требований от аппалачских[21] общин, все акушерки; и мне сразу бросилось в глаза слово «Трейт». Когда мне сказали, что селеньице лежит в ложбине, среди гор, а ближайшая больница — в двух часах пути по кошмарным дорогам, я пришла в восторг. Точно в таком месте хотела я поработать года два-три, пересмотреть все горы, а уж там, с деньгами и опытом, пробиваться в медицинский мир. Долина, окруженная горами — в сущности, тот же остров. Вода у нас местная, с гор, лодки наши — списанные джипы, на которых мы и передвигаемся, огибая углы, по узким тропинкам. Есть несколько грузовиков, их может взять напрокат любой фермер, чтобы в хорошую погоду отвезти на рынок телят или свиней. Остальные редко покидают долину. Школа тут больше, чем на острове, не только потому, что семейств раза в два больше, но и потому, что в отличие от островитян, детей считают главным богатством. Есть пресвитерианская школа в одну комнату, из местного камня; учитель бывает там раз в три недели, когда дороги хоть в каком-то порядке. Раз в месяц, по воскресеньям, если погоде и Богу угодно, католический священник служит в школе обедню. В этом уголке Западной Виргинии шахт уже нет. Но литовские и польские шахтеры, чьих дедов привезли из Пенсильвании, остались тут и развели хозяйство на склонах. Упрямые шотландцы или ирландцы считают их чужаками; как же, те хозяйничали и в лощине, и на склонах почти двести лет. Самая важная проблема для врача — совсем другая, чем на острове. В субботу вечером человек пять-шесть напиваются вусмерть и бьют семью. Протестанты считают, что это — от католиков, католики — что от протестантов. На самом деле, конечно, конфессии тут ни при чем. Может быть, виноваты горы, которые, сверкая вокруг, задерживают рассвет и приближают тьму. Они грозны и прекрасны, как воды, но народ их, кажется, не видит. Не радуется местный народ и обилию дичи, и обилию топлива. Большей частью замечают только плохую почву, да стены, отделяющие от мира. Люди сражаются с горами. На острове мы слушались воду. Это — не одно и то же. Местные жители туго принимают чужих, но ко мне ходили, нуждаясь в моей расторопности. — Сестрица? — старый фермер с обветренным лицом стоял у моих дверей в полночь. — Сестрица, вы не посмотрите мою Бетси? Что-то у нее не идет. Я оделась и пошла с ним на ферму, принимать ребенка. К моему удивлению, мы направились в сарай. Бетси была корова, и оба мы вряд ли гордились бы больше, если бы крупный теленок оказался младенцем. Иногда я думала, неужели все хворобы — и звериные, и человеческие — только меня и ждали. В моем домике, где была и клиника, вечно толокся народ, а нередко у дверей ждал джип, везти меня к женщине или к телке. С Джозефом Войтневичем (представляете, что бы из этого сделала бабушка!), так вот, с Джозефом я познакомилась, когда он прикатил ночью на джипе, чтобы я посмотрела его сына Стивена. Как многие здешние мужчины, он меня смущался и говорил по дороге только о том, что у мальчика болит ухо, температура высокая, и опасно везти его в больницу, да еще в холодную ночь. Дом у них был хороший, бревенчатый, о четырех комнатах. Мой пациент оказался шестилетним, сестры его, Мэри и Энн — восьми лет и девяти. Мать умерла года за три до этого. Я получала лекарства, в том числе — и пенициллин, так что могла сделать укол. Потом я вытерла его спиртом, пока антибиотик подействует, накапала в ушко подогретого масла, бодро сказала, что делать самим, и собралась было ехать. Когда я уже сложила сумку и шла к выходу, я заметила, что отец сварил кофе. Чтобы его не обидеть, я присела с ним к кухонному столу, улыбнулась самой что ни на есть профессиональной улыбкой и стала давать ненужные советы. Чем больше я говорила, тем больше замечала, что хозяин смотрит на меня — не нагло, а сосредоточенно, словно изучает незнакомый образчик. Наконец, он сказал: — Откуда вы? — Я училась в Кентукки, — ответила я, гордясь, как обычно, что ни пациенты, ни члены их семей не могут смутить меня этим вопросом. — Нет-нет, — сказал он. — Там вы учились. А где жили? Я стала рассказывать ему об острове — где он, какой он, каким был. Дома я не была с тех пор, как стала учиться медицине, только два раза ездила на похороны, бабушкины и Капитана. Теперь, описывая болото моего детства, я ощущала ветер, слышала гусей, лающих, словно собаки, пролетая над нами. Нигде, кроме острова, меня не просили говорить о доме; и, чем больше я говорила, тем больше распалялась, так мне стало хорошо и так захотелось домой. Девочки пришли на кухню и встали по сторонам отцовского кресла, напряженно глядя на меня темными глазами. Джозеф их обнял и рассеянно гладил по голове ту, что стояла справа, Энн. Наконец я остановилась, смутилась, даже попросила прощения. — Ну, что вы! — сказал он. — Я действительно хотел знать. Я сразу понял, в вас есть что-то особенное, и все гадал, почему женщина, которая может сделать все, что хочет, приехала в такое место. Теперь я понял. Отняв руку от волос дочери, он наклонился вперед и развел большие руки, словно ждал от них помощи. — Бог на небе, — начал он, а я подумала, что это какая-то божба или клятва, слишком уж долго я не слышала таких выражений. — Бог на небе готовил вас для этой долины с тех самых пор, как вы родились. Я страшно рассердилась. Он ничего не знал ни обо мне, ни о моем рождении, а то не сказал бы такой глупости, да еще с чувством, как методистский проповедник. И тут — о, Господи милостивый! — он улыбнулся. А я узнала, что выйду за него замуж, со всем его Богом, Папой Римским, тремя осиротевшими детьми и непроизносимой фамилией. Понимаете, когда он улыбнулся, стало ясно, что он может петь устрицам. 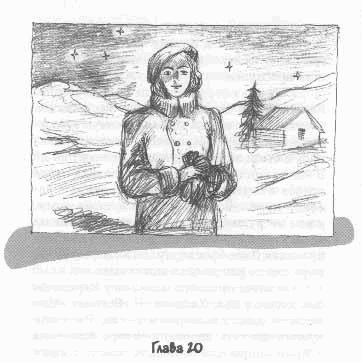 Глава 20 Быть замужем за католиком куда проще, чем думали мои методисты. Я ничего не имею против того, чтобы дети (его, конечно, но и мои, когда они будут) воспитывались по-католически. Священник очень мил со мной, когда мы встречаемся, но бывает у нас не больше раза в месяц, а Джозеф никогда не заставлял меня стать католичкой или просто верующей. Я очень рада, что они с отцом увиделись, потому что второго октября папа заснул в кресле после ловли — и не проснулся. Каролина позвонила мне из Нью-Йорка. Раньше я не слышала, чтобы она плакала вслух, а тут голосила вовсю. Почему-то я рассердилась. Они с Криком немедленно явились и были на похоронах, — а почему не я? В конце концов, из нас двоих я ловила с ним крабов и сортировала устриц, но жила я далеко, приближались роды, и кому-кому, а мне нетрудно было понять, что ехать нельзя ни в коем случае. В общем, вместо меня отправился Джозеф и вернулся на ферму за четыре дня до рождения нашего сына. Он хотел привезти маму, но у Каролины был дебют в Нью-Хейвене — «Богема», Мюзетта — двадцать первого числа. Родители думали поехать вместе, а теперь Каролина и Крик попросили ее побыть вместе с ними на премьере. Поскольку она собиралась вскоре к нам приехать, это было справедливо. Джозеф не ссылался на мое состояние. Он учился принимать младенцев, а мама, вероятно, понимала, что его огорчит, если ему не доверят принять собственного ребенка. Наверное, описывая первенца, всякая мать теряет рассудок, но, честное слово, он очень красивый — длинный, темный, в отца, но голубоглазый, как мы, Брэдшо. Судя по голосу, он будет певцом, а судя по крупным рукам — воды не бросит. Его отец надо мной смеется, изображая, как сын ставит парус на лодку. Брат и сестры его обожают, а соседи не верят, что я назвала сына в честь дедушки, а не в честь мужа. Я им нужна, они меня приняли, но сейчас мне кажется, что и полюбили. Работе моей не помешали ни брак, ни хозяйство, ни младенец. Больше лечить долину некому. Больница — в двух часах езды, и почти всю зиму дорога закрыта. Эта зима пришла рано. 1 ноября у меня были две роженицы, одна из них — не очень надежная: тощая, запуганная девочка лет восемнадцати. По виду я заподозрила близнецов и очень просила их с мужем поехать в Стонтон или Гаррисберг, где были больницы. Муж у нее угрюмый и пьющий, но вообще-то хороший. Он бы отвез, если бы у них были деньги. Можно ли гнать их в город, когда больница, того и гляди, не примет? И где они остановятся без гроша? Я подсчитала дни, как могла, и написала доктору в Стонтон, что он мне понадобится. Однако снегу высыпало на двадцать дюймов, и мне пришлось принимать роды одной. Первый близнец, почти шестифунтовый, вышел довольно легко, хотя у Эсси узкий таз, а вот второй никак не шел. Я совсем пала духом, как вдруг поняла, что он совсем маленький, но лежит ногами. Мне удалось его перевернуть, он родился головой вперед, только темно-синий. Раньше, чем перерезать пуповину, я подышала ему — нет, ей — прямо в ротик. Грудка, меньше моего кулака, мелко дрожала, а писк она издала такой слабый, такой жалобный, что я впала в отчаяние. — Как, все в порядке? — спросила Эсси. — Да. Только маленькая, — сказала я и занялась пуповиной. Девочка тряслась под моей рукой, она была очень холодная. Я кликнула бабушку, которая занималась братом, попросила принести пеленок и присмотреть, как там что. Девочку я прижала к груди, словно замерзший камень, и чуть не выбежала из спальни. Я не знала, что делать. Если они хотят, чтобы я вытянула ребенка в этом Богом забытом месте, пусть присылают инкубатор! В кухне было немного теплее. Я подошла к огромной плите. Угли тлели только в дальнем углу, но руку плита грела. Схватив железный казан, я натолкала в него одной рукой полотенец и тряпок, положила на них младенца и сунула в печь. Потом, подтащив стул, села рядом, держа руку на тельце. Сидела я долго, наверное — много часов. Но в конце концов прозрачная синяя щечка чуть-чуть порозовела. — Сестрица! Я вскочила. Молодой отец вошел в кухню. — Сестрица, идти мне за священником? Увидев, что я пеку его ребенка в плите, он просто вылупился, но не возразил, только повторил свой вопрос. — Вы не проедете, — сказала я, кажется — нетерпеливо. Он мне мешал. Я должна была стеречь девочку. — Может, я сам окрещу? — испуганно спросил он. — Или вы. — Не мешайте. — Сестричка, надо ее окрестить, пока она не умерла. — Она не умрет! Видимо, он меня испугался. — А если… — Не умрет. Чтобы избавиться от него, я налила в горсть воды из остывшего чайника и сунула руку в плиту, к темным волосикам. — Как ее зовут? Он растерянно покачал головой. Что ж, все придется сделать мне. Сьюзен. Есть ведь святая Сусанна? А если нет, разберутся потом, со священником. — Эсси Сьюзен, — сказала я. — Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Крохотная головка шевельнулась под моей рукой. Отец перекрестился, робко кивнул в знак благодарности и убежал сказать жене о крестинах. Скоро пришла бабушка. — Спасибо вам, сестрица. Большое спасибо. — А где мальчик? — спросила я, внезапно испугавшись. Я о нем забыла, из-за сестры, совершенно забыла. — Куда вы его положили? — В корзинку, — она удивленно взглянула на меня. — Он спит. — Возьмите его на руки, — сказала я. — И держите. Или дайте матери. Она направилась к двери. — Сестрица, надо сейчас его крестить? — Да, да. Крестите и тут же дайте матери. У меня прибыло молоко. Я знала, что муж скоро принесет мне ребенка. Вынув девочку из плиты, я приложила ее к груди. Молоко текло струей. Совершеннейший язычок, меньше, чем у новорожденного котенка, ловко слизывал капли. Потом, немного потыкавшись, ротик схватил сосок. Через несколько часов, когда, по пути домой, снег скрипел под ногами, я откинула голову, чтобы порадоваться кристаллам звезд. И ясно, словно кто-то пел сзади, услышала такую нежную, такую чистую мелодию, что едва не упала: Гуляю и гадаю, не могу никак понять… Земля Марии Представив себе глобус или карту, мы легко вспомним, что на атлантическом берегу Америки лежат один за другим прославленные города, в том числе и «главный» — Нью-Йорк, и столица — Вашингтон. Есть там и изысканный Бостон, и прелестная Филадельфия, и (поближе к южному концу цепочки) Балтимор, который входит в штат Мэриленд. Эту землю Карл I в 1632 году подарил Джорджу Калверту, первому лорду Балтимору. Тот почти сразу умер, и управителями стали его потомки. Балтиморы были католиками, а католичество в Англии давно уже было таким же неугодным, как самые крайние деноминации протестантства. Англиканская церковь отсекала противников с обеих сторон, и те обычно уезжали в огромную необжитую колонию. Мэриленд отличался терпимостью. Гонимые английские католики давно лишились той победной агрессивности, которую дают сила и власть. Теперь они хранили совсем другое, самое евангельское в католичестве — то самое, из-за чего несчастный Уайльд назвал его верой для святых и грешников, а не для приличных людей. Сюда неизбежно входила и любовь к Марии, защитнице слабых и жалких, всегда связанной в нашем представлении с таким беззащитным существом, как ребенок. Династия Стюартов, формально соблюдая приверженность англиканству (король был главой Церкви), католичеству сочувствовала. К концу XVII века младший сын Карла I, Иаков, открыто стал католиком, и ему сравнительно мирно пришлось уступить власть сестре с мужем. Очередной Балтимор отказался их признать и перестал быть губернатором Мэриленда. XVIII век принес огромные успехи одному из исповеданий протестантства, методизму, отличавшемуся поистине библейской живостью и мощью. Обращения этого рода обычно бывают массовыми. В Мэриленде возобладал методизм, заметно усилив суровость к себе, а нередко — и к другим. Любые противопоставления конфессий неполны и не очень справедливы. Чего же еще ждать от такой беды, как нарушение молитвы Христа об единстве? Поэтому скажем только, что книга Кэтрин Патерсон касается той больной точки, которая исключительно важна для всех исповеданий христианства. Психологи открывают теперь, что потребность в чьей-то любви — одна из самых главных у человека. Это давно знали и так. Некоторые, убедившись, что тут, на земле, ее не дождешься, пытались обойтись без нее. Несколько упрощая, это можно сказать о стоическом отношении к жизни, а не упрощая — о шкурном, прагматическом. Ни Новый Завет, ни Ветхий такому отказу не учит. Это мы сами пытаемся убедить других, что лучше быть черствым и толстокожим, обычно при этом оставаясь болезненно обидчивыми. И не случайно: естественная потребность в том, чтобы тебя любили, если ее подавить, оборачивается чудищами комплексов. Знать, что безмерно и безоговорочно нас любит только Бог — как-то страшновато. Достигается это знание большой кровью, примиряются с ним нелегко, хотя только после этого можно порадоваться и несовершенной человеческой любви. Однако, к счастью, мы довольно долго окружены чем-то похожим на любовь Бога — любовью родителей. Конечно Жан Ванье совершенно прав, когда говорит, что только одна Мать не нанесла раны Своему Ребенку, поскольку была безгрешной. Но худо-бедно (часто — очень худо и бедно) какое-то подобие бескорыстной и незаслуженной любви мы в детстве получаем. Героиня повести думает, что ее этим обделили. Родителям, да и вообще людям, часто напоминают, что предпочесть, хотя бы в поведении, надо тех, кто слабее. Родителям Сары Луизы напоминать об этом не пришлось, у них хватило на это доброты и мудрости. Они заботятся больше о едва выжившей Каролине, а Луизе кажется, что они только ее и любят, мало того — что здоровую дочь и они, и все прочие ненавидят, как Бог ненавидел Исава. Как важны все тонкости и оттенки библейских слов! Бог Исава не «ненавидел», Он его просто видел и не положился на такое ненадежное существо. Льюис замечает (кажется, в «Чуде»), что жил Исав даже и «получше», избранничество стоит дорого. Бог просто отвел его в сторону, не поставил в центр Своих промыслительных замыслов. Здесь, в повести, все вплетены в эти замыслы, но судьба избранника достается скорее Саре Луизе. По мирской логике она должна была просто обуглиться от таких адских чувств, как зависть, ревность, досада. Так и случилось с их бедной бабушкой, но, как бывает гораздо чаще, чем мы думаем, та вышла за пределы греха, утратив разум. Однако жизнь Сары Луизы идет не по мирской логике. Все спасает ее — и дружба с добрым Криком, и красота бессловесных тварей, и мужество Капитана, и беззащитная женственность Труди, и поразительные, как бы белым на белом написанные родители. Когда же, не замечая, что ветхий человек почти осыпался, она уходит служить другим, действительно забыв о себе, ей дается все, как Иову в конце книги — муж, такой же немыслимо хороший, как ее отец, сын, тяжелый и успешный труд. Тогда она и совершает будничное библейское чудо, где уже не различишь мужскую твердость и женскую мягкость, трезвый разум и какое-то фольклорное действо, силу — и слабость. На этих страницах куда-то делся, осыпался ветхий мир мнимостей, и мы — не в «хэппи энде», а в том слое бытия, где беспредельно царствует Бог и больше нет ни бездомных, ни обездоленных. Наталия Трауберг Примечания 1 Речь идет о пьесе «Венецианский купец», (здесь и далее примечание переводчика). 2 Роман Дж. Элиот (Мэри Энн Эванс, 1819-1880) 3 Библия, Псалом 22:4 4 Библия, Бытие 37:5-10 5 Библия, 2 Книга Царств 11:2-27. 6 Библия, Деяний Апостолов 7:58. 7 «Не прелюбодействуй» (Библия, Исход 20:14 и Второзаконие 5:18). В части христианских конфессий эта заповедь — седьмая. 8 Камфарная настойка опия применялась как болеутоляющее. 9 Библия, Евангелие от Матфея 7:26-28. 10 Библия, Псалом 46:2-4. 11 Библия, Бытие 41:46-49. 12 Библия, Бытие 27:15-29. 13 Братья Уэсли — Джон (1703-1791) и Чарльз (1707-1788) — основатели методизма. 14 Библия, Книга Иеремии 12:1. 15 Операция по высадке союзников называлась «D-day» — «День Д» (от слова «day» — «день»). Она началась 6 июня 1944 года. 16 Вторая мировая война полностью закончилась 3 сентября 1945 года, после победы над Японией. 17 Библия, Откровение Иоанна Богослова 6:12. 18 Тем, кто демобилизовался после Второй мировой войны, в США платили за обучение. 19 Библия, Послание к Ефесянам 6:2-3. 20 Библия, Книга Притчей 23:27. 21 Аппалачские горы тянутся вдоль атлантического побережья Северной Америки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||