 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Иакова Я возлюбилModernLib.Net / Детская проза / Патерсон Кэтрин / Иакова Я возлюбил - Чтение (стр. 6)
Как я мечтала о таком знаке, который выделил бы меня из всех! Но я не была последней из могикан, я вообще никем не была, только близнецом Каролины. Почему-то я скрыла, что после бури, почти разорившей нашу семью, у меня осталось чуть меньше пятидесяти припрятанных долларов. Теперь среди прочего, приходилось отказаться от Каролининых занятий. При любых стипендиях мы не потянули бы дорогу. К чести моей сестры надо признать, что она не канючила и терпеливо упражнялась, надеясь, что весной, к концу устричного сезона, мы заработаем достаточно на ее поездки. Похвалю и себя, я очень нуждалась в одобрении — злорадством я не грешила. Собственно говоря, меня не раздражали музыкальные таланты сестры, я ими скорей гордилась. Мне иногда хотелось ей помочь, но я не решалась признаться, что припрятала деньги. Да и было их немного; и вообще, они мои, я их заработала. После свадьбы я была у Капитана один раз. Пригласил он всех троих — Каролину, Крика, меня, и днем, к обеду. Наверное, он хотел отпраздновать с нами свою женитьбу. Во всяком случае, на столе стояла бутылочка вина, и он предложил нам выпить. Мы с Криком ужаснулись и отказались, Каролина немножко выпила, хихикая и гадая, что было бы, если бы узнали, что Капитан нарушил сухой закон нашего островка. Закон этот был не юридическим, а религиозным (мамин херес мы крепким напитком не считали). У нас не было полиции, а уж тем более — тюрьмы. Если бы люди прознали про вино, они бы обозвали Капитана нехристем и молились бы о нем по пятницам. Вообще-то, они и так это делали с самого его приезда. — Такое вино я покупал в Париже, — рассказал нам Капитан. — Не так-то легко в военное время! Конечно, я решила, что речь идет об этой войне, но сейчас мне кажется, что он имел в виду ту, Первую. Я никак не могла запомнить, какой он старый. Зато с тетушкой Брэкстон было все ясно. Сидела она во главе стола в кресле на колесиках (плетенье с деревом) и простодушно улыбалась. Волосы у нее были совсем белые и такие редкие, что сквозь них просвечивала розоватая кожа. Улыбалась она криво, наверное — после удара, из-за которого, к тому же, сломала ногу. Ей было трудно держать бокал в костлявой лапке, но Капитан помог ей, она прихлебнула, хотя и перепачкала подбородок. Это ее не смутило. Она благоговейно смотрела на мужа ясными, детскими глазами. Он бережно промокнул вино салфеткой, говоря жене: — Душенька, я тебе не рассказывал, как проехал в машине через весь Париж? Для нас, еще не покидавших острова, машина была почти такой же экзотикой, как Париж. Я немножко обиделась, что нам с Криком он об этих приключениях не сказал. Да, в его передаче то были приключения. Снова усевшись как следует, он поведал, что здесь, в Америке, водил машину только раз, и то по проселочной дороге. Во Франции же приятель, моряк, предложил ему купить автомобиль в Гавре и перегнать его в Париж, для вящей веселости прихватив девочек. У Капитана деньги были, ему хотелось повеселиться на воле; однако он не знал, что приятель никогда машину не водил. — Ladneau, — сказал нам Капитан, имитируя французский акцент. — Tchego tam! Однако ему удалось отговорить приятеля, он сел за руль, и началось неописуемое путешествие, закончившееся тем, что они проехали через весь Париж в час пик. — Машины, повозки, грузовики — ну, с восьми сторон! Стоять — раздавят, ехать — верная смерть! — Что же вы сделали? — спросил Крик. — Одной рукой вцепился в руль, другой — в гудок, ногами нажал на акселератор, закрыл глаза и ка-ак рвану! — Вот это да! — отозвался Крик. — А живы остались. Раздалось что-то вроде кудахтанья. Мы поглядели на тот конец стола и увидели, что тетушка Брэкстон смеется. Тогда засмеялись все, даже Крик, который понимал, что смеются и над ним. Но я не засмеялась. — Ты что, не усекла? — спросил меня Крик. — Если бы он не… — Усекла, чего тут не усечь? Я просто не вижу, чего тут смешного. Каролина повернулась к тетушке Брэкстон. — Не обращайте внимания. Она ослепительно улыбнулась Крику. — Она у нас вообще не смеется. — Еще как смеюсь! — завопила я. — А ты врешь! Врешь, врешь, врешь… — Ли-ис! — укоризненно протянула сестра. — Я тебе не лис! Я человек, а не зверь какой-то! Слова мои прозвучали бы лучше, если бы голос не сорвался на последнем. Каролина засмеялась, словно я шучу. За ней засмеялся и Крик. Они переглянулись и просто зашлись, как будто я сострила. Закрыв лицо рукой, я ждала, что закудахтает тетушка и загремит трубой смех Капитана. Но Капитан не смеялся. Я ощутила его руку на плече и услышала голос. — Сара Луиза, — ласково сказал он, — что это с тобой? О, Господи! Что он, не знает? Я могу выдержать все, кроме его доброты. Чуть не перевернув кресло, я бросилась прочь из этого мерзкого дома. Тетушку Брэкстон я больше не видела до самых ее похорон. Каролина исправно сообщала мне, как счастливы они с Капитаном. Сама она, вместе с Криком, ходила к ним чуть не каждый день. Капитан всегда просил ее спеть: «Труди так любит музыку». Он знал о тетушке гораздо больше тех, кто прожил столько лет с ней рядом. — Вообще-то, она разговаривает, — сообщала мне Каролина. — Мы не все понимаем, а он — все. И когда я пою, она слушает, правда слушает, не витает невесть где. Капитан зря не скажет — она любит музыку, очень любит, даже больше, чем мама. Когда она так говорила, я утыкалась в книгу и делала вид, что не слышу. Была заупокойная служба. Я удивлялась — никто не помнил, чтобы тетушка или Капитан ходили в церковь; но проповедник у нас был молодой, серьезный и отслужил по ней, как все решили, «чинно и благоговейно». Капитан попросил нас сидеть впереди, с ним рядом, и мы сидели, даже бабушка, которая, слава Богу, ничего не учудила. Сам он сидел между мной и Каролиной. Когда запели двадцать второй псалом — «Аще бо пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, ибо Ты со мной еси» — моя сестрица взяла его за руку, словно он маленький ребенок, которого надо вести и пасти. Другой рукой он утер слезы. А я, сидя так близко от него, как давно не сидела, поняла, какой же он старый, и сама чуть не заплакала. Мама пригласила его поужинать, он отказался, и никто его не неволил. Мы с Каролиной и Криком проводили его до дверей того дома, который он теперь мог назвать своим. Никто не сказал за дорогу ни слова, а когда Капитан кивнул нам на прощанье, мы кивнули в ответ и пошли обратно. Оказалось, что он не зря отказался пойти к нам, бабушка была совсем плоха. — Он ее убил, — сообщила она, как только мы вошли. Мы очень удивились. Даже для бабушки это было слишком сильно. — А как же, ему дом нужен. Я сразу поняла, когда он явился. — Мама, — мягко сказал отец, — не надо… не стоит. — Хотите знать, как он управился? — Мама… — Отравил ее, вот как, — она победно оглядела стол. — Крысиным ядом. Она откусила большой кусок и шумно его жевала. Мы вообще перестали есть. — Луиза знает, — продолжала бабушка тонким голоском, и улыбнулась мне, — да не скажет. Не скажешь, верно? А я знаю, почему, — она захихикала и протянула нараспев, как дразнилку: — А я зна-зна-а-а… — Заткнись! — закричала Каролина то, что я крикнуть не посмела. — Каролина! — ужаснулись папа и мама. Сестра покраснела от ярости, но сжала губы. Бабушка произнесла, как ни в чем не бывало: — Видели, как она на него смотрит? — Мама! — Она думает, я глупая старуха. Не-ет, я знаю. Уж я-то знаю! Бабушка посмотрела мне прямо в глаза. Я слишком испугалась, чтобы отвести их. — Часом, ему не помогла? А, внучка? Не помогла? Взор ее хитренько искрился. — Девочки, — очень тихо сказал папа, — идите к себе. На этот раз мы обе тут же послушались. Даже у себя, в безопасности, говорить мы не смогли. Мы не могли ни шутить над глупой, вздорной старухой, которую знали всю свою жизнь, ни как-то ее оправдывать. Шок был так силен, что мои ничтожные страхи растворились в темном, безграничном ужасе. «Кто знает? — спрашивал голос из мрака. — Кто знает, какое зло таится в сердце человеческом?» Теперь мы это знали. Позже, когда мы уже ложились, Каролина сказала: — Надо мне отсюда бежать, пока она меня не уела. «Тебя? — подумала я, но промолчала. — Тебя? Что она может тебе сделать? Тебе незачем избавляться от зла. Ты что, не видишь? Речь обо мне. Это меня вот-вот проглотит вечный мрак». Но я промолчала. Я не сердилась на сестру, только устала до смерти. Наутро, при ясном свете, я попыталась себя убедить, что ужасы прошлого вечера мне примерещились. Разве я когда-то не говорила Крику, что Капитан — немецкий шпион с подводной лодки? Чего ж я тогда так горюю из-за бабушкиных обвинений? Однако, вспомнив ее искрящийся взор, я поняла, что это вещи разные. Сама она вроде бы все забыла. Она опять была просто глупой и сварливой; и мы с облегчением притворились, что тоже забыли все. В феврале Крик бросил школу. Его мама и бабушка совсем обеднели, папа предложил ему ходить с ним на «Порции», отбраковывать устриц. Папа брал их длинными деревянными щипцами, вроде ножниц с железными грабельками на конце, потом разжимал щипцы и бросал добычу на особую доску. Тут Крик в больших резиновых перчатках приступал к отбраковке. Он отбивал специальным молотком пустые раковины, а ручкой (на ней было заострение) счищал слишком мелких устриц. Мусор выбрасывали в воду, крупных устриц клали в особую лодку, на которой позже их отвозили на рынок. Уходили папа с Криком затемно, в понедельник, до самого воскресенья, и спали всю неделю на узких скамьях, в крохотной каюте. Самые лучшие устрицы были слишком далеко, чтобы плавать туда каждый день, тем более, что бензина отпускали очень мало. Конечно, я завидовала Крику, но с удивлением поняла, как мне его не хватает. Папа уходил на ловлю всегда, к этому я привыкла, а Крик был тут, рядом — или просто со мной, или где-нибудь поблизости. Теперь мы видели его только в церкви. Каролина каждое воскресенье куковала над ним вовсю. «Ну, Крик, мы ужасно по тебе скучаем!» Мы… Ей-то откуда знать. И вообще, девице неприлично говорить вот так, прямо. Каждую неделю он становился тоньше и выше, а руки все больше покрывались шершавой бурой корой, как у всех моряков. И держался он иначе. Раньше, даже в детстве, он был до смешного важным; теперь обрел какое-то достоинство юности. Нетрудно было понять, что он гордится мужским статусом — как-никак он один кормил женщин, от которых раньше зависел. Я заметила, что прошлым летом мы отдалились друг от друга, но винила сестру. Теперь стало еще хуже: именно то, что придавало ему и привлекательность, и силу, уводило его в мужской мир, куда мне доступа не было. Позже, зимой, я снова стала ходить к Капитану. Не одна, с Каролиной — мы, барышни, не могли бывать в одиночку у холостяка. Он учил нас играть в покер. Сперва я упиралась, но когда начала, не без удовольствия ощутила себя страшной грешницей. По-видимому, только здесь была настоящая колода карт; добрые методисты позволяли себе играть разве что в дурака и в «старую деву». Мы притворялись (особенно я), что зубочистка — это золотая монета. Особенно радовалась я, что могу начисто обыграть сестру. Это было заметно — она говорила недовольным тоном: «Ну, Ли-ис! Мы же просто играем», когда я загребала через стол ее зубочистки. Однажды, после особенно приятной победы, Капитан поглядел на меня, потом — на сестру, и сказал: — С тех пор, как Труди нет, ты совсем не поешь. Хорошее было время! Каролина улыбнулась. — Да, хорошее. — А ты упражняешься, не бросила? — Да как сказать… Вроде бы все в порядке. — В порядке, в порядке, — заверила я, чтобы скорее начать игру. Сестра покачала головой. — Мне трудно без уроков. Я и не знала, как они важны. — Какая жалость! — сказала я, как говорят взрослые, чтобы отвязаться от ребенка. — Теперь всем трудно. Капитан кивнул. — Наверное, эти уроки очень дорогие. — Дело не в деньгах, — поспешила сообщить я, стараясь не думать о припрятанных бумажках и мелочи. — Бензин… то-се…. В Крисфилде такси не схватишь… Вот если бы нас послали в интернат, как этих, со Смит-Айленд…. — Ах, Лис, что бы это дало? — воскликнула моя сестрица. — Какая там у них музыка? Мы их побили в прошлом году по всем статьям. — Что ж, — не отстала я, — можно поехать в особую школу, у нас ведь особые обстоятельства. — Да кто за нас заплатит? — печально сказал Каролина. — Совет графства? Тем более, в хорошую школу. — А должны бы, — сказала я, пытаясь свалить вину на власть имущих. — Правда, должны, Капитан? — Да, кто-нибудь должен бы. — А они не хотят! — не унималась я. — Этот совет по образованию — просто чучела набитые. Все засмеялись, тема была закрыта, к большому моему облегчению. Жаль, конечно, что Каролина не учится, но, в конце концов, два года она проучилась, и ей было неплохо. И потом, я не виновата. Не я начала войну и нагнала бурю. Капитан к нам не ходил. Мама исправно приглашала его каждое воскресенье, но он вроде бы знал, что идти не надо, и как-то уворачивался. Поэтому я очень удивилась, когда примерно через неделю увидела, что он бежит по дорожке к нашему крыльцу, и лицо у него просто пылает — от волнения, не от бега. — Сара Луиза, — кричал он, размахивая письмом, — у меня замечательные новости! Он остановился у дверей. — Папы нету? Я покачала головой; была только пятница. — Ну, тогда позови маму. Я очень спешу. Он просто сиял от радости. Бабушка качалась в своей качалке, читая большую Библию в кожаном переплете, или, вернее, притворяясь, что читает. Он ей кивнул и сказал: «Миссис Луиза». Она на него не взглянула. Мама и Каролина уже шли из кухни. — А, это вы, капитан Уоллес! — сказала мама, вытирая руки о передник. — Заходите, посидите у нас. Луиза, Каролина, вы не вскипятите чаю? — Нет-нет, — сказал он. — Присядем все на минуту. У меня прекрасные новости. А так я очень спешу. Мы сели. Он положил на колени письмо и начал свою речь. — Теперь молодым здесь так трудно. Вам, миссис Сьюзен, с вашим воспитанием, больно видеть, что ваши дети лишены таких важных занятий. «К чему он ведет?» — гадала я, все больше волнуясь. — Вы знаете, — продолжал он, — как я отношусь к вашей семье, как обязаны мы с Труди… вам всем. А сейчас… — он едва сдерживался и вдруг улыбнулся мне. — Спасибо Саре Луизе, это она подсказала. Понимаете, Труди кое-что оставила. Я не знал, что с этим делать — я ведь поклялся, что никогда не трону ее денег. Там немного, но на школу с пансионом хватит, — он заулыбался еще сильней. — Я все разузнал. Каролина может поехать в Балтимор и заниматься своей музыкой. Труди была бы очень рада, вы уж мне поверьте. Я застыла, словно он швырнул в меня огромный камень. Каролина! Сестра вскочила и обняла его. — Постойте, — говорила тем временем мама, видимо, припомнив, что у нее две дочери. — Спасибо вам большое, но я не могу… Я должна поговорить с мужем… — Надо его убедить, миссис Сьюзен. Сара Луиза, скажи маме то, что говорила тогда, про особые обстоятельства. Каролину нужно послать в самую хорошую школу, чтобы она училась дальше. А Сара Луиза? Ты ведь сама говорила? Я издала горлом странный звук, заменивший, по-видимому, «да». Капитан так это и понял. Бабушка повернулась в качалке, чтобы на меня посмотреть. Я побыстрее отвела глаза. Она улыбалась. — А, Сара Луиза? — сказала она, передразнивая Капитана. — Ты ведь сама говорила? Я кинулась в кухню, бросив на ходу, что приготовлю чай, но слышала, как Капитан рассказывал маме и сестре о каком-то колледже в Балтиморе, где очень хорошо учат музыке. Слова свистели у меня в ушах громче бури. Я поставила чайник, взяла чашки и ложки — с большим трудом, они стали какие-то тяжелые. Когда я пыталась открыть коробку с чаем, вошла бабушка и стала рядом, и я оцепенела от хриплого шепота. — К Римлянам, девять, тринадцать. «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». 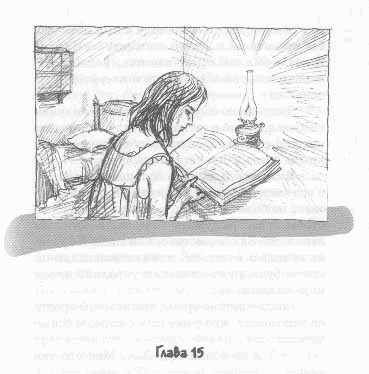 Глава 15 Я разносила чай, прикрываясь посудой, чтобы не заметили улыбки. — Спасибо, Луиза, — сказала мама. Капитан кивнул мне, беря чашку с подноса. Каролина, оглушенная счастьем, наверное, меня не видела. Я унесла ее чашку на кухню, не обращая внимания на бабушку, которая улыбалась мне в дверях. Поставив поднос, я снова прошла мимо нее, чтобы скрыться в своей комнате. «Иакова Я возлюбил…» — начала она, но я пробежала поскорей к лестнице и вверх, по ступенькам. Дверь свою я закрыла. Потом, ни о чем не думая, сняла платье, повесила его, надела ночную рубашку, залезла под одеяло и закрыла глаза. Шел четвертый час. Наверное, я думала больше не вставать, и все-таки встала. К ужину мама зашла спросить, не больна ли я, а я слишком отупела, чтобы сразу выдумать болезнь, и отправилась вниз. За столом говорили мало. Каролина лучилась счастьем, мама сидела задумчивая, бабушка ухмылялась и украдкой на меня поглядывала. Когда пришло время ложиться, Каролина вспомнила, что у нее есть сестра, и сказала мне: — Ты не обижайся, Лис. Мне это так важно. Я покачала головой, но ответить не решилась. Какое ее дело, что я чувствую? Что это изменит, в конце концов? Капитан, сам Капитан, я его всегда считала другом — тоже за нее, а не за меня. С самого первого дня мы с ней, как Иаков с Исавом — младший взял верх над старшим. Говорил хоть кто-нибудь, когда-нибудь «Исав и Иаков»? «Иакова Я возлюбил…» Вдруг мне как будто дали под ложечку. Кто же это сказал? Я забыла. Исаак, их отец? Нет. По Библии получается, что он любил Исава. Наверное — Ревекка. Это она так подстроила, что Иаков украл у брата отцовское благословение[12]. Ревекка… Я ее с детства не выносила, но все-таки знала, что это сказала не она. Как-никак «…возненавидел». Я встала, закрыла шторы и зажгла лампу на столике между нашими кроватями. — Лис? — сестра поднялась на локте и заморгала. — Надо кое-что проверить, — ответила я, взяла из шкафчика Библию и, положив на ночной столик, стала искать нужное место. Послание к Римлянам, глава девятая, тринадцатый стих. Ну, вот. Это Бог сказал. Закрывая книгу, я вся дрожала и побыстрее юркнула в постель. Значит, бороться незачем. Меня ненавидит Сам Бог, просто так, без причины. «Кого хочет, милует, — расковыривал рану стих восемнадцатый, — а кого хочет, ожесточает». Бог решил меня не любить, так Ему вздумалось. А сердце у меня ожесточенное, тоже Его дело. Мама ненависти не проявляла. Следующие два дня какая-то моя часть следила за тем, как она на меня смотрит. Видимо, ей хотелось поговорить со мной, но сердце уже ожесточилось, и я увиливала. После ужина, в пятницу, когда Каролина упражнялась, мама пошла со мной ко мне в комнату. — Луиза, — сказала она. — Я хочу с тобой поговорить. Я невежливо фыркнула. Она дрогнула, но промолчала. — Знаешь, — проговорила она чуть позже, — я об этом много думала. — О чем? — резко спросила я, решив не спускать ей. — О том, чтобы Каролина поехала в Балтимор. Я холодно глядела на нее, приложив к губам руку. — Понимаешь… очень уж хороший шанс. Мы с папой и мечтать не смели. А, Луиза? — Да? — я вгрызлась в заусеницу и дернула так, что показалась кровь. — Пожалуйста, не мучай ты палец! Я опустила руку. Чего ей надо от меня? Разрешения? Благословения? — Ты пойми, мы… мы в жизни бы не смогли туда ее послать. Еще в Крисфилд — как-нибудь… Заняли бы денег под будущий год… — Зачем ей Крисфилд, когда она может… — Нет, не она. Мы бы тебя послали… Ясно. Ненавидит. Хочет сбыть с рук. — Крисфилд! — брезгливо воскликнула я. — Крисфилд! Да лучше пойти крабам на корм! — О! — выговорила она. Мне удалось ее ущучить. — Я думала, тебе хочется… — Значит, ошиблась! — Луиза… — Мама, оставь ты меня в покое! Если бы она не ушла, я бы решила, что это знак — не ее любви. Божьей. Если бы она осталась… Она не уходила. — Что тебе тут нужно?! — Хорошо, Луиза. Если хочешь, я уйду. И она тихо закрыла за собой дверь. Папа, как обычно, вернулся в субботу. По воскресеньям они с мамой ходили к Капитану. Не знаю уж, как они все обговорили, не задев папиной независимости, но, когда они вернулись, все было согласовано. Через две недели, у пристани, мы провожали Каролину. Она поцеловала всех, даже Капитана и Крика, который обрел при этом цвет свежесваренного краба. За несколько дней до того, как Крик ушел на флот, она вернулась, учебный год кончился, и одарила наш бедный остров зрелищем объятий и поцелуев. Судя по этому представленью, ее ждала блестящая оперная карьера. Когда Крик уехал, я бросила свои школьные обязанности и стала помогать папе, взяла на себя поплавки. Пользуясь шестом, я передвигалась на ялике от поплавка к поплавку, вытаскивала крабов понежнее и сгружала их в домике, чтобы паковать в коробки, выложенные морской травой; в них их развозили. О крабах я знала не меньше, чем опытный моряк, могла предсказать час в час, когда этот типус начнет линять. Предпоследняя секция почти прозрачна, и если линять ему меньше, чем через две недели, видно, как под нынешней скорлупой растет новая, ее называют «белой отметиной». Постепенно она темнеет, и, заметив «розовую отметину», ловец может не сомневаться, что осталась неделя, не больше. Тогда он осторожно обламывает клешни побольше, чтобы краб не прикончил соседей, и относит его домой, на поплавки. Часа через два проявится «алая отметина» — значит, краб линяет. Самцы побольше сбрасывают шкуру долго, с трудом, а трусливым самочкам приходится еще хуже. Я часто смотрела на них, зная, что как только, слиняв, они превратятся во взрослых крабих, жизнь их станет никчемной. У них даже не было женихов. Бедные, честное слово! Никогда не отправятся вниз по заливу, чтобы снести яйца, пока не умерли. Собственно, самцам тоже ничего не светило — запакуют в траву, и привет! — но тут я не очень горевала. Самец хоть как-то да проживет, даже если жить ему недолго, а вот самочки, бедолаги, мякнут и умирают. Часов в семь я отправлялась домой, позавтракать, потом возвращалась, и ели мы только в полпятого. После ужина мама или папа иногда провожали меня домой, но чаще я бывала одна и этому не огорчалась. Осенью начались уроки, но мне было не до них. Родители просили, чтобы я ходила в школу, а я обещала им — позже, позже, после крабьего сезона. Вообще-то я не знала, смогу ли я справиться с ученьем без Каролины и без Крика; но помалкивала. В сентябре опять была буря. Говоря строго, никто не умер, но на южном конце залило восемь футов земли, и четырем семьям пришлось перебраться на твердую землю. До зимы перебрались еще две, не оправившиеся от прежней бури. Там, на твердой земле, было много работы и для мужчин, и для женщин, а платили им так, что не поверишь. Вода размывала наш остров, война — наши души. Но мы не унывали. В заливе можно было работать спокойно. На берегу океана рыбакам мешали подводные лодки. Кое-кто погиб, хотя ни мы, ни кто другой не опознали тел, которые вынесло на берег в нескольких милях к востоку. Первые похоронки пришли осенью 43-го, сразу три. Наши мальчики записались на один корабль и пошли вместе ко дну где-то в южном углу Тихого океана, у маленького островка, о котором мы и не слышали. Я больше не молилась, даже в церковь не ходила. Сперва, когда я не вернулась к воскресенью из крабьего домика, я думала, они рассердятся. Бабушка за ужином ворчала, но папа, как ни странно, встал на мою сторону. Он сказал, что я — большая, дело мое. Когда бабушка пригрозила вечной гибелью, он возразил, что судья мне — Бог, а не родные. Он хотел сказать, как лучше; он ведь не знал, что Бог меня уже осудил, раньше, чем я родилась, и отверг до первого вздоха. В церковь меня не тянуло, а вот помолиться иногда хотелось, как ни странно — за Крика. Я очень боялась, что он погибнет в чужом океане, очень далеко от дома. Может, за меня и молились во всю силу по пятницам, но без моего ведома. Наверное, меня вообще-то побаивались. Все-таки, странное зрелище — в штанах и руки шершавые, как стены крабьего домика. На последней неделе ноября первый зимний норд-вест погнал к Виргинии обложенных яйцами самочек и загнал самцов под густой ил. Папа решил отдохнуть, поохотиться на уток, а потом втащил на «Порцию» доску для сортировки устриц и занялся ими. Той осенью с меня хватило одной недели в школе, а папе — одной недели у устричных грядок без моей помощи. Мы толком ничего не обсуждали. Я просто вставала затемно в понедельник, одевалась потеплей, брала смену одежды в грубый мешок. Никто не говорил, что я — не мужчина; может, забыли. Наверное, если бы мне пришлось отметить булавкой то неуловимое место, которое называют «мой самый счастливый день», я бы выбрала что-нибудь из этой странной зимы, когда мы плавали с папой. Собственно, счастливой в обычном смысле я не была, но, впервые в жизни, была довольна. Меня радовали открытия — ну, кто бы мог сказать, что папа за работой поет? Тихий, скромный папа, которого в церкви едва слышно, в моржовых штанах, в резиновых перчатках, с деревянными щипцами, пел устрицам — красиво, звучно, чисто. Методистские гимны он знал наизусть, весь сборник. «Крабы музыку не понимают, — застенчиво объяснял он, — а вот устриц хлебом не корми, спой им хорошую песню». Вот он и пел нашим устрицам те песнопения, которые создали братья Уэсли[13], чтобы призвать грешников к покаянию и славословию. Я была довольна тем, что работаю с папой, но еще и тем, что не борюсь. Сестра уехала, бабушка нет-нет мелькнет в воскресенье, а Бог то ли умер, то ли меня покинул. Все это дала мне работа. Раньше я не трудилась до последнего дыханья, последней мысли, последних сил. Однажды вечером, когда мы ели в домике наш скудный ужин, папа сказал мне: — Хорошо бы ты немножко училась после работы. Нельзя бросать ученье. Мы машинально посмотрели на керосиновую лампу, от которой было больше запаха, чем света, и я возразила: — Я слишком устаю. — Ну, еще бы! То был один из самых длинных наших разговоров. А вот трудились мы на славу, я опять была в хорошей команде. За день мы набирали примерно десять бушелей. Если с устрицами так и пойдет, думала я, улов у нас будет рекордный. С большими лодками, где пять или шесть человек, мы себя не сравнивали. Они прочесывали дно, вытаскивая вместе с устрицами кучу всякой дряни, которая отпадала сама собой, механически. А мы стояли на наших утлых лодочках, склонившись над водой, и, как наши отцы и деды, работали деревянными хваталками раза в три — в четыре длиннее нас самих. Осторожно добравшись до устриц, мы ощупывали дно, пока не натыкались на хорошие, крупные экземпляры, а там — хватали их и вытаскивали на отборочную доску. Конечно, приходилось отковыривать лопаткой, устрицы очень прилипучие, иногда пускаешь в ход молоток, но по сравнению с сетью мы дна почти не портили и оставляли место для устриц, которых будут ловить наши дети и внуки. Сперва я только сортировала, но если мы находили хорошую отмель, я брала устриц щипцами, а когда они уже лежали на доске горками, я вынимала их руками из последнего улова и сортировала наперегонки с папой. Устрицы — не такие странные создания, как голубые крабы. В них начинаешь разбираться раньше. Через несколько часов я уже могла прикинуть на глаз, будет ли в раковине три дюйма. У хорошей, живой устрицы ракушка плотно закрыта. Открытые с доски сбрасывают, они уже мертвые. В те дни я была хорошей устрицей. Даже рождественский визит подросшей, сияющей сестры не заставил меня разжать ракушку. В конце февраля вода очень похолодала. Отбросы хвостом плыли за нами, смерзаясь в льдины. «Скоро совсем смерзнется», — говорил папа и, без дальнейших обсуждений, поворачивал лодку. Останавливались мы только, чтобы продать наш скудный улов и плыли дальше, к дому. Температура быстро падала. Под утро мы совсем замерзали. Потом две недели стояла такая погода, что папа даже не пытался вывести нашу «Порцию». Первый день, а может — и больше, я отсыпалась за всю зиму. Но вскоре, передавая мне утреннюю чашку кофе, мама неназойливо сказала, что, пока не распогодится, можно бы походить в школу. Говорила она тихо, мягко, но слова ее были тяжки, как мокрый парус. Я постаралась не выказать чувств, хотя самая мысль о школе меня давила и душила. Ну, как она не понимает, что теперь я на сто лет старше их всех, даже учительницы? Я поставила кофе, расплескала его — а он ведь был по карточкам, вскочила, пробормотала, что иду за тряпкой, но мама опередила меня. Она стала промакивать клеенку губкой, и мне пришлось сидеть, терпеть. — Я за тебя беспокоюсь, Луиза, — говорила она, на меня не глядя. — Конечно, мы с папой тебе благодарны. Просто не знаю, что бы мы без тебя делали. Но… — и, скорее всего, неохотно, она заговорила о том, что со мной будет, если я не одумаюсь. Я не знала, умиляться мне или злиться. Если они хотят собирать плоды моей жизни, хоть сняли бы бремя своей вины. — Не хочу я в школу, — спокойно сказала я. — Но… — Учи меня дома. Ты учительница. — Ты всегда одна… — В школе будет еще хуже. Я всегда была там чужая. Как ни жаль, я волновалась все больше. — И я их терпеть не могу, и они меня. Ну, вот. Это уж слишком. Не настолько они меня замечали. Иногда смеялись надо мной, но что до ненависти… Мама выпрямилась и пошла застирать платье. — Наверное, я смогу, — сказала она через какое-то время. — Смогу тебя учить, если мисс Хэзел даст книги. Капитан Уоллес мог бы взять математику… — А ты не потянешь? Я больше не была влюблена в Капитана, но не хотела с ним так тесно общаться, сидеть вдвоем. Все-таки боль еще не прошла. — Нет, — сказала мама. — Математику — не могу. А кого теперь найдешь, в такое время? Она очень старалась говорить так, чтобы не показалось, что она смеется над невежеством местных жителей. Не помню, как уговорила она мисс Хэзел, та была очень обидчива и гордилась тем, что только она на острове может преподавать в средней школе. Может быть, мама сыграла на том, что я часто пропускаю занятия. Как бы то ни было, вернулась она с учебниками, и начались наши уроки на кухонном столе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||