 |
|
Популярные авторы:: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Язва :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Задача профессора Неддринга :: Где любовь, там и бог :: Кто осмелится не сделать подарок Санта Клаусу :: The Boarding House :: Утопия усталого человека :: Алмазная история - 1 |
Двадцатые годыModernLib.Net / Классическая проза / Овалов Лев / Двадцатые годы - Чтение (Весь текст)
Лев Сергеевич Овалов Двадцатые годы Роман в двух книгах Моей матери, которая так и не дождалась этой книги. КНИГА ПЕРВАЯ 1 Вагон мотало из стороны в сторону, словно двигался он не по рельсам, а прыгал с ухаба на ухаб, впрочем, все сейчас так двигалось в жизни, весь поезд мотался из стороны в сторону, всю Россию мотало с ухаба на ухаб. Навстречу поезду плыло поле, бескрайнее, унылое, голое поле, темными волнами катившееся до самого небосклона. Наступал тоскливый осенний вечер, на дворе стоял октябрь, дул знобкий ветер, пронизывающий холодом. На одной из подножек вагона, где цеплялось особенно много незадачливых пассажиров, с трудом держались невысокая женщина в поношенной черной жакетке и черной шляпке и худенький мальчик в сером драповом пальтишке и нахлобученной на глаза гимназической фуражке. — Славушка, ты не замерз? — спросила женщина, всматриваясь в мальчика. Он стоял ступенькой выше — лицо женщины стало совсем серым от холода. — Нет, мама, — твердо сказал мальчик. — Ты бы достала у меня из кармана перчатки, в них тебе будет теплее. Одной рукой он уцепился за поручень, а в другой держал брезентовый клетчатый саквояж. Женщина с испугом посмотрела на свои руки в летних нитяных перчатках и негромко воскликнула: — Почему же ты их сам не надел?! Так ты совсем замерзнешь! Она подтянулась кверху и закричала, не в силах больше сдерживать тревогу за сына: — Господа, я вас очень прошу! Впустите ребенка! Ведь это же ребенок… Голос у нее был звонкий, жалобный, и на ее выкрик из тамбура высунулась чья-то голова в шапке-ушанке, из-под которой глядело красное, не по погоде распаренное лицо. — Где ребенок? — спросила голова и скептически уставилась на мальчика. — Я вас прошу, — жалобно повторила женщина. — Я вас очень прошу… — Да рази етто ребенок? — возразила вдруг голова. — Етто жеребенок! В тамбуре кто-то засмеялся… Действительно, мальчика нельзя уже было назвать ребенком, ему лет тринадцать, но он такой маленький, щуплый, озябший, что трудно не пожалеть его, висящего на подножке во власти холодного октябрьского ветра. — Господа! — еще раз воскликнула женщина. — Поймите… — Господ в Черном море потопили! — закричал кто-то. В тамбуре засмеялись еще громче. — Господи… — с отчаянием произнесла женщина и опять обратилась к сыну: — Надень перчатки, я прошу… — Ничего, мадам, не волнуйся, — сказал вдруг парень в солдатской шинели, пристроившийся обок с женщиной на одной ступеньке. — А ну… Парень так долго и так покорно стоял на ступеньке, что нельзя было предположить, будто он способен проникнуть в вагон. — А ну… — неожиданно сказал он и плечом раздвинул стоявших выше пассажиров, раздвинул так легко и свободно, что сразу стала очевидна физическая сила молчаливого парня. Подтянулся на площадку, поглядел на мальчика. — А ну, малец, двигай… Но мальчик спустился ниже и торопливо сказал матери: — Иди, иди, мама, холодно ведь… — Лезь, мадам, лезь, — добродушно промолвил парень. — Не пропадет твой парнишка. Он посторонился, пропуская женщину, протянул руку вниз и ловко и быстро втащил в тамбур мальчика вместе с его саквояжем. Но и в тамбуре они не задержались, парень втолкнул в вагон мальчика и женщину и втиснулся сам. — Размещайтесь, — сказал он. — Будем знакомы. — Вера Васильевна, — ответила женщина. — Не знаю, как вас и благодарить. — А вы не благодарите, — усмехнулся парень. — Я за справедливость. В вагоне было темно. Люди лежали и сидели на скамейках, в проходах и даже под скамейками. Это был обычный пассажирский вагон первых революционных лет: грязный, нетопленый и до отказа забитый пассажирами. Кто только среди них не встречался! Солдаты, бегущие с фронта, крестьяне, путешествующие и по личным и по мирским делам, командированные всех родов, спекулянты и мешочники, штатские в офицерских шинелях и офицеры в штатских пальто, — любой из пассажиров мог оказаться кем угодно, какой-нибудь тщедушный на вид рабочий в промасленном ватнике неожиданно оказывался эсеровским министром, пробирающимся в Симбирск к чехословакам, а пышущий довольством румяный парень в дорогой купеческой шубе — командиром самостийного партизанского отряда… Ни о ком нельзя было судить по первому впечатлению, — тот, кто представлялся врагом, неожиданно становился другом, а друг оказывался врагом. Мужчины потеснились, Вере Васильевне удалось сесть. Парень, оказавший неожиданное покровительство Вере Васильевне и Славушке, подал мальчику саквояж. — На, бери… Он тряхнул саквояж — в нем все время что-то побрякивало — и опустил на пол. — Что там у вас? — спросил парень с усмешкой. — Деньги али струменты? — Инструменты, — нехотя ответил Славушка, не мог он сказать, что они с матерью везут чайный сервиз, или, вернее, то, что еще недавно было сервизом: за время путешествия сервиз давно уже превратился в черепки. Это был очень поспешный отъезд. К поездке они стали готовиться за несколько недель, а собрались за какой-нибудь час, так сложились обстоятельства. Они не могли взять с собой никаких вещей, лишь самую малость, что-нибудь совсем необременительное, что легко дотащить, какой-нибудь саквояж или чемоданчик. Теперь Славушка понимал, как непрактичны и даже неразумны были они с матерью, но в момент отъезда эти злополучные чашки и блюдца с желтенькими цветочками казались самым необходимым. Сервиз этот, подаренный матери покойным мужем, был последней вещественной памятью о том драгоценном семейном тепле, которого не так-то уж много было в жизни Веры Васильевны и ее детей. И вот вместо того чтобы захватить одежду, или обувь, или хотя бы какие-то тряпки, которые можно обменять на хлеб или крупу, они потащили с собой эту семейную реликвию, превратившуюся в груду ненужных черепков. Славушка опустился на пол и, намерзшийся, голодный, усталый, тут же задремал, прикорнув к материнским коленям. Присев в проходе на корточки, их спаситель пытался вглядеться в незнакомую женщину. — Не знаю, как уж вас там, мадам или гражданка, — спросил он, — куда ж это вы, а? — Меня зовут Вера Васильевна, — отозвалась она. — А вас? — Рыбкин, — назвался Парень. — Семен Рыбкин, солдат. — Вы что ж, на побывку? — попробовала догадаться Вера Васильевна. — Можно сказать, что и на побывку, — неопределенно согласился парень и тут же добавил: — А может, и опять на фронт. А вы далеко? — В деревню, — сказала Вера Васильевна. — К родным или как? — Можно сказать, и к родным, и так, — сказала Вера Васильевна. — Я учительница, гонит голод, хотя есть и родственники… — Ну и великолепно, — одобрил парень. — Учителя теперь в деревне нужны. — Не знаю, — отозвалась Вера Васильевна. — Я никогда не жила в деревне… И она закрыла на мгновенье глаза. — Нет ли у кого, братки, закурить? — воззвал Рыбкин в темноту. — Махорочки бы… — Свою надо иметь, — назидательно отозвался кто-то. — Ну и на том спасибо, — беззлобно отозвался Рыбкин. Кто-то чиркнул спичкой, серная спичка зашипела, точно размышляя, зажигаться или не зажигаться, вспыхнул синий призрачный огонек, и наконец слабое желтое пламя на мгновенье выхватило из тьмы бледные сердитые лица. Владелец спички зажег огарок стеариновой свечи, приклеенной к вагонному столику. Свет разбудил Славушку, он встрепенулся и поднял голову. — Ты что? — спросила Вера Васильевна. — Мы скоро приедем? — Ах, что ты! — Вера Васильевна вздохнула. — Завтра, завтра. Еще ночь… Желтые блики бежали по лицам. — Все ездиют, ездиют, — сказал кто-то с верхней полки сиплым голосом и пошевелил ногой в лапте. — Сами не знают… — А ты знаешь? — спросил мужик в полушубке. — Ты-то сам знаешь? — Я-то знаю, — отозвался человек в лаптях. — Я за делом ездию, а не так чтобы… — Ну и мы за делом, — строго сказал некто у окна, и только тут Славушка рассмотрел его рясу. — О господи! — вздохнул пожилой бритый мужчина, протирая пальцем стекла очков в простой металлической оправе. — Очереди, давка, большевики… — А вы не затевайте о политике, — еще строже сказал священник. — За политику нынче расстреливают. — Извините, — сказал человек в очках. — Я не хотел. — То-то, — упрекнул мужик в полушубке. — Потушили бы вы, гражданин, свечку от греха. — Одну минуту, — встревоженно сказал Рыбкин. — Погодите… Он устроился уже рядом со Славушкой. — Сахару никому не надо? — спросил он и посмотрел на владельца свечки. Рыбкин точно всколыхнул пассажиров своими словами, все сразу зашевелились и снова замерли — шут его знает, что потребует он за свой сахар. — Я вот вижу у вас в кармане газетку, — продолжал Рыбкин, обращаясь уже непосредственно к владельцу свечки. — Может, сторгуемся? Сторговались за восемь кусков. — Товарища Ленина захотелось почитать? — не без язвительности спросил владелец свечки, передавая газету. — Почитайте, почитайте, молодой человек… — Эта какая же газета? — поинтересовался священник. — Самая ихняя, «Правда», — сказал владелец свечки. — Другие неправду печатают, а тут как раз товарищ Ленин и о пролетарской революции, и обо всем прочем изволят рассуждать… — Да нет, я не для того, — сконфуженно пробормотал Рыбкин и, пригладив газету ладонью, оторвал от нее длинную узкую полоску. Он бережно выбрал из кармана крошки махорки и скрутил козью ножку. — Разрешите? — спросил он и наклонился к огню, прикуривая цигарку. — Угощайтесь, — сказал владелец свечки и тут же ее задул. — Вот так-то лучше, — промолвил кто-то в темноте. — Ни ты людей, ни тебя люди… — Да-с, время темное, — сказал, судя по голосу, священник. — Лучше помолчать да подремать… Ночь плыла за окнами, вплывала в окна, ночь наполняла вагон… Вагон мотало из стороны в сторону. Кто-то сопел, кто-то вздыхал, кто-то постанывал… Славушка опять прижался к коленям матери, хотелось есть и хотелось дремать, его опять начало укачивать, он почти уже погрузился в сон и вдруг почувствовал, как чья-то шершавая рука шарит у него по лицу, погладила его по лбу, по щекам, задержалась у губ, вложила ему что-то в рот, и Славушка ощутил волшебный вкус настоящего сахара. 2 Вера Васильевна находилась в переполненном вагоне, и все же была одна. Даже присутствие сына не нарушало ее одиночества. Она была одна, маленькая хрупкая женщина, наедине со своими бедами, горестями и сомнениями. Она все время помнила, что находится в грязном нетопленом вагоне медленно ползущего поезда, увозящего ее все дальше и дальше от Москвы… Куда? Она хотела бы это знать… Она знала свой новый адрес: Орловская губерния — Орел вот-вот должен появиться, — Малоархангельский уезд — Малоархангельск находится южнее Орла, неведомый Малоархангельский уезд, — Успенская волость, — Вера Васильевна еще никогда не жила ни в каких волостях, — село Успенское, — цель ее путешествия, что-то ждет ее в этом Успенском… Что погнало ее в этот путь? На этот вопрос ответить легко: голод. Неотступный голод, с которым в Москве она не смогла бы справиться… Вера Васильевна родилась и выросла в семье солидного московского врача. Василий Константинович Зверев в юности мечтал о научной карьере, однако сверстники обгоняли его, становились профессорами, генералами, богачами, а он так и остался хоть и уважаемым, но обыкновенным практикующим врачом. Выслушивал, пальпировал, перкутировал. Тук-тук… «Дышите. Не дышите. Тут больно? А тут?…» Лечил старательно и удачливо. На склоне лет стал завзятым библиофилом, вкладывал деньги в книги, собрал коллекцию инкунабул. Одну из лучших в Москве… Был привержен и церкви, и детям, и кухне, если последнюю понимать расширительно, как свой дом, и поэтому хотел от дочерей приверженности к трем немецким К[1] и мечтал о выгодных для них браках. Однако дочери не оправдали его надежд. Старшая, Надежда, удрала с оперным тенором и сгинула где-то в российских захолустьях. Средняя, Любовь, уехала в Цюрих учиться в тамошнем университете, — в России высшее образование женщинам было заказано, стала врачом и вернулась в Москву женой профессора Маневича. Младшая, Вера, окончив курсы Берлица, тоже вышла замуж, но не так удачно, как Люба, — Николай Сергеевич был всего-навсего учителем. Жили Ознобишины, как говорится, душа в душу. А затем господь бог позавидовал их счастью и подучил сараевского гимназиста Гаврилу Принципа застрелить австрийского кронпринца… Тут в личной жизни Веры Васильевны началась полная неразбериха, она овдовела, а Слава и Петя осиротели. С Федором Федоровичем Астаховым Вера Васильевна познакомилась вскоре после смерти Николая Сергеевича. Жить трудно, детей надо растить, жалованья не хватало, друзья растаяли. — Почему бы вам не сдать комнату? Появился Астахов. Как-то Петя и Славушка подрались, Федор Федорович разнял, Вера Васильевна зашла извиниться. Год спустя Вера Васильевна сказала сыну, что ей нужно с ним поговорить. — Федор Федорович хочет заменить вам отца… К тому времени не только Вере Васильевне, но и Славушке многое было известно о постояльце. Родился в орловской деревне, родители выбились в люди из простых мужиков, дом, лавка, хутор, десятин сто земли, Федора Федоровича отдали в семинарию, стать попом не захотел, сбежал на медицинский факультет, началась война, призвали в армию, произвели в прапорщики, служит в учебном полку, обучает новобранцев… Много лет спустя, когда отчима не было уже в живых, а Славушка превратился в Вячеслава Николаевича, он понял, что тот был одним из лучших представителей разночинной интеллигенции. По своему социальному положению Астахов принадлежал к крестьянской буржуазии, но вырос-то он среди бесправных, забитых, темных, голодных мужиков, и, будучи по складу души человеком честным и добрым, он и в армии охотнее общался с солдатами, нежели с офицерами. Внезапно строевые занятия с новобранцами оборвались, с одной из маршевых рот Астахов отбыл на фронт… Снисходя к бедственному положению сестры, Любовь Васильевна предложила ей пожить пока у нее. Профессор Маневич, открыто заявляя себя противником любого переустройства жизни, не мог не замечать стачек, демонстраций и протестов против войны. Поэтому еще в начале 1916 года Маневич предусмотрительно уплотнился, уступив Вере Васильевне целых три комнаты, а в 1917 году даже подумывал, не оформить ли ее в качестве совладелицы, однако осенью все полетело вверх тормашками. Предрассветный сумрак окутывал улицы серой дымкой. Воробьи исчезли со всех площадей, точно их сдуло ветром, лошадей перерезали на мясо. Славушка торопился в гимназию не столько на уроки, сколько к завтраку. Гимназистам по утрам выдавали ломоть булки и кружку подслащенного чая. Булки серые, невзрачные, неизвестно, где их доставали, но эти булки и чай были одним из необъяснимых чудес хмурого восемнадцатого года. Чай Славушка выпивал, а булку прятал, на ужин маме и Пете. Астахов встретил Февральскую революцию с ликованием, Октябрьскую с недоумением, не хотел насилия ни справа, ни слева. Солдаты выбрали его в полковой комитет, он не хотел идти ни с офицерами против солдат, ни с солдатами против офицеров. Однако народ готовился к революционной войне. Доброта сковывала Астахова, но победу одержали великие демократы. Он записался добровольцем в Красную Армию. Ему дали возможность перевезти семью в деревню, и Астахов поехал в Москву. — Что ты здесь будешь делать? — убеждал он жену. — Вы пропадете тут без меня… Вера Васильевна боялась деревни. Что она будет там делать? Обучать французскому языку! Крестьянских детей, не знающих даже своего родного языка! Кому нужны в этой дикой сутолоке Малерб и Ронсар? Сперва Федор Федорович поехал в Успенское с Петей, подготовить все к приезду жены. В ту осень многие уезжали из Москвы. Профессор Маневич, например, ехал в Екатеринослав. Медлить было опасно. Его все уплотняли и уплотняли. Районный совдеп отвел верхний этаж его дома под какую-то театральную студию. Маневич пытался бороться. Наркомпрос то вступался за него, то отступал перед совдепом. Внезапно кто-то вспомнил о близости Маневича к министру Кассо, стало уже не до особняка, поколебалось положение в университете… Любовь Васильевна призналась сестре: — Он бежит из России… Она предложила сестре ехать вместе. — Нет, я поеду на родину Федора Федоровича, — отказалась Вера Васильевна. Пока Вера Васильевна раздумывала, пришли из совдепа. Тетя Люба уехала. Уехала, чтобы никогда уже больше не встретиться ни с сестрой, ни с племянниками. — Удрал ваш профессор? Предложили срочно освободить квартиру. Разрешили взять только ручной багаж. Да и куда бы они повезли столы и стулья? Накануне отъезда Славушка с матерью зашли попрощаться с дедом. Доктор Зверев на круглой чугунной печурке, установленной среди книг, в нарушение всех противопожарных правил жарил картофельные оладьи. — Господь с вами, господь с вами, — приговаривал он. — Все образуется… Вера Васильевна сама надеялась, что все образуется, но ощущение бездомности и одиночества не покидало ее всю дорогу. 3 Поезд подолгу стоял на каждой станции, но никто из вагона не выходил: вылезти затруднительно, а влезть обратно и вовсе невозможно. Когда поезд подошел к Змиевке, рассветало. Все в вагоне дремали, одна Вера Васильевна не спала, боялась пропустить остановку. — Батюшка, — негромко сказала она. — Позвольте… Священник спал, подложив руку под щеку, шапка с потертым бархатным верхом, отороченная собачьим мехом, свалилась с головы, длинные волосы пыльного цвета закрыли лицо. Вера Васильевна попыталась заглянуть через его голову, но все за окном было неясно. — Господа, это Змиевка? — спросила она погромче. Никто не ответил. — Нам, кажется, нужно выходить, — беспомощно сказала Вера Васильевна. — Ты что, мама? — отозвался Славушка с пола. — Приехали? — Не знаю, — сказала Вера Васильевна. — Никак не пойму. Славушка поднялся с шинели, на которой спал рядом с Рыбкиным, и тоже посмотрел в окно. Название станции за дымкой белесого тумана нельзя было разобрать. — Что же делать? — опять спросила Вера Васильевна. — Господа… Славушка наклонился к Рыбкину. — Послушай, — сказал он. — Сеня… Господи, да проснись же наконец! — Что? — спросил тот, сразу садясь на полу. — Ты чего? — Какая станция? — спросил Славушка. — Никак не разберем. — Любопытный какой, — сказал Рыбкин. — Из-за каждой станции просыпаться… — Да я не из-за любопытства, — сказал Славушка, — мы, кажется, приехали. — Тогда дело другое… Рыбкин встал, протиснулся к окну, бесцеремонно оперся на плечо священника. Стекло запотело, Рыбкин взял священникову шапку и протер окно. — Вот теперь видно, — сказал он. — Какая-то Змиевка. — Змиевка! — Славушка обернулся к матери. — Слышишь, мама: Змиевка! — Неужели Змиевка? — взволновалась Вера Васильевна. — Нам выходить! Вера Васильевна метнулась к проходу — все загорожено, люди сидели, приткнувшись друг к другу, тюки, мешки, корзины преграждали путь. Она беспомощно оглянулась на Рыбкина. — Что же делать? — Ничего, выпрыгнешь, — сказал тот. Он опять протиснулся к окну, перегнулся через священника, взялся за оконные ремни и потянул раму на себя. — Что такое? — спросил священник и поднял голову. Струя холодного воздуха потянулась в окно. — Кто там? — в свою очередь, спросил мужик в черном полушубке. — Какого дьявола… — Что за безобразие? — закричал кто-то с багажной полки сиплым голосом и визгливо закашлялся. — Закройте окно, теперь не лето! Но Рыбкин даже не отозвался. — Подходи, — сказал он Славушке, — а ты подвинься, батя… Славушка послушно протиснулся к нему, Семен повернул мальчика спиной к окну, взял под мышки, осторожно спустил через окно и поставил на землю. — Ну как, стоишь? — спросил Рыбкин. — Принимай инструменты. Так же осторожно он спустил в окно саквояж. — Поосторожнее, — сказал он наставительно Славушке, когда в мешке опять брякнуло. — Что там у вас — посуда, что ли? — Да вы что? — зло спросил кто-то сзади. — Долго тут будете безобразничать? — А чего разговаривать? — сказал человек, выменявший вечером сахар за газету. — Оттолкнуть и закрыть! — Успеешь, — невозмутимо сказал Рыбкин, не глядя на говорящего, и протянул руку Вере Васильевне. — Давай, учительница… — Я не знаю… — нерешительно сказала Вера Васильевна, придерживая юбку рукой. — А еще учительница! — сказал человек, выменявший сахар. — Такие воспитают. — Разврат от таких и смута, — сказал священник. — Не будь на мне сана… Рыбкин подсадил Веру Васильевну на столик. — Заправь юбку меж коленей, — приказал он. — И будем нырять. И Вера Васильевна оказалась на платформе. — Благополучно? — Спасибо, — поблагодарила она. — Большое спасибо. — Не на чем, — сказал Рыбкин. — Вы мне, а я вам. — А ты далеко едешь? — спросил Славушка солдата. — Отсюда не видать. — Ну, прощай, — сказал Славушка… Ему не хотелось расставаться с новым знакомым, Славушка понимал, что они никогда уже больше не увидятся. — Как тебя зовут? — спросил Рыбкин мальчика. — Славушка. — Нет, полностью, — сказал Рыбкин. — Вячеслав. — А по фамилии? — Ознобишин. — А как меня зовут — помнишь? — спросил Рыбкин. — Рыбкин Семен, — сказал Славушка. — Правильно, — сказал Рыбкин. — Давай руку. Славушка протянул руку к окну. — До свиданья, товарищ Ознобишин, — сказал Рыбкин. — До свиданья, товарищ Рыбкин, — сказал Славушка. За окном слышался гневный ропот, но отпихнуть солдата от окна никто не решался. — Галдят, — сказал Рыбкин, чуть ухмыляясь и кося вбок глазом. — Надо закупориваться. — Он кивнул Вере Васильевне. — До свиданья и вам, Вера Васильевна. Учите ребят, желаю. У меня тоже была правильная учительша… — Постой! — закричал Славушка, отставив саквояж. — Знаешь… Дай мне чего-нибудь! На память… — Чего на память? — переспросил Рыбкин, и точно тень прошла по его лицу. Он сунул руку в карман и отрицательно покачал головой. — Нету, — сказал он. — Я бы дал, да не осталось ни кусочка. Лицо Славушки вспыхнуло оттого, что Рыбкин мог подумать, будто Славушка клянчит у него сахар. — Да ты что! — воскликнул Славушка. — Разве я сахара? Я память от тебя… Он нащупал в кармане перочинный нож со множеством приспособлений, подаренный ему отчимом, и сунул в руку Рыбкину. — Это от меня память, — скороговоркой сказал он, захлебываясь словами. — На всю жизнь. А ты мне… — Он запнулся, не зная, что сказать. — А ты мне… Хоть пуговицу! Сырое осеннее утро, резкий холодный ветер, брань рассерженных пассажиров — все позабылось на мгновение. — Да у меня и пуговицы-то… — несмело сказал Рыбкин и улыбнулся. — Постой… Он сунул руку за пазуху, достал газету, разорвал пополам и протянул мальчику. В те голодные годы, особенно для мужчин, газета тоже была драгоценностью. — Не серчай, больше нечего, — сказал он, виновато улыбаясь. — Но ежели на память… — Спасибо, — сказал Славушка и спрятал газету в карман. — Вот и ладно, хоть почитаешь. Прощевай, теперь мне весь день отбрехиваться. — Он решительно потянул на себя ремни и захлопнул окно. Славушка поднял с земли саквояж и посмотрел на мать. — Куда ж теперь? — спросила она сына. — Обещали выслать лошадь, но как ее найти? — А мы подождем, — сказал Славушка. — Пойдем в вокзал, не мы найдем, так нас найдут… Вдали у пакгаузов стояли люди, было трудно рассмотреть, что они делают. Какой-то мужик прошел по перрону и скрылся. Вышел железнодорожный служащий, подошел к станционному колоколу, позвонил — неизвестно кому, неизвестно зачем — поезд продолжал стоять — и тоже ушел с перрона. Вера Васильевна и Славушка вошли в зал для пассажиров. — А ну как за нами не приедут? — тревожно спросила Вера Васильевна. Они сели на диван. — Ты хочешь есть? — спросил Славушка. — А ты? — спросила Вера Васильевна. — Не особенно, — сказал Славушка. — Вот чаю бы с печеньем… — Ты у меня фантазер, — сказала Вера Васильевна. — Ты помнишь, когда ел печенье? Тут в зал вошло довольно-таки странное существо в коричневой войлочной шляпе и грязном брезентовом плаще, из-под которого торчали веревочные чуни. Однако наиболее примечательно было лицо. Отовсюду торчала колючая белесая щетина, она ершилась и на подбородке, и на щеках, и даже лоб как будто зарос волосами, а из-под мохнатых колючих бровей поблескивали умные крохотные глазки. Мужик походил по залу, остановился против Веры Васильевны, у него из рукава, точно у фокусника, выскользнул вдруг короткий кнутик, он постегал себя по ноге и внезапно спросил: — Могет, ты-то и есть барыня, ась? — Вы за нами? — обрадовалась Вера Васильевна. — Только какая же я барыня? — Ну как не барыня. Только больно худа… — Он похлопал себя кнутиком по рукаву. — Поедем, что ли? У коновязи переминалась пегая лошадка, запряженная в телегу. — Хотели дрожки послать, да грязи убоялись, — объяснил незнакомец. — Кланяться велели. — Кто? — спросила Вера Васильевна. — Известно кто, — сказал мужик, отвязывая лошадь. — Павел Федорыч. — А вы кто же будете? — поинтересовалась Вера Васильевна. — Мы-то? — удивился мужик, точно это было само собой очевидным. — Мы работники. Он поправил сбрую, подошел к телеге, подоткнул сено под домотканую попону. — Садитесь, что ли. Дорога дальняя. — А вы кем же работаете? — спросила Вера Васильевна. — Кучером? — Мы работники, Федосеем меня зовут, Федосом. — Очень приятно, Федосей, — сказала Вера Васильевна. — А как по батюшке? — А меня по батюшке не величают, — сказал Федосей. — По батюшке я только в списках, а запросто меня по батюшке не зовут. Вера Васильевна и Славушка взобрались на телегу и утонули в сене. — Ой, как мягко! — воскликнул Славушка. — Тебе удобно? — спросила Вера Васильевна. — Застегни получше пальто, можно простудиться, ты слышал, дорога дальняя. — Я уже не маленький, мама, — возразил Славушка. — И к тому же на мне калоши. Федосей сел на грядку телеги, сунул под себя кнутик, дернул вожжами. — Мил-лай! — А как ее зовут? — спросил Славушка. — Чевой-то? — спросил Федосей. — Вы об ком? — Говорю, как ее зовут? — повторил Славушка, кивая на лошадь. — Кобылу-то? — переспросил Федосей. — Эту Машкой, а дома еще Павлинка, та постатней, да не объезжена, хозяин на завод бережет… — Это как на завод? — не понял Славушка. — Ну, для хозяйства, для хозяйства, — сказала Вера Васильевна. — Та лошадь получше, вот ее и берегут. — На племя, — разъяснил Федосей. — От ей потомствие будет получше. Путешественники миновали станционные пакгаузы, миновали громоздкий серый элеватор, и Машка затрусила по широкой, плохо вымощенной дороге с глубокими колеями, полными жидкой грязи. Федосей подстегнул Машку, повернулся к Вере Васильевне. — Значит, ты и есть Федор Федорычева барыня? — полувопросительно сказал он и покачал головой. — Мы-то думали… Он не договорил. — Кто мы? — спросила Вера Васильевна. — С жаной мы, — пояснил Федосей. — Мы с Надеждой шестой год у твоей родни… — Так что же вы думали? — поинтересовалась Вера Васильевна. — Думали, показистей будешь, — с прежней непосредственностью объяснил Федосей. — А ты и мала и худа, не будут тебя уважать у нас… Почмокал языком, то ли подгоняя Машку, то ли сочувствуя. — А сколько верст до Успенского? — спросил Славушка. — Верст-то? — переспросил Федосей и посмотрел вперед, точно пересчитал лежащие перед ним версты. — Поболе сорока. Нельзя понять, много это в его представлении или мало. Славушка рукой обвел окрестность, точно хотел приблизить к себе открывшиеся перед ним однообразные мокрые поля. — И все так? — спросил он. — Что так? — переспросил Федосей. — Поля, — сказал Славушка. — До самого дома? — Поля-то? — переспросил Федосей и утвердительно кивнул. — До самого дома. И Славушке подумалось, как скучно жить среди этих мокрых и черных полей. — Да, мамочка! — вырвалось вдруг у него. — Заехали мы с тобой… — Ты так думаешь, Славушка? — тихо спросила Вера Васильевна и нахмурилась. — У нас не было иного выхода… — Да я ничего, — сказал Славушка. — Жить можно везде. Он вытащил из внутреннего кармана своего пальтишка полученную им в подарок газету… Что-то будет впереди? Славушка вспомнил, как его товарищи по гимназии пытались угадывать будущее: раскрывали наугад какую-нибудь книгу и первую попавшуюся фразу считали предсказанием. Мальчик заглянул в газету и прочел: «В Европе чувствуется дыхание нарастающей пролетарской революции…» К чему бы это?… И снова запихнул газету в карман. Нескончаемые пустые поля, грязная ухабистая дорога, сердитый осенний ветер, монотонная рысца Машки, не то придурковатый, не то равнодушный ко всему Федосей, так похожий на дикобраза, мать со своими печальными и тревожными глазами и такими же печальными и тревожными раздумьями… Они находились далеко, очень далеко от Европы. Поля, поля, бесконечное унылое жнивье, исконная русская деревня, Орловщина, черноземный край… Отойти бы подальше в комкастое поле, стать над бурой стерней, наклониться, схватить в горсть сырую черную землю и, не боясь ни выпачкаться, ни показаться смешным, прижаться щекой к этой земле, к своей земле, такой нестерпимо холодной и влажной… Вот как можно ощутить свое родство с этой землей! И ехать дальше — от ветлы на горизонте до ветлы на горизонте. — Шевелись, мил-лай… Моросит дождичек. Мелкий, надоедливый… А Славушка чувствует, что он в России: серое небо, серое поле, а он дома.  4 — И-ий-ёх! — вскрикивает Федосей и решительно встряхивает вожжами. Вдали показалась рощица, с краю — облезшие ветлы, а за ними березы, не утратившие прелести даже в конце октября, желтые листья на ветвях трепещут, точно бабочки. Рощица приблизилась, мелькнули за стволами кресты и остались позади. Кладбище… «Что за примета? — подумал Славушка. — К добру? Не к добру?» Вот и церковь, вот и дома… Усталая Машка перешла на рысь, даже как-то весело бежит мимо палисадников, за которыми скучно стоят серые домики, мимо новенькой белой церкви, телега прыгает по ухабам, ныряет из колеи в колею, и Славушка понял — это конец пути. — Чует дом, — хрипло произнес Федосей и кнутом указал на серые домишки. — Поповка. — Какая Поповка? — спросил Славушка, с огорчением думая, что ошибся. — Деревня? — Какая деревня? — пренебрежительно сказал Федосей. — Приехали. Успенское. А здеся у нас попы живут. На крыльце одного из домиков пламенела девица в оранжевом, не по погоде легком платье, всматриваясь в проезжающих. Федосей искоса взглянул на нее и помахал кнутиком. — И поповны, — добавил он, натянул вожжи и свернул на деревенскую улицу. За избами — лужок, проулок, палисадник, дом на высоком фундаменте, тесовая галерея вдоль дома, амбары, сараи, какие-то пристроечки… — Приехали, — объявил Федосей, подъехав к галерее. — Тпру… Вечер пал на землю, лишь брезжит белесая галерейка. — Надежда! На крыльце появилась босая баба, в кацавейке с короткими рукавами, в клетчатой поневе, с лицом, багровым даже в темноте. — Примай! — Какракужи назазализя… Славушка с трудом, но разбирает: «Как раз к ужину, заждались». — Айдате прямо по галдарейке в куфню… Славушка торопливо потянул саквояж из примятого сена, хотел спрыгнуть — и не успел, его приняли сильные руки Федора Федоровича. — Доехали? — с облегчением спрашивает отчим. Славушка — на земле, а выбежавший Петя взбирается на телегу. Федор Федорович протягивает руки жене: — Наконец-то, Вера… Тут же, следом за отчимом, появился худощавый мужчина в черной куртке, застегнутой до самого ворота, вразвалочку приблизился к Вере Васильевне. — Будем знакомы, деверек ваш. Слышу, кричат. Думал, померещилось. Я наказывал Федосею: запоздаете, ночевать в Каменке. Проходите, проходите, маменька очень даже вами интересуются… Громадные темные сени. Кухня. Четверть помещения занимает громадная печь. Кухня разделена перегородками на три части, в большей, сразу от входа, две скамейки вдоль стены и большой, темный от времени, дощатый стол, прямо за перегородкой собственно кухня, устье печи с шестком, направо закуток с полатями… Целая изба, и не как у бедного мужика! Все за одним столом, как в феодальном замке, и господа и слуги. Мальчику вспомнился Вальтер Скотт — мрачная трапезная в поместье какого-нибудь шотландского эсквайра. Владетельная дама — старуха необъятной толщины, в ситцевом синем капоте, старший сын на возрасте и младший, Федор Федорович, заехавший в родной дом на перепутье, две невзрачные женщины, одна помоложе, востроносенькая, бледненькая, другая, краснорожая, постарше, двое странных субъектов в потрепанных синих мундирах… Федор Федорович шепчет что-то Вере Васильевне на ухо, и мама прикасается губами к старушечьей щеке, а отчим наказывает Славушке, и тоже шепотом, подойти, поцеловать старухе руку, и Славушка приближается, — рука, пухлая, коричневая от загара, с набрякшими венами, неподвижно лежит на столе, — Славушка наклоняется, и запах прелого белья ударяет ему в нос. С Петей Славушка так и не успевает поздороваться. На столе таз с супом, все черпают и несут ложки ко рту, подставляя ломоть хлеба, чтоб не капать. Павел Федорович взглянул на гостью, оборотился к востроносенькой: — Нюрка, подай… Та мигом слетала на чистую половину, принесла тарелку. Павел Федорович своей ложкой наполнил тарелку, подвинул гостье. — Мы здесь по-простому, со свиньями из одного корыта хлебаем. Славушке отдельной тарелки не полагается. — Мы вас в зале поместим, — обращается Павел Федорович к гостье. — Тут вам и спальня и будуар. Правильно произнес: «будуар». Приветливо, но не без насмешки. Прасковья Егоровна мычит, не понять — одобряет ли, возражает, может, к лучшему, что не понять. Зал! Два дивана с покатыми сиденьями, обтянутыми черной клеенкой, с деревянными выгнутыми спинками, два овальных стола, киот до потолка, загороженный огромным филодендроном, между окон фикусы, застекленная горка, на верхних полках фарфор, на нижних — книги. Жить можно. — Я устала, Федя, — говорит мужу Вера Васильевна. — Иди укладывай детей. Славушка перебирается к Пете. — Ну как ты? — расспрашивает брата. — Не обижают? С кем подружился? Бандиты здесь есть? Петя рассказывает. Прасковья Егоровна с трудом двигается после удара, еле ворочает языком, но по-прежнему все ее боятся, даже Павел Федорович, а когда не понимают, сердится, грозит палкой. Павел Федорович весь в хлопотах. Востроносая Нюрка — кухарка, доверенное лицо Павла Федоровича, и, пожалуй, не только доверенное лицо. Багроволицая Надежда и ее муж Федосей — безземельные крестьяне, заколоченная их изба разваливается в Нижней Залегощи, а сами вот уже восьмой год живут у Астаховых в батраках. Кавалеры в синих мундирах — пленные австрийские солдаты, тот, что пониже, Петер Ковач, не то хорват, не то мадьяр, мало чем отличается от русских крестьян, длинный — Франц Шлезингер, управляющий большим конфекционом в самой Вене, оба направлены на работу в хозяйство Астаховых. — Как же ты проводишь время? — интересуется Славушка. — Работаю, — хвастается Петя. — Федосей пашет, а я бороню. Славушка пугается, что его тоже заставят боронить. — А в школу ходишь? — Иногда, но чаще я с Федосеем. Павел Федорович уже приспособил Петю в работники! — А бандиты здесь есть? — Самый главный — Быстров! — Откуда? — Председатель исполкома. Всех грабит подряд. Петя рассказывает о Быстрове. У Дроздовых, помещики тут, отнял пианино. Отнимает хлеб у мужиков. В Орле у генерала Харламова отнял жену… Петя наслышан о многих похождениях Быстрова, и Славушка замирает от желания увидеть этого разбойника. — Как же его выбрали председателем? — Разве не слышал, что все большевики — бывшие каторжники? Они долго еще говорят, пока сон не смежит их веки. 5 Проснулся Славушка поздно, в комнатах никого, оделся, побежал через сени в кухню, за столом только Вера Васильевна и Федор Федорович, да Надежда возится за перегородкой у загнетки. Самовар остыл, по столу хлебные корки, яичная скорлупа. — Нельзя так долго спать… — Вера Васильевна наливает сыну чай. — Пей, пожалуйста. Чай теплый, спитой, но Славушка рад, что мать не ушла без него. — Мне пора, Вера… — начинает Федор Федорович и не договаривает. — Завтра утром… — Как, уже? — Вера Васильевна растерянно смотрит — сперва на мужа, затем на сына. — А как же мы? — Все будет хорошо, — не очень уверенно утешает жену Федор Федорович. — Для чего бы иначе сюда ехать? По крайней мере, не придется голодать. Вера Васильевна знает: уговаривать Федора Федоровича бесполезно. — Можно изменять женщинам, но не принципам, — любит он повторять чью-то фразу. Все-таки она спросила: — А ты не можешь… Он покончил с ее колебаниями: — Не допускаю, чтоб ты могла любить дезертира. Надежда понимает эти слова по-своему. — А почему не любить, коль не дурак? — говорит она, выглядывая из-за перегородки. — На деревне беглец — живой покойник, никуда не скрыться, чего ж любить, а в таком хозяйстве, как ваше, очень даже свободно укроешься… — Как так? — весело спрашивает Федор Федорович. — Хоть на хуторе, — поясняет Надежда. — Три года там не найдут! — Пойдем, покажу тебе наше хозяйство, — зовет Федор Федорович жену… Ключи от построек висят у двери на гвозде, Федор Федорович по-хозяйски снимает всю связку. Славушка, как тень, неотступно следует за матерью. Из просторных темных сеней ход и в кухню, и в горницы, и лестница на чердак… Чистая половина состоит из четырех комнат, в ближней ко входу — буфет, стол, деревянный диван, столовая, за ней зал, отведенный под жилье Вере Васильевне, рядом со столовой спальня Прасковьи Егоровны, а дальше комната Павла Федоровича, наполовину спальня, наполовину кладовая, здесь в сундуках польты, штуки сукна, сатина, вельвета и деньги, как думают все в доме, хотя никто их не видел. Громадный двор, налево лавка, амбары, подальше пасека, направо сараи с сеном, с инвентарем, конюшня, коровник, свинарник… Два чувства борются в Астахове, он презирает это хозяйство, знает, как засасывает оно людей, и гордится им — сколько труда потратила мать, чтобы превратить телегу о трех колесах в такое обилие построек и живности. Впрочем, живности сильно поубавилось за последний год, часть предусмотрительно продана, часть отобрана, стойла пустуют… Федор Федорович ведет Веру Васильевну из амбара в амбар, пахнет пылью, мукой, кожей, из сарая в сарай, тут другие ароматы — навоза, сена, кислого молока. Двор замыкает легкая изгородь, две ветлы у калитки, как два сторожа. — Огород… Можно бы вернуться, но Федор Федорович настойчиво выводит Веру Васильевну за калитку. Вот оно, продолговатое кирпичное здание под железной крышей посреди огорода — радость и горе Астаховых… Мельница с нефтяным двигателем, построенная перед самой войной, ее так и не успели пустить, возникли затруднения с доставкой нефти, не стало рабочих рук… Эксплуатацию мельницы пришлось отложить до лучших времен. — И какое же у тебя впечатление? — интересуется Федор Федорович. — Не знаю, — неуверенно произносит Вера Васильевна. — Зачем это все? Славушка стоял позади отчима и сдирал с березовых жердей изгороди несчищенную бересту. Пошли обратно. Прасковья Егоровна топталась у коровника, стучала по земле палкой, мычала. — М-мы… м-мы… Федор Федорович подошел к матери. — Вам что, мамаша? Она ткнула палкой в сторону невестки и зашаркала в коровник. — М-мы… м-мы… Палкой указывала куда-то в угол. Федор Федорович догадался: в темном углу пустого стойла, прильнув к земле, сидела курица. — Снеслась? — Н-ны… н-ны… — Сейчас возьму. Но старуха только что не ударила сына палкой, замычала что-то уж совсем гневно, еще раз ткнула палкой в невестку. — Н-ны!… Н-ны! — Она хочет, чтобы я… — догадалась Вера Васильевна. Старуха действительно хотела бы помыкать невестками, заставлять выполнять свои причуды, даже ударить иногда. Павел Федорович лишил ее этого удовольствия, он рад бы жениться, но старуха не позволяет сыну ввести в дом избранницу своего сердца, роман Павла Федоровича с Машкой Зыкиной длится много лет, и Прасковья Егоровна неизменно именует Машку только одним звучным и непристойным словом, исчерпывающе определяющим ее пол. Другой сын привел невестку без спросу, немолода, небогата, вдова, двое пасынков, зато барыня, хорошо бы подчинить ее своей воле, ткнуть в нее костылем и заставить подать хотя бы это куриное яйцо. Невестка понимает свекровь. Отстранив мужа легким движением руки, ступает за перегородку, сует руку под курицу и подает свекрови яйцо. Солнечный лучик освещает мертвенное лицо старухи, трясущаяся рука исчезает в складках коричневой юбки. Обедают опять вместе, хозяева и работники, опять из общей миски, но для Веры Васильевны заранее поставлена тарелка. Павел Федорович крошит вареное мясо, Прасковья Егоровна трясущейся рукой хватает доску с мясом, тянется к Вере Васильевне и ссыпает добрую половину в ее тарелку. После обеда Федор Федорович зовет жену пойти в школу. — Надо ж тебя представить… Славушка тоже выходит с ними. — Идем, идем, — говорит отчим мальчику, — таких учителей, как Иван Фомич, на всю Россию сто человек. Село рассечено оврагом, по дну бежит речка, за речкой белый дом, это и есть школа. За палисадником лужайка, раскатанная дорога, деревенская улица, прямо через дорогу дом Заузольниковых, где помещалась лавка, астаховской не чета, поменьше, поплоше, правее от Заузольниковых кирпичное здание волостного правления, еще правее сторожка, еще правее огород десятины в две, и совсем в отдалении аккуратный домик, в котором почта. Голубое небо сияет, с утра серело, хмурилось, как и положено в октябре, а сейчас, после обеда, по-летнему сине и бездонно, золотом блестят соломенные крыши, полыхают крашенные суриком железные, даже речка слепит черным блеском, будто впрямь нет у нее дна, хотя на самом деле в любом месте можно перейти по камням. — Ах, Вера, если б ты знала, какой человек Никитин, — рассказывает Федор Федорович. — Три брата, и все удивительно талантливы. Отец у них самый что ни на есть средний мужичок, при жизни не замечали, и умер как не жил. Зато сыновья… Старший, Митрофан Фомич, вряд ли умеет расписаться, а богаче, пожалуй, нет на селе мужика, батраков не держит, но у него ребят с дюжину, не успеют штаны надеть — как уже в поле. Второй брат, Дмитрий Фомич, бессменный волостной писарь, теперь секретарь волисполкома. Государственный ум! С любой неразберихой идут к нему, рассудит, что твой Соломон, и что решит, так тому быть, для всех здесь последняя инстанция. Но самый талантливый младший, Иван Фомич, директор школы… О нем Федор Федорович рассказывает с особой охотой, в судьбе Ивана Фомича и Федора Федоровича много общего, оба ушли из деревни, можно сказать, в одних портках, оба выбились в интеллигенты и всем обязаны самим себе. — Иван Фомич ушел из дома с трешкой в кармане. Работал письмоводителем, телеграфистом, кассиром, окончил экстерном гимназию, поступил в Петербургский университет. Уроки, переписка — все на оплату образования. Трехкопеечные обеды в студенческой столовой: щи без мяса — копейка, две — с мясом, каша тоже копейка, а хлеб бесплатно. Иногда только этим хлебом и жили. Одолжишь копейку на щи и жуешь, и жуешь этот хлеб… Не так-то просто выбивались мужицкие дети в интеллигенты! — Окончил университет, защитил магистерскую диссертацию, пригласили в Псков, получил в тамошней гимназии место учителя русского языка. Стал инспектором, директором гимназии, статским советником, а тут революция… И вот встретились мы на днях, так он мундиром своим гордится больше, чем диссертацией. Неразбериха кругом, говорит, Псков того и гляди немцы займут, вернулся на родину, теперь самое время гимназию в Успенском открыть. Называется — трудовая школа второй ступени, но это не суть важно, все равно деревенская гимназия. У речки Федор Федорович прерывает рассказ. — Осторожнее, — останавливает жену. — Вода холодная, не поскользнись… Славушка ступил на камень, вода подбиралась к подошвам, запрыгал с камня на камень: смотрите, мол, как ловко перебираюсь через реку, а реки столько, что не утопить щенка. — Видишь, Вера? Сперва по голышам, вдоль берега, потом прыгай вверх, по большим камням. Я перейду, подам тебе руку… Федор Федорович подошел к жене, подхватил на руки, как девочку, перенес через реку. — Ах, Федя… Такой у него характер, сперва разъяснит, как поступить, а потом все сделает сам. Поддерживая жену под руку, Федор Федорович продолжал рассказывать о младшем Никитине. — Странный человек, перед мужиками гордится тем, что дослужился до статского советника, а перед гимназистами хвастался, что он мужик. «Я в генералы из мужиков выбился, — говорит, — из Пскова уехал, — говорит, — из-за нелюбви к немцам». А на самом деле испугался голода не меньше, чем немцев. Материалист, знает Фейербаха, цитирует Герцена, в бога не верит, а по приезде в Успенское напялил вицмундир и отправился в церковь. «Я, — говорит, — в бога не верю, но обрядность дисциплинирует народ, со временем Советская власть тоже выработает свои обряды». Обряды обрядами, но тщеславия в нем, думаю, больше всего, очень уж хотелось показать односельчанам мундир, смотрите, мол, чего достиг Ванька Никитин, вон кто у вас директор трудовой школы… Подошли к саду. От каменной ограды остались только обломки кирпичей. Две лиственницы. Множество пней. Ободранный, общипанный сад. Очертания клумб, обрубленная ель, яблони с обломанными ветками… Белый дом в два этажа, высокие окна, четыре колонны по фасаду и фронтон, украшенный лепными завитушками, — русский ампир, начало девятнадцатого века. — Вот твоя академия… Федор Федорович внезапно засмеялся. — Чему ты смеешься? — А как же! Опоздай Никитин на два месяца, от здания остались бы рожки да ножки, мужики локти себе кусают, дважды потерять такой дом! — Дважды? — Помещикам Озеровым принадлежал дом. Лет сто назад владели тысячей десятин, а к началу века порастряслись, остались дом, службы и десятин сорок земли. В шестнадцатом году, перед самой революцией, продали остатки поместья успенским мужикам. Те посудили, порядили — под школу дом или под больницу — и решили разобрать и поделить все, вплоть до кирпичей и паркета. Ограду и конюшни разобрали, столетние липы вырубили, подобрались к дому, а тут революция… Задаром отдали деньги! Впали мужики в каталептическое состояние, а когда пришли в себя и снова двинулись на штурм дома, подоспел Иван Фомич и наложил на дом свою руку. «Нет, — говорит, — уважаемые товарищи односельчане, не для того делалась революция, чтобы разорять собственную страну, есть у меня, — говорит, — одна идея, в этом самом доме открыть деревенскую гимназию». Мужики, конечно, туда-сюда, зачесали затылки, а он в исполком: «Прошу вынести решение». Ну решение принять проще всего. Никитин — в дом. «Здесь, — говорит, — и школа, и квартира директора». Мужики так про него и говорят: «Озеровы у нас деньги отняли, а Никитин — именье». Вырубили со зла фруктовый сад, а дом… Не то, что разбирать, самим еще пришлось ремонтировать! С заднего фасада дом выглядел неказисто, стены пожелтели, заднее крыльцо кто-то все ж успел увезти, и везде предостаточно грязи. На пороге маленькая женщина в пуховом платке счищала с калош землю. — Ирина Власьевна, жена Ивана Фомича, — сказал Федор Федорович, — А это моя жена… На Ирине Власьевне Никитин женился в Успенском, из всех учительниц в ближних школах выбрал самую некрасивую. — Мне нужна семья, — отвечал он, когда ему говорили, что мог он найти жену и покрасивее. — Меня интересует психология, а не физиономия. Он не ошибся в выборе. Действительно, Ирина Власьевна не блистала красотой, но ее пытливые и даже пронзительные глаза не позволяли обмануться в ней умным людям. Она испытующе посмотрела на Веру Васильевну. — Не очень рады приезду сюда? Федор Федорович помешал жене ответить. — А где Иван Фомич? — быстро спросил он. — Завтра я уже в путь… — В свинарнике, где же еще, — ответила Ирина Власьевна, бросила взгляд на дощатый сарайчик, стоящий наискосок от школы, усмехнулась и крикнула: — И-ван Фо-мич, к тебе! — Давай их сюда, кто там? — не торопясь, ответил певучий бас, и Никитин показался в двери свинарника. В выцветшей красной неподпоясанной рубахе, в посконных портках, заправленных в яловые рыжие сапоги… Какой там статский советник! Волнистые черные волосы сползают на белый, белейший, можно сказать, мраморный лоб без единой морщинки, живые черные глазки, румяные, как на морозе, щеки, пухлые губы, кудлатая борода. Он, как Нептун, держал в руке вилы, зубьями вверх, и смотрел меж зубьев как через решетку. — Вера Васильевна! — закричал он, в момент сообразив, кто перед ним, и так, точно давно ждал ее. — Сейчас побеседуем, только добросаю навоз. А пока полюбуйтесь моими свинками… Повернулся и снова принялся подбирать навоз вилами. — Уборка на зиму, — пояснил Иван Фомич, не отрываясь от работы. — На Луначарского надежда слаба, не обеспечит, сам не плошай… Он причмокнул так аппетитно, точно перед ним не живые свиньи, а готовое свиное сало, поиграл еще вилами, сильным ударом воткнул в землю, обтер ладонь о рубашку и подал Вере Васильевне руку. — Наслышан о вас достаточно, будем теперь знакомы. Поздоровался и с Федором Федоровичем и со Славушкой. — Мой будущий ученик? Внутри дома ничто не напоминало помещичье обиталище, но и школу не напоминало, какая-то первозданная пустота, стены и потолки белым-белы, да и полы надраены, отмыты до желтого блеска. — Как в больнице, — вслух отметил Федор Федорович, не для похвалы Никитину — для Веры Васильевны, привлекая ее внимание к сказочной этой чистоте. — А мы и есть больница, — прогудел в пустоте Никитин. — Медики лечат тела, а педагоги — души, наша работа потоньше, не так заметна… — Он довольно засмеялся. — Все она! Ничего не добавил, не обернулся. Гости, однако, поняли, она — это жена. Вера Васильевна притронулась к стене, запинаясь от удивления, от умиления. — Неужели она? — Ирина Власьевна, — подтвердил Никитин. — Белили совместно, кое-каких ученичков привлек, а полы самолично моет, кому ж еще! — Нет, я бы не смогла, — призналась Вера Васильевна. — И не смогу. — А вас и не попросят, — успокоил ее Никитин. — Ирина Власьевна учительница начальной школы, а вы преподаете деликатную французскую литературу… — Указал на лестницу, отмытую так же, как полы. — Прошу наверх. К себе не приглашаю, беспорядок, и угощать, собственно, нечем. Впрочем, если желаете, самовар поставлю… — Нет, нет, какое там угощенье, — торопливо отказалась Вера Васильевна. — Мы по делу. На втором этаже потолки повыше, здесь когда-то были парадные комнаты. Никитин толкнул дверь, та с размаху ударилась об стену, и стена тоже отозвалась никитинским басом. Парты в три ряда, стол для учителя, черная доска на стене. — По всем школам лишние парты собирал, — похвалился Никитин. — А кое-где и украл. Указал на парту, приглашая гостей садиться. Парты старые, расшатанные, краска облупилась, но чистые. — О вас я знаю все, — повел Никитин деловой разговор. — Дня три вам на акклиматизацию, и принимайтесь, обучайте баранов хорошим манерам. — Вы так учеников? — Бараны! — безапелляционно сказал Никитин. — Думаете, наш народ далеко ушел от баранов? Погнали на войну — мрут за царя; погнали против царя — мрут за диктатуру пролетариата… Не понимают того, что при диктатуре пролетариата мужику рано или поздно, но обязательно будет каюк! — Для чего же тогда мужику образование? — А для того, что народ нуждается в интеллигенции. Потому-то нам и понадобился французский язык. Пять учителей я уже набрал. Вы — французский, немецкий, я — литература и математика, Введенский — история с географией, Пенечкина — эта не тянет, не уверен в ней, — естественные науки и физика, и Андриевская — музыка и пение. Чем не гимназия? — Вы преподаете русский и математику? — Правильно. — Странно. — Простите? — Математика и литература — странное сочетание. Литература и история, даже литература и география… Но математика? — Именно математика и литература сочетаются лучше всего. Простите, вы умеете абстрактно мыслить? Вера Васильевна виновато улыбнулась. — Вероятно, не очень. Никитина точно сорвало с места, подошел к доске, в желобке белел мел, — Ирина Власьевна заранее по заботилась, урок можно начать в любой момент, — и начал урок. — Подростком я предпочитал математику литературе. Все яснее, четче, организованнее. Предпочитал стройность цифр и формул расплывчатому толкованию расплывчатых характеров и обстоятельств. Вкус к литературе мне привила алгебра, помогла понять законы литературы. Воспользуемся элементарным примером. Мы знаем из арифметики, что при сложении чисел благодаря закону переместительности сумма от перестановки слагаемых не меняется. Вот хотя бы… — Он с нажимом написал на доске: «3+4=7». — Переставим… — Написал: «4+3=7». — А как записать, что закон этот верен не только для этих цифр, а для любых чисел? Заменим числа буквами! Тогда переместительный закон сложения в алгебраическом выражении будет выглядеть так… — Он быстро написал: «а+в=в+а». — Какие бы два числа ни взять, мы всегда получим ту же сумму… Иван Фомич, кажется, всерьез задумал давать урок! — Это действительно элементарно, — перебила Вера Васильевна. — Но при чем тут литература? — А известно вам, что в древности, когда еще не были введены специальные знаки для записи правил, математики правила своей науки излагали словами? — ответил Иван Фомич. — От слов к цифрам, от цифр к словам. Что есть математика? Изучение величин и пространственных форм. А что есть литература? Тоже изучение величин и нахождение этих величин в пространстве. Характеры, фабулы и сюжеты можно изучать по тому же принципу. Литературные образы те же алгебраические понятия. Каждый читатель конкретизирует их по-своему, хотя большей частью толкования совпадают, большинство людей воспринимает действительность весьма ограниченно. Впрочем, великие математики, великие писатели и великие социологи меняют наше представление о привычных истинах, поэтому всякий гений всегда великий революционер. Хотите одну элементарную формулу? — Иван Фомич хмыкнул от удовольствия. — Пролетариат, крестьянство, армия… Тождеством называется равенство, верное при всех допустимых значениях входящих в него букв… Элементарно? Числовой множитель, стоящий впереди буквенных множителей, называется коэффициентом… А что есть коэффициент? — Он опять хмыкнул. — Вооруженное восстание. А в сумме имеем Великую Октябрьскую революцию. Далее начинаются уравнения… С одним неизвестным. С двумя. Со многими. Извлекать корень еще рано. Абстрактно, конечно, можно извлечь, но реально… Вот какой математикой, если вам угодно, занимается уважаемый товарищ Ленин. А для того, чтобы не умозрительно, а чувственно понять происходящее, нам приходится прибегать к литературе, заменять абстрактные обозначения конкретными характерами. Вот почему в переходный период я отдаю предпочтение литературе. А в устоявшемся обществе… В устоявшемся обществе будет торжествовать математика! — Никитин обернулся к Федору Федоровичу: — А что по сему поводу скажете вы? Но Федор Федорович отвлек его от абстрактных рассуждений. — Все это интересно, но мы уносимся в эмпиреи. Мечты мечтами, а жить приходится сегодняшним днем. Дрова-то у вас на зиму есть? Федор Федорович тревожился, он привез жену и детей в деревню не на голод и холод. — Будут, — самоуверенно отрубил Никитин. — Заставлю исполком, а нет, родители за каждого ученика привезут по возу соломы… — Он обратил вдруг внимание на мальчика. — Ты каких поэтов любишь? — Фета… Блока… — неуверенно ответил ок. Блока он почти что и не знал, а Фета нашел среди отцовских книг и прочел полностью. — Беранже еще… — А надо Пушкина, — строго сказал Никитин. — Для русского человека Пушкин — основа основ. — А как здесь вообще живется? Вера Васильевна не смогла яснее выразить свою мысль, ей хотелось спросить — можно ли здесь вообще жить — чем, так сказать, люди живы, не мужики, конечно, те, известно, пашут, сеют, растят хлеб, а вот как живут здесь люди интеллигентные. Никитин подошел к окну, поглядел в сад, обернулся к гостям и весело сказал: — Жутковато. — То есть что значит жутковато? — спросил Федор Федорович. — А очень просто! — Никитин застегнул ворот рубашки на все пуговки. Славушка и пуговкам подивился: маленькие, круглые, черные, вроде тех, что бывают на детских ботинках. — Не сплю ночами, стою у окна и все всматриваюсь… Федор Федорович посочувствовал: — Бессонница? Сердце? Иван Фомич фыркнул. — Какое там, к черту, сердце! Оно у меня бычье. Боюсь, как бы не подожгли. Мужички покоя лишились. Зайдутся от зависти… Вера Васильевна не могла понять: — Да чему ж завидовать? — Как не завидовать, когда я такой дом захватил! — Он не без нежности погладил стену. — Сколько бы из этого кирпича печек сложили! А тут на-кась выкуси! Я же кулак… Вера Васильевна улыбнулась: — Какой же вы кулак… Но Иван Фомич не принял ее сочувствия. — А я и есть кулак, — сказал он не без хвастовства. — Дом, свиньи, корова. Достойный объект для зависти… — Но ведь вы школу создали, вы воспитатель их детей… — А им на это ровным счетом начхать. Через тридцать лет рай, а хлеб сейчас отбирают? Мужик реалист, что из того, что его сын через тридцать лет станет инженером или врачом. Ты ему сейчас дай мануфактуры и керосина. Вот и вырубили со зла сад. Федор Федорович не любил гипербол: — Но при чем тут кулак… Иван Фомич стоял на своем: — Как понимается это слово? Экспроприатор, эксплуататор. Дров привези, школьный участок вспаши, да мало ли чего. Исполком самообложенье назначил на ремонт школы, по пуду с хозяйства, знаете, как мужики взвыли… — Но все же… — А я и в самом деле кулак, и ничего зазорного в том не вижу. Кулак — первый человек на деревне, а я и есть первый. Сильный — кулак, слабый — бедняк, так что ж, по-вашему, лучше быть слабым? Нет мужика, который не хочет быть кулаком. Всякий хороший хозяин — потенциальный кулак, я бы только кулаков и ставил в деревне у власти, а комбеды, как фараоновы коровы, и кулаков сожрут, и сами сдохнут от голода. — Но ведь бедняков больше, это же армия… — Кто был ничем, тот станет всем? Армия, которой суждено лечь костьми во имя светлого будущего. Если хотите, Ленин тоже кулак, только во вселенском масштабе. Рябушинские и Мамонтовы захватывали предприятия мелкие и создавали крупные, а Ленин одним махом проглотил их всех и создал одно-единственное, именуемое «пролетарское государство». «Все куплю», — сказало злато. «Все возьму», — сказал булат… Взять-то взяли, только еще надо научиться управлять. Хозяин — государство, а мы его приказчики, и нам теперь предстоит выдержать колоссальный натиск разоренных мелких хозяйчиков… — Впрочем, Иван Фомич тут же себя оборвал: — Однако оставим этот студенческий спор… — Во всяком случае, это очень сложно, — поддакнула Вера Васильевна. Иван Фомич пальцем постучал по парте, как по пустому черепу. — А где вы видели простоту? Гости поговорили еще минут пять, условились — мать и сын пойдут в школу через два дня… Возвращались молча, только Вера Васильевна спросила сына: — Ну как, нравится он тебе? Славушка ответил не задумываясь: — Да. Чем нравится, он не мог сказать, по отдельности все не нравилось — сходство с каким-то мужицким атаманом, преклонение перед своим мундиром, хвастливая возня со свиньями, неуважительные отзывы об учениках, которым, в общем-то, он посвятил свою жизнь, и, наконец, дифирамбы математике, которую Славушка не любил… Но все вместе вызывало острый мальчишеский интерес к Никитину. Федор Федорович опять перенес жену через реку, и Славушке не понравилось, как отчим нес его мать, слишком уж прижимал к себе, слишком долго не опускал на землю… Все-таки она больше принадлежала Славушке, Федор Федорович в чем-то для них, для мамы, для Пети и Славушки, посторонний… На улице темнело, когда они вернулись, за окнами светились лампы, Нюрка у крыльца всматривалась в темноту. — Ты чего? — спросил Федор Федорович. — Вас дожидаю, — отозвалась Нюрка. — Прасковья Егоровна серчают, исть хотят. Все сидят за столом, ждут. Старуха скребет по столу ложкой. — М-мы… м-мы… Кто знает, что она хочет сказать! В ужин, как и в обед, щи да каша, все то же. Павел Федорович похлебал, похлебал, отложил ложку. — Федя, надо бы поговорить. — Да и мне надо. Славушке есть не хотелось, пожевал хлеба и полез на печку, лег на теплое Надеждино тряпье, прикорнул, то слышал разговор за столом, то убегал мыслью за пределы Успенского. Надежда что-то долдонила, односложно отвечал Павел Федорович, что-то пыталась сказать старуха, ее не понимали, она сердилась, стучала по столу ложкой. Потом сразу замолчали, кончили есть. Убежал Петя. Ушел Федосей, задать лошадям корму на ночь. Ушла Вера Васильевна. Нюрка кинулась к Прасковье Егоровне, помочь встать, ей не лечь в постель без посторонней помощи, но старуха не вставала, мычала, брызгала слюной. — Идите, идите, мамаша, — жестко сказал Павел Федорович. — Нюшка-то за день намаялась, выспаться надо, ей сидеть не с руки… — Он помог Нюшке поднять мать, чуть не насильно довел до двери. — Приятных сновидений, мамаша. — Надежду выставил без церемоний: — Пройдись до ветру, не торопись… Братья остались вдвоем, внешне схожие, высокие, сухие, поджарые и разные по внутренней сути. — Все никак не поговорить, Федя… — Я и то смотрю, Паша, уеду, а на что оставляю жену — не знаю. — Жена женой, но и мы братья. — В нынешние времена брат на брата идет, за грех не считает. — Нам с тобой делить нечего. — Как знать. — Сестры выделены, мать умрет, любая половина твоя. — Я не о том, я б от всего имущества отказался, да и тебе посоветую. — А жрать что? — Да ведь и я не спешу, недаром привез жену и детей, без хозяйства сегодня не прожить. — А завтра? — Завтра я хочу легко жить. — Тебе хорошо говорить: закончишь свои университеты, станешь врачом, куском хлеба до смерти обеспечен. А что я без хозяйства? В работники идти?… Оба замолчали. Слышно, как прусаки шуршат по стене. — У меня к тебе, Федя, просьба… — Все, что могу. — Ты в Красную Армию почему пошел? — Как почему? Сложный вопрос. Я русский. Куда бы меня ни кидала судьба, а родина моя здесь, в Успенском. — Считаешь, что те нерусские? — Видишь ли… Настоящая жена сама верность, а жена, доступная каждому встречному-поперечному, уже не жена, а потерянный человек, у такой ни роду, ни племени. — А те, считаешь… — Торгуют и собой и родиной. Павел Федорович прошелся по кухне, спорить не хотелось, в глубине души он соглашался с братом. — А если в семье драка? — Все равно чужих людей в семейную распрю не мешают, еще больше беды. — Тебя мобилизовали? — Сам пошел. — А если убьют? — От судьбы не уйдешь, а судьба у человека одна. — А если не там и не тут? — У честного человека не получится. — Значит, ты доброволец? — Какое это имеет значение? — Большое. — Важно, как сам понимаешь себя. — И документ есть? — Конечно. — Так вот какая просьба. Сходи до отъезда в исполком. Насколько легче, если в семье доброволец. — Хозяйство наше все равно не спрятать. — Хозяйство наше родине не в убыток. — Подумают, из-за хозяйства пошел в добровольцы. — А почему бы и не пойти? Пускай думают. — Неудобно… — На дом наш давно зарятся, потребиловку хотят открыть. Скотину заберут. В земле ограничат… — Неудобно, Паша. — За-ради матери. Придут отбирать коров… Или хуже — из дома выбросят… Не переживет мать. Теперь одна защита — бумажки. — И у меня просьба, — сказал Федор Федорович. — Не обижайте Веру. Особенно, если случится что. — Зачем обижать… — Вы на все способны… — Федор Федорович спохватился, наоборот, следовало выразить уверенность, что не способны обидеть, он перешел на миролюбивый тон: — Жениться не собираешься? — Сам знаешь мое положение, — пожаловался Павел Федорович. — Мамаша никогда не разрешит. — Теперь бы и не спросясь… — Как можно, поперечить все одно что убить… Тут Славушка окончательно заснул. Разбудила его тошнота, горло перехватывал противный тяжелый запах. Рядом на печке похрапывал Федосей. Запах шел от сырых портянок, развешанных на бечевке над головами спящих. Мальчик перелез через Федосея. Над столом тускло мерцала привернутая лампа, по столу бегали прусаки, на скамейке, поджав к животу ноги, спала Надежда. Славушка попил из ведра воды, пошел в горницу. В сенях беспросветная темь, далекий собачий лай, все вокруг спало. Славушка открыл дверь. В столовой ярко горела лампа, на деревянном диване сидели мать и отчим, они порывисто отстранились друг от друга. — Ты чего? — спросила Вера Васильевна. — Проснулся. — А я не хотела тебя будить. — Не уезжайте завтра, — сказал Славушка отчиму. — Нам тут без вас не привыкнуть. — А на войне ни к чему не привыкнуть, — ответил отчим. — Здесь тоже вроде как на войне… — У него грустные глаза. — И убежать от нее нельзя. Если я задержусь хоть на день, буду уже не доброволец, а дезертир. — Понимаю, — сказал Славушка. Ему жаль отчима. Он уходит в залу, вставляет отчима с Верой Васильевной. — Пойдешь со мной? — утром спрашивает отчим мальчика. — Куда? — На Кудыкину гору, лягушек ловить… Он еще не знает, что эти «лягушки» спасут ему жизнь. Им недалеко идти, в «волость», так все называют волисполком. Вот оно — одноэтажное кирпичное здание на бугре. Слюдяные какие-то оконца. Жесткая коновязь перед низким крыльцом… Пыльный коридор и три двери. «Налево пойдешь — сам пропадешь, прямо пойдешь — коня потеряешь, направо — оба погибнете…» Налево — военкомат, прямо — земельный отдел, направо — президиум. — Сейчас увидишь Быстрова, — говорит отчим. — Глава здешнего правительства. На стенке в позолоченной раме портрет кудлатого старика, под портретом письменный стол и обтянутый черной кожей диван, и левее, у окна, дамский письменный столик. За дамским столиком грузный мужчина с обвисшими черными усами. — Дмитрию Фомичу, — здоровается отчим. — Вчера был у Ивана Фомича. — Слышал, слышал. — А сегодня к вам. Оказывается, это брат Ивана Фомича, в прошлом волостной писарь, а ныне секретарь исполкома. Федор Федорович взглядывает на Маркса. — А где… Он имеет в виду Быстрова. — Борется с контрреволюцией, — говорит Дмитрий Фомич как о чем-то само собою разумеющемся. — Поехал в Ржавец, отбирать у дезертиров оружие. Федор Федорович подает Никитину справку о своем зачислении в Красную Армию. — Разумно, — одобряет Дмитрий Фомич. — Теперь к вашему хозяйству не подступиться, а то Степан Кузьмич нацелился на одну вашу лошадку… Не понять, кому сочувствует Дмитрий Фомич — Быстрову или Астаховым. — Надолго к нам? — Сегодня уже. — Мало погостевали. — Ничего не поделаешь. — Обратно в Москву? — Нет, прямо в Ростов. Никитин регистрирует удостоверение, что-то вписывает в толстенный гроссбух и выдает Федору Федоровичу справку. Отчим и пасынок возвращаются домой. — Ты помнишь отца? — спрашивает отчим. Славушка кивает. — От всех слышал о его честности, кажется, это была самая его характерная черта. Славушка кивает. — Вот и ты будь таким. Славушка кивает. — Не огорчай маму, береги, кроме тебя да Пети, о ней некому позаботиться… В доме суета. Вера Васильевна поминутно открывает мужнин чемодан, все перекладывает и перекладывает в нем белье. Нюрка печет на дорогу пироги. Павел Федорович приносит то кусок сала, то банку масла, то банку меда. Прасковья Егоровна беззвучно плачет. Славушка изучает по карте путь до Ростова. Наконец в сборы включается Федосей, идет запрягать лошадь… И вот суета сменилась тишиной, Славушка по-прежнему изучает карту, Прасковья Егоровна тяжело сопит, Вера Васильевна складывает какую-то рубашку, а Федора Федоровича и Федосея уже нет — тю-тю, уехали! 6 По утрам прохладно. Вода в рукомойнике — аж в дрожь! К печке бы! Печи топили соломой. Золотой аржаной соломой. Пук золотой соломы — и полыхает уже, горит, играет, блещет в печи жаркий огонь… Большое искусство — вытопить печь соломой, и чтоб угар выветрился, и тепло не ушло, и лежанка нагрелась… — А ну, ребята, быстро! Павел Федорович гонит Петю и Славушку за соломой. Петя послушно рванулся, и Славушка вслед за ним. Омет за огородом, гора соломы, таскать — не перетаскать. — А ты что здесь делаешь? Позади, со стороны поля, так, что не увидишь не подойдя, мальчишка, не так чтоб велик, но и не мал, вровень Славушке. — А ничо! Перед мальчишкой ворох соломы, надерганной из омета. — Воруешь? — А вам не хватит? — Чужую солому? — Лишняя — не чужая! — Откуда ты знаешь, что лишняя? — Э-эх, вы… кулачье! — Как ты сказал? — Кулачье. Тут сбоку вынырнул Петя, сразу оценил ситуацию. — Дать? Дать — в смысле того, чтоб дать по физиономии. Он бы тотчас бросился петушонком на воришку, но тот сам отступил. — Подавитесь вы своею соломой! — Своим не подавишься, а вот чужим… Славушка запнулся: свое, не свое… Разве это свое? И вообще, при чем тут свое… — Чего свою не берешь? — Возьми! Мальчишка ткнул рукой в пространство за своею спиной. Там, куда он указал, тоже стоял овин, тоже высился омет соломы, но все в сравнении с астаховским добром выглядело убого: здесь просторная рубленая рига, целый крытый двор, два омета, каждый с двухэтажный дом, а там плетневый трухлявый овин на просвист всем ветрам, и омет, стог, стожок, поджечь — сгорит, не заметишь. — Чего ж у вас так? — Да у нас даже лошади нет… — Парнишка мрачно посматривал в сторону. — Тут на все про все не натопишься. Он не оправдывался, не извинялся, просто объяснял суть вещей. И Славушка вдруг подумал, что ведь у него самого с Петей нет ничего-ничего, даже трухлявого овина нет, и ему жаль стало парнишку, не от хорошей жизни поплелся тот за чужой соломой. — Да ты бери, бери, набирай, — примирительно сказал Славушка. — Петя, помоги… Они втроем надергали соломы, связали одну охапку, другую. Парнишка потянул свою. — Ого! Спасибо. Вы хоть и кулаки, а не жадные. Славушка обиделся: — Какие кулаки? — Ну, помещики. — Да разве это наше? Славушка ногой пихнул солому. — Папаши вашего брательника… — Какие же они кулаки? — А как же… — Парнишка прислонился спиною к соломе. — Мой папаня у них не один год в работниках жил. — Ну это до нас, — примирительно сказал Славушка. — Теперь новые законы, всяк должен работать на себя. — Закон! — возразил парнишка. — Рази его соблюдают? — А как же не соблюдать? — А так… — Парнишка вздохнул глубоко, уныло, по-взрослому. — Ну я пойду… — Он еще сомневался, что ему дадут унести надерганную солому. — Ето, как ее… — Он кивнул на охапку. — Возьму? — Бери, бери, а потом выходи, — поощрил его Славушка. — Тебя как зовут? — Колька. — Выходи хоть сюда, на огород. Славушка и Петя подождали, покуда Колька доволок охапку до своего огорода, и поволокли свою, веря, что пуд соломы все-таки легче, чем пуд чугуна. Славушка остановил в сенях Павла Федоровича, тот всех знает в селе, вплоть до грудных детей, кто у кого родился, как назвали, как растет, чем досаждает… — Что за Колька, Павел Федорович? — Колек много. Какой Колька? — На огороде встретил. — У нас на огороде? — У нас. Павел Федорович встревожился. — Крал чего? — Не заметил. — Крал. Чего еще ему делать? Только нечего, повыкопано все. Увидишь — приглядись. — А вы знаете его? — Соседи наши. Ореховы. — А они что, воры? — Ну… Воры не воры… Нищета… — А почему думаете, что крал? — Потому что нищета. — А почему нищета? — Лодыри. Не любят работать. Встретится — присмотрись… Славушка ждал появления Кольки, слонялся по лужайке, отделяющей деревенскую улицу от астаховского дома до тех пор, пока не мелькнула за углом тень Кольки. Славушка цокнул языком, Колька откликнулся. — Чего так долго? — Полдничали. Славушка не понял. — Что? — Обедали. — Время к ужину… — А у нас обед за ужин заходит, весь день шти. У Славушки отлегло от сердца, они сами в Москве сидели на одних щах из мороженой капусты, щи возбудили сочувствие. — Откуда ты взял, что мы кулаки? — Эвон сколько у вас добра накоплено. — Да это ж не наше. Моя мама сама работает. — Много учителям платят!… Они испытывали друг друга, то, что говорил один, было непонятно другому, это-то и вызывало взаимный интерес. 7 Осень в тот год не затянулась, снег выпал в ноябре; лужи покрыло ледком, он похрустывал под ногами, как леденцы, и в школу хотелось не идти, а бежать. Вера Васильевна собиралась на занятия так же тщательно, как в Москве, отглаживала блузку и юбку, старательно причесывалась, укладывала в сумку учебники и тетради. — Куда ты? — останавливала она Славушку. — Еще рано, вместе пойдем. Он ждал у крыльца, но, как только мать появлялась на улице, не выдерживая, припускался бегом, в два прыжка перескакивал Озерну, взлетал в гору и, тяжело дыша, врывался в школу, когда Вера Васильевна еще только шла мимо Заузольниковых. Опережая своих коллег, легким охотничьим шагом приближался к школе Андрей Модестович Введенский, подъезжали в тарантасе Кира Филипповна Андриевская и Лариса Романовна Пенечкина, чуть позже показывалась из-под горы Вера Васильевна, всегда вовремя и всегда с вопросом — не опоздала ли, последним входил Иван Фомич, по утрам он убирал хлев, но порог класса переступал минута в минуту. Славушка учится в предпоследнем классе, последнего не существовало, учится легко и небрежно, одинаково свободно рассуждает о Кантемире и теплоте, о петровских реформах и перекрестном опылении, он не любит только уроков Веры Васильевны, чужой язык деревне еще в диковинку, предвыпускной класс, а зубрят склонения и спряжения. Шансель и Глезер, Глезер и Петцольд, вас ист дас — кислый квас, ле-ле-ле, ля-ля-ля, род мужской, род женский и даже, если угодно, род средний. За уменье сосчитать по-французски до десяти Вера Васильевна ставит пятерку. Деревенская гимназия пыхтит, что называется, на полном ходу. Родители сами гонят великовозрастных сыновей в школу, в надежде получить отсрочку в случае призыва в Красную Армию. Для продолжения образования! В Успенском тихо. Озерну сковало льдом. Ветер понамел сугробы. Однако озими и под снегом растут, и подо льдом клокочет вода. Каша заварена круто, да не пришло еще время расхлебывать! Мужички загодя готовятся к весне, революция революцией, а пить-есть тоже надо. Рабочему классу, оно, конечно, требуется помочь, одначе хлеб невредно припрятать, особливо покуда еще не смолот. Славушка постепенно привыкал к новой жизни… Уж такая ли она была новая! Свинства вокруг побольше, чем в Москве, во всяком случае, в той Москве, которая ему знакома. В астаховском доме всего и света что мама! Славушка в дружбе и с Федосеем и с Бобиком. Бобик хоть и дворняга, но отличный сторожевой пес. Признавал только Павла Федоровича, а теперь Славушка может и отвязать его, и привязать, и потискать руками морду. Павел Федорович не позволяет кормить пса досыта, злее будет, и Славушка тайком таскает Бобику хлеб. Федосей хлеба ест досыта, но, кажется, впервые в жизни кто-то говорит с ним об отвлеченных материях, о том, что музы молчат, когда гремит оружие. Славушка имеет в виду события, загнавшие его в Успенское, и книги, оставленные в Москве. Федосей удивляется, как можно прочесть столько книг, и этим безмерно льстят Славушке. Федосея мало интересует, что произойдет завтра, сегодня сыт, и слава богу, впрочем, в бога он не верит. «У меня средств нет, — говорит, — на леригию», он и просвещает мальчика во всем, что касается хозяев дома. Семья Астаховых… Все вокруг говорили о них как о каком-то клане. Клан Астаховых. На самом деле не существовало ни клана, ни даже семьи. Прасковья Егоровна Астахова, параличная старуха, дни которой давно сочтены, да Павел Федорович, холостой ее сын, которому близко к пятидесяти. Семью поразвеяло временем, все, что из земли, возвратится в землю. В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Прасковья Егоровна родилась в Критове, в семи верстах от Успенского, родители ее только что не нищенствовали, брат, Герасим Егорович, всю жизнь оставался самым захудалым мужичонкой. Сама же Прасковья Егоровна даже в девушках была хоть и бедна, но горда, честь свою берегла ревниво и, можно сказать, сама себе нашла мужа. Однажды ее отец впустил переночевать в избу прохожего плотника, неизвестно что уж там произошло ночью, но утром дочка объявила отцу, что выходит за постояльца замуж, хотя полное имя своего мужа Прасковья Егоровна узнала только после венчания. Все имущество жениха состояло из топора и пилы, в приданое за невестой дали лишь телегу, да и у той не хватало одного колеса. Однако молодых это не смутило, недостающее колесо заняли у одних соседей, мерина арендовали у других, на все деньги, что поднакопил молодой плотник, работая у чужих людей, купили яблок и поехали торговать по деревням. Худо-бедно, но за первую осень наторговали себе на лошадь, на второй год наторговали на избу, к тому времени торговали уже не только яблоками, но и всякой галантереей, лентами, бусами, платками, мылом и даже букварями, а через десять лет поставили в Успенском дом под железо, открыли лавку и начали прикупать землицу. С достатком увеличивалась семья, появлялись сыновья, дочери, да еще взяли на воспитание сироту — племянника Филиппа, поселили на хуторе присматривать за работниками, как-никак родня, свой глаз. Старик Астахов перед войной умер, дочерей повыдали замуж, польза дому от одного Павла, даром что нигде не учился, в лавке торговал не без выгоды, сада насадил четыре десятины, овес умудрялся придать всегда по самой высокой цене. Остальное население астаховского дома, Нюрка, Федосей с Надеждой, двое военнопленных и племянник Филипп, который жил на отшибе, в Дуровке, имели лишь обязанности — и никаких прав. Есть у Павла Федоровича на селе бабенка, а вот до сих пор боится он матери, не ведет в дом. Уехала как-то Прасковья Егоровна с Федосеем в Орел масло продавать, а Павел Федорович и приведи Машку домой, показать, что достанется ей после смерти матери. Недалеко отъехала Прасковья Егоровна от села, попался кто-то навстречу, цена на масло вниз пошла, она и заверни Федосея домой. Что было! Машка в горнице пряники жует! Хозяйка дверь на ключ и ну мутузить обоих: и кнутом, и кулаком, и ключами. Машка в окно выпрыгнула. А времени сбегать на деревню тоже не выберешь, хозяйство! Вот и ходит Павел Федорович под утро к Нюрке, той отказывать тоже не с руки — прогонят. Федосей с Надеждой все слышат. «Я еще подумаю, на ком женюсь, на тебе иль на Машке…» У Павла Федоровича одна задача — уберечь от властей мельницу. У Быстрова одно мечтание — запустить двигатель, и все зерно, что у мужиков, реквизировать — и на муку. Только двигатель соломой не разожжешь, нужна нефть. А где она — у турок? Про нефть только два человека знают, Федосей и Павел Федорович. «Завезли перед самой войной и те чистерны…» — «Цистерны?» — «Я и говорю — чистерны. Закопаны, комар носу не подточит. Быстров догадывается, только ему ни в жисть не найти». Знали двое, теперь знают трое. Федосей сводил мальчика к мельнице, показал, где спрятана нефть. Петя охотно пропускал занятия в школе, выполняя хозяйственные поручения, ему интереснее сводить лошадей на водопой, чем читать о каких-то гуттаперчевых мальчиках. Федосей тоже работал с охотой, за это и ценил его Павел Федорович — его и его Надежду. Нюрка тем более не ленилась, но у той своя политика: может, Павел Федорович отстанет от своей крали? Сперва все мужики казались Славушке на одно лицо. Как китайцы европейцу, когда тот впервые попадает в Китай. Заскорузлые, в одинаковых рыжих да коричневых зипунах, с бедным набором слов, с мелочными интересами. Однако своих одноклассников он различал очень хорошо, а ведь они дети своих отцов. Постепенно привык различать и отцов, одно лицо преобразилось в сотни лиц. Чаще всего он бегал за книгами в Народный дом, Успенский народный дом, который по моде тех лет кратко именовался Нардомом. Так решением волисполкома был переименован дом некоего Светлова. Он называл себя ученым агрономом, окончил когда-то Петровскую сельскохозяйственную академию, но землю не возделывал и в аренду не сдавал, заросла его земля сиренью и чертополохом. Именьице было небольшое, но дом он возвел себе основательный. В первые дни Февральской революции Светлов смертельно перепугался и дал деру, бросив дом с обстановкой на произвол судьбы. Дом стоял на отлете, в версте от села, заведовать домом назначили Виктора Владимировича Андриевского — питерского адвоката, удравшего, наоборот, в Успенское. Верстах в двух от села хутор Кукуевка, усадьба Пенечкиных, разбогатевших прасолов. Одна из младших Пенечкиных, Кира Филипповна, уехала в Петербург обучаться музыке, познакомилась с Андриевским, вышла замуж… На трудное время перебрались в деревню, под крылышки братьев, родители Киры Филипповны к тому времени отдали уже богу душу. Кира преподает в школе пение. Впрочем, братья Киры шли в ногу со временем, объединились со своими батраками и назвались трудовою сельскохозяйственною коммуною. Славушка узнал дорогу в Нардом сразу по приезде в Успенское, туда свезли все уцелевшие помещичьи библиотеки. По воскресеньям в Нардоме любительские спектакли, участвует в них местная интеллигенция, режиссер — Андриевский, аккомпаниатор — Кира Филипповна. Мужики после спектакля уходили. Начинались танцы. Скамейки и стулья в коридор, под потолок лампу-"молнию". Дезертиры и великовозрастные ученики приглашали юных поповен. Тускло светила «молния», шарканье ног сливалось с музыкой. Андриевские играли в четыре руки, она на пианино, он на фисгармонии. Танцевали краковяк, падеспань, лезгинку. Ти-на, ти-на, ти-на, Ти-на, ти-на, ти-на… Бренчало пианино. Тяжело вздыхала фисгармония. Карапет мой бедный, Почему ты бледный? Потому я бледный, Потому что бедный… Молодежь расходилась запоздно, когда выгорал керосин. Лампа коптила, мигала, и Виктор Владимирович объявлял: — Гаспада, папрашу… Экипажи поданы! Снег блестел в голубом лунном свете. Узкие дорожки убегали за черные кусты. Выходили скопом и разбредались. Перекликались, как летом в лесу. Славушка пристраивался к одноклассницам, но они уходили от него, он был еще мал и не интересовал девушек. В одиночестве шагал он по широкой аллее. Где-то в мире происходили невероятные события, но в Успенском каждый следующий день напоминал предыдущий. Лишь изредка какие-нибудь неожиданности нарушали размеренный ход жизни. Ученики приходят утром в школу, а Иван Фомич зачитывает приказ, полученный из волисполкома: — "По случаю предательского убийства товарища Карла Либкнехта занятия в школах отменяются и объявляется траурный день, по поводу чего предлагается провести митинг в честь всемирной пролетарской революции…" Иван Фомич ослушаться Быстрова не осмеливался. — Объявляю митинг открытым, — говорил директор школы. — Предлагаю исполнить «Варшавянку»! 8 — Славка, пойдем? — Куда? — На сходку. Колька как-то приглашал уже Славку на сходку, но тот застеснялся, не пошел, побоялся — прогонят. — А чего мы там не видали? — Драться будут. Драться — это уже интересно. — Ты уверен? — Землю делят, обязательно передерутся. Посмотреть, как дерутся, всегда интересно. — А пустят? — Да кто там смотрит… — Павел Федорович-то? Он все замечает! — Да ён сюды не ходит, ваших земля на хуторе, а хутор за Дуровским обчеством числится… Луна краешком выползла из-за туч, вся в черных потеках — невзрачная деревенская луна. В холодную погоду мужики собираются в начальной школе, в первой ступени, как теперь ее зовут, возле церкви. Во вторую ступень Иван Фомич мужиков не допускает: «Будете мне тут пакостить», — а Зернов заискивает перед мужиками, он не только учитель, он завнаробразом, член волисполкома, не выберут — сразу потеряет престиж. У крыльца мужиков как в воскресенье у паперти, попыхивают козьими ножками, мигают цигарками, сплевывают, скупо цедят слова: «Тоись оно, конешно, Кривой Лог, очинно даже слободно, ежели по справедливости…» Поди разбери! Ребята прошмыгнули по ступенькам мимо мужиков. В классе туман, чадно, мужики за партами, бабы по стенам, им бы и не быть здесь, да нельзя — земля! На учительском столе тускло светит семилинейная керосиновая лампа, керосин экономят, хватит и такой. Ребята проскальзывают в угол, здесь они незаметны, а им все видно. За столом важно восседает черноусый дядька. Колька шепчет Славушке на ухо: — Устинов Филипп Макарович — в-во! — драться не будет, а отхватит больше всех… Устинов — состоятельный мужичок, что называется, зажиточный середняк, деликатненько лезет к власти, усы оставил, а бороду сбрил, готов хоть сейчас вступить в партию, волисполком заставил мужиков избрать его председателем сельсовета. — Граждане, начнем… Устинов выкручивает фитиль, но светлее не становится. Мужики волной вкатываются из сеней в комнату. — Дозвольте? Из-за спин показывается отец Валерий, подходит к столу, он в долгополом черном пальто, шапка зажата под мышкой, сивые пряди свисают по сторонам загорелого мужицкого лица. Филипп Макарович не знает, как отнестись к появлению попа, с одной стороны — он как бы вне закона, а с другой — не хочется с ним ссориться, поэтому он предоставляет решение обществу. — Собственно, не положено, но в опчем… Как, граждане? — Дык ен же нащет земли пришел! — Што им, исть, што ли, не положено? — Оставить… Отец Валерий присаживается на краешек парты. Кто-то кричит: — А отец Михаил пришел? Ему отвечают: — Не интересуется! Этот отродясь не работал! Бабы обеспечат! Сзади смеются. Какая-то баба вскрикивает: — Чтоб вам… Должно быть, кто-нибудь ущипнул или ткнул в бок. — Начнем? Голос из тьмы: — Ты мне скажи, кому земля за Кривым Логом? Филипп Макарович игнорирует вопрос. — Разберемся. Мы тут прикидывали… — Устинов смотрит по сторонам. — Слово для оглашения списка… — Он взглядом ищет Егорушкина. — Предоставляю земельной комиссии… — Егорушкина нет. — Куды он запропастился?… Из сеней появляется Егорушкин, то ли по своей воле, то ли вытолкнули, но движется он к столу точно на заклание. Это молодой парень с отличным почерком, состоящий при Устинове в секретарях. В руке у него тетрадь, в которой счастье одних и горе других. — Читай, читай… Филипп Макарович опять подкручивает фитиль. Шум стихает, все взоры устремлены на Егорушкина. Читает он отлично, сам заполнял тетрадь под диктовку Устинова, но на этот раз запинается перед каждой фамилией, расслышать его почти невозможно. — Дорофеев Евстигней, семь душ, три надела, ноль пять целых у Храмцова за мельницей, десятина у кладбища, за колышками, десятина по дороге на Кукуевку, направо… Житков Николай, шесть душ, четыре надела, две десятины у кладбища, ноль семь целых за Кривым Логом, ноль восемь целых у себя за усадьбой… Голиковой Дарье, шесть душ, один надел, одна десятина, клин за экономией… Слушают напряженно, но обсуждение начинается задолго до того, как Егорушкин кончает читать. Нарастает разноголосица: «Ты, да ты, да ты, чаво-ничаво, тудыт-растудыт…» — и сливается в общий шум. — Товариш-шы! Товариш-шы!… — Устинов шлепает ладонью по столу. — Я объясню! Я вам объясню! Филипп Макарович пытается перекричать шум, голоса несколько стихают, но разговоры не прекращаются. — Поделено все поровну! — кричит он. — Всем муш-шынам по наделу, жен-шын прежде не принимали во внимание, а мы для справедливости жен-шынам тоже по наделу… — Правильна! — кричит кто-то. — А почему себе весь надел за Кривым Логом? — Да што ж ета за справедливость? — визжит женский голос. — У Тихона шесть душ, и у мене шесть, Тихону четыре надела, а мне — один? — Так я ж объясняю… — Устинов укоризненно качает головой. — На кажду мужску душу по наделу, а жен-шынам тоже по наделу, но детей у них не берем во вниманье, как им все одно не обработать… Бабы кричат и плачут, мужики кричат на баб, понять ничего невозможно. К столу выбегает бабенка в белом платочке. — Значит, у мужика три сына, ему четыре надела, а у бабы три сына — один? Она заливается слезами, но Филипп Макарович невозмутим, он знает, что мужики на его стороне. — Да ты пойми, пойми, Акимовна, ране вопче не давали, ране жен-шыны вопче в ращет не принимались, а теперича мы сочувствуем, даем… — Да исть что мы будем, исть?… Так они кричали в два голоса под общий шум. Долго кричали. Филипп Макарович все твердил ей, что раньше, до революции, землю в обществе делили подушно между мужиками, на женскую душу вообще не давали земли, а теперь милостью революции женщинам «дадены» одинаковые права, но что «совсем» уравнять в правах женщин и мужиков невозможно, потому что одинокие женщины не сумеют обработать землю, если дать им полную норму, земля будет пустовать, или, того хуже, землю возьмет кто-нибудь исполу и будет обогащаться, а революция не позволяет того… А бабенка кричала, что ежели теперь все равны, то и баба обработает землю не хуже мужика, а ежели и возьмет кого «на помочи», так не дура ж она давать без выгоды для себя, а дети ее хотят «исть» не меньше, чем дети Филиппа Макаровича. Кричали они сами по себе, к ним давно уже не прислушивались, сосед спорил с соседом, Акимовна давно уже зашлась в споре, не в пример Филиппу Макаровичу, который тянул время, чтобы не допустить обсуждения списка во всех подробностях… Их крик тонет в общей разноголосице так же, как тусклый желтый свет рассеивается в сизом сумраке переполненной комнаты. Однако если Устинов себе на уме, в такой же мере себе на уме и другие хозяева, земля за Кривым Логом многим не дает покоя — вот где чернозем так уж чернозем, пшеница там родится не сам-пять, сам-шесть, а сам-двенадцать-тринадцать… Вот уже подступают к Устинову мужички, и худой, в свитке, с белым каким-то геометрическим носом, шепелявый дед плюется словами, точно семечками: — Себе все, а другим што придец-ца?! Мужики размахивают руками, и Филипп Макарович размахивает, ожесточенно размахивают, вот-вот пораздерутся. Мальчики в углу присели на корточки, Колька хорошо разбирается в происходящем, собственный его отец не из бойких, чаще отмалчивается, чем вступает в споры, но и отец что-то кричит, размахивает руками и вот-вот ввяжется в драку. Ничего не поделать: хлеб! Зато Славушке многое непонятно — кто виноват, кто прав… Любопытно и страшно! Дым. Вонь. Курят самосад. Не продохнуть. Коптит лампа. Те, кто у стола, как бы в нимбах. Смрад и свет клубятся вперемешку, на свету святые, а в тени не то грешники, не то черти. Черти и есть! «Не желаем! Не желаем!» Не желают наделять землей баб! Каждый год заново делят землю. «У пустоши Одинокову, а по-за кладбищем Ореховым. Обоим. И Тишке, и Мишке». Но один из Ореховых кричит: «Мне по-за кладбищем не с руки. Это Тишке с руки, его овин прямо на погост смотрит…» — «А как солдаткам?» — «Солдаткам не давать, потому как они тоже бабы». — «На сынов давать, а на девок не давать!» Жадность владеет мужиками. На землю жадность. Каждый рад ни с кем не делиться, забрать всю землю себе, ни сажени девкам, ни бабам, ни другим мужикам: канительное это дело — поделить землю так, чтобы заграбастать побольше. В том, что происходит, есть что-то сказочное. Таинственный сумрак, мятущиеся души, загадочные видения. Усатый Филипп Макарович будто злой волшебник, его бы только нарядить в просторный балахон, где легко притаиться маленьким злым духам — зависти, стяжательства, злобы, лицемерия, ненависти; маленькие и ловкие, они то выпрыгивают из-за плеч председателя, то исчезают, точно их здесь и нет. В маленьких черных глазках Устинова сверкают дьявольские искры, тусклый желтый огонь керосиновой лампы отражается в них багровым пламенем, вот он сейчас обернется, посмотрит на мальчиков, и они мигом превратятся в горсточку белого пепла! Филипп Макарович кричит, кричат все, но перекрикивают других лишь Филипп Макарович и еще несколько мужиков, и Славушке постепенно открывается тайна происходящего, как меньшинство хитрых мужиков обводит вокруг пальца большинство жадных. Они не то что не хотят дать землю женщинам или детям, они вообще не хотят делиться землей, каждый хочет захватить всю землю себе. И вдруг голосок, негромкий, сипловатый, но очень слышный, профессиональный голосок проповедника прорезает разноголосицу: — Извеняйте… веняйте… граждане… Совсем как школьник, отец Валерий поднял руку, упершись локтем в парту, и обращается к Устинову, как ученик к учителю: — А духовенству, Филипп Макарович, не дадено земли за Кривым Логом? Дался всем Кривой Лог! — Вам, батюшка, за погостом… — Не давать им! — Что им, исть не положено? Филипп Макарович шевелит усами, как таракан. — Вам бы, батюшка, набраться терпения… — Рази стерпишь, когда землю под носом уводят? — Христос терпел и нам велел. — Вам, а не нам! — Христу легше, ен бездетный! Спор опять разгорается. Заплакала какая-то баба: — Креста на вас нет! И вдруг… Тишина не тишина, но шум как бы ушел под пол, перестают размахивать руками, обвисают устиновские усы, и фитиль, вывернутый до отказа, чадит, как факел, зажженный в честь… В честь кого? А вот в честь кого! В сенях возня, мужики в дверях расступаются, и в класс быстро входит… Некто. Среднего роста. Средних лет. Средней наружности. Есть в нем что-то актерское. Во всяком случае, появляется он так, точно выходит на сцену… и что-то офицерское. Вероятно, ему хочется походить на офицера. Франтовская офицерская фуражка, бекеша цвета хаки, отделанная по краям серым каракулем, начищенные хромовые сапоги… Белобрысый, узколицый. Глаза с каким-то стальным оттенком. Бледные губы. — Быстров, — шепотом говорит Колька. Вошедший ни в кого не всматривается, не осматривается по сторонам, подходит к столу, глядит на Устинова, вернее, сквозь Устинова, но усы у того обвисают еще больше, все теперь пойдет не так, как задумано. — То-ва-ри-щи! Есть в нем что-то, что заставляет смотреть только на него. — То-ва-ри-щи!… — Громко и пронзительно, даже стекло в окне звякнуло. Славушке кажется, что не толпа мужиков, а один огромный слон переступает с ноги на ногу. Даже не слон, а мамонт. Волосатый, дикий, встревоженный… — Что ж ет-та получатци? Голос старческий, слабый, неуверенный, а слышен — такая тишина. — Степан Кузьмич, дык что же етта, буд-мя любезен, разъясни мне, дураку, хресьянам воля, а что ж етта за воля, коли растю-растю, а сваму хлебу не хозяин? Быстров оперся о стол ладонями. — Давай, давай, дед… — Запрос об том, что давать-та я не хочу… — Еще у кого какие запросы? Снова возник гул, однако Быстров пристукнул кулаком, лампа чуть подпрыгнула, мигнул огонек, и опять тишина. — А где «молния»? Действительно, где «молния»? Голос резок, глуховат, напоминает звуки приглушенного фагота, мягкость и грубость звучат в его модуляциях. — Евгений Денисович не дают. Филипп Макарович неуверенно закручивает развившиеся колечки цыганских черных усов. — Позовите Евгения Денисовича. Квартира Евгения Денисовича тут же, в школе, только в нее отдельный ход с улицы. — Обойдемся, Степан Кузьмич… — Не обойдемся. За окном свет еще раз мелькнул, все в классе преображается, и люди как люди, тени пропадают в никуда, все естественней, проще, все как всегда, — вот они две лампы-"молнии", одну вносит Егорушкин, вторую сам Евгений Денисович. Ну конечно, это Евгений Денисович, красавчик с длинными русыми волосами, в пиджачке, в синей косоворотке… — Экономим керосин, — с порога оправдывается Евгений Денисович, — бережем для занятий. — А вы понимаете, что здесь? — Но это же школьный керосин. — Делят землю! — Но это школьный… — А что ваши ученики будут есть, вас это интересует? Одну лампу ставят на стол, другую подвешивают под потолок, все видно, всех видно, на свету все как-то заметнее. Быстров снимает фуражку, кладет на стол, вытягивает руку, не глядя ни на руку, ни на Устинова, — непререкаемый театральный жест. — Список! Славушка рассматривает Быстрова. Странное лицо, точно высеченное из песчанника, гладкие белесые волосы, будто смазанные маслом, такие же белесые брови, сумасшедшие — и не серые, а синие глаза, прямой нос с ноздрями, раздувающимися как у злого жеребца, бледные широкие губы, и подбородок такой благородной формы, что, носи он бороду, ее следовало бы сбрить, чтобы лицо не утратило своих законченных очертаний. — Ну что ж, потолкуем… Только всего и произносит он, но Славушка понимает, что теперь не будет ни драки, ни крика, ни обмана, так велик авторитет этого человека, его боятся, это очевидно, но есть в нем что-то еще, что заставляет одних притихнуть, других подчиниться, а третьих поверить и пойти за ним, куда бы он их ни повел. Быстров отводит плечи назад, сбрасывает бекешу, подходит к доске и видит в углу мальчиков. — А вы что здесь делаете? Они молчат, сейчас их выгонят, и, собственно говоря, они уже и сами не прочь… Взгляд синих глаз пронзителен и беспощаден. — Сидите, сидите, — снисходительно говорит Быстров. — Учитесь. Может, кто из вас станет еще председателем совнаркома! Набрасывает на доску бекешу, возвращается к столу. Смотрит на бумагу, где расписано, какие и за кем закреплены земельные наделы, а все остальные смотрят на Быстрова, ждут, что он скажет, спорить с ним опасно и почти бесполезно, знают — как он решит, так тому и быть. — Земля… — задумчиво произносит Быстров. — Все под ноги себе смотрите… А нет, посмотреть вокруг себя… — Он смотрит куда-то поверх мужиков. — И даже подальше… — И смотрит дальше. — В Европу, например… Филипп Макарович тоже завороженно смотрит на бумагу, где все расписано так ловко, что не сразу уразумеешь, какую отличную землю отписал себе автор этого плана. Европа — плохой признак, так у Быстрова всегда, заговорит о равенстве и братстве, а потом примется уравнивать всех поблизости! — Чтобы вы, товарищи, не ставили свои личные интересы выше интересов мировой революции, заслушаем доклад о текущем моменте… Он помолчал, точно кто-то еще, кроме него, мог сейчас сделать доклад, вытянул руку, указал пальцем на женщин, заслонивших висящую на стене физическую карту обоих полушарий, и взялся за речь, как берутся за плуг или кувалду. — Товарищи, могу сообщить вам радостную новость, — начал Быстров. — В ознаменование торжественной годовщины Октябрьской революции в Москве открыт памятник нашим учителям товарищам Марксу и Энгельсу! Сообщение не волнует никого. — Похлопаем? Быстрова никто не поддерживает, хлопнув ладонью о ладонь, он стискивает кулаки и сует их в карманы. — Непонятно? — спрашивает он. — Можем уже позволить себе памятник! Кто пережил весь гнет и зверства старого, капиталистического режима, тот научился многому и многому. Мы знаем, что добыто мало… — Он точно думает вслух, медленно произносит слово за словом, точно повторяет кого-то, кого слышит лишь он один. — Да, сделано мало с точки зрения достижения конца, но сделано много, необыкновенно много с точки зрения упрочения фундамента. Говоря о социализме, нельзя говорить о сознательном строительстве фундамента в самых широких рабочих массах в том смысле, что они взяли книжки, прочли брошюру, а сознательность здесь в том, что они взялись собственной энергией, собственными руками за необыкновенно трудное дело, наделали тысячи ошибок и от каждой ошибки сами страдали, и каждая ошибка выковывала и закаляла… Фагот звучит в необычайно высоком регистре, можно подумать, что Быстров страдает, говоря о страданиях, а сам всего лишь инструмент, на котором ветер революции играет свою мелодию. — Тот, кто наблюдал деревенскую жизнь, кто соприкоснулся с крестьянскими массами в деревне, говорит: Октябрьская революция городов для деревни стала настоящей Октябрьской революцией только летом и осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года… Он говорит о том, что нельзя обгонять развитие масс, что движение масс вперед вырастает из собственного опыта масс, из их собственной борьбы… Все, что он говорит, и отвлеченно и конкретно, — мудрость, накопленная в течение лишь одного года, но такого года, который своими событиями превосходит иное столетие. — Мы тогда приобщились к Октябрьской революции, когда создали комбеды, экспроприировали у кулаков хлеб и отправили его рабочим Москвы и Тулы… Вот когда отвлеченные понятия обретают плоть действительности, хлеб отбирали не только у кулаков, Быстров был щедр на угрозы, собирая по волости хлеб для победившего пролетариата. Тревожно и подавленно слушают мужики, они не знают, чего им ждать, не знают всего того, что известно Быстрову, во всяком случае, им хочется думать, что Быстрову известно, что их ждет впереди. Славушке еще не приходилось слышать таких речей, он часто слышал, как рассуждали и даже спорили знакомые и родственники его матери, учителя, врачи, адвокаты, но таких вот пугающих речей, обращенных ко всем и ни к кому в отдельности, он еще не слыхал… Быстров все говорит, говорит, чего-то добивается от этих вот сидящих и стоящих перед ним мужиков, а говорит о том, что происходит далеко за пределами Успенского. — Хотя теперь на нас и собираются силы всемирного империализма, которые сильнее нас в данный момент, хотя нас теперь окружают солдаты империалистов, которые поняли опасность Советской власти и горят желанием ее задушить, несмотря на то, что мы правду говорим сейчас, не скрываем, что они сильнее нас, — грозит он мужикам, и голос его звучит фортиссимо, — мы не предаемся отчаянию! Славушка не понимает, в чем могущество этого человека в серо-зеленой гимнастерке и синих галифе, но он могуществен, его голос гудит как труба, его глаза мечут молнии. — Германия загорелась, а Австрия вся горит… — Он не только не боится, он угрожает империалистам, чью силу он только что признал. — Мы видим, как Англия и Америка так же дико, безумно зарвались, как Германия в свое время, и поэтому они так же быстро, а может быть, и еще быстрее приближаются к тому концу, который так успешно проделал германский империализм. Сначала он невероятно раздулся на три четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, оставляя страшнейшее зловоние. И к этому концу мчится теперь английский и американский империализм… Он грозит все неистовее и неистовее, голос его обретает странную силу, это уже не одинокий фагот — фаготы, гобои и кларнеты наполняют воздух своими призывными звуками. — Когда немцы хотели послать сюда, в Москву, своих солдат, мы сказали, что лучше ляжем все в боях, но никогда на это не согласимся. Мы говорили себе, что тяжелы будут жертвы, которые должны будут принести оккупированные области, но все знают, как Советская Россия помогала и снабжала их необходимым. А теперь демократические войска Англии и Франции должны будут служить «для поддержания порядка», — и это говорится, когда в Болгарии и Сербии Советы рабочих депутатов, когда в Вене и Будапеште Советы рабочих депутатов… Славушка ничего не понимает, не понимает, что и к чему, он еще только ребенок, случайно очутившийся там, где делается история, но что-то уже трепещет в нем, струны его души задеты, они откликаются, звучат… — Им это даром не пройдет! Они идут подавлять народ, переходящий к свободе от капитализма, душить революцию… Странный человек этот Быстров! — Никогда мы не были столь близки к международной пролетарской революции, как теперь… Он говорит так, точно перед ним не сельская сходка, а все человечество. — Но если мы никогда не были так близки к международной революции, то никогда наше положение не было так опасно, как теперь. Империалисты были заняты друг другом. И теперь одна из группировок сметена группой англо-франко-американцев. Они главной задачей считают душить мировой большевизм, душить его главную ячейку, Российскую Советскую Республику. Для этого они собираются построить китайскую стену, чтобы оградиться, как карантином от чумы, от большевизма. Эти люди стараются карантином избавиться от большевизма, но этого быть не может. Если господам англо-французского империализма, этим обладателям совершеннейшей в мире техники, если им удастся построить такую китайскую стену вокруг республики, то бацилла большевизма пройдет через стены и заразит рабочих всех стран… Великая музыка звучит где-то внутри Славушки, раскаты приближающейся грозы нависли над ним, точно он снова очутился в поле, в бесконечном осеннем поле, где свирепствует октябрьский ветер, ветер самой неистовой революции. Беспредельное поле, простор, поля России. Ветер волнами ходит в хлебе. Степное знойное море. Сонмы кузнечиков, клекот ястребов, переливы перепелов… Ветер несется меж хлебов… Мы идем в наш последний И решительный бой… Славушка улавливает только отдельные фразы: — Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем… Все элементы разложения старого общества, неизбежно весьма многочисленные, связанные преимущественно с мелкой буржуазией, не могут не показать себя… А показать себя элементы разложения не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нужно время и нужна железная рука… Предупреждает Быстров или грозит? — Не было ни одной великой революции в истории, когда бы народ инстинктивно не чувствовал этого и не проявлял спасительной твердости, расстреливая воров на месте преступления. У Славушки такое ощущение, точно он уже слышал эти слова… Где? Когда? От кого? Но Славушке не удается ни подумать, ни вспомнить, голос Быстрова глохнет, точно делится он со слушателями ему одному известной тайной. — Мы имеем одного чрезвычайно опасного тайного врага, который опаснее многих открытых контрреволюционеров; этот враг — смертельный враг социалистической революции и Советской власти… Кто же этот враг? — Враг, о котором я говорил, это стихия мелкого собственника, живущего одной мыслью: «Урвал что можно, а там хоть трава не расти», — этот враг сильнее всех корниловых, дутовых и калединых, взятых вместе… Голос опять звучит фортиссимо: — Единственным средством для борьбы с грозными опасностями является стальное напряжение всех сил и мощная поддержка! Социалистическая революция нарастает… По всей планете слышна мерная поступь железных батальонов пролетариата! Славушке представляется, что он идет в железных рядах… Удивительно внимание, с каким слушают Быстрова… Белесые брови дернулись, он одергивает гимнастерку, точно бежал, бежал и остановился. Казалось бы, цель достигнута, текущий момент зажат в тиски, железные батальоны замерли, так нет же, ввязалась проклятая баба: — Степан Кузьмич, а как все-таки по части земли солдаткам? Устинов и его дружки совсем было успокоились, коли дело дошло до мировой революции, может, шквал пролетит мимо, не заденет Успенского, не велико село, можно оставить в покое… Так нет, вылезла проклятая баба, да и добро бы путная женщина, а то ведь распустеха, матерщинница, гуляла с кем или не гуляла на стороне, про то никто не знает, но с тех пор как Пашка Сафонов пропал в четырнадцатом году без вести, в Мотьку точно дьявол вселился, осталась она с тремя детьми гола, как яблочко на яблоне, и ветер трясет, и дождь поливает, а оно знай блестит и людей смущает, ни шабрам, ни шабрихам нет от нее покоя, до волостного старшины доходила: помочи, подпоры, пособия — всего ей нужно, ведьма, а не баба, тьфу, пропади она пропадом! Мотька продолжает: — Все етто очень распрекрасно, что вы разъяснили, Степан Кузьмич, рви себе сколько можно, а там хоть трава не расти, только почему одни рвут, а другие… сосут? Так и сказала, ни стыда у бабы, ни совести! Однако Быстров сделал вид, что не заметил такого безобразия. — Я прошу вас, товарищ… товарищ… — Сафонова я, Матрена… — Товарищ Сафонова… Объясните свою претензию. Мотьке позволяют иметь претензию! Но ей все нипочем, ей только дай волю. — Солдатка я, Степан Кузьмич. Трех дитев имею: двух сынов и девку. А мне один надел на покойника. И на самом незародливом месте. Под Кукуевкой. Живу я у Кривого Лога, а дают под Кукуевкой… Быстров вскидывает брови. — Почему так? Это не к ней, к Устинову. Филипп Макарович пожимает плечами. — Несамостоятельная женщина… — Что значит несамостоятельная? Вы, что ли, будете ее кормить? В ответ Мотька считает самым подходящим залиться слезами. Но Быстров не терпит женских слез, строго ее обрывает: — Идите! Идите на свое место, сейчас все решим. Мотька не знает — послушаться или не послушаться, но синие глаза Быстрова обладают магической силой, и она смущенно возвращается к прочим бабам. — Вот так-то, — облегченно замечает кто-то из мужиков. «Молнии» ярко сияют. Все смотрят на Быстрова. Он торжествен и строг. — Переходим к голосованию, — говорит он. — Филипп Макарович! — Граждане, как мы есть… — В присутствии Быстрова Устинов теряется. — Кто за то, чтобы, так сказать… Он не знает, что сказать и за что голосовать, он охотно проголосовал бы за список в его первоначальном виде, но Быстров огибает стол, подходит к передней парте, он знает, с чего начать, искушен уже в политике, — сперва издалека, а затем подойти поближе. — Голосую: кто за мировую революцию? За мировую революцию голосуют все. — Кто воздержался? Воздержавшихся нет. — Кто за то, чтоб Матрене Сафоновой дать на всех детей? Однако в этом вопросе единодушия уже нет, далеко не все хотят благодетельствовать Мотьке; за то, чтоб дать Мотьке земли на всех детей, голосуют бабы, да и то не все, да Спирька Ковшов, самый завалящий мужичонка, который свой надел всегда сдает исполу. — Э-э нет, погоди, все одно ей не обработать… То тут, то там, раздаются протестующие голоса. Но Быстров быстро овладевает положением. — Не согласны? Что ж, дело, конечно, не в какой-то одной гражданке. Переведем вопрос на принципиальную почву. Вам известно, что декретом Советского правительства женщины приравнены к мужчинам? По всем статьям. В семейном вопросе, в политическом, в хозяйственном. То есть и по части земли. Известно? — В голосе Быстрова дребезжат угрожающие ноты. — Я спрашиваю: известно насчет женщин? Мужикам отвечать не хочется, бабы не решаются. Молчание становится напряженным. — Известно, — сиплым дискантом произносит какой-то мужичок в задних рядах, чтобы не раздражать начальство. Быстров картинно отступает на шаг назад. — Так вам что — не нравятся декреты? Заверить Быстрова в том, что нравятся, никто не спешит. — А вот мы сейчас выявим, кого куда клонит, — угрожающе заявляет Быстров. — Голосую: кто против декретов Советской власти, прошу поднять руку! Собрание успенских земледельцев проявляет редкое единодушие. — Значит, никого? — Быстров оборачивается к Филиппу Макаровичу. — Товарищ Устинов, запротоколируйте: никого! — Быстров слегка вздыхает, вырвав у мужиков эту победу. — Своим голосованием вы сами приговорили, что все женщины получат землю на равных основаниях с мужчинами. — Он поглядывает на мужиков, как петух на свое куриное стадо. — Товарищ Сафонова! — зовет он. — Прошу… Прошу сюда! Матрена конфузится, поправляет платок. Бабы подталкивают ее: — Иди, иди! Чего уж там… Кличут же! Матрена выбирается к столу. Дергает платок за концы, затягивает потуже узел. Щеки ее разрумянились, спроси кто сейчас, рада ли, что добилась своего, она тут же откажется от земли. Но Быстров ни о чем не спрашивает. — Поздравляю, — строго говорит он, протягивает руку. Матрена подает ему кончики пальцев, и они обмениваются рукопожатием. — Падла, — негромко говорит кто-то сзади. — Чего? — переспрашивает Быстров и разъясняет: — Чтоб по этому вопросу никаких больше недоразумений. Сколько Устинову, столько и Сафоновой и всем… Понятно, товарищи женщины? Чего уж понятнее! — Извиняйте, гражданин председатель, возможно задать вопрос? Отец Валерий опять по-ученически поднимает руку. — А вы здесь зачем? — Я, гражданин председатель, здесь не столько как священнослужитель, а на предмет земли… — Какой еще там земли?! — вопит все тот же старик, у которого нос треугольником. — У церквы свой участок. — Это какой участок? — интересуется Быстров. Филипп Макарович наклоняется к уху Быстрова. Объясняет. Участок между церковью и почтой издавна закреплен за причтом. — Это по какому такому закону? — спрашивает Быстров. — Не дарена, не куплена, а своя? Отцу Валерию удивителен вопрос. — Уж так повелось… Быстров задумывается. — А вам за требы чем платят — зерном? — Чем придется. Случается, и зерном. — А вот намедни хлеб на селе для городского пролетариата собирали, вы сколько, батюшка, дали? Вон он куда гнет! — С меня не требовали, потому как мой хлеб не взращенный, а трудовой. — Это как понимать? — Даденный за службу, а не с земля. — Так, может, вам и не надо земли, прихожане и так отсыплют? — Мне бы и не надо, прокормлюсь, за дочек беспокоюсь, за их будущее. Мужики внимательно следят за переговорами: кто кого уговорит: Быстров упрям, отец Валерий настойчив. — А вы верите в будущее? — Извините, в какое? — В наше, советское? На будущее надо поработать! Отец Валерий косит глаза в сторону. — Извините, не понял… Отец Валерий вправду не понимает, куда клонит Быстров, он хоть и в подряснике, но мало чем отличается от успенских мужиков — такой же озадаченный вид, та же тревога за землю. Зато Быстров все самоувереннее и самоувереннее, сейчас он особенно строг. — Например, в мировую революцию? Отец Валерий смущенно молчит. — Верите во всемирный коммунизм?… Установим на Земле, потом на Луне, на Марсе… Отец Валерий набирается мужества: — Сие невозможно. — В таком случае отобрать землю, — приказывает Быстров Устинову. — Землю давать только тем, кто согласен на мировую революцию. — Товарищ Быстров… Отец Валерий сейчас заплачет. — Вам с нами не по пути. А с дочками вашими особый разговор, я им укажу выход… Не может отец Валерий сказать, что верит в коммунизм, да еще на Луне, покриви он душой, мужики все равно ему не поверят, все их уважение потеряешь. Славушка жалеет батюшку, но ничего не поделаешь: рожденный ползать летать не может, сам Славушка не сомневается в возможности полета на Луну, помнит Уэллса. «Первые люди на Луне» он прочел года три назад, уверенность Быстрова лишь приближает неизбежное. — Решим по справедливости, — говорит Быстров. — Землю делим по числу душ, а кому какую, определим по жребию. — Указывает на список и обращается к Устинову: — Все участки переписаны? Филипп Макарович разводит руками — может ли быть иначе? Земля, принадлежащая успенскому обществу, поделена на равные участки, они разнятся лишь качеством земли и отдаленностью от села. Быстров рассматривает списки. — Эк нашинковали! Чтоб коммуной, а то вон какая чересполосица… Еще никто не догадывается, что придумал Быстров; он что-то соображает и обращается к Евгению Денисовичу: — Тетрадка найдется? Тот лезет в шкаф, подает тетрадку. Быстров поворачивается к мальчикам, оказывается, он вовсе о них не забыл, подзывает к себе. — Режьте бумагу и пишите номера. Потом заставляет Егорушкина перенумеровать по списку все участки. — А теперь так: я называю домохозяина, ребята достают номер и участок, номер которого выпал, закрепляется за этим хозяином. Филипп Макарович бледнеет, справедливее не может быть дележа, только нет надежды, что земля за Кривым Логом достанется ему… Все идет как по маслу: Быстров называет фамилии, Колька и Славушка поочередно вытаскивают бумажки, и Егорушкин отмечает кому какой достался участок. Кто ругается, кто смеется, кто плачет; кто-то в выигрыше, кто-то в проигрыше; но ничего не скажешь — что честно, то честно. Жеребьевка тянется долго, участки должны соответствовать количеству душ в хозяйстве, иногда приходится тащить жребий и по второму и по третьему разу… Мужики нервничают, устали от ожидания и зависти, не будь Быстрова, давно бы передрались. Довольны игрой мальчики, они преисполнены важности, в их руках судьба успенских мужиков. Быстров зорко наблюдает за порядком. Справедливость — оружие слабых, за справедливость ратуют бедные и слабые, Мотька всех может перекричать, но до последней минуты не верит, что ей дадут землю на равных правах с Устиновым, но вот доходит очередь до нее, и ей дают не только на покойника-мужа, но и на двух сыновей, и даже на девку, на которую она уж никак не рассчитывала получить, и земля достается не так чтобы очень уж плохая, не хуже, чем другим, и недалеко от дома, и Быстров становится для нее олицетворением справедливости… И для Устинова происходит чудо: Славушка опускает руку в шапку и вытаскивает сороковой номер, под этим номером значится земля за Кривым Логом, по второму разу номер вытаскивает Колька, и второй участок выпадает Устинову опять же за Кривым Логом; правильно говорится, богатому деньги черти куют, на такую удачу Филипп Макарович никак уж не мог надеяться. Дележ окончен. — Все, — облегченно говорит Быстров. — Чего уж справедливее, — скрепляет приговор Устинов. Поздно, одну «молнию» уже погасили, выгорел керосин, давно пора по домам. — Объявляю собрание закрытым, — говорит Быстров. — Счастливо оставаться, товарищи. Но именно он остается в школе, мужики скопом вываливаются на улицу, — Быстров приучил себя доводить дело до конца. — Завтра утречком перепишите — и в исполком, — наставляет он Устинова и Егорушкина, еще раз просматривая список. — Чтоб никаких изменений. — А к чему? — успокаивает Устинов. — Не может быть лучше… У двери стоит насупленный Евгений Денисович, но и его не обходит вниманием Быстров. — Ничего, ничего, не обижайтесь, добавлю вам керосина, есть еще лишек на складе. Притворно цыкает на мальчиков: — А вы чего тут, галчата? По домам, по домам! А то ваши матери мне завтра холку намнут… Мальчики давно готовы дать деру, да совестно Быстрова, он доверил им дележ земли, а они, не успела кончиться сходка, будто маленькие дети, заморгали глазами и спать. Но если сам гонит… — Спокойной ночи, Степан Кузьмич! — Спасибо, ребята… На улице темень, хоть глаз выколи, только шум какой-то, точно что-то топчется во тьме. Да и впрямь топчется, грузное, тяжелое, пыхтит и сопит, живое месиво… — Колька, чего там? — Пошли! Мужики сгрудились в кучу. «Дай ей… Дай, дай! Падла…» И точно из-под земли, жалобный бабий стон: «Ох… ох…» — Чего это они? Колька быстро разбирается в происходящем. — Чего, чего… Мотьку бьют. Уму учат… Осатаневшие мужики бьют: «Вот табе земля… Вот табе земля…» — За что ее? — А земли сколько отняла?! На баб, на ребят… Славушке страшно. — Они же убьют! — Ништо ей! — Побегу к Быстрову, скажу… — Больше всех надо?… Славушка не раздумывал, — кроме Быстрова, Мотьку спасти некому, времени препираться с Колькой нет, рванулся к школе… За столом Егорушкин под надзором Филиппа Макаровича переписывает список, Быстров и Зернов беседуют у окна. — Степан Кузьмич… — задыхаясь, зовет Славушка. — Сафонову бьют! Ни о чем не расспрашивая, Быстров рванулся к двери. — Где? — только спросил на ходу. Славушка не сумел объяснить, только бежал рядом с Быстровым и повторял: — Там… там… — Разойдись! — заревел Быстров. Тьма по-прежнему топталась, стонала. И тогда молния и гром прорезали ночь. Славушка замер от испуга. Быстров выстрелил: раз, раз… Черное скопище мгновенно растаяло в темноте. Тьма опустела. — Где ты там? — громко спросил Быстров. Никто не ответил. Он чиркнул спичкой. На мгновение пламя осветило лежащую женщину. Быстров наклонился, помог подняться. — Вставай, держись за меня. Сафонова встала, тихо что-то ответила. — Дойдешь? Опять что-то ответила. — Ничего, мать, выдюжим, — добродушно, даже весело сказал Быстров. — Не сумлевайся, победа будет за нами… 9 Горькая, тоскливая ночь, все спит, одни прусаки бегают по столу. Потрескивает ватный фитилек в конопляном масле, загадочные тени шевелятся по стенам. За окошком ветер, в кухне душно. Славушка полуночничает над книгой. Стоит перебороть сон, и читается чуть не до утра. Выцветшие романы в выцветших обложках, приложения к «Ниве», ветшающие на полках громоздкой этажерки в тени старого филодендрона, чьи воздушные корни колеблются в спертом воздухе. Чуть потрескивает фитилек в конопляном масле. Храпит Федосей на лавке. Надежда спит на печи. Подувает за стеной ветер. Славушка спит и не спит. Над книжкой в синей обложке. Что-то вздыхает и точно лопается. А-ахх, булькает, булькает, и а-ахх — лопается. Точно пузырьки в луже после дождя. Надежда после ужина замешала в квашне опару. Поднимается опара в квашне. Булькают пузырьки. Тесто ползет из-под старой кацавейки, наброшенной Надеждою на квашню… Славушка вскакивает: — Надежда! Надежда! Все ушло! И бежать, скорее бежать из кухни. Среди книг, немногих книг, которые Славушка — все-таки, все-таки! — захватил с собой в дорогу, Пушкин, Лермонтов и — случайно — тоненькая книжечка странных стихов. Кто-то из маминых знакомых перед самым их отъездом в деревню привез книжечку из Петербурга. Помогая матери собирать вещи, — прежде всего следовало захватить чайный сервиз, подаренный папой маме в день десятилетия их свадьбы, о том, чтобы его оставить, не могло быть и речи, — они спорили о другом: Вере Васильевне хотелось захватить побольше одежды, а Славушке — книг. — Будь благоразумен, книг везде сколько угодно, а туфли от Вейса… Все-таки он сунул на дно саквояжа несколько книг. Однотомник Пушкина. Подарок папы. Любимый папин писатель. Хотелось взять Цицерона. Тоже память о папе. По этой книге отец обучал его латыни. «Справедливость к богам — религией, к родителям — благочестием называется». Цицерона он отложил. Другой латыни обучит его жизнь! В комнате темно. Зажечь коптилку нельзя — разбудишь маму. А спать не хочется. Разувается и босиком подходит к этажерке. С легким шорохом вытягивает тоненькую книжечку. «Двенадцать». Пристраивается у окна. Рассвет чуть брезжит. Странные стихи. Так не похожи ни на Пушкина, ни на Лермонтова… Славушка любил проводить время с отцом, он всегда рассказывал удивительные истории. Чаще всего отец пересказывал «Повести Белкина». Пересказывал применительно к себе, точно все это происходило с ним самим. Много лет спустя Славушка иногда задумывался о себе: что привело его в стан революции? И всегда возникал один ответ: русская литература. Значительная часть жизни русских людей тянется от книги к книге, и всю эту зиму до самой весны Славушка больше внимания уделял книгам, чем окружающим его людям. Библиотека в Народном доме полным-полна книг, и среди них сочинения утопистов. Только что изданных Госиздатом. Можно подумать, будто в Москве никому нет дела до Колчака. Томас Мор, Кампанелла, Фурье… Их глазами заглядывают деятели народного просвещения в будущее. В общество, где нет частной собственности. Славушка сидит на крыльце. Все вокруг дышит весенним теплом, на коленях у него книга Кампанеллы, все его мысли устремлены в «Город солнца». Облачко закрывает солнце, и все мгновенно меняется: дождя еще нет и, возможно, не будет, а ощущение непогоды мгновенно возникает в душе… Славушка поднял голову. Так и есть, по двору семенила Прасковья Егоровна, переваливаясь с боку на бок, похожая на раскормленную серую индюшку. Достаточно ей увидеть Славушку за книгой, как она придумает для него работу. Бить масло. Качать мед. А то и вовсе пошлет на хутор с поручением. Идет откуда-то из-за коровника и останавливается у сарая. Палкой шурует в крапиве. Какая-то полоумная курица несется в крапиве. Славушка тоже находил там яйца. Наклоняться ей трудно. Сейчас позовет. Славушка сползает с крыльца на травку, видна часть двора, и не видно Прасковьи Егоровны, если старуха появится, он исчезнет совсем. Но тут появляется Алеша Полеван. Неизменная торба перекинута через плечо. Золотится каштановая бородка. Взгляд его останавливается на мальчике. Глаза у него как у ягненка, целомудренные и любопытные. Мальчик узнал о существовании Полевана всего лишь как недели с две. Колька и Славушка как-то подошли к краю оврага и увидели внизу у реки человека в коричневой свитке, тот стоял на коленях и смывал с головы желтую краску. Стояла середина апреля, в Озерне пенилась ледяная вода. — Кто это? — Дурачок, Алешка Полеван. Ходит по деревням… — А чего это он? — удивился Славушка. Колька захохотал, подобрал ком земли и швырнул в дурачка. — Так и надо, не будет красть! Колька догадался, что девки выложили на травку белиться холсты, а Алешка стянул холст, ребята заметили, догнали, достали из торбы яйца, что надавали дурачку бабы, и побили об его голову. Полеван удивительно кого-то напоминает: продолговатое лицо, сумасшедшие глаза, страдальческая улыбка… Славушка догадывается — Полеван похож на Иисуса Христа. В нем что-то жалкое и царственное. Полеван пытается что-то спросить. — Иди, иди! Полеван идет в глубь двора. Движется по траве, как Христос по Генисаретскому озеру. Славушка снова уносится в свой «Город», где нет негодяев и тунеядцев и где не люди служат вещам, а вещи людям. Военное дело, земледелие и скотоводство там самые почетные занятия. Жители живут в общежитиях, питаются в столовых, а свободное время посвящают наукам, искусствам и физическим упражнениям… Пушистые барашки несутся по-над домом, над кленами, над такой милой зеленой землей. Остается только отложить книжку и возводить свой Город. Где-то пронзительно кудахчет курица. Зеленый луч, дробясь и преломляясь сквозь стекла крыльца, золотистой пылью рассыпается по раскрытой странице. Все вокруг исполнено весенней прелести, но эту прелесть нарушает звериный вой… Славушка поднялся со ступеньки. Проклятая старуха лупила Полевана клюкой. Лежа ничком в крапиве, он выл, прикрывая руками голову. Неизвестно, чем провинился дурачок, но лупила старуха беспощадно. Ноги Полевана дергались… Ну уж нет! Славушка срывается с крыльца и несется к сараю: — Перестаньте! Славушка рывком выхватил палку из рук старухи. Линялые глаза вонзились в мальчика. — Ще… Ще… Ще… Полеван не двигался, втянув голову в шею. — Вставай, вставай! Славушка толкнул его ногой. Полеван повернулся на бок и, прищурясь, одним глазом поглядел на мальчика. Славушка отшвырнул палку, поднял Полевана за плечи. — Иди, Алеша… Полеван улыбнулся, и слеза, похожая на стеклянный шарик, скользнула по его щеке. — Иди, иди… Полеван послушно побрел со двора. А где же книжка? Где книжка-то? Славушка испуганно посмотрел вслед Полевану. Книжка валялась на траве. Славушка нагнулся. — Щенок!… — Старуха захлебнулась. Славушка обернулся. Она занесла палку. — Ударьте! Ударьте! Посмейте… Инстинктивно заслонился книжкой. Она ткнула палкой в землю, сунула трясущуюся руку к себе в карман, протянула ключ. — Принеси-ка с анбару выторок для птюх. Славушка не осмелился ослушаться, взял ключ, пошел к амбару. Выторок, выторок… Каких еще выторок? И вдруг вспомнил, как Надежда замешивала для птиц корм. Высевок! Отрубей! Заставит сейчас месить корм. В лазоревом небе паслись пушистые барашки. Этих ни загнать, ни заколоть! 10 Иван Фомич расстегнул на рубашке пуговку, сунул пятерню за пазуху… Интересный тип! Математику преподает в куртке, да еще застегнутый на все пуговицы. Чертит всякие биссектрисы и параллелограммы, мел осыпается, куртка вся в мелу, вспотеет, ни одной пуговицы не расстегнет. Лобачевский — да и только. А вот на уроках литературы всегда в рубашке с расстегнутым воротом. Уроки задает по Саводнику, а потом отложит учебник в сторону, подойдет к окну и скажет как бы про себя: «В тот год осенняя погода». Заглянет в окно, на улице весна, зацветает сирень, да как заорет: «…снег выпал только в январе на третье в ночь!» — Итак, господа товарищи, приготовить к пятнице по стихотворению. Наизусть. Вольный выбор. Тема — русский народ. Судьба, так сказать, народа. Понятно? Посмотрим, как усвоили вы литературу. Будем считать это устным экзаменом для перехода в следующий класс. Урок окончен! Подхватил под мышку классный журнал — и был таков. Свиней побежал кормить! Тут суды и пересуды. Что учить? Двух одинаковых стихотворений Иван Фомич не потерпит. Пятница — затрапезный день. Однако Иван Фомич изменил самому себе, явился в куртке, сам выдвинул стол на середину, торжественно уселся, раскрыл журнал. — Итак… — Пауза. — Начнем… — Пауза. — Бобров! Общий вздох облегчения, вызывает по алфавиту, всякому свой черед. Ну и пошло! «Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат… Вырыта заступом яма глубокая, жизнь бесприютная, жизнь одинокая… Выдь на Волгу, чей стон раздается…» Чтецы постанывают, Фомич удовлетворенно улыбается. — Отлично. Отлично. Хорошо. Четыре. Пять. «Вот парадный подъезд…» — Ознобишин! Тут уж наперед пять. Славушка выбирается из-за парты, уверенный в успехе, неторопливо подходит к столу, в руках узенькая книжечка, он всю ночь повторял стихи, не зубрил, не читал, — повторял, вслушиваясь в ночной весенний шум, знает наизусть, как символ веры. — Наизусть! — Конечно, Иван Фомич. — Прошу. Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек… — Это о чем? — О России. — Гм… Свобода, свобода, Эх, эх, без креста! Катька с Ванькой занята - Чем, чем занята?… — Погодите. Чем занята? Славушка не может остановиться, стихи влекут мальчика помимо его воли. Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь - В кондовую, В избяную, В толстозадую… — Довольно! Запрокинулась лицом, Зубки блещут жемчугом… Ах ты, Катя, моя Катя, Толстоморденькая… В кружевном белье ходила - Походи-ка, походи! С офицерами блудила - Поблуди-ка, поблуди! — Довольно! Эх, эх, поблуди! Сердце екнуло в груди! Славушка не может остановиться. Голос звенит на самых высоких нотах. Иван Фомич скрещивает на груди руки: говори, говори, тебе же хуже. Славушка ужасается и читает: Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил… Ночки черные, хмельные. С этой девкой проводил… Из-за удали бедовой В огневых ее очах, Из-за родинки пунцовой Возле правого плеча… Многие хихикают, хотя толком никто ничего не понимает. Шаг держи революцьонный! Близок враг неугомонный! Вот тебе и старший класс трудовой школы. За окном весенний день, чирики-пузырики, благорастворение воздухов, а здесь, в четырех стенах, загадочная, неподвижность Ивана Фомича и, как дощечки в иконостасе, деревянные лица деревенских мальчиков. Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз - Впереди — Исус Христос. — Садитесь! Иван Фомич молчит. Долго молчит. Выходит из-за стола, руки за спину. — Так, так… — И быстро руку к Славушке. — Что это за стихи? Дайте-ка… — Небрежно перелистывает книжечку. — Д-да… Ну что ж… — Медленно прохаживается, медленно говорит: — Мне встречался этот поэт… Нарисовать образы своих современников не так-то просто. Это лучше удавалось представителям русской демократической интеллигенции. Затем наступил упадок, поэзия стала пренебрегать интересами общества… — Иван Фомич глядит на мальчика сверху вниз. — Вам известно, что такое decadentia? Символизм, декадентство… Падение искусства. Французская болезнь. Бодлер, Верлен, Метерлинк… Перекинулось это поветрие и к нам. Бальмонт. Белый. Брюсов… Несть числа. Мистика, индивидуализм… — Он отпустил бороду, укоризненно покачал головой. — Ну что вы нашли в этих, извините, стихах? Тр-р-раге-дия… — Пророкотал это слово. — Только не все ладно в этой трагедии. Толстая морда Катьки и бедовая удаль ее очей… — Вернулся к столу, засмеялся. — Мало идут огневые очи к толстой морде! Да и пунцовая родинка… Петруха в роли изысканного ценителя женских прелестей… — Иван Фомич небрежно помахал книжечкой. — И вообще, поэзия и политика — две вещи несовместные. Рассуждает уверенно, убежденно. Славушке нечего возразить, он сам не понимает, почему ему нравятся эти стихи… Быстрым движением Иван Фомич вынул из кармана часы, взглянул на циферблат. Сейчас Никитин кончит урок и пойдет кормить свиней. А после таких стихов нельзя идти к свиньям! Можно пойти в поле, в лес, запеть, заплакать… Иван Фомич просто ничего не чувствует. Он умный, безусловно умный, но совершенно немузыкальный. Определение нравится Славушке. Немузыкальный. Ничего не слышит. То есть, конечно, слова слышит, рассуждает о словах, но не умеет дышать словами, слышать скрытую в них музыку; шелест листьев, биение сердца, стон любви, то самое движение миров, которое приносят людям поэты. Но вот наконец и звонок. Однако Иван Фомич не собирается уходить. — Так что же такое поэма? Прошу вас… — спрашивает он Славушку. — Поэма — это повествовательное художественное произведение в стихах… — А это что? — Поэма. — Почему? Ни связи, ни смысла… — Глаза Ивана Фомича блестят, он обводит рукой класс. — Мы сейчас выясним, кто готов признать это за поэзию. Демократическим способом, путем всенародного опроса. Кому понравились эти стихи, прошу поднять руку. Они не могут не понравиться. Это же стихи! Это же настоящие стихи! Славушка торжественно поднимает руку… Все сейчас поднимут руку за эти стихи! Иван Фомич проводит ладонью по бороде и спокойно, даже вежливо, обращается к Славушке: — Видите? И он видит, что никто, никто… Трусы! Боятся не перейти в следующий класс. Сейчас они получат та, что заслужили! Славушка стискивает кулаки, вытягивается на носках и кричит: — Бараны! Бараны! — Как вы сказали? — Бараны! — взвизгивает он… Сейчас он заплачет… Он выскакивает из-за парты, проносится мимо Ивана Фомича, выбегает за дверь, устремляется вниз по лестнице… Прочь, прочь отсюда! Он не знает, что последует дальше… А дальше Иван Фомич сконфуженно разведет руками, точно и он повинен в том, что Славушка обозвал своих одноклассников баранами. — И как же вы, уважаемые товарищи, будете на это реагировать? Уважаемые товарищи не знают, как надо реагировать и надо ли вообще реагировать. Тулупов многозначительно усмехается. — Сочтемся… Известно, он любитель драться. — Нет, не сочтемся, — резко обрывает Иван Фомич. — Но и нельзя смолчать. Ведь он вам товарищ. Он оскорбил вас… Людей, которые идут наперекор обществу, общество бойкотирует! Он довольно долго распространяется о конфликтах между личностью и обществом, объясняет, что такое общественный бойкот, и опять предлагает голосовать: — Кто за то, чтобы объявить Ознобишину бойкот? На этот раз руки поднимают все… А Славушка тем временем бежит берегом Озерны в Нардом, к Виктору Владимировичу Андриевскому, умеющему извлекать из старинных шкафов соблазнительные и увлекательные книги. Андриевский колдует за круглым столом, за столом из красного дерева, льет-поливает стол столярным клеем, на столе овечья шерсть, пенька, нитки, тряпки: мастерит усы, бакенбарды, бороды, как взаправдашний театральный парикмахер. — Привет! — Он всегда так здоровается и сразу замечает — мальчик что-то кислый сегодня. — Что-нибудь случилось? Славушка смотрит на свое отражение в стекле книжного шкафа. — Что же все-таки случилось? — Я назвал их баранами! — Кого? Славушка рассказывает об уроке, о Никитине, о стихах… — Ну и что что декадент?! — восклицает Андриевский. — Зато здорово! Оказывается, он знает эти стихи: Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз - Впереди — Исус Христос. Андриевский читает с аффектацией, чуть грассируя. — Мужичье, — заключает он. — В том числе и Никитин. Из хама не сделаешь пана… — И вдруг начинает смеяться. — «Бараны…» Превосходно! Не бойтесь, в обиду не дадим. И за вьюгой невидим, И от пули невредим… Он подстригал усы, похохатывал, напевал какие-то «трам-бам-були», а Славушка утешался возле книжек, пока адвокат, парикмахер и режиссер не собрался домой. Нехотя пошел мальчик утром в школу, предчувствие не обмануло, его не замечали. Никитин не спрашивал, одноклассники сторонились. Кто-то что-то сказал и осекся. Славушка упрямо сидел на уроках, один Введенский разговаривал с ним, этот всегда поступал всем наперекор и особенно Никитину. Все же из школы Славушка убежал раньше всех — наплевать на то, что его чуждаются! — но дома тоже чувствовал себя ужасно одиноко. Завтра будет то же. Вероятно, следует извиниться, но перед кем? Перед Никитиным, перед классом? Но они же бараны, бараны, и Никитин не прав, ему бы деда Мазая с зайцами… Под вечер отворилась дверь из сеней, Нюрка заорала через порог: — Слав-Лаич!… — Звала мальчика по имени-отчеству, сглатывая слоги. — За вами приехали! У крыльца тарантас, в тарантасе Андриевский. — Едемте, вызывает Степан Кузьмич… Славушка не сразу сообразил. — Быстров, Быстров! Андриевский сам приехал за мальчиком, не успел тот взобраться, как Андриевский дернул вожжи, и караковая кобылка понесла пружинящей рысью. «Что ему от меня надо? — испуганно думал Славушка. — Может быть, Иван Фомич нажаловался, Никитин в волости авторитет?» А режиссер посмеивался, подгонял кобылку и посмеивался, что-то забавляло его, и в мальчике все сильнее накипало раздражение против Андриевского. — Я все рассказал Степану Кузьмичу, — сказал тот со смешком. — Он одобряет вас, хотя это происшествие форменный парадокс. — А что такое парадокс? — Вы не знаете? Ваши стихи, например. Утверждение нового в действительности. Революция, если хотите! С чего это Андриевский так весел? Наконец вот и хутор Кукуевка. Странно: Быстров живет у Пенечкиных, им уж никак не может быть симпатична революция, а Быстров олицетворение ее в волостном масштабе… — Парадокс, — произносит вслух Славушка. — Что? — удивленно спрашивает Андриевский и смеется. — Ах да-да! Караковая кобылка сворачивает под купы деревьев, — вот длинный сероватый дом, вокруг цветочки. Андриевский бросает в тарантас вожжи, кобылка трусит прочь от крыльца, сама найдет дорогу в конюшню. Темноватый коридор, и… бог ты мой, настоящая гостиная, раза два или три видел Славушка такие гостиные в богатых домах, куда случайно попадал с папой и с мамой: козетки, пуфики, портьеры, рояль, экран, пальмы и в зеленой кадке даже араукария. На втором году революции из взбудораженной русской деревни Славушка попал в гостиную, как после кораблекрушения из бурного океана на тропический остров… Вот тебе и прасолы! На самом деле все не так уж здесь великолепно; купеческая роскошь, пестрые козетки и чахлые пальмы; Пенечкины сволокли в комнаты, занимаемые Быстровым, все лучшее, чтобы сохранить от возможных реквизиций. Тишина и пустота. — Степан Кузьмич! Андриевский кричит с этаким приятельским подобострастием. Быстров тут же появляется в дверях. — А! — Протягивает мальчику руку, уверенно, как мужчина мужчине. — Лаются, говоришь? На большевиков тоже лаются… — Шура… — зовет негромко, глядя на араукарию, но его слышат, может быть, даже прислушиваются. Появляется женщина — темные дуги бровей, бездонные глаза, тонкий нос, розовые губы — древняя икона, оживленная кистью Ватто, удивительное сочетание византийской богородицы и французской субретки. — Разве стихи могут нарушить спокойствие? — О, еще как! — восклицает Андриевский. — Что же это за стихи? И голос у нее необыкновенный, отчетливый и ненавязчивый. — Прочесть? — предлагает Андриевский. — Нет, нет, — останавливает Быстров и указывает на Славушку. — Он пострадал, пусть он и читает. Славушка уставился в окно. Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем… Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! — Как? — спрашивает Андриевский. — Молодец, — одобряет Быстров, только непонятно кого — чтеца или автора, и осведомляется у жены: — А как тебе, Шура? — Я знаю эти стихи. — Нравятся? — Нравятся, не нравятся… — Александра Семеновна грустно усмехается. — Они переживут нас с тобой. За глаза Быстрова осуждали за то, что он оставил первую жену, не по себе, мол, срубил дерево, генеральская жена борцу за народное дело не попутчица. Славушка не знает ту, что оставлена в Рагозине, но такая, как Александра Семеновна, во всем свете только одна. — Дайте-ка нам поговорить, — обращается Быстров к Андриевскому. — О, понимаю: конфиденция. Едва Андриевский скрывается, Быстров поворачивает мальчика лицом к себе. — Часто бываешь в Нардоме? — спрашивает Быстров. — Часто. — Дружишь с Андриевским? Странный вопрос: какая дружба может быть у него с Андриевским? — Дружу… — Напрасно, — строго произносит Быстров. — Этот человек… — Враг? — неожиданно для себя спрашивает Славушка. — Не знаю, — задумчиво говорит Быстров. — Но ни мне, ни тебе он не друг. Революционный держите шаг. А он — ванька-встанька. Видел такую игрушку? Наклонится и тотчас вскочит. Быстров всматривается в лицо Славушки. — Вот ты, значит, какой… — Оборачивается к жене. — А тебе он нравится, Шура? Александра Семеновна слегка улыбается. — Я кое-что надумал, — говорит Быстров. — Слушай… — Может быть, в следующий раз? — вмешивается Александра Семеновна. — Почему в следующий? — возражает Быстров. — Ничего не надо откладывать. Революционный держите шаг. — Затем он говорит о чем-то таком, что не имеет никакого отношения к Славушке. — Ты, может быть, удивляешься, почему я живу здесь, у помещиков. А зачем жить хуже, если можно жить лучше? Вопхнуться в чью-нибудь избу? Выселить какого-нибудь попа? А здесь и просторно, и удобно, и маскироваться Пенечкиным труднее. Назвались груздями… Коммуна? Так и будьте коммуной. Батраки пашут? Так и вы пашите. Спасайте шкуру, но не задаром. Пенечкины теперь выходят в поле наравне со всеми. Следующий вопрос: генеральская жена. Она действительно генеральская, только не жена, а дочь. Генеральская дочь. Ее отец из тех генералов, которые самим товарищем Лениным допущены в рабоче-крестьянскую армию… Александра Семеновна хмурится. — А говорю это я тебе вот зачем, — продолжает Быстров. — Я хочу, чтоб ты мне доверял, как я тебе доверяю, хочу, чтоб ты организовал в нашей волости молодежь. Он неправильно произносит это слово, все время делая ударение на первом слоге: «молодежь, молодежь». Подошел к роялю и, стоя, ударил по клавишам, беспорядочный аккорд тут же замер. — Организуй-ка ты у нас союз юных коммунистов, — сказал Быстров. — Понимаешь, на что я тебя подвигаю? Объединить молодежь на подвиги во имя Советской власти. Он обломил веточку араукарии и помахал ею перед Славушкой. — Ты готов? Славушка ни к чему еще не готов, не готов он объединить молодежь на подвиги во имя Советской власти, и в то же время он не столько понял, сколько почувствовал, что именно сейчас и именно ему предоставляется возможность совершить подвиг. — Готов, — сказал Славушка, потому что только «готов» и мог он ответить, — это было как клятва в вечной любви. — Молодец, — похвалил его Быстров. — Сейчас мы с тобой обсудим… — Может быть, в другой раз? — перебила мужа Александра Семеновна, — Поздно уже! — Ладно, отложим до завтра, — внезапно согласился Быстров. — Утро вечера мудренее. — А ты один дойдешь? — спросила Александра Семеновна. — Собак не боишься? — Конечно, — ответил Славушка. — Собак я нисколько не боюсь. — Молодец, — еще раз похвалил его Быстров. — Завтра я тебя вызову. — Спокойной ночи, — сказала Александра Семеновна. — Заезжай ко мне, если захочется, живу-то я постоянно в Ивановке, я ведь учительница там… Славушка вышел, и собаки залаяли за домом, он боялся кукуевских собак, на крыльце стояла чья-то палка, он взял палку, не так страшно, спустился с крыльца, прошел аллеей, вышел на дорогу и, уговаривая себя ничего не бояться, торопливым шажком припустился к Успенскому. Петя спал, Вера Васильевна тоже легла. — Где это ты шатаешься? — У Быстрова был. — То есть как у Быстрова? — Он меня вызвал к себе. — Зачем ты ему понадобился? — Хочет организовать Союз молодежи. — Какой союз… Что за глупости! — Для помощи Советской власти. — Ничего не понимаю. Чем ты можешь помочь Советской власти? — А вот хотя бы… контролировать учителей! — Ты собираешься меня контролировать? — Не только тебя… — У тебя с Быстровым, кажется, ум за разум зашел… — Знаешь, мама, мы все равно с тобой ни до чего не договоримся. — Тогда гаси свет. Он так и сделал, заказал себе интересный сон и заснул, но ему так ничего и не приснилось, а когда проснулся, мама причесывалась, а Пети уже не было в комнате. — Вставай, вставай, — поторопила Вера Васильевна сына. — Опоздаешь. — Успеем, — снисходительно сказал он и соврал: — Мне приснился удивительный сон… Мать торопилась, утром ей не до снов. — О чем это? Славушка наскоро сочинил сон. — Понимаешь: Москва, революция. Идут солдаты. Отряд солдат, понимаешь? С ружьями. На груди у них красные банты. А впереди командир, Исус Христос… — Глупости какие, — оборвала Вера Васильевна сына. — Я думала, действительно что-нибудь интересное… Славушка подумал: как же неинтересно — Исус Христос во главе вооруженных солдат? Но спорить не стал. К тому же следовало подумать о себе. Идти в школу неприятно. Так же неприятно, как идти мимо собак. Разница одна, собаки лают, а в школе молчат. Долго ли будет продолжаться игра в молчанку? Нарочно пошел попозже, позже Веры Васильевны, чтоб прийти к началу занятий, вошел в класс вместе с Никитиным, посторонился, уступая ему дорогу, но тот сам отступил, предлагая пройти Славушке, и с ходу вызвал к доске: — Ознобишин! Неужели опять единоборствовать? — Вы не изменили мнения о своих стихах? — Нет, Иван Фомич. — Что ж, ваше право, я держусь более консервативных взглядов, мне ближе муза мести и печали, вам — песен, маршей и революции. На вкус и цвет товарищей нет, оставайтесь при своем мнении, но к следующему уроку попрошу всех — всех! — написать характеристику поэмы, любой по собственному выбору, но обязательно Александра Сергеевича Пушкина. Вы не возражаете? Иван Фомич улыбается, улыбается Славушка, все обращено в шутку. — Нет, Иван Фомич, не возражаю. — Отлично, садитесь. — Затем к классу: — Если у кого возникнут трудности, обратитесь за помощью к Ознобишину, он поможет… Амнистия! Не просит даже извиниться за «баранов». Поворот на сто восемьдесят градусов. Что за чудо? Все входит в обычную колею. После уроков Иван Фомич окликает убегающего Славушку. — Да! — Делает вид, что вспомнил, хотя ничего не забыл и нарочно поджидал Славушку. — Утром заезжал Степан Кузьмич. Просил вас зайти после уроков в исполком. Теперь все ясно. Славушка перемахнул Озерну и остановился перед исполкомом. Двум смертям не бывать — вошел в президиум. За большим столом Быстров, сбоку, за дамским письменным столиком, секретарь исполкома Никитин, брат Ивана Фомича, Дмитрий Фомич. — Заходи, товарищ Ознобишин! Ого! «Товарищ Ознобишин»… Так к нему еще не обращались! Должно быть, Быстров только что кричал, губы стиснуты, в глазах молнии. У стены две невзрачные женщины и поближе Устинов с обиженным выражением на багровом лице. — А я говорю, будете пахать землю красноармейкам, — продолжает, обращаясь к нему, Быстров. — Не найдешь лошадей, самого в плуг впряжем… — Прервал себя, повернулся к Никитину: — Дмитрий Фомич, покажите-ка Ознобишину бумажку, которую мы разослали по сельсоветам. Дмитрий Фомич вздохнул: еще одна затея Быстрова, не осуждал, иные затеи приносили пользу, но кто знает… Славушка взял четвертушку с витиеватой писарской скорописью. «Циркулярно. Всем сельсоветам… Предлагается с получением сего провести сход всей молодежи обоего пола в возрасте от 13 до 18 лет с целью избрания на таковом двух делегатов; каковым явиться в воскресенье 13 мая 1919 года в помещение Успенской школы 1-й ступ. к 10 час. утра с продуктами лично для себя на весь день…» Славушка ничего больше не видел и никого не слышал, он чувствовал, что стоит на пороге самого большого события в своей жизни, прав Быстров, мы создадим союз юных коммунистов и еще посмотрим, кто и какие будет чихать стихи… — Ознобишин… Товарищ Ознобишин! — донеслось откуда-то из-за тридевять земель… Теперь Быстров кричал на Славушку! — Ты что, оглох? Ослеп, оглох, размечтался… — А нет, так слушай. Прочел? Делал когда-нибудь доклады? Так вот, готовься. Прочти последние газеты, прочти «Коммунистический манифест», я тебе дам. Все будете делать сами. Помни: Никто не даст нам избавленья - Ни бог, ни царь и ни герой, Добьемся мы освобожденья Своею собственной рукой. 11 Круглые часы за стеной, у Павла Федоровича, пробили одиннадцать, время они отбивали хрипло, с придыханием, точно им тяжко отсчитывать канувшие в вечность события. Петя давно спит на сундуке, мерное его дыхание не нарушает сгущающейся тишины. Вера Васильевна тоже лежит в постели, хотя долго не засыпает. Славушка сидит на диване и не раздевается. — Ты скоро ляжешь? — спрашивает Вера Васильевна. — Лягу, — недружелюбно отвечает Славушка и сердито смотрит на меркнущую коптилку. В чайном блюдце зеленое конопляное масло, в масле плавает скрученный из ваты фитилек, масло выгорело, фитилек потрескивает, коптит, разгорается, пытается бороться с окружающим мраком, — тени мечутся по стенам, — и опять угасает, темнота становится спокойной, властной, беспросветной. При таком свете нельзя читать, этот конопляный свет нельзя даже назвать светом, это только намек на то, что люди называют светом. — Тебе свет не нужен? — строго спрашивает Славушка. — Гаси, гаси, пожалуйста, — торопливо отвечает мама. — Давно пора. Задремала Вера Васильевна, должно быть. Славушка подошел тихонько к окну, рамы прикрыты неплотно, растворил, сел на подоконник. За окном все тонуло в полном мраке, везде черным-черно, и все же Славушка видел все. Перекинул ноги через подоконник, прикрыл за собой рамы, тонкие, чуть поблескивающие стекла отгородили его от привычного домашнего мира, и вот он сам точно поплыл в ночном море майской безлунной ночи. Все здесь, в этом ночном палисаднике, знакомо, все известно наизусть, и все казалось необычным, сказочным, удивительным. Вершины кленов тонули в глубине неба, голубоватые звезды, точно капли росы, тускло поблескивали на широких разлапистых листьях. Черная тень летучей мыши тревожно металась из стороны в сторону, стараясь залететь под крышу смутно белеющего дома. Прожужжал в темноте жук, точно чья-то невидимая рука тронула струну контрабаса. Где-то вдалеке лаяла собака, но и ее протяжный лай казался звуком таинственной майской ночи. Все спит. Славушка один, и можно с полной свободой отдаваться неясным и честолюбивым мечтам… Какой мальчик, начитавшись исторических романов, не мечтает покорить мир? Сегодня Степан Кузьмич, выйдя под вечер из исполкома, стоял на пороге, ждал, когда приведут лошадь, увидел Славушку, подозвал. — Готовишь доклад? — поинтересовался он и смерил его испытующим взглядом. — Вот смотрю на тебя, смотрю, и думаю: кем же ты все-таки думаешь быть? И Славушка ответил честно и прямо: — Наполеоном. — Чего-чего? — Быстров даже шагнул на него. — Да ты знаешь, кто был Наполеон? Поработитель народов! — Добрым Наполеоном. Что за путаница в голове у мальчишки! — Человек, подчиняющий себе других людей, не может быть добрым… Тем временем сторож исполкома Григорий подвел лошадь, Быстров привычно вскочил в седло, но тут же натянул поводья и наклонился к мальчику. — У тебя, брат, полная неразбериха в мозгах, — не без досады принялся он втолковывать Славушке. — Читаешь много, да не то, что надо. Все романы на уме!… Знаешь, кем надо быть? Ну, не быть, а хоть чуток походить… — Он еще туже натянул поводья, сдерживая пляшущую Маруську. — На Ленина, брат, вот на кого нужно держать равнение! Как бы это тебе объяснить… Все эти герои, всякие там императоры и завоеватели, даже самые выдающиеся, все они, по сути, обманщики. Обманщики человечества. Не они служат народу, а заставляют народы служить себе. А тот, кто добивается власти для самого себе, тот враг людей. А у нас власть принадлежит рабочим, и доверят они ее лишь тому, кто борется за справедливость… Быстров понимал — с седла лекций не читают, не мог он, сидя верхом на лошади, объяснить все, как надо, но и уехать не мог, не победив в Славушке Наполеона. — А Ленин не император, не президент, а вождь рабочего класса. Таких еще не было в истории. Он не стремится всех себе подчинить, он народ побуждает, он только направление нам кажет… Как бы это тебе объяснить? Знаешь, что такое аккумулятор? Видел? Вот Ленин и есть как бы аккумулятор нашей энергии… Быстрову ужасно хотелось разъяснить Славушке свое понимание Ленина, и не удавалось, не находилось нужных слов. Он вдруг рассердился на самого себя, ослабил с досады поводья, Маруська разом рванула и понесла его прочь. Но даже такие путаные разговоры не проходили для Славушки бесследно. Он еще не понимал почему, но Ленин и справедливость — это было что-то одно. Славушка брел в ночи, вглядываясь в бездонное небо, высоко вверху светились тысячи звезд, ноги его тонули в мокрой траве, он шел между брызгающихся росою темных кустов, и обо всем на свете думалось как-то уже иначе, чем накануне. Где-то вдалеке звякают в поле бубенчики. Пасутся лошади. «Длинь-длинь…» Лениво, не спеша. Впереди еще целая ночь. Поблизости, за стеной соседского хлева, вздыхает и жамкает корова. Всю ночь будет жевать и пережевывать свою жвачку. Лает собака… Славушка спускается к реке. Темно, и непонятно, откуда высвечивается таинственное голубое сияние. Вода в речке прыгает по камням, играет камешками. Щелкают камешки друг о друга. Плещет вода. Бежит река… Речку зовут Озерна, стоит на реке Успенское, в этом-то Успенском на Озерне и стряхивает с себя юный коммунист Славушка Ознобишин прах мещанской романтики. 12 Возле сторожки прыгали кролики, то копошились в траве, то ныряли под крыльцо; трое мальчиков-погодков, одинаково курносых и одинаково босых, смотрели на них не отрываясь, серебристо-серые зверьки отсвечивали небесной голубизной. — Погрызут они… — глубокомысленно заметил один из мальчиков, но так и не договорил… — Интересно, что с ними делать? — Исть, — объяснил другой. — Не исть, а есть, — поправил третий. — Ну, исть, — согласился первый. — Все одно. — Их кошки здорово жруть, — пояснил второй. — С голодухи и люди сожрут, не то что кошки, — сказал третий. — А я чегой-то брезгаю, — возразил второй… Кролики равнодушно посматривали на мальчиков блестящими красными глазками, им невдомек, что их скоро сожрут. Из волисполкома выбежал Славушка, в руке у него бумажка. Все утро приходится бегать. Не успел Дмитрий Фомич разослать по деревням повестки, как приблизилось тринадцатое число. Степан Кузьмич велел собираться в школе. Конечно, не во второй ступени — туда Иван Фомич не пустит, обороняет свой помещичий дом, как крепость, пойдет даже на ссору, — а в первой ступени. Но и в первую ступень не пускают. Евгений Денисович согласился сперва, а потом на попятный: «Вы там разнесете все». Приходится бегать между исполкомом и школой, от Быстрова к Звереву, пока Быстров не написал: «Предлагаю не чинить препятствий коммунистическому движению молодежи и выдать ключ». Перед таким предписанием Евгений Денисович не устоит. Славушка пробежал мимо мальчиков, махнул на бегу рукой и вдруг сообразил, задержался. — Вы куда? — На конхеренцию. — Не конхеренция, а конференция. — Ну, конхференцию. — А чего здесь? — На кролей смотрим… Тут мировое коммунистическое движение, а они на кролей… Славушка беспомощно оглянулся. Вдалеке у своей избы переминается Колька Орехов. Славушка помахал рукой — давай, давай! Колька не спеша подошел. — Чего? — Что ж не идешь? — Мать лается, грит, все одно никуда не пущу, позапишут вас и угонят на войну. Великолепно бы записаться и уйти на войну, но, увы, не так-то это легко. — Какая там война! Не валяй дурака… Со стороны Поповки подходит Саплин. Впервые он появился в исполкоме два дня назад, подошел прямо к председателю, но тот направил к Ознобишину: «Он у нас организатор по молодежи». Саплину лет шестнадцать, а то и все семнадцать, у него от черных, как у индейца, прямых волос черноватый отсвет на лице. — Чего это молодежь собирают в воскресенье? — Хотим создать союз молодых коммунистов. — Для чего? — Как для чего? Революция продолжается. Бороться. Помогать. Отстаивать… Саплин подумал, прежде чем спросить дальше: — Чего отстаивать? — Интересы молодежи. Свои интересы. — А кому помогать? — Взрослым. Не всем, конечно, а большевикам. — А как бороться? — Ну, это по-разному. В зависимости от условий. — Славушка решил сам порасспросить незнакомца: — Ты откуда? — Мы-то? Из Критова. — А ты чей? — Ничей. Саплины мы. Я один, с матерью. То у одних живу, то у других. В батраках. Славушка чуть не подпрыгнул от восторга. Батрак! Как раз то, что нужно. Вот она, диктатура пролетариата в деревне, сама сюда пришла, чтоб взять власть в свои руки. — Плохо? — Сердце Славушки преисполнено сочувствия к угнетенному брату. — Очень они тебя эксплуатируют? — Чего? — Саплин гордо взглянул на собеседника. — Так я им и дался! Теперь по закону: отработал — заплати, а нет, зажимаешь, так сразу в сельсовет… Он совсем не выглядит ни обиженным, ни несчастным, этот Саплин. — А как тебя зовут? — Славушка решил познакомиться с ним поближе. — Да так… Неважно. Почему-то он не хотел себя назвать. — То есть как так неважно? Все равно внесем в списки! — Поп посмеялся, Кирюхой назвал. Не очень-то. Правда? — Что ты! Объединимся, создадим организацию, выберем комитет… — Какой комитет? — Молодежи. — А для чего? — Я же говорил: помогать, отстаивать… Саплин наморщил лоб, прищурился, в голове его не прекращалась какая-то работа мысли. — На окладе, значит, там будут? — На каком окладе? — Работать же кто-то будет? Вопрос об окладе меньше всего тревожил Славушку, он о таких вопросах не думал, а Саплин все переводил на практические рельсы. — Я бы пошел, — сказал он, опять о чем-то подумав. — В комитет. Только мне без оклада нельзя, на свое хозяйство мы с маткой не проживем. А на оклад пошел бы. Надоело в батраках. Ты грамотный? — неожиданно спросил он Славушку. Грамотный! Славушка даже пожалел Саплина: он перечитал миллион книг! — Разумеется, грамотный, — сказал Славушка. — Как бы иначе я мог… — А я не шибко, — признался Саплин. — Вот председателем могу быть. А тебя бы в секретари. Славушка растерялся. — Кому и что — решат выборы, в воскресенье приходи пораньше, скажу о тебе Быстрову. Позже, вечером, он рассказал Быстрову о батраке из Критова. — Смотри сам, — небрежно ответил Степан Кузьмич. — Подбери в комитет парней пять. Потверже и посмышленей. Сейчас Саплин прямым путем шагал к власти. Сегодня он в сапогах, сапоги велики, рыжие, трепаные, старые-престарые, но все-таки сапоги. Славушка готов поручиться, что всю дорогу Саплин шел босиком и вырядился только перед Поповкой. Саплин всех обошел, со всеми поздоровался за руку. — Состоится? — Обязательно. Саплин кивнул на кроликов. — Чьи? — Григория. Григорий — сторож волисполкома, бобыль, с деревянной ногой-култышкой. Саплин сверкнул глазами. — Отобрать бы! Славушке показалось — Саплин мысленно пересчитывает кроликов. Он и на ребят кивнул, как на кроликов. — Это всего народу-то? — Что ты! Собираемся в школе. Из Журавца подойдут, отсюда кой-кто… Саплин с хитрецой посмотрел на Славушку. — Не боишься? — Кого? — Мало ли! Переменится власть… — А мы для того и собираемся, чтоб не переменилась… Ребят у школы, как на большой перемене, всех возрастов, и женихи, и приготовишки, в сельсоветах разно поняли приказ волисполкома, из одних деревень прислали великовозрастных юнцов, из других — ребятишек. Попробуй поговори с ними на одном языке. Да и с одним человеком нельзя разговаривать одинаково. Вот, например, Евгений Денисович. Славушка принес записку Быстрова. Письменное предписание. Но от себя Славушка смягчил приказ: — Степан Кузьмич сказал, что сам придет проводить собрание… — Ну, это совсем другое дело, — процедил Евгений Денисович и выдал ключ. — Только смотри… смотрите… — поправился он. — Потом подмести и не курить… Наконец-то они в классе! — Садитесь! — выкрикивает Славушка то самое слово, с какого начинаются занятия. — Товарищи! Участники конференции рассаживаются за партами, как на уроке. Славушка садится за учительский столик. Рядом бесцеремонно усаживается Саплин. Славушка скосил глаза: кто его приглашал? Надо, однако, начинать. Славушка копирует собрание, свидетелем которого был на днях в исполкоме. — Товарищи, нам надо выбрать президиум… — Все молчат. — Товарищи, какие кандидаты… — Все молчат. — Трех человек, возражений нет? — Молчат. — По одному от трех сел — Успенского, Корсунского я Критова… — Молчат. — Называйте… — Молчат. «Ну и черт с вами, — думает Славушка, — не хотите, сам себя назову…» Больше он никого не знает, все здесь впервые. — Ну от Успенского, допустим, я. От Критова… — Саплин единственный из Критова, кого знает Славушка. — От Критова, скажем, товарищ Саплин. Он Корсунского… Кто здесь от Корсунского? Встаньте! — Встают как на уроке. Четверо. Двое совсем дети, у третьего очень уж растерянный вид, а четвертый ладный парень, хоть сейчас на фронт. — Как твоя фамилия? — Сосняков. — И от Корсунского — Сосняков. Кто не согласен, прошу поднять руки… Сосняков без тени смущения выходит из-за парты, и только тут Славушка замечает, что Сосняков слегка волочит правую ногу. Славушка жалеет, что предложил его кандидатуру, если придется идти в бой, он не сможет, но ничего не поделаешь… — А кого председателем? — неуверенно спрашивает Славушка. — Тебя, тебя, — великодушно говорит Саплин. — Кого еще! — Итак, товарищи, — уже более твердым, председательским голосом объявляет Славушка, — собрание коммунистической молодежи Успенской волости считаю открытым. — А почему коммунистической? — неожиданно перебивает Сосняков. — Почему так сразу коммунистической? — А какой же? — говорит Славушка. — Какой же, если не коммунистической? — Много на себя берешь, — ворчливо констатирует Сосняков. — Мы это еще обсудим. — Вот именно, обсудим, — упрямо говорит Славушка. — А теперь ближе к делу. Повестка дня: задачи молодежи и текущий момент. Он окидывает свою аудиторию испытующим взором и вот уже расхаживает перед аудиторией, выступает совсем как Иван Фомич перед учениками. Бросается, как в воду: — Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма… Но тут кто-то взбегает по ступенькам крыльца, — кому еще мы понадобились? — дверь распахивается, и входит Быстров. — Здравствуйте, товарищи. Ну как? — спрашивает он. — Обсуждаете? Позвольте приветствовать вас от имени волисполкома и волостного комитета эркапебе… Все хлопают весело и непринужденно, не по приказу, а от души. Что за власть над душами у Быстрова! — Товарищ Ознобишин, попрошу слова… Товарищ Ознобишин предоставляет слово, и один из тысячи Степанов Кузьмичей пересказывает ребятам доклад Ленина на съезде партии, которому не минуло еще двух месяцев. Поднимает детей к вершинам политической мысли, хотя и сам еще не достиг ее высоты… Строение Красной Армии. Рабочее управление промышленностью. Продовольственный вопрос. Образование комитетов бедноты. Гражданская война с кулаками… Кружит вокруг да около. Все, что перечисляет он, это, конечно, главное, но и неглавное. Никак ему не удается ухватить стержневую ленинскую мысль, которая надолго, очень надолго определит стратегию Коммунистической партии. Месяцем позже прочтет ленинскую речь Славушка и тоже не поймет, поймет позже… "…я оглядывался на прошлое только с точки зрения того, что понадобится завтра или послезавтра для нашей политики. Главный урок — быть чрезвычайно осторожным в нашем отношении к среднему крестьянству и к мелкой буржуазии. Этого требует опыт прошлого, это пережито на примере Бреста. От нас потребуется частая перемена линии поведения, что для поверхностного наблюдателя может показаться странным и непонятным. «Как это, — скажет он, — вчера мы давали обещания мелкой буржуазии, а сегодня Дзержинский объявляет, что левые эсеры и меньшевики будут поставлены к стене. Какое противоречие!…» Да, противоречие. Но противоречиво поведение самой мелкобуржуазной демократии, которая не знает, где ей сесть, пробует усесться между двух стульев, перескакивает с одного на другой и падает то направо, то налево. Мы переменили по отношению к ней свою тактику, и всякий раз, когда она поворачивается к нам, мы говорим ей: «Милости просим». Мы нисколько не хотим экспроприировать среднее крестьянство, мы вовсе не желаем употреблять насилие по отношению к мелкобуржуазной демократии. Мы ей говорим: «Вы несерьезный враг. Наш враг — буржуазия. Но если вы выступаете вместе с ней, тогда мы принуждены применить и к вам меры пролетарской диктатуры». Поймет позже, а сейчас мальчик всматривается в Быстрова и слушает, слушает… Странное у Степана Кузьмича лицо. Иногда оно кажется высеченным из камня, иногда расплывчато, как туман, глаза то голубые, то железные, его можно любить или ненавидеть, но безразлично относиться к нему нельзя. Такова, вероятно, и революция. К ней нельзя безразлично… — А теперь рассказывайте, — заканчивает Быстров. — Что думаете делать. Вот хоть ты! — Пальцем тычет в паренька, который согласно кивал ему во время выступления. — Вернешься вот ты с этого собрания, с чего начнешь? Паренек поднимается, должно быть, он ровесник Славушке, хоть и повыше ростом, и пошире в плечах, но детскости в нем больше, чем в товарище Ознобишине. — Мы насчет карандашей. Бумаги для рисования и карандашей. Простые есть, а рисовальных нет… — Откуда ты? — Из Козловки. — Варвары Павловны наказ? — догадывается Степан Кузьмич и объясняет, чтоб поняли другие: — Такая уж там учительница, обучает искусствам. Баронесса! — Но не насмешливо, даже ласково. Испытующе смотрит на паренька: — А хлеба у вас в Козловке много припрятано? Испуганные глаза убегают. — Я же говорил: хлеб и кулаки. Кто понял? — А вы приезжайте к нам в Критово, — дерзко вдруг говорит Саплин. — Покажем. — Как твоя фамилия? — Саплин. — Ах, это ты и есть Саплин? Слышал! Что ж, приедем. — Побоитесь, — еще более дерзко говорит Саплин. — Не тебя ли? — Быстров усмехается. — Далеко пойдешь! Саплин порывается сказать еще что-то, Славушка перебивает его на полуслове: — Степан Кузьмич, послушайте лучше Соснякова. Он чего-то против. — Против чего? — Против коммунизма. — Покажи, покажи мне его, где этот смельчак прячется? — А он не прячется, он перед вами. Сосняков кривит губы, пожимает плечами, идет к карте, где сидел вначале, роется в своей торбе, вытягивает тетрадь в синей обложке и возвращается к столу. — Ты что — хромой? Если он против коммунизма, можно его не щадить. — Не хромее вас! Я не против коммунизма. Только неправильно называть всех подряд коммунистической молодежью. Не согласны мы… Саплин не усидел, вмешался: — Ты от себя говори, а не от всех. — А я не от себя говорю. Тут и Ознобишин не удержался: — А от кого же? — От бедняков Корсунского и Рагозина. — Сосняков с неприязнью взглянул на Славушку. — А вот от кого ты… — Не договорил, раскрутил тетрадку. — Нельзя всех стричь под одну гребенку. Вот этот, например… — Указал на своего односельчанина, того самого растерянного парня, который показался Славушке Иванушкой-дурачком. — Толька Жильцов. Его отец каждое лето по три работника держит. Какой ему коммунизм?! Разослали бумажку, прислать представителей… Вот сельсовет и прислал: меня от бедняков, а его от кулаков. Объединять молодежь надо по классовому признаку… — Он опять с подозрением взглянул на Ознобишина. — Сам-то ты от кого? Уж больно чистенький… — От волкомпарта, вот от кого, — вмешался Быстров. — Выполняет поручение волкомпарта. — Вот я вам сейчас и зачту, — продолжал Сосняков, раскрыв тетрадь, не обращая внимания на Быстрова. — Я составил список. У нас в Корсунском и Рагозине двести восемьдесят три хозяйства. Шестьдесят восемь бедняцких, безлошадных, тридцать семь кулацких, которые держат батраков, а остальные и туда и сюда. Так кому же идти в коммунизм? И тем, кто без лошадей, и тем, у кого батраки? Как бы те, с конями, не обогнали безлошадных! Быстров сам из Рагозина, что-то не примечал там Соснякова, должно быть, мал был, крутился под ногами, а вот вырос и дело говорит, вот кого в командиры, но и Ознобишина жаль, один позлей, другой поначитанней, этот только вынырнул, а Славушка — находка Быстрова, поставили парня на пост и пусть стоит, но и Сосняковым нельзя пренебречь. — Что же ты предлагаешь? — Выбрать по деревням комитеты бедноты из молодежи. — Загнул! Мы скоро все комбеды ликвидируем. Укрепим Советскую власть и ликвидируем… Сосняков, кажется, и Быстрова взял под подозрение, но на молодежных комбедах не настаивал, только добавил, что к учителям тоже следует присмотреться, не все идут в ногу, есть такие, что шаг вперед, а два в сторону. «В чем-то Сосняков прав, — думал Быстров, — тону я в повседневных делах, те же комбеды, тяжбы из-за земли, продразверстка, дезертиры, ребята здесь тоже на первый взгляд симпатичные, а ведь подастся кто-нибудь в дезертиры…» Высказывались и о карандашах, и о дезертирах, и Быстров даже Иванушку-дурачка вызвал на разговор. — Ты Жильцова Василия Созонтыча сын? Много вам земли нарезали в этом году? Работников-то собираетесь брать? — Сколько всем, столько и нам. Ныне работники знаете почем? Папаня теперь на мне ездит… Резолюцию составляли сообща, перечислили все задачи Советской власти, выполнить — и наступит коммунизм. — Теперь записывай, — подсказал Быстров. — Желающих вступить в Союз коммунистической молодежи. Славушка повторил с подъемом: — Кто желает вступить в Союз коммунистической молодежи? Тут-то и осечка, смельчаков не шибко много, да еще Сосняков с пристрастием допрашивал каждого: кто твой отец, сколько коров да лошадей и какой у семьи достаток… Записалось всего восемь человек, даже до десятка не дотянули. Славушка еще раз пересчитал фамилии, вздохнул, — надеялся, что от охотников отбою не будет, — и посмотрел на Быстрова: что дальше? — По домам, — сказал тот. — Отпускай всех по домам, а кто записался, пусть останется. Лиха беда начало. Москва тоже не сразу построилась. Год-два — все придут к нам… Сказал, надо выбрать комитет. Выбрали Ознобишина, Соснякова, Саплина, Терешкина, великовозрастного парня, тоже ученика Успенской школы, и Елфимова из Семичастной — деревни, расположенной в полуверсте от Успенского. Выбрали председателя волкома. — Волкомпарт рекомендует товарища Ознобишина… Саплина назначили инспектором по охране труда. — Сам батрак, — предложил Быстров. — Знает, что к чему. Соснякову поручили заведовать культурой. Вышли из школы скопом, торопились в исполком. Быстров обещал выдать всем по мандату. — Чтоб были по всей форме! 13 Прасковью Егоровну поразил второй удар. Утром Нюрка пришла помочь одеться, а старуха ни ногой, ни рукой. — М-мы, м-мы… Лупит глаза, истолкла бы Нюрку глазами, а ни ударить, ни толкнуть… Старуха лежала на кровати и беззвучно плакала. Нюрка из себя выходила, до того старалась угодить, не хозяйке, хозяину, — подмывала, переодевала, стирала, родную мать так не ублажают, как она обихаживала… Эх, если бы стала старуха свекровью! Что бы делал Павел Федорович без Нюрки, запаршивела бы мать, сгнила, уж так старалась Нюрка, так старалась, но не помогло ей ее старанье, двух месяцев не прошло, как Павел Федорович велел ей уходить со двора. Два дня Нюрка обливалась слезами, потом ночью, никому не сказав ни слова, ни с кем не попрощалась, исчезла. Вечером собрала еще ужин, а завтрак подавала уже Надежда. Вскоре Успенское покинули пленные. Шел дождь, все нахохлившись сидели по своим клетушкам, когда к дому подскакал Митька Еремеев, волостной военный комиссар, свалился с седла, привязал коня к забору и побежал искать Павла Федоровича. Тот в сарае перетягивал на дрожках клеенку. — Гражданин Астахов, где ваши пленные? — Известно где, один в поле, другой чинит шлею. — Потрудитесь обеспечить незамедлительную явку в военкомат. Еремеев серьезен до суровости. Павел Федорович даже струхнул: время суровое, государства воюют, заложникам приходится плохо. Однако своя рубашка ближе, отправил Шлезингера, послал Петю за Ковачем и принялся ждать, что обрушится на головы злосчастных австрийцев. Но обрушилось не на них, а на Астаховых. Пленных репатриировали. Петер спокойно, по-крестьянски, принялся собираться в дорогу, вытряхнул вещевой мешок, сложил пожитки, смену белья, пуговицы, катушку, иголку, попросил и получил флягу меда, детям подарок из России, то улыбался, то озабоченно вздыхал и все поглаживал Петю по голове; зато Франц вдруг загрустил, дала себя знать немецкая сентиментальность, возвращается в Вену, в свою прекрасную Вену, где его ждут две прекрасные веселые девушки, каждая из которых готова, по его словам, выйти за него замуж, и вдруг заявляет, что в России остается его сердце. Вечером он пригласил Славушку пройтись на Озерну, проститься с рекой, в которой вода смешалась с его слезами. Они посидели на бережку у камней. — О мой прекрасный Вятшеслаф Николаевитш, на все есть свой порядок, чего я желаю и вашему многострадальному государству… — Франц даже всхлипнул. — Неужели мы с вами никогда не увидимся?! — Почему же? — утешил его Славушка. — Революция произойдет во всем мире, мы будем ездить друг к другу… — О! — только и сказал Франц. Они помолчали, один думал о своем конфекционе, другой — о мировой революции. Не хватает рабочих рук, на Веру Васильевну Павел Федорович не покушался, она занята в школе, охранная грамота, выданная на ее имя, спасает хозяйство Астаховых от разорения, вся надежда теперь на Федосея и Петю. Павел Федорович не прочь заставить работать и Славушку. — Ты не съездишь в ночное? — спрашивает он. — Пожалуйста… Павел Федорович воображает, что пробудил в Славушке совесть, принудил пасти лошадей, что ж, Славушка и в самом деле будет пасти, но есть у него дело поважнее, разговор пойдет не о русалках, нужно хорошенько повыспросить ребят, у кого спрятан хлеб. Москва голодает, нужно помочь исполкому найти хоть триста, хоть двести, хоть бы сто пудов хлеба. 14 Павел Федорович не слишком жаловал бессильную мать — не до нее. Спросит Надежду: — Накормлена? И ладно, и все в порядке. А тут с утра призвал Надежду, сам пооткрывал ящики комода, велел выбрать платье понаряднее, одеть Прасковью Егоровну, умыть, причесать. Старуха ничего не поняла, но это и не требовалось, разберется потом, а пока что быть ей при всех орденах и регалиях. Она пошевелила рукой, замычала. Павел Федорович похлопал мать по плечу. — Все в свое время, мамаша. В обед собрался из дому. — Покорми, — наказал он Надежде. — И последи, чтоб не обмочилась. Сегодня это ни к чему. В сенях покричал Славушке: — Эй, Вячеслав Николаевич, где ты?… — Чего? — Никуда не уходи, понадобишься. — Подумал, усмехнулся: — Прошу. Как мужчина мужчину. Славушка слоняется по дому. Вера Васильевна чинит детям белье. Петя и Федосей на хуторе. Наряженная Прасковья Егоровна неподвижно сидит на стуле, только губы шевелятся. На кухне Надежда стряпает в неурочное время. — Чего это ты месишь? — Пирог. — Какой пирог? — Хозяин велел. С мясом, с яйцами, на коровьем масле… По какому поводу пир? Вот оно… Вот она! Нечто бело-розовое… Бело-розовое лицо. Как пастила. Ямочки на локтях. Русые волосы блестят, будто смазаны коровьим маслом. Зеленая шелковая кофта, лиловая юбка. Это и есть Марья Софроновна. Она плавно идет через сени. Павел Федорович за ней. — Давай, давай, — на ходу говорит мальчику. Тот правильно понимает: сопровождай, присутствуй… Павел Федорович и Мария Софроновна подходят к Прасковье Егоровне. Вот когда Марье Софроновне можно не бояться. Но она боится. Старуха все понимает. В глазах ее бешенство. Павел Федорович виновато улыбается. — Простите, мамаша… Кряхтя влезает на комод, снимает со стены икону божьей матери, у иконы есть еще свое особое название — «Утоли моя печали», ладонью смахивает с нее пыль и прислоняет к животу матери. Икона скользит. Павел Федорович берет Марью за руку, становятся на колени. — Благословите, мамаша. Бог знает, какие ругательства не идут с ее губ, в блеклых водянистых глазах ненависть. — Благословите, мамаша, пришел, мамаша, и на мою улицу праздник… Старуха содрогается. Она неподвижна, но Славушка чувствует, как содрогается. Нижняя губа отвисла. Сейчас старуха плюнет. Славушка ощущает ее усилие, но губы не слушаются, вся она как-то обмякает, под стулом появляется лужица. — Свинья вы, мамаша… Он торопливо кладет икону на лежанку. Прасковья Егоровна закрывает глаза. Ничего не видит. Ничего не слышит. — Идем! Это и невесте и Славушке. Втроем выходят из дома. Славушка давно понял, что идут они в церковь, но ведет их Павел Федорович не по улице, а огородами, через крапиву, проулками меж поповских домов. — Постучи к отцу Михаилу, — приказывает он мальчику, но поп сам выходит навстречу и бежит к церкви, приподнимая рясу, торопливо отпирает замок, и все четверо заскакивают в церковь. Отец Михаил скрывается в алтаре и через минуту показывается вновь, прижимая к груди свечи, венцы и крест, он уже в парчовой, золотой с прозеленью ризе. Дьячок Беневоленский раздувает кадило. — Давай, давай, — торопит жених. Беневоленский протягивает Славушке венцы из цветной фольги. — Держите! Славушка, оказывается, шафер! — Во имя отца и сына… — скороговоркой произносит отец Михаил. — Набегут бабы, не оберешься шума… И святаго духа… Вячеслав Николаевич, прямее держите венцы над головами! Он ведет жениха и невесту вокруг аналоя, Славушка держит в вытянутых руках венцы, похожие на бутафорские короны. Смешной обряд… Венчались как воровали. Отец Михаил делает в книге запись, сует ручку мальчику. — Распишитесь свидетелем… Перо рвет бумагу. — Поаккуратней! Павел Федорович сует дьячку деньги. — С законным браком, — поздравляет отец Михаил. — А вам, отец Михаил, попозже пришлю, натурой с Федосеем… — Если возможно, мяса, — просит отец Михаил. — Мукой я обеспечен. Беневоленский наклоняется к Славушке: — Что вы наделали, Вячеслав Николаевич?! За смертью Павла Федоровича наследники Федор Федорович с вашей маменькой, а теперь все уплывет… На кухне накрывают стол. — Садитесь, — приказал Павел Федорович вернувшимся с хутора Пете и Федосею и опять — Славушке: — Позови мать. Вера Васильевна улыбается сыну. — Поженились? — Мам, говорят, теперь все наше будет уже не наше. — А оно и так не наше. — Тебя зовут… Славушка заглянул к Прасковье Егоровне. Она по-прежнему сидела на стуле. Расползшаяся, неподвижная. Резкая складка перекосила губы. Глаза закрыты. А в кухне Павел Федорович приглашает за стол даже Надежду, подает жене нож. — Режь, хозяйка… — Взглянул на Надежду. — Принесла бы, что ли, по такому случаю сливочек… Надежда сорвалась, вернулась с крынкой, подала хозяину, он аккуратно разлил по стаканам. — Горько, — сказал сам себе, обтер губы ладонью, чмокнул жену в щеку. — Ешьте. — Опять кивнул Надежде. — Отнеси мамаше пирожка, хотя седни, может, даже откажется. И молочка. Да не сливок, а молочка, за сливки бы она не похвалила! 15 Солнце наполняло просторную комнату. Все стало в ней золотым, и высокие шкафы красного дерева, и стекла, и кресла, обитые грязным оранжевым штофом, и тусклый коричневый деревянный потолок, и стертый паркет, и даже тени от сиреневых кустов, отраженные в стенках шкафов. Мальчик жадничал: находясь в такой солнечности, ему мало одной книги, даже самой замечательной, он снимал с полок то одну, то другую. Все мало. Вольтер, Франс, Теккерей, и вдруг стихи Антиоха Кантемира, просто невозможные стихи, — подавиться можно! — и стихи всяких декадентов, Бальмонт, Брюсов, Белый, Бодлер, Блок, и — «Великий розенкрейцер» Владимира Соловьева. Все умещалось в детской голове и раскладывалось что в дальний ящик, что в ближний, все для того, чтобы действовать, бороться, жить. Он сидит в кресле, обложенный книгами, погруженный в приключения и стихи, в красоту и несуразицу разбросанных по подоконнику томов, и не замечал Андриевского, тот писал за ломберным столиком, сочинял речь, которую, если бы удалось наступление Деникина, если бы власть пролетариата была свергнута, если бы образовалась демократическая республика, если бы выбрали его в депутаты, — он произнес бы с трибуны парламента: «Господа! Тирания торжествующего хама низвергнута! Институты демократических свобод…» Но тут в библиотеку в лице Быстрова вошел торжествующий хам, и Андриевский даже привстал. — Степан Кузьмич… Рад! Андриевский искренен, как все увлекающиеся люди, он тотчас забыл, чем только что занимался. А Быстров пытливо взглянул на Славушку: — Все читаешь? Много проводишь здесь времени? — Да не так чтобы… Андриевскому: — Вы этого паренька оставьте! В глазах Андриевского мелькнула усмешка. — Как вас понимать? — А так! Подсовываете всякие книжечки, отравляете мозги… Он посмотрел на книги. — Об чем это? — Разное. Стихи, — ответил Славушка. — Бальмонт. Блок… Все иностранцы. Белый… В самом деле белый или просто так? «Великий розенкрейцер»… А это с чем едят? Андриевский повел головой в сторону мальчика. — Его собственный выбор. — Нет, вы уж его оставьте, — строго сказал Быстров. — Понятно? — А меня нечего оставлять, — возразил Славушка. — Я сам знаю, что читать. — Ох ты!… Но сказал это Быстров даже одобрительно. — Просто он сюда приходит чаще других, — объяснил Андриевский. — А книжки выбирает сам. — У нас на него другие виды, — веско сказал Быстров. — Сейчас не до стихов. Славушка заинтересованно взглянул на Быстрова, а Андриевский прямо спросил: — Какие же это у вас на него виды? — Хлопчик нужен для революции, а не для стихов, — сказал Быстров. — Понятно? Во всем мире молодежь объединяется в Коммунистический Интернационал. — Мне вас не учить, только революция — дело мрачное, при чем тут дети? Быстров нахмурился, исподлобья поглядел на Андриевского. — Кому мрачное, а кому светлое, — твердо возразил он. — Вы в церкви бываете? — При чем тут церковь? — При том. Евангелие слушали? — Предположим. Даже читал. — Вы вот умный человек, образованный, словечка не скажете в простоте, а ребята не научились врать. Захотят, да не сумеют. — Быстров не смотрел на Славушку, но подразумевалось, что имеет в виду и его. — Слышали: устами младенцев глаголет истина? — Смотря какая! — А двух истин не бывает. — Ошибаетесь, Степан Кузьмич, у каждого человека своя правда. — Ну уж нет! Конечно, относиться к правде можно по-разному, можно и неправду назвать правдой, но правда одна: черное — черное, а белое — белое. — И вы хотите построить новое общество с помощью этих подростков? — Вы же не хотите строить? Да оно вам и не нужно! И строить новое общество будут они для себя. Не столько я с их помощью, сколько они с моей. — Это не плеоназм? — Чего? — То же самое, повторенное иными словами. — Ну и пусть… Как вы сказали? — Плеоназм. Быстров рассердился. Славушка заметил, как задергалась у него правая щека, она у него всегда дергается, когда он приходит в неистовство, — например, на митингах; когда клеймит мировой капитал, щека дергается так, точно вот-вот с ним случится припадок. Но припадков никогда не случается, и впоследствии Славушка убедился, что Быстров отлично умеет держать себя в руках, он подергивал щекой произвольно, это у него ораторский прием, так он становился страшнее и пользовался этим приемом, чтобы показать свое особое возбуждение. Быстров болезненно самолюбив, не любит, когда его дурачат, в неизвестном словечке Быстров уловил насмешку и рассердился, нарочно задергал щекой, чтобы напугать Андриевского. И тот испугался! В гневе Быстров страшен, это говорят все, хотя опять же он позволяет овладевать собой гневу лишь тогда, когда требуется стать неумолимым, когда он не смеет обнаружить сострадания, когда, например, у кулаков и помещиков отбирали имущество, выселяли их из насиженных гнезд или расстреливали грабителей и дезертиров. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Андриевский. — Нужно. Иначе зачем заехал бы я сюда? Слышали о положении на фронте? — Читал. — Меня вызывали позавчера в Малоархангельск. Офицерня рвется к Москве, нам приходится отступать. Отступаем с боями, изматываем противника. Требуется поднабраться сил, чтоб перейти в наступление. Возможно, придется оставить Орел. Но до Тулы не допустим, от Тулы мы его и погоним. Андриевский не возражал, а он любил поспорить. Славушка понял: Андриевский не верит Быстрову, думает, что Деникин дойдет до Москвы. Пусть думает. Славушка верит Быстрову. Он только хочет, чтобы белых погнали не от Тулы, а от Орла. Он не хочет видеть белых в Успенском. — Орел мы не отдадим, — уверенно сказал Славушка. — А ты не рассуждай, о чем не понимаешь, — оборвал Быстров. — Тут, брат, стратегия. Славушка насупился. — Позволите объяснить ему это слово? — спросил Андриевский. Быстров сверкнул глазами. — А я и сам сумею: стратегия — умение выиграть войну, а тактика — выиграть бой. Деникинцы одерживают тактические успехи, а вот в стратегии им с нами не совладать. Славушка лучше объяснил бы значение этих слов, но, по существу, Быстров прав. Славушка доволен, что Быстров не позволил Андриевскому пуститься в рассуждения о войне. — Вот что придется вам сделать, — заявил Быстров безапелляционным тоном. — Составьте обращение к населению на тот случай, если Советской власти придется эвакуироваться. Надо предупредить: не верить посулам, не давать лошадей — угонять, скрывать продовольствие, объявить — вернется власть, спросит с тех, кто пойдет навстречу Деникину. — Быстров схватил листок со стола. — Я напишу вам тезисы… — Это слово он хорошо знал. Но тут глаза его расширились, он прочел начало речи, которой Андриевский собирался приветствовать деникинцев. — Что это? — Выписки. Из сочинений писателя Мережковского. — А он кто? — Черносотенец. — Так для чего ж эти выписки? — Для речи, для моей речи, сравнить — чего хотят белые и чего… Славушка думает, что Быстров не поверил Андриевскому, но, должно быть, сейчас умнее сделать вид, что поверил. Быстров сел за стол, нацарапал несколько слов — «лошади хлеб продукты гужповинность доносы», знаки препинания он второпях не расставил, похлопал ладонью по листку. — Завтра к утру написать и принести в исполком. — Я не успею… — А не успеете, отправлю завтра в Чеку… — Напрасно, — сказал Андриевский, от волнения грассируя особенно сильно. — Зачем прибегать к угрозам? Я и так сделаю… — То-то. И написать так, чтоб ни у кого никаких колебаний! Андриевскому вообще не хочется писать, а Быстров требует, да еще с огоньком… Славушка не участвует в разговоре, но внутренне он на стороне Быстрова. Жизнь здорово потерла, но не очень-то отшлифовала этого поваренка из имения князей Корсунских, повар из него получился грубоватый, блюдами своего изготовления он вряд ли потрафит вкусу таких, как Андриевский, но они вынуждены не только есть, но и похваливать! Быстров знает свои возможности и не берется за то, с чем не справится, но зато с удивительной настойчивостью умеет принудить выполнять свои указания. Воззвание к населению, нацарапанное самим Быстровым, получится курам на смех, он знает это и вот заставляет врага, — конечно, врага! — написать воззвание, и тот напишет, и напишет так, как нужно Быстрову… Вот у кого учиться напору и воле! — Может быть, вы объясните поподробнее, что написать? — спрашивает Андриевский деловым тоном. — Мне кажется, к угрозам лучше не прибегать, люди привыкли к угрозам, лучше объяснить, что помогать деникинцам им просто невыгодно. — А мне это вовсе не кажется, им действительно невыгодно помогать деникинцам, — перебивает Быстров. — Вот это и объясните. — Хорошо. Ведь это же против себя, против себя, — Славушка отлично понимает, — а ведь соглашается… Славушка видел уже таких интеллигентов, не согласны, не верят, а выполняют приказ! — Только вы там не очень распространяйтесь, — сказал Быстров. — Покороче. А то у мужиков терпенья не хватит читать. Он еще учит! Не умеет, а учит! И Андриевский согласно кивает… И вдруг с Андриевским происходит метаморфоза, чем-то он неуловимо меняется. — Можно с вами откровенно, Степан Кузьмич? — Валяйте! Андриевский садится, откинувшись на спинку стула, у него довольно-таки бесцеремонный вид, и Быстров садится, подтянутый, настороженный. Солнце переместилось к юго-западу, золотистые блики исчезли со шкафов, корешки книг тускнеют, сиреневая тень стелется под потолком. — В чем смысл революции? Быстров озадачен. На митинге он нашелся бы, а так, с глазу на глаз, наедине с человеком, который никогда с тобой не согласится… Правда, в чем смысл революции? Крестьянам — землю. Рабочим — фабрики и заводы. А таким, как Андриевский? Постановка любительских спектаклей… Но конечный смысл революции Быстрову ясен. — Счастье. — А что такое счастье? Ну это-то Быстров знает, он читал об этом и сам это постиг: — Борьба! — Допустим, хотя я с вами и не согласен. Вы революционер, возможно, вы действительно находите счастье в борьбе… Но вот ваши дети… У вас, кажется, есть дети? — Да, от первой жены. — Быстрову не нравится вопрос. — Мальчик и девочка. — А как представляете вы счастье своих детей? — Ну как… Чтоб все у них было. Чтоб хорошо учились… — В голосе Быстрова нет уверенности. — Ученье, конечно. — Гм! Я что-то не представляю счастья в виде уроков математики или даже лекций по юриспруденции. Вы же говорите — борьба? — А разве овладение знаниями — не борьба? — Борьба с таблицей умножения? Андриевский ставит Быстрова в тупик, разговор-то ведь не на людях, требуется не переговорить противника, а отразить доводы по существу. — Серьезно, Степан Кузьмич, какой борьбы желаете вы своим детям? — продолжает Андриевский. — Дети нуждаются в конкретных материальных благах. — Никаких благ не получишь без борьбы! — Не дети же их добудут себе, вы их обязаны добыть детям. — Даровое счастье плохо ценится. — Даже у животных родители заботятся о детенышах, не бросают их в самостоятельную борьбу за существование. Быстров поколеблен, но Андриевский совершает ошибку. — В какой борьбе может участвовать, например, Славушка? — В классовой! — восклицает он. — В классовой! Мальчик молчит. Революционеру свойственна скромность. Быстров не нуждается в его поддержке. Но он всей душой с Быстровым. В какой борьбе он может участвовать? В классовой! В битвах пролетариата с буржуазией. Сейчас Быстров поставит Андриевского на свое место. Но встает Андриевский. Высокий, громадный, он гораздо крупнее Быстрова, спиной прислоняется к косяку окна, скрещивает на груди руки, ни дать ни взять — Цицерон перед сенатом. — Нет, Степан Кузьмич, вы совершаете непростительную ошибку. Ваша партия совершает ошибку. Хорошо, вам удалась ваша революция, вы пытаетесь удержаться у власти. История рассудит, кто прав, кто виноват. Но при чем тут дети? Оставьте детей в покое. Вовлекать детей в политическую игру — преступление… Быстров молчит, как-то по-мужицки молчит, не будь у него военной выправки, он бы и покряхтел, и затылок почесал, но он не кряхтит и не чешется, только молчит, раздумчиво, выжидательно, и вдруг произносит всего одно слово: — Вовлекать! Но как он его произносит! Славушка смотрит на Быстрова во все глаза. — О какой игре речь? Это жизнь, а в жизнь мы вовлечены с рождения. И мальчики сами устроят свою жизнь, как получше… — Вы полагаете, Слава знает, что ему нужно? Славушка не вмешивается в разговор. Но ведь это о нем. О нем спор! Да он и не может ничего сказать. Он не субъект, а объект спора. Слушай, слушай! Спор обо мне… За меня. Предыдущие поколения вступили в спор с ним самим… — Политика — занятие взрослых, а до совершеннолетия человек выполняет лишь биологические функции, он еще слишком в себе. Nosce te ipsum! Познай себя! Как цветок оберегают от сорняков, так и вокруг подростков следует пропалывать окружающее их пространство. Телята гибнут в стаде, пока не окрепнут… Проклятый Цицерон! Все бурлит в мальчике, как пар в закрытом котле. Это ведь его назвал Цицерон теленком… — Неправда, — спокойно возражает Быстров. — Я не знаю, что у вас на душе. Вы ставите спектакли, выдаете книги, насаждаете культуру… Служите народу. А иногда мне кажется, вы все это презираете и ненавидите. Но разбираться в вас нам некогда, а польза от вас очевидна. А если не верите в то, что делаете, это ваше личное дело. Ваше личное отношение к революции меня мало заботит, не для вас делают ее большевики. — Это уже с ним случалось — Быстров запутался, рассуждения увели его от основной мысли, и вот он снова и снова возвращается к тому, что сказал, теряется, не находя доказательств, и сердится, когда их не находит. — Думаете, революция — это нечто вроде коммерческой операции: сразу извлекай выгоду? Революция редко когда приносит пользу поколению, которое ее совершило, революции совершаются для последующих поколений… — Он ухватился за мысль, которую хотел высказать. — Революцию совершают определенные классы и в интересах своего класса. Нашу революцию совершил русский пролетариат в союзе с русскими мужиками. Но на этот раз для всего народа. Наша революция действительно принесет людям свободу и счастье. В труде, в личных взаимоотношениях, во всей их деятельности. Не сразу, а принесет. Поэтому мы и вовлекаем в революцию тех, кому предстоит пользоваться ее плодами… — Горькими плодами познания… Отравленными плодами! Вы бросаете детей в политику, как в пасть Молоха. Вы ссылались на Евангелие. Вспомните: поднявший меч от меча и погибнет. История повторяется. — Неправда! — страстно возражает Быстров. — Такой революции еще не было. Пролетариат не превратит капиталистов в рабов и не возвеличит своих детей за счет детей других классов. Пролетариат жертвует собой ради общего счастья. — Конечно. Пролетариату терять нечего… — Но мир он приобретет не для себя, а для всего человечества. — История повторяется. Молодежь была уже вовлечена в массовое политическое движение и… погибла. — Этого не было. — Вы знаете историю? — Кое-что знаю. — Слышали о крестовых походах? — Это когда феодалы и рыцари шли завоевывать Иерусалим? — Гроб господен. — Читал. — А слышали о крестовом походе детей? Быстров промолчал, он никогда не слышал о крестовом походе детей, но Славушка читал об этом какую-то повесть… — Религиозные войны, эпидемии, обнищание обездолили бесчисленное множество детей… И всякие проходимцы возглавили их движение. Дети из Франции добрались до Марселя, там их посадили на корабли, часть погибла в море, а большая часть попала в руки работорговцев и была продана в Египет. Дети из Германии дошли до Бриндизи, повернули обратно, и почти все погибли в Альпах от истощения и болезней… — Он помедлил. — А вы говорите, история не повторяется. Славушка думал, что Быстров рассердится, ждал вспышки, но тот, наоборот, повеселел. — Глупости вы все говорите, — ответил он. — Во-первых, у них не было реальной цели, а во-вторых, к молодежи мы и близко не подпустим никаких проходимцев… Славушка удивился — не заметил Быстров или не захотел понять намек, но Славушке захотелось поддержать Быстрова, хотя он отлично понимал, что Быстров не нуждается ни в какой поддержке. Мальчик собрал книги в стопку, сдвинул на край подоконника. — Я пойду, — сказал он. Андриевский повернулся к нему. — Далеко? Лиловое облако под потолком растаяло, деревянная обшивка поблескивала в прозрачном оранжевом свете, золотистая полоса теплого света лилась через окно. — В крестовый поход, — вызывающе сказал Славушка и перебросил ногу через подоконник. — Против кого же? — спросил Андриевский с насмешливым участием. — Против врагов революции! — крикнул Славушка и прыгнул за окно. — Против врагов революции! Лежишь, лежишь, а сон бежит с глаз. Тело неподвижно, а душа мечется, душа не может свернуться клубочком и заснуть. Ночь давила. Жестокость жизни давила. Ему жалко себя. Жалко до слез. У мальчика выступили на глазах слезы. О чем он плакал? Кто знает! Он и сам не знал. Разочарование в людях… Может быть, это самое тяжкое, что обрушивает на нас жизнь. Разочарование в человеке. В самом любимом, самом дорогом. Ты — лучшее, что произвела природа. И ты — худшее, что только есть в природе. Предчувствие множества обид и горестей жизни, какое-то неясное предчувствие, ощущение неизбежности. А он хотел быть сильным. И справедливым. Справедливым. К самому себе. Ко всем людям. К жизни. Как много говорят, толкуют, кричат об Отечестве! Как бессовестно склоняют это слово… А разве не сказано: не употребляй имени господа бога твоего всуе. А его употребляют. Спорят: что есть Отечество? Жуют, жуют это слово, а ведь это не слово. Нет человека без отца, и нет человека без Отечества. Отечество, ты моя душа, а без души нет человека! Славушка лежал в тумане июльской ночи. Где-то за окном дрожала пронзительно нежная песня полевого кузнечика. Бежали часы секунда за секундой. Шуршали в высоте листья. Нет, он не спал, слезы высохли, он ждал зари, ждал, когда розовый отсвет опередит солнце и окрасит пушистые облака, он клялся не забывать и не изменять, быть верным одной цели, быть лучше себя, лучше самого себя, всегда быть лучше самого себя! 16 В отступление Красной Армии никто не верил… Проскользнули отдельные сообщения в газетах, доходили какие-то слухи, говорили, что Деникин наступает, причем имелся в виду не столько сам генерал Деникин, как вообще враждебные недобрые силы, которые катятся откуда-то с юга, с Дона, с Кубани, из далеких Сальских степей, создавалось впечатление, что белогвардейцы обходят большие города стороной, думалось, что и Успенское останется в стороне. В исполкоме работа шла своим чередом, власть где можно подбирала хлеб, хотя и без особого нажима, делили и переделяли землю, разбирались какие-то гражданские дела, и только начальство, увы, редело день ото дня, да и сам Быстров становился все мрачнее и мрачнее. Война ворвалась к Астаховым в образе Егорыча, младшего брата Прасковьи Егоровны. Был он неудачник, бедняк, бобыль, маленький, седенький, вертлявый старичок, все им пренебрегали, слыл он первым сплетником во всей округе и никогда не появлялся без новостей. Настроение у всех, как перед грозой, тревога терзает Павла Федоровича, как въедливая головная боль, а вот поди ж ты, раздался знакомый скрипучий голосок, и стало как будто легче. Трухлявая таратайка Егорыча не успела еще остановиться, а Егорыч что-то уже кому-то кричит, с кем-то здоровается, что-то кому-то сообщает и смеется заливистым детским смехом. Лошадь он не распрягает, из чего явствует, что прибыл Егорыч ненадолго, привязывает своего саврасого одра — «чтоб тебе ни дна ни покрышки!» — к одному из столбов галереи и вбегает в кухню. — Мир дому сему и кобелю моему! Такое приветствие он считает отменной шуткой. — Откуда вы, дядя? — спрашивает Павел Федорович. — Где бывал, никто не видал, а куда спешу, никому не скажу! — И Егорыч опять заливисто смеется. — У меня новостей на сто гостей, на рупь, на пятак, а хозяйке за так, чайком угостит — даром отдам! Без чая он не уедет, для него чай лучшее угощение, дома у него ни заварки, ни сахара, и, чтобы напиться чаю, он способен трюхать из Критова не то что до Успенского, а хоть до Москвы. Павел Федорович вздыхает: — Надежда, ставь самовар… — С медком или сахарком? — осведомляется гость. — Лучше бы с медком, со свеженьким… Качали давно? Он садится, вскакивает, снова садится, юркий, как бес, и, как бес, лукавый и любопытный. — Троцкий себя царем объявил, — сообщает он. — Только препятствия есть… — Кем? — Царем! — Ну что вы мелете? — грубо вмешивается Славушка. — Троцкий народный комиссар… — А что из того? Разве из комиссаров в цари заказано переходить? — отвечает Егорыч. — Тут другая препятствия, на царствие надо в соборе присягать, а он масон. — Какой еще масон? — Это я для деликатности, а проще сказать — иудей, а иудею нельзя в церкву, а без церквы на царствие… — Вы лучше скажите, что про войну слышно? — Льгов взят, Фатеж взят, Щигры взяты, Мармыжи взяты, Малоархангельск заберут не сегодня-завтра… — И все вы врете, — перебивает Славушка. Егорыч нисколько не обижается. — Как разговаривает! Что значит молодая поколения! Надоть сестренку проведать… Возвращается он очень скоро. — Ничего, еще поживет, только дух от нее… Надежда подает самовар, Павел Федорович приносит из кладовой мед и чай, сам заваривает, ставит чайник распариться на самовар, сам разливает чай по стаканам. Егорыч пьет первый стакан торопясь, обжигаясь, второй пьет медленнее, третий совсем не торопясь. — Паш, а, Паш, они вправду идут. В Моховом уже. Подготовился? — А чего готовиться? Придут, уйдут… — Подрубить могут хозяйство. Зерно схоронил? — А чего его хоронить? Не мыши, не сгрызут. — А я бы на твоем месте пшеничку в светличку, гречку под печку и овес бы унес! — Да что они — кони, что ли, овес жрать, овса даже Быстров не забирает, не нарушает хозяйства. — Так-то так, а я б схоронил! — Егорыч опять заливисто смеется, придвигаясь к племяннику, шепчет ему что-то в самое ухо, Славушка слышит лишь отдельные слова. — Снизки, борки… — Это о жемчужных снизках, что покупала в приданое дочерям Прасковья Егоровна, да пожалела отдать. — Под матрас, под ейный матрас, старуху побрезгуют шевелить… Амбре! — Старик взвизгивает. — Никто как бог, а сам не будь плох… Егорыч по обыкновению ерничает, но Павел Федорович сосредоточен — советами шутов не следует пренебрегать. Славушка выбирается из-за стола, идет в исполком, он часто туда наведывается, но там все как будто спокойно, занятия движутся своим чередом. Дмитрий Фомич строчит бумажки, а перед Быстровым топчется какой-то старикашка, судя по разговору, — мельник, и Степан Кузьмич убеждает его, что гарнцевый сбор надлежит сдавать государству, и настроен Быстров сегодня даже веселее обычного. 17 Точно кто толкнул его в бок. Славушка открыл глаза. Никого. Спал Петя. Спала мама. Петя сопит, время от времени похрапывает, лицо сердитое, точно серьезные заботы не оставляют его и во сне. Мама спит нежно, раннее утро шелестит за окном, и мамино дыхание сливается с шелестом листвы. Мальчик соскочил с дивана, — штаны, рубашка, туфли на веревочной подошве, — скользнул в окно и был таков! Возле исполкома все находилось в движении. Подвод стояло что-то много. Славушка не мог сообразить сколько, да и не пытался сосчитать, мужики и делопроизводители во главе с Дмитрием Фомичом таскали бумаги, всякие там папки и пачки, миру на удивленье, сколько уже накопилось дел, навалом складывали документы в телеги и опять несли. Мальчик встал меж телег, Дмитрий Фомич не обратил на него внимания. Ни Быстрова, ни Данилочкина, ни Еремеева нигде не было видно. Он пошел прочь, чувствуя себя очень одиноким, — эвакуируются, а до него никому никакого дела, ему даже эвакуироваться не нужно. В доме все еще спали, но от коровника шаркала Надежда с ведром, ее сопровождал Павел Федорович, впрочем, не ее, а молоко, обычно коров доила Марья Софроновна, но иногда Павел Федорович жалел жену, не будил, посылал Надежду, в таком разе вставал сам присмотреть за Надеждой, чтоб не отлила Федосею, не отпила сама. Павел Федорович осклабился: — Удирают? — Уезжают. — Через час здесь от них ни следа. — Нет, у них здесь еще дело. — Дело? — Жечь будут. — Чего? Бумаги? — Бумаги увезут, дома. — Какие дома? — Кулацкие. Не оставят ни одного хорошего дома, чтоб деникинцам негде квартироваться. — Брось, не может того быть… Ничего похожего Славушка не слышал, да и Павел Федорович не поверил ему, но тревога все-таки закралась: а вдруг… — Поди, поди послушай, — деловито сказал Павел Федорович. — В случае чего прибежишь. Славушка никуда не пошел, и Павел Федорович успокоился, — значит, и Славушка, если и слышал что, не принял такой угрозы всерьез. Вера Васильевна тоже встала, она упрекнула сына: — Ты бы хоть каким-нибудь делом занялся… Петя собирался на хутор, ему всегда находились дела по хозяйству, но что делать Славушке, она и сама не знала. Напились чаю — вот уже с год вместо чая заваривали пережаренную морковь, с молоком напиток получался не такой уж невкусный, особенно с ржаным хлебом, с медом, мед подавали в сотах, потом воск собирали и перетапливали. Петя ушел на хутор. Пешком. Помогать сторожить сад. Яровые яблоки поспели, подростки и девки лазали их воровать днем, ночью боялись собак и дробовика. Славушка еще раз сходил к исполкому. Дмитрий Фомич сидел на передней подводе. Он опять не заметил мальчика. Обоз с бумагами тронулся и исчез под горой. Но и для Славушки нашел Павел Федорович дело. — Не съездишь с Федосеем? Хочу послать с яблоками… На этот раз Славушке предназначалась роль представителя торгового дома Астаховых, утром Павел Федорович караулил, чтоб Надежда не украла молоко, а теперь направлял Славушку с Федосеем, чтоб тот не прикарманил выручку. — Смылись твои опекуны, теперь у тебя развязаны руки. Поедешь? А почему бы и не поехать?… Веселей, чем сидеть дома. — Поеду. Но тут «тук-тук, тук-тук…». Стучит-постукивает култышка дяди Гриши. Он без спроса входит на чистую половину, без спроса открывает дверь в залу. — Тебе чего? — недовольно спросил Павел Федорович, после эвакуации исполкома Григорий мог прийти лишь от самого себя, можно перед ним не заискивать. Григорий пошевелил губами: — Пест, пест… Приложил палец к губам, подмигнул, показал куда-то себе за ухо. — Чего? — хмуро переспросил Павел Федорович. — Мне бы Вячеслав… Николаича! — с усмешкой произнес Григорий. — Кролики. — Чего кролики? — Разбежались. Не поймать при одной ноге. Помочи прошу у Вячеслав Николаича… Славушка встрепенулся. — Пойдем, дядя Гриша. Выскочил опрометью, Григорий поскрипывал сзади деревянной ногой. — Да погоди ты, Вячеслав… Славка! — Ну? — Степан Кузьмич приказал втихую позвать, в комитет партии созывает. Славушка ворвался в помещение волкомпарта. Там находились все комсомольцы, что жили в Успенском, и, конечно, откуда его только черти принесли, всюду успевающий Саплин. Быстров вошел вслед за Славушкой, стал у стола, невеселыми глазами посмотрел на комсомольцев. — Товарищи! — сказал он. — Нам приходится временно оставить Успенское. Временно оставить нашу волость без Советской власти. Неизвестно, как скоро придут деникинцы, но вы должны быть готовы. Первое ваше испытание… В голубых глазах Быстрова отчаяние. — Мы ушли… — Он поправился: — Уходим. А вы остаетесь. Будете вести себя разумно, деникинцы не обратят на вас внимания. Если случайно услышат о ком-нибудь, что он комсомолец, ответ прост: записывали всех, записали и меня. Но вы коммунисты. Вы стали коммунистами раньше, чем стали взрослыми. Жить надо тихо, но не идти на службу к врагу. Если что понадобится, вам дадут знать. Мы хотим вас сохранить, и вы обязаны подчиниться. У коммунистов еще большая дорога. А теперь — по домам… — Он подходит к каждому и каждому пожимает руку. — Расходитесь. По одному. — Задержитесь, — говорит Славушке Степан Кузьмич, подходит к двери, закрывает плотнее. — Слушай внимательно. — Глаза все такие же, голубые и печальные, но глядит он в твои глаза и, кажется, читает все твои мысли. — Никуда мы не уходим, будем по логам да задворьям скрываться. Тебе — ждать. Все примечай и на ус мотай. Поручения будут, а пока что через день за реку, часов около пяти, на опушке, повыше усадьбы Введенского. — А меня Пал Федорыч по деревням посылает, — пожаловался мальчик. — Зачем? — Яблоками торговать. — Отлично, — похвалил Быстров. — Поезжай, прощупай настроение, приглядись, кого куда клонит… Веди себя умненько, ни с кем не ссорься, не спорь. Ваш дом обязательно под постой какому-нибудь начальству отведут… Смекнул? Беги! Теперь Славушке не скоро придется здесь побывать. Стены, выбеленные серой известью, грубка о четырех углах, скамейки… Что хорошего? А грустно… Возле дома телега, накрытая выцветшим белесым рядном, с впряженным в нее Орленком, старым мерином, на котором нельзя уже ни пахать, ни гулять, можно только не спеша тащиться по деревням. Федосей сидел на приступке, вытянув ноги по земле. — Пришел? — незлобиво спросил он, моргая своими собачьими глазками. — Пал-то Федорыч бесится, стал быть, не доверяет мне одновча. Павел Федорович ждал Славушку, яблок в лавке гора, яблоко легкое, яровое, даром сгниет. — Яблоки набирай чохом, просом или рожью — мера за меру, на яйца — гарнец десяток. Орленок тронул с места иноходью, Федосей на облучке за кучера, Славушка барином на возу. Семичастная. Народу на улице нет. Но Федосей откидывает рядно и… поет. Тоненьким сдавленным фальцетом: Ой, полным-полна моя коробушка, Есть и ситцы и парча. Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча! Только что никого не было, а девок уже видимо-невидимо, кто с рожью, кто с пшеном, а кто и с яичками, всем хочется погрызть яблочков. «Стой, мил-лай!… Гарнец — десяток. Известно чего, яиц. Курячьих, курячьих…» Откуда-то из-за изб высыпали ребятишки. Почем наливные? Завтра сгниют, а сегодня сжуют. Федосей расхваливает товар, а его не надо хвалить. Яблочки так себе, слабое яровое яблочко, да еще вперемежку с падалицей. Славушка знай себе орудует гарнцем. Ссыпает зерно, накладывает яблоки. Вот тебе и задание по изучению настроений. Торговля с возу! Эй вы, купчики-голубчики… Тпру! 18 Быстров со Славушкой в исполкоме. До чего же здесь пусто! Все поразъехались, поразбежались. Кто по обязанности, а кто и по трусости. Никитину страсть как не хотелось уезжать, а потащился с документами к Туле, бумага не золото, не ограбят, но оделся попроще, если где задержат: «Мобилизовали, вот и везем». Еремеев прощается с какой-нибудь девкой, а у самого ушки на макушке, все слышит — где, что, откуда. Девка, сама того не ведая, докладывает обо всем, что деется по деревне… Константин Быстров — его почему-то считают двоюродным братом Степана Кузьмича, хотя они только однофамильцы, — тихий мужичок, по должности завсобесом, где угрозой, где уговором отнимает у мужиков коней, суля по возвращении из эвакуации золотые горы: «Вернемся, прирежем тебе сверх нормы, богом клянусь, три, нет, четыре десятины земли». Зернов сидит дома, надеется, что его забыли… Но Степан Кузьмич никого не забудет. Даже Зернова. Хоть и не любит его. Но во имя революции приемлет и Зернова и Никитина. И лишь немногим из тех, кто остается, он доверяет так, как Ознобишину. Это его глаза и уши. Зайчонок, как поглядишь! Но от зайца в нем только быстрота… Покажи, маленький, на что ты способен! Сумерки. Быстров и Славушка в большой пустой комнате. Мальчик и Революционер. Степан Кузьмич поставил ногу на стул, обнял колено, голос приглушил, точно сказку рассказывает. — На Озерне, повыше омута, над поповским перекатом, вверх, в березняк, за кустами… Умеешь по-перепелиному? Пиить-пить-пить! Пиить-пить-пить! — Он втягивает губы и певуче нащелкивает тонкий перепелиный клич: — Пиить-пить-пить! Пиить-пить-пить! Славушка повторяет, но у него не получается. Отвлекает их тарахтенье тарантаса. — Есть кто? Высокий небритый сероватый человек в потертой солдатской шинели и черной суконной шапке-ушанке, подбитой заячьим мехом. Быстров соскочил со стола. — Афанасий Петрович? Здравствуйте, товарищ Шабунин! — Здравствуй, Степан Кузьмич… — Приезжий взглядом обвел комнату. — А где же остальные? — Нормально, по огородам, за околицей. — А это кто? Шабунин оценивающими глазами смотрит на Славу. — Руководитель местной молодежи. Шабунин слегка улыбается. — Не мал? — Мал, да дорог, — серьезно отвечает Быстров. — Цыпленок, — с сомнением, как кажется Славушке, произносит Шабунин и задумчиво добавляет: — Что ж, посмотрим, цыплят считают по осени… — А у нас как раз осень, — говорит Быстров. — Волкомпарт доверяет ему. — Ну если волкомпарт… — А к нам каким образом? — Поделили уезд и разъехались, хотим знать, что оставляем и что найдем. В комнате темнеет. На стенах белеют пятна. Портреты вождей Быстров эвакуировал вместе с бумагами исполкома. Славушке ужасно не хочется, чтоб его прогнали. Шабунин опускается на диван, пружины сразу продавились. — Докладывайте обстановку. — Документы отправлены под Тулу с секретарем исполкома. Учителя предупреждены, занятий не начинать. Население тоже. В случае, кто подастся к деникинцам, ответит по всей строгости… Шабунин нетерпеливо перебил: — Ну а сами, сами? Коммунисты эвакуировались? — Не проявившие себя оставлены по домам. — А проявившие? — Сформировали отрядик. — Что будете делать? — То здесь, то там. Советская власть не кончилась… Шабунин пытливо смотрел за окно. Вдалеке кто-то кричал. Визгливо, жалобно. То ли кто кого бьет, то ли жалеет. — Уверены, что Советская власть не кончилась? — Уверен. — И я уверен. Славушка слушал завороженно. Вот какие они — коммунисты: ни тени сомнения! Шабунин сжал губы, покачал головой, точно что-то сказал самому себе, и лишь потом обратился к Быстрову: — Должен сказать, что положение весьма катастрофическое… — Сердито посмотрел на Славушку, точно тот во всем виноват, и пригрозил ему: — А ты слушай, да помалкивай, партия языкастых не терпит. Его учили помалкивать, но лишь много позже он узнал, что не болтать языком и жить молча не одинаковые вещи. — Малоархангельск мы сдадим. Сдадим Новосиль. И Орел, вероятно, сдадим. Фронт откатится к Туле. Но Тулу не сдадим. Это не предположение. Так сказал Ленин. Они рвутся к Москве, но мы отбросим их и погоним и, чем меньше перегибов с крестьянами, тем скорее погоним… — Встал. — Мне еще в Покровское. Быстров тряхнул головой, льняная прядь наползла на глаза, рукою взъерошил волосы. — Разрешите обратиться… К уездному комитету партии. — Обращайся. — Шабунин поморщился. — Знаю, что скажешь, и наперед говорю: отказ. — Много коммунистов ушло в армию? — Послали кой-кого. Но кой-кого придержали. Тыл — фронт. Требуется разумное равновесие. — Архив отправлен, исполком эвакуирован, к появлению врага все подготовлено. Разрешите на фронт? — Голос Быстрова сорвался. — Афанасий Петрович, я очень прошу! — Нет, нет, — сухо обрезал тот. — Мы не можем оголять тыл. В армию всем хочется, а отодвинется фронт, кто здесь будет? Он молча протянул Быстрову руку, потом Славушке. Втроем вышли на крыльцо. На козлах тарантаса дремал парень в брезентовом плаще. — Селиванов! Парень встрепенулся, задергал вожжами. — Давай в Покровское. На речке кто-то бил вальком, полоскали белье. — Все нормально, — негромко сказал Шабунин и, сидя в тарантасе, озабоченно спросил: — А в своих людях, Степан Кузьмич, вы в них уверены? Вместо ответа Быстров сунул в рот два пальца и свистнул, и тотчас издалека послышался такой же свист. — Отлично, действуйте, — сказал Шабунин. — И запомните: от имени уездного комитета я запрещаю вам даже думать о том, чтобы покинуть волость… — Он легонько хлопнул кучера по спине. — Поехали. — Кто это? — спросил Славушка. Тарантас затарахтел. — Самый умный коммунист во всем уезде, — похвастался Быстров. — Председатель уездного совнархоза. Свистнул еще раз, появился Григорий с лошадью, Быстров перехватил у него поводья, вскочил в седло, наклонился к мальчику. — Иди, не надо, чтобы тебя здесь видели. Теперь, когда война приблизилась вплотную, подчиняться следовало беспрекословно. — А ну, как кричат перепела? — окликнул Быстров мальчика, когда тот почти растворился во мраке. — Ну-ка! Славушка подумал, что это очень неконспиративно, но подчинился опять. — Пиить-пить-пить! — ответил он одним длинным и двумя короткими звуками: — Пиить-пить-пить! И задохнулся от предвкушения опасности. 19 Удивительный день, солнечный, прохладный, безлюдный. Небо голубое, лишь кое-где сквозистые перистые облачка. Легкий ветерок приносит дыхание отцветающих лип, а если вслушаться, то и жужжание какой-нибудь запоздалой пчелы, еще собирающей нектар для своего улья. Пахнет старым устоявшимся деревом и пылью, благородной пылью на полках книжных шкафов. В библиотеке тишина. Андриевский пишет. Славушка в громадном кресле павловских времен, вплотную придвинутом к окну. На коленях у мальчика книги. Он поглощен поисками пьесы. Какой-нибудь необыкновенной пьесы. Мольер, Херасков, Луначарский. А за спиной Андриевский. И все пишет. Что он пишет? Письма родственникам в Санкт-Петербург, как неизменно называет он Петроград?… А может быть, заговорщицкие письма? Любить Советскую власть ему не за что… Синее небо. Сладкие запахи. Зеленые тени. Тургеневский день. День из какого-нибудь романа. Из «Руднева» или «Базарова». Впрочем, Базарова не существует. «Отцы и дети». Отцов и детей тоже не существует. Андриевские не отцы, и Ознобишины им не дети. — Что это вы тут пишете? Негромко, спокойно и неожиданно. Славушка поднимает голову. Откуда он взялся? Быстров в дверях библиотеки. Похлопывает хлыстиком по запыленным сапогам. Все думают, что он уехал, а он не уехал. Появляется то тут, то там, даже вот в Народный дом завернул. Небрежный взгляд на Славушку. — А, и ты здесь… И снова любезно, спокойно и негромко Андриевскому: — Что пишете? Андриевский встал, стоит. — Письма. — Интересно… Быстров протягивает руку, и… Андриевский подает ему свою писанину. — Мечтаете вернуться в Петроград? — Родной город. «Годной гогод». Письма возвращаются царственным жестом — мол, все в порядке. — Не советую. — Я вас не понимаю. Быстров садится, и Андриевский тоже вынужден сесть. — Проезжал мимо, нарочно завернул предупредить… — Я весь внимание. — Вы газеты читаете? — Иногда. — О положении на фронте осведомлены? — Приблизительно. «Пгибгизитегно». Грассирует точно гвардейский офицер. Но играть на сцене предпочитает обездоленных героев Островского: Митю Коршунова, Тихона Кабанова, Григория Незнамова, мы, мол, без вины виноватые. — Н-да, положение того… — Быстров задумчиво смотрит на Андриевского, а Славушка посматривает на Быстрова. — Может случиться, Деникин докатится и до нас… — Когда? — Не торопитесь, может, и не докатится. А если докатится, ненадолго. На всякий случай я и хочу предупредить… Андриевский бросает на собеседника любопытный взгляд. — Меня? — Не вздумайте уехать ни в Петроград, ни вообще. Вы останетесь здесь, будете охранять этот дом. Беречь народное имущество. Со стороны деникинцев вам опасаться нечего, но в отношении Советской власти вести себя лояльно. Понятно? — "Пгостите"… Простите, я не вполне понимаю… — Андриевский, кажется, действительно не понимает Быстрова. — Если придет Деникин, вы хотите связать мне руки? — Вот именно. — Превратить в сторожа народного имущества? С каким сарказмом это сказано: «нагодного имущества»! — Вот именно. — Ну, знаете ли… Слишком многого вы хотите. — Я хочу сохранить этот дом. — А вы не думаете, что этот дом возвратят владельцам? — Не успеют! — Но я-то предпочту Петербург. — Тогда поплатятся все Пенечкины, откроем Народный дом в Кукуевке. — Но если это вне моих сил… Тут Быстров обращает внимание на Славушку. — Слышал наш разговор? Мы поручим охрану… Андриевский смотрит на Славушку уничтожающим взглядом. — Ему? — Не ему одному, молодежи… Все-таки Быстров излишне доверчив. Неужели Степан Кузьмич не замечает иронии Андриевского? Не столько к самому Быстрову, сколько ко всему тому, что символизирует собою Быстров. — Вы знаете, что отличает большевиков от всех политических партий? То, что они вмешивают политику во все области человеческой жизни, никого не хотят оставить вне политики. — Андриевский прислонился спиной к книжному шкафу, книги — это его тыл. — Взрослые ответственны за свои поступки, да и то не все. Но для чего вы позволяете играть в политику детям? — Чтобы политикой не могли заниматься некоторые взрослые! Он поворачивается к собеседнику спиной, теперь он обращается к Славушке, хотя слова его предназначены Андриевскому. — Слышал? Продолжайте посещать Нардом. Пользуйтесь библиотекой. Устраивайте спектакли. Виктор Владимирович даст тебе вторые ключи… — И не подумаю, — произносит за его спиной Андриевский. — Даст, а не то у него будет бледный вид, как у того Карапета, — продолжает Быстров. — Ты будешь здесь представителем молодежи, и если… — Секунду медлит, раздумывает, как назвать Андриевского — господином или товарищем. — Если товарищ Андриевский позволит себе какую-нибудь провокацию, ты осведомишь меня. Ну а если по вине товарища Андриевского с твоей головы упадет хоть один волос, меч революции обрушится не только на него, но и на всех Пенечкиных… — Нет, это уж слишком! — говорит за его спиной Андриевский. — Понял? — спрашивает Быстров мальчика. — Нет никаких оснований прерывать работу культурных учреждений, и пусть все, кого клонит то вправо, то влево, помнят — у нас хватит сил поставить их… Он не договаривает, но слушатели его понимают. — Проводи меня, — говорит Быстров и добавляет, специально для Андриевского: — Ключи! — Нет, — говорит Андриевский за его спиной. — Пошли, — повторяет Быстров. — Вечером еду в Тулу. Славушка понимает, что никуда он не едет… Спустились с крыльца, свернули в аллею, сирень давно отцвела, рыжие кисти пошли в семена. — Степан Кузьмич!… — кричит позади Андриевский. Славушка останавливается. — Идем, идем, — говорит Быстров. — Слава! Сла-ва-а-а!… Товарищ Ознобишин! — Иди, — говорит Быстров. — Да постойте же… Славушка слышит, как сзади их нагоняет Андриевский. Добежал, идет сзади, запыхался. — Степан Кузьмич… Быстров шагает как шагал. — Возьмите… — Возьми, — говорит Быстров. Андриевский сует ключи мальчику в карман. — Идем, — говорит Быстров. Андриевский отстал, Славушка не видит, но вид у того, должно быть, в самом деле бледный. — Ты с девчонками здесь еще не гуляешь? — спрашивает Быстров. — Нет. — А лягушками их пугаешь? — Нет. — Надо с тобой посоветоваться… Если бы Славушка сказал, что гуляет с девчонками, Степан Кузьмич все равно будет советоваться, но, если сказать, что терзаешь лягушек, вряд ли он удостоится доверия Быстрова. — Ума не приложу, что делать с Александрой Семеновной? Только тут приходит Славушке на ум, что за всеми делами по эвакуации Быстров забыл о собственной жене. — Отправьте, отправьте ее, Степан Кузьмич, — умоляет Славушка. Быстров хлыстиком почесал себе лоб. — Красные будут знать, что она жена председателя ревкома, а белые — дочь генерала Харламова. — А если белые узнают, что она ваша жена, а красные, что она дочь генерала? — Тогда скверно. — Так увозите! — Я и хотел… — Он хлыстиком принялся сбивать рыжие султаны сирени. — А она не хочет. — Почему? — А может быть, отправить и тебя? — неожиданно предлагает Быстров. — Мне ничто не грозит. — Вождь молодежи! — Смеетесь? — Мне, брат, не до смеха. — Сами учили: спектакли, танцы… — Вот и говорю: легко дотанцеваться. — Но вы сами сказали, что нужно остаться. — Нужно-то нужно, мальчик из богатого дома… — А говорите — отправить! — Ума не приложу… Пахнет медом, душистым липовым медом, звенит пчела, вьется вокруг головы. Славушка отмахивается, но пчела носится вокруг, как угорелая. Не надо махать руками. — Ну, прощай, — произносит Быстров. Славушка не успевает ответить, Быстров ныряет в заросли сирени, и его уже нет. Куда это он? Если в Семичастную, не миновать усадьбы Введенского. Андрей Модестович не слишком-то обожает Советскую власть. Как это Степан Кузьмич не боится? 20 Странное затишье. Точно все замерло — и в людях, и в природе. Близилась осень, а никто о ней будто и не думал, неопределенность порождала леность мысли, даже Федосей и Надежда двигались, как сонные мухи, даже Павел Федорович меньше хлопотал по хозяйству, все уединялся с Марьей Софроновной. Вера Васильевна по-прежнему заранее готовилась к занятиям, перечитывала учебники, доставала книги, делала выписки. Утром она выпросила у деверя лошадь съездить в Козловку, там учительствовали две сестры — Ольга Павловна и Варвара Павловна, фамилия одной Шеина, другой — Франк, Варвара Павловна замужем за бароном Франком, и все в округе зовут обеих сестер баронессами. Франк, выйдя в отставку, был он военным инженером, поселился в деревне, жена и свояченица, хоть и происходили из дворянской семьи, в молодости встречались с Фигнер и Засулич, сами едва не стали народоволками и служение народу считали первейшей обязанностью всякого образованного человека. Поэтому имение приобретено было ради идеи: сестры решили выстроить школу и посвятить себя просвещению крестьян. Постройка школы совпала по времени с русско-японской войной, брат Ольги и Варвары, морской офицер, командовал крейсером «Светлана», потопленным японцами в Цусимском бою, он тоже был настолько предан идее долга, что так, стоя на капитанском мостике, и пошел ко дну вместе со своим крейсером. Сестры назвали школу в честь брата «Светланой». Козловка выделялась среди окрестных селений, почти все ее жители были грамотны, книги и мыло водились в каждой избе, а возле многих изб росли вишни и яблони. Вера Васильевна познакомилась с Ольгой Павловной на учительской конференции, пожаловалась на отсутствие иностранной литературы и получила приглашение приехать в Козловку за книгами. Хоть и неохотно, но лошадь Павел Федорович дал, и Вера Васильевна с сыном с утра покатили в гости. Сестры мало схожи, хоть и погодки, им лет под шестьдесят, Ольга Павловна грузна и медлительна, Варвара Павловна подвижна и худощава, под стать мужу, худенькому полуслепому старичку с короткой бородкой. Гостей встретили радушно, напоили чаем, угостили яблоками и повели в школу, в которой хранилась библиотека. В простых некрашеных шкафах Байрон, Диккенс, Гёте, Шиллер, Гоголь, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Толстой, Тургенев, Бальзак, Гюго, Дидро, Руссо… У Славушки разбежались глаза. Ольга Павловна раскрыла шкафы. — Выбирайте. — Берите, берите все, что надо, — предлагал Франк, тыча вверх сучковатой палкой. Вера Васильевна смущенно развела руками. — Не могу. Полные собрания. Страшно разрознить… — Мы не знаем, что будет завтра, говорят, деникинцы жгут школы, убивают учителей, — уговаривала Ольга Павловна гостью. — Не стесняйтесь… Вера Васильевна поколебалась, взяла два томика Мопассана, томик Беранже, тем более что в Успенском, в библиотеке Нардома, есть Беранже в переводах Курочкина, томик Гейне, томик Гауптмана… Старик осторожно притрагивался к корешкам книг. — Набирайте, набирайте… Набралась тяжелая связка. — Я верну весной, по окончании учебного года. — И отлично, — одобрила Ольга Павловна. — Захватите с собой еще яблок. — У нас есть яблоки… — Не такие, как наши, — возразила Ольга Павловна. — У нас сорта, выведенные Алексеем Павловичем… Вернулись домой и узнали, что началось отступление. Пока они были в гостях, через Успенское прошла большая воинская часть, усталые люди, безразличные ко всему на свете. Больше не показывался никто, и Славушка лег спать разочарованный. Около полуночи загромыхали в сенях. Загремела щеколда. «Света!» Павел Федорович дрожащей рукой запалил лампу. «Света!» Человек двадцать ввалилось, вид у всех обшарпанный. Потребовали золота. «А ну, хозяин, все золотишко на стол…» Павел Федорович не стал отрицать, что золото было. «Было, да вчера об ту же пору нагрянул особый отдел, все обшарили, забрали золото, даже серебро, даже ложечки чайной не оставили». — «Эти могут, мать их, прости господи…» Ночные гости не стали перетряхивать сундуки, удовлетворились двумя караваями хлеба. «Бывайте здоровеньки…» Часа через два, в сизый предутренний сумрак, вломилось еще с десяток солдат. Усталые, озверелые. «А ну, помещица, отдавай добро…» Конопатенький солдат приставил к виску Веры Васильевны пистолет. Вера Васильевна осталась безучастной, солдат опустил руку. «Раскрой чемодан!» Звякнула металлическая коробочка из-под каких-то патентованных пилюль. Солдат кинулся, в коробочке пуговицы, торопливо сунул коробку в карман. Славушка вдруг понял, что это действительно отступление, в арьергарде всегда мечется всякий сброд. Утром в село вошла еще какая-то отставшая часть, солдаты разбрелись по избам, там, где их кормили, все обходилось тихо, а где отказывали, ловили курей, сами рубили им головы, сами ощипывали и варили в хозяйских чугунках. Утром кто-то принес слух, что отступающие части расстреляли в Козловке барона Франка. Спустя день слух подтвердился. Вера Васильевна собралась было к баронессам: «Им, вероятно, надо как-то помочь». Но на этот раз Павел Федорович категорически отказал в лошади: «Вы что, в уме? Идут военные действия, пропадете ни за понюх табаку». А еще через день пришел кто-то из Козловки и сказал, что «седни мы похоронили барона». 21 Несколько дней тишины, и вдруг они появились. Небольшой конный отряд. Спешились у церкви, квартир не искали, пошли по избам — пожрать да прихватить чего на дорогу. «А ну, хозяйка, собери…» — «Да чего собрать! Шти вот…» — «Момент!» Кавалеристы умеют кур ловить. Раз, раз!… «Да что ж вы, разбойники, делаете?!» — «Твое дело, тетка, пожарить, а наше пошарить…» К Астаховым обычно заворачивало начальство. Нервный стук в окно. Никуда не денешься. Выходи, Надежда. За нею Павел Федорович. — Кто тут хозяин? Офицер в сопровождении четырех казаков. Подтянут. Брит. Молод. Любезен. — Э-э… Ротмистр Гонсовский! С кем имею честь? — С этаким прононсом: «Гоннсовский!» — и даже с полупоклоном. — Пардон… В силу обстоятельств военного времени обязан произвести осмотр помещения… И опять этакий легкий жест: извините, ничего не поделаешь… Вера Васильевна читала. Надо же делать вид, что сохраняешь полное присутствие духа. — Пардон… Марья Софроновна ни жива ни мертва. Мало ли чего могут попросить! Не откажешь. А потом оправдывайся перед Павлом Федоровичем. — Откройте! Офицерский пальчик постукал по сундуку. — Заховали куда-то ключ. Наивный человек Павел Федорович. Ротмистр одному из подручных: — Ефим, взломать… Марья Софроновна кинулась к сундуку: — Я открою! Наволочки, простыни, исподние юбки, рубашки, штуки сатина, мадаполам… — Ефим… — Ротмистр пальчиком указал на простыни. — Для нужд армии. Раз — у одного из казаков появился в руках мешок, два — простыни исчезли. Фокусы! Ротмистр слегка улыбнулся. — Офицерам тоже нужно на чем-то спать. — Опять шевельнул пальчиком. — Ефим, если вам что требуется… Казакам требуется мануфактура. Вернулись в залу. Легкий полупоклон в сторону Веры Васильевны. — Пап-ра-шу аткрыть чемоданы. Казаки раструсили белье по столу: детские штанишки, старые блузки… Вера Васильевна сберегла рубашечку — воспоминание о лучших временах, французский батист, кружева, нежность, воздух… Пушистое облачко легло на стол. Гонсовский балетным жестом простер над ним руку, и… облачко растаяло. — Простите. Но… бывают обстоятельства, когда и офицеры нуждаются в таких… — Строго взглянул на Павла Федоровича. — На два слова. Вернулись в спальню. — Золото, жемчуг, кольца? — Все поотнимали красные. — Я предвидел такой ответ! — Чего уж предвидеть! Грозились убить… — К сожалению, некогда вами заняться. Масло? — Сметана есть. — Сметану не берем. — Не сбивали еще. — Проводите в погреб. В погребе бочка со сливками, Павел Федорович не спешил сбивать масло. Бочонок с топленым маслом зарыт в землю. Гонсовский заглянул в бочку. — Пейте, ребята, — разрешил он казакам. — Полезная штука. Павел Федорович нашел даже кружку. — Угощайтесь. Казаки зачерпнули. Раз. Другой. Много ли выпьешь кислых сливок? — Пошли… Гонсовский все чего-то искал. — А здесь что? Указал на амбар, сложенный из рыжего известняка. — Хозяйственный скарб. — Откройте. Ох, как не хотелось Павлу Федоровичу открывать амбар! Но возразить не осмелился. Возразил Бобка! Залаял, затявкал, загавкал, забрехал, залился всеми собачьими голосами: «Прочь, прочь, не пущу, уходите!» Неистово залился… Гонсовский испуганно оглянулся. — Где это? — Не бойтесь, на цепи, — успокоил Павел Федорович. — За амбаром, на пасеке. — А у вас пасека? — Небольшая, для себя. В амбаре пустынно и холодно, здесь бывало побольше добра, а сейчас сбруя по стенам, части от косилок, от молотилок, мелкий инвентарь, топоры, вилы, лопаты… Гонсовский приближался к закромам, как мышь к крупе. — А это что? Точно не видел! Семенной овес. Отличный, трижды сортированный овес. Без васильков, без сурепки. — Овес. Гонсовский запустил руку в закром, ласково и вкрадчиво, точно ласкал женщину, захватил зерно в горсть, раскрыл ладонь, рассматривал овес, точно жемчуг, он и лился с ладони, как жемчуг, видно, понимал толк в овсе. — Ефим, быстро, за подводами. Ефим повернулся, засеменил, почти побежал. Павел Федорович чуть не заплакал. — Ведь это ж семена. Семена, поймите. Ведь это ж хозяйство… — Любезный, служение отечеству требует жертв. И с нашей стороны, и с вашей. Я бы мог реквизировать фураж, но не хочу, не нахожу нужным, беру у вас этот овес, как доброхотное даяние, могу даже выдать расписку. Считайте, забрал у вас овес сам генерал Деникин. Когда Александр Иванович займет Москву, законные власти возместят все… Насмехается, сукин сын! Славушка шел чуть позади. Непонятно почему, всхлипнул Павел Федорович, офицер вел себя вежливо и необидно. — Не волнуйтесь, вас не заставят шевельнуть и мизинцем, — успокоил Гонсовский хозяина. — Мы сами погрузим. Должно быть, фураж-то он и искал! — А пока покажите пасеку. Ближе к осени пчелы не так злы, соты полны, кое-где валяются в траве трутни, еще месяц, и можно прятать ульи в амбар. Пчелы игнорировали посетителей, зато Бобка выходил из себя. На пасеке тоже амбар, поменьше, где хранились принадлежности пчеловодства. Бобка, привязанный на цепь у двери амбара, выкопал под амбаром нору и обычно дремал там. Но сейчас метался, прыгал, выходил из себя. — Зайдем? Павел Федорович ногой придержал собаку, снял замок, открыл дверь. — Заходите. Славушка потрепал Бобку, вошел следом. Пес не унимался. Гонсовский обследовал и этот амбарчик, он и здесь сразу заприметил в углу бидоны. — Выкати-ка, — приказал он одному из казаков. — Поглядим, какая в них сметана. — Там мед, — глухим голосом промолвил Павел Федорович. — Для подкормки пчел. — Ошибаетесь, — весело поправил его Гонсовский. — Для подкормки кавалергардов его императорского величества. Казак выкатил бидон, второй, поднял с одного крышку. — Пробуй, — приказал Гонсовский. 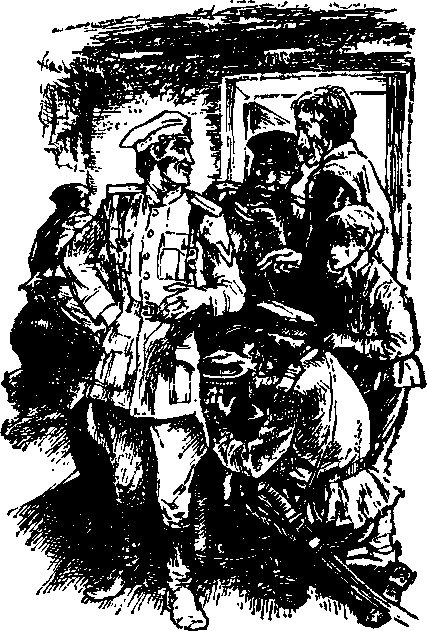 Казак запустил руку в бидон, пальцами достал комок засахарившегося меда, с аппетитом откусил… — Сладкий? — спросил Гонсовский. Казак ухмыльнулся. — В плепорцию. Носком сапога Гонсовский тронул бидон. — Взять. Казаки покатили бидоны к двери. Павел Федорович не осмелился возражать. Да он и знал: возражать бесполезно. Попробуй возрази! Однако нашлось кому возразить. — Благодарю, — вежливо произнес Гонсовский, слегка наклонив голову, переступил порожек и… закричал. Покуда Павел Федорович мысленно подсчитывал убытки, покуда казаки подкатывали бидоны к дверям, покуда Славушка дивился, как легко и весело умеет грабить этот вежливый и, должно быть, опытный по этой части офицер, Бобка выступил в защиту хозяина: рванулся из-под амбара и сквозь голенища сапога прокусил офицеру ногу. — Ах ты!… Для выражения своих чувств господин ротмистр воспользовался весьма нецензурными словами. Схватился за ногу, торопливо полез в кобуру за револьвером. Щелкнул взведенный курок. И с такой же стремительностью, с какой пес накинулся на грабителя, Славушка бросился к Бобке, прильнул к нему, обнял, заслонил. — Отойди! — закричал Гонсовский. — Отойди, сукин сын! Славушка еще теснее прижался к Бобке: не мог, не мог он предать друга! — Отойди, щенок! Тебе говорят… Казаки с интересом смотрели на своего офицера, они-то хорошо знали, что господин ротмистр не умеет прощать обидчиков. — Считаю до трех, слышишь? Не отойдешь, пристрелю вместе с собакой! — Слава! Позади Гонсовского стоял Павел Федорович. Голос его прервался, визгливая нота повисла в воздухе. Он не рискнул броситься к мальчику и оттащить от собаки, чего доброго Гонсовский не дождется, выстрелит, однако отдать мальчика на расправу не позволяла совесть. — Уйди, слышишь? Сейчас же уйди… «Пусть, пусть этот негодяй попробует меня оттащить!» — Раз… два… Отойди, мерзавец! Пристрелю! Казаки знали: ротмистр Гонсовский не врет, им не такое доводилось видеть… Павел Федорович забежал сбоку. — Господин офицер, пощадите… Дурак, дурак, разве не видите? Пощадите мать! Мальчишка еще… Но тут у забора возник Ефим: — Так что подводы прибыли. Гонсовский поиграл губами. — Так, так… — Посмотрел куда-то поверх мальчика. — Вернусь через пять минут. Собаку я все равно пристрелю. Прихрамывая, пошел распорядиться погрузкой овса. Павел Федорович присел на корточки. — Чего ваньку валяешь? Не знаешь, что ли? Кутеповцы на все способны. Только мать обездолишь… Он еще что-то говорил, но Славушка не слушал. Он прижался к Бобке и вместе с ним ползком полез под амбар. Они забирались все дальше и дальше. — Смотри, Бобка, — бормотал мальчик, — пристрелит он и тебя, и меня, я тебя сейчас отпущу, только ты, дурень, не убегай от меня… Отстегнул под амбаром ошейник, обнял Бобку за шею и пополз в лаз, ведший в проулок за амбаром. И пес догадался, пополз бок о бок с мальчишкой, они нырнули из проулка в крапиву, проползли под изгородью и, почти уже не прячась, стремглав побежали через огороды. Куда девать Бобку?… К Введенскому, только к Введенскому! Андрей Модестович охотник, любит собак, вот Славушка и попросит его подержать Бобку у себя в доме на привязи, Андрей Модестович не даст пса в обиду. А ротмистр Гонсовский, приказав застелить подводы брезентом и не оставить в амбаре ни зернышка, вернулся к пасеке, увидел затянутую под амбар цепь, усмехнулся, нагнулся, сунул дуло в дыру и разрядил всю обойму. 22 Кавалерийская часть, которую ротмистр Гонсовский обеспечивал фуражом, мелькнула и исчезла куда-то в сторону Ливен, и в Успенском снова наступило затишье. Вошло и у Астаховых все в свою колею, Павел Федорович припрятывал все, что можно припрятать, Федосей и Петя сторожили на хуторе сад, обмолачивать хлеб Павел Федорович воздерживался, хлеб стоял в скирдах, так легче избежать реквизиций, Марья Софроновна и Надежда обихаживали коров и птицу, да еще лежмя лежала на грязных простынях разбитая параличом Прасковья Егоровна, лежала и мычала, просила у бога смерти. Возле нее и увидела Вера Васильевна мордастого солдата. — Вы кто? Солдат молчал. Вера Васильевна осмелела: — Кто вы такой? Что вам здесь нужно? Он опять промолчал. — Я вас спрашиваю! — Комендант. — Кто? Кто? — воскликнула она в растерянности. — Гарбуза, — невозмутимо назвался солдат. — Комендант штаба. — Бог мой, решительно ничего не понимаю! — продолжала недоумевать Вера Васильевна. — Какой комендант? Какой Гарбуза? — Вопчем, мы ваш дом займаем под штаб. — Какой штаб? Тут появился Павел Федорович. — Молчите, молчите, вы все испортите! — крикнул он, становясь между солдатом и свояченицей. — Говорите со мной, я — хозяин. — Не треба. Говорить будете промеж себя, а мне зараз очистить всю помещению. Павел Федорович знал уже, в чем дело, в волости расквартировалось какое-то армейское соединение, в Успенском размещался штаб, а под канцелярию выбрали дом Астаховых. — Простите, с кем имею… — Ефрейтор Гарбуза, — еще раз представился солдат. — Комендант штаба. Павел Федорович не знал, что в данном случае комендант значило то же, что и завхоз. — Освобождайте помещению, — сказал Гарбуза. — Сей минут командир полка будут. — Куда ж я ее? — Павел Федорович указал на мать. — Человек непереносимый. — Ничего не знаю, — сказал Гарбуза. — Убрать, и вся недолга. — Ну и убирай сам, — рассердился Павел Федорович. — Ты же видишь, в каком она состоянии? — А не уберешь, — невозмутимо пригрозил Гарбуза, — лягешь рядом с ней. — Можно ко мне, — предложила Вера Васильевна. — Куда к вам? — рассердился и на нее Павел Федорович. — А вас куда? На их счастье, в комнате появилось некое белобрысое существо в гимнастерке с солдатскими погонами. Солдат неуверенно осмотрелся, грохнул на стол пишущую машинку, подергал на «ремингтоне» рычажки. — Гарбуза, что ты за комендант? — капризно пожаловался прибывший. — Момент! — воскликнул комендант… Но ему не пришлось ничего делать, в комнату вошли офицеры. Их было трое, старший из них, подполковник, остановился среди комнаты, двое других принялись бесцеремонно заглядывать во все углы. — Где хозяин? — обратился подполковник к коменданту. Павел Федорович выступил вперед. — Подполковник Шишмарев, — представился офицер, подавая руку. — С кем имею честь? — Астахов, земледелец, — назвался Павел Федорович, прикасаясь к протянутой руке. — Устроим вас честь по чести… — Нет, я квартирую напротив, здесь будет канцелярия, — сказал Шишмарев, поглядев на Веру Васильевну и указывая на соседнюю комнату. — А кто у вас здесь? — Жена брата, — объяснил Павел Федорович и не удержался, добавил: — Тоже офицер. — Где? — В армии. — В какой? Павел Федорович наврал бы с три короба, но побоялся Веры Васильевны, та могла подвести. — В царской. В царской он служил офицером, до сих пор еще не вернулся… — Все-таки соврал и поспешил вернуться к злободневным делам. — Мы сейчас выберемся… — Куда? — На кухню. — Покажите сначала помещение. Шишмарев обошел комнаты. «Под канцелярию хватит двух…» Приказал не трогать Прасковью Егоровну: «Было бы варварством…» Тут на шум явился Славушка. «А это чей мальчик?… Здравствуй. Как зовут?… Что у тебя за книжка?…» Славушка в тысячный раз читает «Героя нашего времени». Шишмарев улыбнулся, потрепал мальчика по голове. Печорин решил вопрос. «Вы останетесь в доме, — это Вере Васильевне. — Тем более жена офицера…» Дал указание перенести вещи Веры Васильевны за перегородку, в комнату Павла Федоровича. «А вас попрошу устроиться где-нибудь еще, — это Павлу Федоровичу. — Женщина с детьми нам не помешает, а вы… — Вежливая усмешка. — Нет оснований не доверять, но… Мера предосторожности. — Вежлив безукоризненно. — Михаил Гурьевич, займитесь… — это одному из офицеров, тонконогому, тонконосому и, как выяснилось чуть позже, тонкоголосому: он представил его Вере Васильевне: — Поручик Ряжский, дежурный по штабу… — Назвал солдата у машинки: — А это Астров. Полковой писарь. Михаил Гурьевич, чтоб все в ажуре…» Поклонился, ушел, вещи Веры Васильевны перенесли за перегородку, в залу внесли какие-то тюки, Ряжский расставил чемодан-кровать, и не прошло часа, как Астров застрекотал на машинке. Вечером пришел Шишмарев, выслушал доклады, подписал приказы, постучал в перегородку, спросил: — Вы дома? Вера Васильевна вышла в залу. — Я вас слушаю. — Зачем так официально? Хочу познакомиться… А где ваш сын? — У меня их два. — Познакомьте… Вера Васильевна позвала мальчиков. — Ничего, ничего, не смущайся, — ободрил Шишмарев Славушку. — Дома у меня такой же парень. Попросил мальчика показать село. Сходили к церкви, к исполкому, поднялись к школе… Славушка заинтересовался машинкой. Шишмарев приказал Астрову поучить мальчика, обещал утром дать пострелять из револьвера. Славушка пристал к Астрову. Тот показал, как вставлять бумагу, ударять по клавишам, переводить каретку. Урок вскоре ему надоел, собрался ужинать, сказал, чтоб Славушка сам учился печатать, а если позвонит телефон, сразу бежал в кухню и позвал бы его. Он ушел. На столе валялись всякие бумаги. Славушка принялся читать. Не думал он, что все будет так просто. Сунул в карман копии приказов. На глаза попалась рапортичка на довольствие. Он принялся ее перепечатывать. Если кто придет, скажет, переписывает для практики первый попавшийся текст. Астров вернулся, на минуту заглянул Гарбуза, придирчиво посмотрел на писаря. — Никуда не уходи, — приказал Гарбуза. — Здесь и ночуй, поручик небось не придет до утра. — Пальцем указал на мальчика. — А этот чего здесь? — Подполковник сказал поучить на машинке, — объяснил Астров. — Машинку ломать, — недовольно сказал Гарбуза и угрюмо поглядел на Славушку. — Шел бы ты спать. Он ждал, когда мальчик уйдет, Славушке пришлось уйти к себе за перегородку. — Что у тебя общего с этими людьми? — упрекнула сына Вера Васильевна. — Подальше будь от политики… — Ах, мамочка, — возразил Славушка. — Тут ни при чем политика. Почему бы и не поговорить? А в друзья я ни к кому не лезу. — Какие еще друзья? Они через два дня уйдут… Славушка сел на подоконник. — Куда это? — встревожилась Вера Васильевна. — Выхожу один я на дорогу… — Я тебя серьезно спрашиваю. — Поброжу немного. — Ты точно не от мира сего, вокруг война… Славушка спрыгнул в палисадник. Перелез через забор. Прислушался. Мерный шум несся точно из-под земли. То корова пережевывала свою жвачку в хлеву у Волковых. Сквозь стену слышался чей-то шепот. Или это казалось ему? Мертвенный зеленовато-молочный свет заливал площадь. Исполком высился черной глыбой, окна посверкивали серебряным блеском, да поодаль белело здание бывшей питейной лавки. У лавки стоял караул, деникинцы хранили в ней реквизированные продукты. Двое солдат сидели на ступеньках низенького крылечка, ружья лежали перед ними прямо на земле, они курили. Цигарки вспыхивали красными точками, и гуще становилась возле солдат тьма. «Побежать?… Обязательно остановят!» Его окликнули: — Кто там? — Я, — сказал Славушка. — А кто ты? — А у нас штаб стоит, — нашелся Славушка. Один из солдат узнал его. — Этот тот пацан, что ходил с подполковником. Славушка сделал несколько шагов, его не остановили. Он пошел по дорожке к почте, нигде никого, но едва вступил на аллею, как навстречу попалась Сонечка Тархова, она не узнала Славушку или сделала вид, что не узнала, и пропала, показалась какая-то парочка и скрылась в кустах, мелькнул еще кто-то, вот тебе и война, ушли красные, пришли белые, а парочки гуляют и при тех, и при других, ночной променад в аллее не прекращается. Черт с ними, с этими парочками! Славушка сворачивает к реке. Как хрустят ветки! Не следует обнаруживать свое присутствие, хотя подумать могут только, что он подражает взрослым парням. На реке темно, хоть луна и выглядывает из-за облаков. Перебегает запруду. Вот и лужайка… Пиить-пить-пить! Пиить-пить-пить! Свисти, свисти, все равно никого… Пить-пить… Ой! — Почему так поздно? Я уж хотел уходить. — Откуда вы, Степан Кузьмич? Я ведь просто так пошел, на всякий случай, не думал вас найти… — Как не думал? Я велел Терешкину передать, чтоб ты как-нибудь вырвался. — Даже не видел его. — Что у вас? Славушка докладывает — штаб, Шишмарев, отдает взятые приказы. — Молодец, — хвалит Быстров. — Завтра сюда опять, только пораньше, под вечер, меньше подозрений. — А увидят? — Ну и пусть, пошел гулять. — Быстров крепко, по-мужски, пожимает ему руку. — А теперь спать, спать, беги! 23 За стенкой спорят… — Можно? — Входи, входи… На мальчика не обращают внимания. Астров сидит у машинки. Ряжский у телефона. Филодендрон задвинут в угол, загораживает киот. Шишмарев стоит у стола, а на столе, на краешке стола, сидит еще один офицер. Они-то и спорят. Славушка довольно скоро разбирается в предмете спора. Тот, что на столе, настаивает собрать волостной сход, выбрать волостного старшину. Армия уйдет вперед, надо восстановить старые институты. Деникин, как известно, несет свободу и демократию, пороть будем потом, поэтому никого не надо назначать, пусть мужики сами выберут себе начальство, мы не позволим выбрать кого не надо, не надо откладывать выборы. А подполковник возражает: — Ротмистр, нам не до выборов… — Ага, значит, тот, что на столе, ротмистр. — Поверьте, Кияшко, армию не следует отвлекать гражданскими делами. Да и кто гарантирует, Илья Ильич, что не выберут большевика? Значит, тот, что на столе, ротмистр Кияшко Илья Ильич. Но… если он ротмистр, почему он сидит перед подполковником? И как он хохочет, этот Кияшко, как самоуверенно и нагло. Кто же ты такой, Кияшко, если можешь хохотать прямо в лицо подполковнику? — Мы выберем большевика?! Да я все уже здесь знаю, знаю, кто и чем дышит, у здешнего попа восемь дочерей, так я знаю, какая с кем… — закончить фразу он не успел. — Ротмистр, вы забываетесь! — Кияшко моментально соскакивает со стола. Шишмарев не орет, шипит: — За стеной женщина, дети. Я попрошу… — Извините, господин подполковник! — Можете быть свободны, господин ротмистр. — А вот свободным быть не могу, выборы придется провести, я собрал кое-какие данные, политический настрой населения вполне удовлетворительный, выберут того, кого им укажут, к завтрему подготовим кандидатуру, я прошу вас не игнорировать политические задачи движения, не заставляйте меня звонить генералу Жиженко. Шишмарев смотрит на Кияшко, как на скорпиона. Почему скорпиона? Так кажется Славушке. — Черт с вами, ротмистр. Созывайте сход. Но мне там делать нечего. Кияшко смеется еще веселее: — И мне. Сход проведет само население… Они уходят. Шишмарев делает какие-то знаки Ряжскому — мол, я скоро вернусь, — ему, должно быть, не хочется уходить, но хочется увести Кияшко. — Кто это? — спрашивает мальчик Астрова. — Недремлющее око, — фальцетом произносит Ряжский. — А генерал Жиженко? — Контрразведка, — на этот раз обычным своим голосом бросает Ряжский. — И вообще, мальчик, об этих людях лучше не говорить. — А чем он командует? — Славушка кивает в сторону двери, давая понять, что вопрос относится к Кияшко. — Гм… — Ряжский не сразу находится. — Мыслями. И при этом не своими. Твоими, моими, вот его… Астров мотает головой, желая показать, что у него нет мыслей. Славушка задумывается — будет сход или не будет, об этом следует передать Быстрову. Он все время толчется поблизости от штаба, там идет своя жизнь, о войне, кажется, никто не помышляет, — сапоги, лошади, машинное масло, хлеб, хлеб, бинты и спирт, гвозди, зачем-то мел, кто-то требует мела, — зачем армии мел? — рапорты, ведомости, реестры, вот что в обиходе действующей армии. К обеду является Терешкин: — Виктор Владимирович просит всех, кто в драматическом кружке, собраться после обеда в Нардоме. Неужели он собирается угощать деникинцев спектаклем? В Нардоме оживленно, весь кружок в сборе, сестры Тарховы, почтмейстерша, Терешкин, все переростки и недоростки, но особенно оживлен Андриевский, он в сером люстриновом пиджачке и лимонных фланелевых брюках, снует туда-сюда, поднимает у всех настроение. — Юному санкюлоту, — приветствует он Славушку. Славушка подозрительно осматривается, — никаких Кияшко, вообще никаких посторонних, в конце концов необязательно скучать даже при деникинцах. — Па-а-прашу на сцену. Андриевский за режиссерским столиком. — Га-а-спада… — Все-таки «гаспада», а не «товарищи», впрочем, он всегда избегал этого слова. — Командование армии обратилось к местной интеллигенции с просьбой помочь провести выборы волостного старшины… Все-таки не послушался Быстрова! — Завтра здесь соберутся земледельцы со всей волости, надо провести собрание поимпозантнее, прошу не уронить себя… С какой бы охотой Славушка «уронил» Андриевского! — Мы украсим зал. Речь, очевидно, придется произнести мне. Затем спектакль… — А выборы? — То есть выборы, а затем спектакль. Прямо с репетиции Славушка отправляется на облюбованную лужайку, докладывает Быстрову о предстоящих выборах. — Отлично, — говорит тот. — Ключи от Нардома при тебе? Давай их сюда. И никаких самостоятельных действий. Вечером Кияшко сидел у полевого телефона, звонил по батальонам, приказывал пошевелить мужичков, поторопить с утра… Он все интересовался, кто в Успенском самый авторитетный человек, выходило — Иван Фомич Никитин. — О! — сказал Андриевский. — Мужик и дослужился до статского советника. Кияшко сам отправился в школу. — Чем могу служить? — Пардон… — Статский советник вызывал антипатию. — Обращаюсь к вам от имени русской добровольческой армии. Не могли бы вы выступить завтра с речью? — У меня ларингит, — сказал статский советник. — И, кроме того, я решительный сторонник отделения школы от государства. — Как? — удивился Кияшко. — Школы от государства, — повторил Иван Фомич. — И вообще я за олигархию. — За что? — недоумевая все больше, спросил Кияшко. — За воссоединение церквей, — строго сказал Иван Фомич. — Римско-католической и православной. — Ыхм, — невнятно промычал Кияшко. Он так и не понял, издевается статский советник или у него в самом деле зашел ум за разум, иначе с чего бы понесло статского советника в деревню вместе с революцией. Во всяком случае, спокойнее отказаться от его услуг, он еще и перед мужиками понесет бог знает что! Кияшко остановился на Андриевском. Трезвый человек и услужливый. Он даже посоветовался с ним, кого выбрать волостным старшиной. Тот рекомендовал Устинова. По мнению Андриевского, не стоило обращать внимания на то, что он был председателем сельсовета, мужик хитрый, уважаемый, умеет ладить со всякой властью, но по своему достатку ему с большевиками не по пути. Кто-то шепнул Кияшко, что в исполкоме спрятано некое «сокровище»: в марте 1917 года портрет императора и самодержца Николая II, украшавший резиденцию волостного старшины, забросили на чердак, вдруг еще пригодится, смотрели как в воду, он и пригодился за неимением портрета более реального Деникина. Кияшко отрядил Гарбузу на чердак с приказанием «найти и доставить», и тот — «рад стараться, вашескородие» — нашел и доставил. Андриевский и Кияшко решили устроить нечто вроде открытия памятника, подвесили портрет к колосникам и опустили перед ним задник, который и вознесется в должный момент. Программу разработали во всех подробностях: сперва молебен, потом открытие «памятника», затем речь и затем уже избрание старшины с соблюдением всех демократических традиций. По распоряжению Андриевского Тихон, он же Рябов, Рябой, бывший батрак Пенечкиных, а ныне член их сельскохозяйственной коммуны, весь вечер лепил из глины шарики, окуная одни в черные чернила, а другие в разведенный мел. Для молебствия Андриевский пригласил отца Валерия Тархова, но тот решительно отказался: «Там, где лицедействуют, кощунственно призывать имя господне…» Пришлось обратиться к отцу Михаилу. Отец Михаил не отказывался ни от чего, мог и обвенчать без документов, и год рождения в метрике изменить, а тут вообще время приключений… Вечером Кияшко доложил Шишмареву о подготовке схода, похвастался портретом, как только священник попросит у бога победы над противником, портрет предстанет на всеобщее обозрение… Все это Славушка намотал себе на ус, задворками добежал до Нардома, и, хотя ключей у него не было, он заприметил раму, у которой шпингалеты плохо входили в пазы. Отсутствия Славушки никто не заметил, все утро находился у людей на глазах и в Нардоме появился, когда все драмкружковцы были уже в полном сборе. Мужиков принялись кликать на сход с утра, мужики не шли, спокойнее отсидеться по домам, тогда Кияшко послал по селу солдат комендантского взвода, никого, мол, не неволят, но те, кто не хочет идти, пусть сдадут по овце в котел добровольческой армии. Из окрестных деревень мужиков негусто, но из Успенского явились все. Овца — это овца. Зал украшен еловыми ветками, на сцене постамент для ораторов, в глубине задник с мраморной беседкой и кипарисами. На сцене — Андриевский, на просцениуме — отец Михаил, этому море по колено, а дьячок, несчастный Беневоленский, рад бы не пойти и нельзя не пойти, сегодня отец Михаил у властей в фаворе. Михаила мужики не уважали, священнослужитель-то он священнослужитель и что молод не грех, но очень уж падок до баб, любит их исповедовать. Михаил сунулся на мгновение за кулисы, скинул подрясник и тут же появился в рясе, взмахнул крестом, Беневоленский подал кадило, и пошла писать губерния. Андриевский повел рукой. — Па-а-прашу… Но мужики поднялись без команды, не успели еще отвыкнуть молиться. — Спаси, господи, люди твоя… Кое-кто привычно перекрестился. — …и благослови достояние твое… Торжественная минута. — …победы благоверному императору нашему… Император расстрелян в Екатеринбурге с год назад, но символ есть символ… Вот и сюрприз! Команду подал Кияшко: «Давай, давай!» Терешкин и Лавочкин потянули веревки. Кипарисы вздрогнули, холст закручивается вверх, собранию открывается… Образ! Благоверного императора нашего Николая Александровича! Красные глаза, длинные зеленые усы, синяя борода и два загнутых фиолетовых рога. Сперва даже непонятно… Что за дерзость! …императору нашему Николаю Александровичу на супротивныя даруя… Андриевский величественно смотрит в зал. Мужики улыбаются. Почему улыбаются? Почему они улыбаются? Смотрят на сцену… И вдруг смешок, еще… Андриевский оборачивается — боже мой! — и одновременно из-за кулис выбегает Кияшко. — Опустить! Опустить! — кричит он и машет рукой… Терешкин отпускает веревку, задник стремительно раскручивается, и снова кипарисы и мраморная беседка. Отец Михаил и Беневоленский ретируются, на сцене главный священнослужитель на сегодняшний день — ротмистр Кияшко. Вся надежда теперь на Андриевского, один он может спасти положение, произнести речь, обрисовать момент, пробудить патриотизм… — Перед вами выступит ваш односельчанин Виктор Владимирович Андриевский… Не послушался Быстрова, приготовил речь — о свободе, о Демократии, о родине, самые роскошные слова подобрал. Итак, внимание… — Га-спа-да… — И замолкает. — Гаспада… Глаза Андриевского не отрываются от кого-то в зале. Славушка следует по направлению его взгляда… Да что же это такое? Быстров! Да как он может, что за безрассудство… Но какое великолепное безрассудство! В эту минуту Славушку вдруг озаряет, кого напоминает Быстров. До чего ж он похож на пушкинского Дубровского! Степан Кузьмич сидит в глубине зала у раскрытого окна и не сводит взгляда с Андриевского. Так вот они и смотрят друг на друга. Как хорошо, что Степан Кузьмич не смотрит на Славушку, вряд ли простит он ему зеленые усы и лиловые рога… — Говорите же, — негромко, но достаточно внушительно командует из-за кулис Кияшко. Легко ему командовать! А если Андриевский не может… Никогда еще Виктор Владимирович Андриевский не оказывался в таком ужасном положении. Он пропал! Двум смертям не бывать, одной не миновать, а он очутился между двух смертей, между Быстровым и Кияшко. — Гаспада… И захлебнулся. Единственное, что он может сказать: гаспада, я пропал! Но недаром он адвокат: обмякает, оседает и… падает в обморок. Хватается рукой за сердце и падает, но так, чтоб не очень ушибиться… — Воды! Воды! — кричит Ниночка Тархова. Но смотрят все не на Андриевского, а на Быстрова, и Кияшко смотрит со сцены, и кто-то наклоняется из-за кулис и шепотом объясняет, кто это, и Кияшко хватается за кобуру. Но тут мужиков точно ветер из окна пригибает, а сам Быстров в одно мгновение скрывается в просвете окна. Кияшко с револьвером в руке бросается к двери. Заперта! Бросается к другой. Заперта! Ринуться через толпу и выпрыгнуть в окно не рискует, боится повернуться к толпе спиной… Кияшко, хоть и не собирался нарушать демократию, на всякий случай припрятал несколько солдат, они выбегают из угловой комнаты, что позади зала, наваливаются на двери, те не поддаются. Шум, суета, только что не паника… Теперь Славушка понимает, зачем понадобились Быстрову ключи. Пока кто-то из солдат вылезает в окно, пока выламывают одну из дверей, Быстрова уже след простыл. Ищи ветра в поле! Тем временем Андриевский приходит в себя, говорить он решительно не может, однако Кияшко требует провести выборы. Армия одобрила кандидатуру Устинова, но не может же Кияшко приказать его выбрать, армия за свободное волеизъявление, у самого Кияшко на примете лишь одна эта кандидатура, да и ее он плохо запомнил в лицо… — Филипп Макарович Устинов? — вопросительным тоном возглашает ротмистр Кияшко. — Попрошу вас сюда! Филиппу Макаровичу страсть как не хочется вылезать, но и не спрячешься, все смотрят на него, и он не торопясь поднимается на сцену. — Слушаю, господин начальник. — Мы тут советовались с народом, есть мнение выбрать вас… Филипп Макарович пугается, все эти ротмистры, поручики и полковники как пришли, так и уйдут, а со Степаном Кузьмичом жить, пожалуй, еще и жить, лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. — Какой из меня старшина, я и грамоте-то не очень… — Народ лучше знает! Филипп Макарович вспоминает, как он с полгода ходил в председателях потребиловки, при ревизии в лавке обнаружилась недостача, совсем незначительная, без лишних разговоров Устинов ее тут же погасил, но сейчас о ней стоит напомнить. — Да и недостача была у меня… — Нет, не пойдет он в белые старосты, голова дороже почета. — Слаб я, господин офицер… — Это уж нам решать, справитесь или не справитесь… — Не поняли вы меня, не на работу слаб, на руку… Мужики видят, Устинов не рвется в начальники, умеет с людьми ладить, не хотят его приневоливать. — Правильна! Правильна! — кричат из зала. — Была у него недостача! Кияшко понимает: нельзя выбрать человека с подмоченной репутацией. Веселого в этом, собственно, мало, но мужикам весело, тон задал отец Михаил, потом балаган с портретом, обморок Андриевского, на серьезный лад не настроишься. — А кого бы вы предложили? — обращается Кияшко к собранию. Выкрикивают несколько фамилий, но что-то никто не стремится к власти, все отказываются, — у одного в печенках боль, у другого в ногах, а у третьего и в ногах и в печенках, надо назвать такого, кто не успеет двух слов связать, покуда его женят. — Фролова! Фролова! — Правильна, Кондрат Власьича! Кондрат Власьич хозяин самостоятельный, ничего не скажешь, но из него даже из пьяного в праздник двух слов не вытянешь, а трезвый да в будни он вообще не открывает рта. — Кондрат Власьич, просим… — Просим, просим! — Да чего там, мужики, подавай за его… Фролов сбычился, запустил руку в карман штанов, корябает себе бедро, только сивая борода ходит — вверх-вниз, вверх-вниз… Насилу собрался: — Граж-дане… Куда там… Другого слова произнести не успел, как выбрали! — С тебя магарыч, Кондрат Власьич… — Да я… — Ну чего? С тобой покончено, за тобой магарыч… Мужики и впрямь в хорошем расположении духа, и на сходку сходили, и старшину выбрали, и все мимо, ни против той власти, ни против этой, ни обложениев не взяли на себя никаких, ни даже приветствиев никому никаких не принимали. Тем временем замки расколупали, и, не успели Фролова выбрать, как тут же все шасть на улицу. Терешкин орет: — Граждане! Отцы! Сейчас спектакль будет… До спектаклев ли тут, скорей по домам, баста, ползут во все стороны, как тараканы, когда на них плеснут кипятком. Один Кондрат Власьич опомниться не может, не думал, не гадал, во сне не видал себя волостным старшиной, а тут нате, подсудобили мужички. Все разошлись, даже Кияшко с солдатами, остались одни вьюноши и поповны, заиграли на фисгармонии всякие контрадансы, заведут сейчас танцы, а новоизбранный старшина все в себя не придет. Побрел наконец, идет себе по аллее в полном одиночестве, такие-то хорошие, такие-то убедительные слова приходят сейчас на ум, выскажи он их, не смогли б не уважить, освободили бы от непосильной ноши, но сказать их некому, и сбросить с себя ничего уже нельзя. И вдруг чувствует, как опустилась на плечо чья-то рука и дружески его обнимает… Батюшки, Быстров! Откуда? А тот наклоняется и так утешительно, так доверительно дает опечаленному старшине совет: — Ничего, Кондрат Власьич, не теряйся, минует тебя эта напасть, царствуй, как английский король, только ни в коем разе не управляй. 24 Как назойливый петух, отогнанный от куриного стада, он с самого утра покрикивал, с самого утра все кричал: — Мне нач-чальника! Мне нач-чальника! Так что даже невозмутимый фельдфебель Жобов и тот не выдержал, вышел на галерейку и заорал: — Да иди ты, иди отсюда, мать твою перемать, подобру-поздорову… Но мужичонка не угоманивался: — Мне нач-чальника! И таки дозвался начальника. На заре прискакали два казака из штаба дивизии, с пакетом, «вручить лично и непосредственно командиру полка подполковнику Шишмареву». Ряжский тут же послал ефрейтора Гарбузу за подполковником: «Доложи, так и так…» И Шишмарев через десять минут пришел в штаб и расписался в получении пакета. — Прикажите накормить, ваше благородие, — попросил казак, отдав пакет и облегченно вздохнув. — Часок вздремнем и обратно, к вечеру беспременно велено возвратиться. Шишмарев велел накормить гонцов и пошел в зал читать полученную депешу. Он сидел у окна, читал, перечитывал, достал из полевой сумки карту, сверился с картой и опять принялся вникать в смысл полученного приказа, когда до него донеслось настойчивое хрипловатое кукареканье: «На-чаль-ни-ка! На-чаль-ни-ка!…» — Какого черта он там орет? — оторвался от бумаг Шишмарев. — Что нужно? — Вас требует. Какой-то Кудашкин… — с усмешкой объяснил Ряжский. — Его уже гнали, говорит: «Пока не повидаю начальника, не уйду…» — О господи… — Шишмарев встал и пошел через сени на галерейку. — Что тебе? Орешь как оглашенный… — Товарищ высокоблагородие! Как я есть желаю все по порядку… Славушка только что проснулся, услышал лениво-раздраженный голос Шишмарева и тоже выглянул в галерейку. Перед Шишмаревым переминался с ноги на ногу лядащий мужичонка в рыжем армячке из домотканого сукна, точно обгрызенного по колено собаками. Славушка видел его как-то, он приходил к Павлу Федоровичу — то ли плуг одолжить, то ли предлагал купить мешок проса. Ну что понесло этого Захара Кудашкина в белогвардейский штаб, что заставило вызывать и не кого-нибудь, а обязательно самого командира полка?! Нищий мужик из Семичастной, избенка только что не завалится… Славушка окончательно его вспомнил, у него и земли-то хорошо, если была десятина, при Советской власти нарезали ему еще три, дали леса, и вот поди ж ты, целое утро кричал, требовал, добивался, чтобы донести на Советскую власть. — Быстряк Маруську свою туды-сюды, туды-сюды… Сперва Шишмарев не понял, с трудом добился от Захара объяснения: Быстряк — это Быстров, Маруська — лошадь Быстрова. Кудашкин видел Быстрова за Семичастной, и не один раз, тот приезжает, уезжает, чего-то вышныривает, и «етто, известно, против властей». Тут Шишмарев стал слушать внимательнее, принялся расспрашивать, уточнять. Председатель исполкома Быстров всех помещиков здесь прижал, полный хозяин был волости, думали, что «ен… ев… ив… ивакуировалси», а на самом деле ничего «не ивакуировалси», остался здесь со всей своей бражкой, следит за властями, от него всего жди, а он, Захар Кудашкин, «завсегда за порядок». Ну, какой порядок нужен Кудашкину? Форменное ничтожество, только при Советской власти голову поднял и пришел ее предавать! — Ен неспроста шныряет, встречается с кем-то, может, у вас кто сочувствует… — Где ты видел своего Быстрова? — В леску, за речкой, пошел жердей наломать… 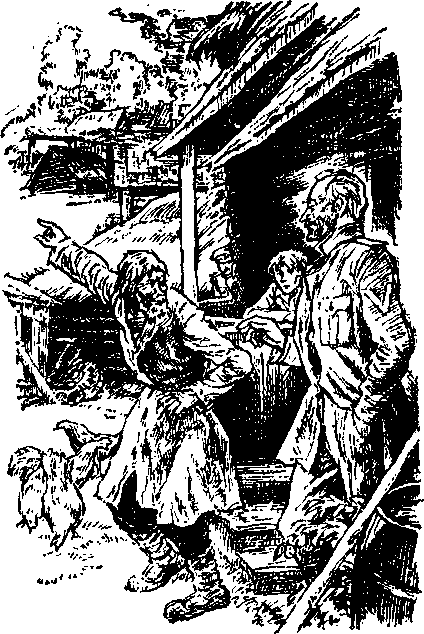 Порубки леса возле Успенского запрещены, за них строго взыскивали, однако сейчас безвременье, и Кудашкин не боялся ни Быстрова, ни Шишмарева. — Ен в одно место к вечеру ездиит. — Покажешь где? — Хоть сей минут! Славушка видел, что командир полка встревожен… Неужели Шишмарев придает значение доносу Кудашкина? — Гарбуза! Гарбуза уже ел глазами начальство. — Видишь мужика? — Отогнать? — Пойдешь с ним, покажет место, и вечером в секрет. Заберешь всех, кто там встречается. Понятно? — Так точно. Шишмарев вернулся в залу, снова принялся изучать приказ. — Я не мешаю вам? — деликатно осведомляется Славушка. — Нет, нет… Шишмареву даже приятно присутствие мальчика, он чуть моложе его сына, интеллигентный мальчик — куда только судьба не забрасывает теперь интеллигентных мальчиков, вместо того чтобы учиться в нормальной гимназии, ходит здесь в какую-то вторую ступень, голод, конечно, разруха, куда они не загонят… От бумаг Шишмарева отвлекает Ряжский: — Господин подполковник! — Что, Михаил Гурьевич? — На два дня обеспечены выпечкой, в Покровском больничную пекарню приспособили, но… запасы муки… — Пройдитесь по мельницам. — Я уже сказал интендантам. — Отлично. — А если у кулачков… — Не дразните крестьян. Вот если начнется отступление… Шишмарев и Ряжский уходят. Один Астров тюкает на машинке. Тоже собирается въехать в Москву на белом коне с притороченным «ремингтоном». Что заставляет его находиться в деникинской армии? Был писарь и будет писарем. Его и завтракать-то всегда забывают позвать! Славушка бежит на кухню к Надежде. — Писарь завтракал? — А кто его знает! — Полковник велел накормить. — Так что не идет? Славушка возвращается. — Астров, вас завтракать зовут. — А если кто придет? Астрову хочется есть, но он боится оставить канцелярию, и Славушка клянется, что ни на секунду не покинет комнату. Теперь он один. Перебирает бумаги. Где депеша? В планшете. А планшет на Шишмареве… Писарь успевает вернуться раньше командира полка. На губах у него крошки картофеля. — Никто не заходил? Входит Шишмарев со всей своей свитой. Говорят о фураже. Настроение у всех повышенное, должно быть, достали овса. — А теперь, — обращается Шишмарев к мальчику, — придется тебе… Славушка понимает. Но уходит он в соседнюю комнату. Через стенку многое слышно. — Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие… — Так или почти так. — Указание из штаба дивизии. Если командование примет решение отойти, двигаться на Малоархангельск, и дальше полевыми дорогами… Слышно не очень ясно. — Простите, — перебивает кто-то из офицеров. — Я не понимаю: мы наступаем или отступаем? — Пока наступаем, но… есть опасение, наступление может захлебнуться. Вряд ли имеется в виду общее отступление. Тактический маневр, с глубоким отходом от Орла, Курска… — И даже Курска?! — Попрошу к карте. Пока что мы идем вперед. Но если не удастся взять или обойти Тулу… Славушка не очень-то хорошо разбирается, о чем идет разговор, деникинцы наступают, о каком движении на Малоархангельск речь, непонятно. Еще рано, рано за реку, но Славушка уже собирается… Вот дом Заузольниковых, у них квартирует Шишмарев, вот исполком, вот огород, почтмейстерская капуста, зеленые шары благоденствия, почта и аллея любви. Сколько пар бродило по этой аллее! Куда Кудашкин приведет Гарбузу, известно, но вот откуда придет Быстров?… Как быть? Не пойти — заберут Быстрова. Пойти в условленное время — заберут обоих… А что, если… разжечь костер, и такой, чтоб не погас… Времени в обрез! Вот когда пригодился Майн Рид! Прежде всего Петя. Петя никогда не предаст. И Колька. Колька дружит с Петей. И еще Андрей! Андрей Терешкин. Андрей хитрый… Сложно все придумано, а иначе нельзя. Сперва Федосей. Федосей чистит коровник. Лопатой шлепает навоз на телегу, поедет на хутор и повезет навоз. — Федос Федосыч… Уж если не просто Федос, а Федосыч, значит, Славушке что-то нужно. — Чаво тебе? — Табак весь скурил? Федосей опирается на лопату. — Выкладай, выкладай, тебе чаво? — Ключ от мазута у тебя? Набери два ведра, Федосыч, а я тебе, честное слово, связку табаку украду. — Мазут-то на чо? — Обещал отцу Валерию, он мне книги, а я ему — мазут. — Отцу Валерию? — Федосей воплощение сарказма. — Девкам обещал, а не отцу. Девок мажешь, чтоб ласковей были… — Ну, Федосыч… Уломать Федосея не такой уж большой труд. Федосей набирает два ведра, ставит позади пасеки. — Не видал и не слыхал. Попадешься Павел Федрычу, отопрусь… — Табак за мной… Петю и Колю уговорить сложнее. — Петь, а Петь? Отнесите ведра с мазутом. Чтоб никто не видал. Будто Павел Федорович послал. Сперва огородами до Тарховых, оттуда через парк к запруде. Через речку, и оставить в кустах. — Зачем? — Так нужно… — Зачем? Приходится намекнуть, что работники исполкома, те, что скрываются по деревням, сегодня ночью, возможно, вывезут из Народного дома все имущество… Сомнительно, но мальчишки принимают объяснение. Отнести мазут за речку не так-то уж легко и приятно, но Петя человек положительный, если возьмется, выполнит. Теперь самое трудное. Андрей старше Славушки и держится с ним свысока, у него уже роман с Сонечкой Тарховой. Андрей сидит дома и читает, он неохотно помогает отцу по хозяйству, делает вид, что изучает науки, а на самом деле читает исторические романы. Славушка оглядывается по сторонам и вполголоса многозначительно говорит: — Андрей! Задание… Тебе и мне. От Еремеева. — Быстрова Славушка не называет, Андрею хватит и Еремеева. — Надо разжечь костер. В лесу. Над Озерной. — Зачем костер? — Сигнал. — Какой сигнал? — Не сказал. Зажечь и сматываться. — А как разжечь? — Из отряда доставили ведра с мазутом. — Не пойду. — А я не прошу. Еремеев сказал, в порядке комсомольской дисциплины. — А если попадемся? — Андрей отрывается от книги. — А спичек-то нет? — Есть. Еремеев дал. Целый коробок. Никто не давал Славушке спичек, спички он таскает из лавки, где они припрятаны Павлом Федоровичем. — Возьми веревку. — Веревку еще зачем? — пугается Терешкин. У Андрея тоже начинает работать фантазия. Костер еще куда ни шло! Но ведь революционеры казнят иногда изменников! Он не хочет убивать… — Нету у нас веревки. — По воду ходите? — Мать голову оторвет. — Обратно принесешь. Славушка велит Андрею намотать веревку под пиджак. — Я выйду, ты следом. Встречаемся в парке, у скамейки, где ты вечно торчишь с Сонькой. Еремеев сказал, будет поблизости… — Знаешь в Семичастной Кудашкина? — Их там несколько. — Захара. Противный такой мужичонка. Тлю-лю-лю, тлю-лю-лю… — Это который удавиться грозился? — Чего? — Мужики продали попу покос за ведро водки, Захар выпил, а сказал, что его обнесли, отдайте, говорит, мою порцию, а то пойду и удавлюсь. — Знаешь его избу? Придется тебе к нему сходить. — Зачем? — После, после. Запруду разворотило, — когда девки купаются, всегда все разворотят. Перебрались по камням и сразу к кустам… Молодец Петя: сказано — сделано. — Скорее! Еремеев сказал, взять ведра и наверх… Березка на лужку — загляденье. — Лезь на березу. — Зачем? — Еремеев сказал. Андрей лезет. — Спускай веревку. Славушка подвязывает ведро. — Тяни! — Я перемажусь… — Отмоешься. Мне нельзя. Обмазали стволы мазутом. — Видишь? Все портки измазал, пиджак… — Отмоешь, я тебе потом скипидару дам. Тяни веревку обратно. Теперь забирай ведра и в Семичастную. Брось во двор Кудашкину, и домой. И на всякий случай переоденься. — А ты? — У меня еще здесь дела. Беги, а то поймают! Уговаривать Андрея не приходится. Вот-вот сумерки и придет Гарбуза. Скорей бы разжечь костер, костры разжигать Славушка умеет, научился в ночном, тем более что спичек можно не жалеть. Ползут язычки пламени по стволам… А теперь ходу, ходу! — Стой! Сумерки уже обволакивают парк, и Гарбуза на повороте, как черт из-под земли, и с ним с десяток солдат. — А это что? Славушка оборачивается… Матушки! Вот это факелы! Такие факелы слепого остановят… — Вот я тебя и спрашиваю! Но это уже не Гарбуза. Ротмистр Кияшко, вот кто его спрашивает. Вот кто, оказывается, шел с Гарбузой брать Быстрова! — Что это там за пожар? — Я и не видел… Кияшко заторопился. Славушку тоже поволокли. Перемахнули через реку. Березки горят, как свечки. Кияшко оглядывает лужайку. — Гарбуза, здесь? — Так точно. — Мазут! Кто поджег? — Сюда я не ходил, а в аллее видел… — Славушка запнулся. — Кого? Кого? Кияшко наклоняется к мальчику, стеклянные глаза контрразведчика выкатились. — Быстро! — Кудашкин пробежал с ведрами. — Какой Кудашкин? — Тот самый, что указал место, — поторопился Гарбуза. — Трех человек, быстро, — распоряжается Кияшко. — Обыскать дом, надворные постройки, самого задержать… — Но мальчика Кияшко не собирался отпускать. — Твои прогулки тоже подозрительны. Придем в штаб, я тебе карманы повыверну… Если Кияшко вздумает обыскать, Славушка пропал, у него на груди копии приказов, тут даже Шишмарев не пожалеет. — На речку зачем ходил? — Я не ходил. — А штаны где намочил? — Лягушек ловил. — Каких лягушек? — Обыкновенных. — Вивисектор нашелся! Ты из себя идиота не строй! Солдаты вернулись из Семичастной: Кудашкина дома не оказалось, но во дворе у него обнаружили ведра из-под мазута. — Найти самого, — приказал Кияшко, держа мальчика за руку, и опять пригрозил: — Я тебя при подполковнике… Совсем стемнело. Черные тени слетаются по земле. Какая-то парочка шарахнулась в кусты, парочки бродят здесь даже в самое тревожное время. — Я вам поамурничаю! — пугнул их Кияшко. Шли в темноте среди зарослей давно отцветшей сирени. — Стой! — вдруг взвизгивает Кияшко. — Что это? Он даже выпустил Славушку и ухватился за что-то в воздухе. — Огня! Гарбуза засветил спичку. До чего ж они кстати, милые лягушки! Ребята наловят, свяжут гирляндой и протянут поперек аллеи. Приятная неожиданность для гуляющих парочек! Об этой шутке знали все, и все равно всякий раз лобызались с лягушками. Кияшко лицом коснулся скользкой гирлянды. Оказывается, мальчишка не соврал. Мерзость! Схватил за плечо и закатил такого шлепка, что тот полетел в куст. — Похулигань у меня еще! И вдруг Славушка чувствует, как чья-то сильная рука поднимает его, а другая слегка прикрывает ему рот. — Тихо, тихо, — слышит он шепот… — Степан Кузьмич?! — Тише! Ушли солдаты. Хрустнули сучья под ногами спугнутой парочки. Залаяли вдалеке собаки. — Теперь пойдем. Сквозь заросли сирени услышали чьи-то голоса… Подошли к дому Введенского. Андрей Модестович не пользуется большим доверием Славушки, хотя мальчик и подобрел к нему после того, как тот приютил Бобку. Сын местного благочинного, он еще до войны кончил в Киеве Коммерческий институт, где-то скитался, служил и вдруг, после смерти отца, неожиданно вернулся в родные места. Жил он в Успенском анахоретом, у него лишь одна страсть — охота, однако, Ивану Фомичу удалось сманить его преподавать географию. Но и в школе держится особняком, покончит с уроками — и тут же в степь стрелять дроф… Быстров поднялся на крыльцо так, точно бывал здесь не один раз. — Куда вы? Весь дом во тьме, лишь на одном окне светится лампа. Кто-то опасливо приотворил оконную раму. — Вы-с, Степан Кузьмич? Андрей Модестович! Оказывается, этот нелюдим как-то связан с Быстровым! В столовой у него беспорядок, на столе немытая посуда, все в пыли. Быстров обращается к Славушке, точно ничего не случилось: — Докладывай. — Вот приказы. Вчерашние… Славушка с облегчением вытаскивает из-за пазухи бумаги. — С чего это они устроили засаду? — Кудашкин донес. — Какой? Захар? Славушка рассказывает о ведрах. — Могут расстрелять, — мельком замечает Быстров. — Все? — Нет. Славушка рассказывает о депеше, о совещании, о том, что удалось услышать… — Погоди, погоди… Трудно тебя понять… Быстров задумывается. Мальчик плохо разбирается в военной обстановке. Орел. Курск… При последней встрече с Шабуниным в обветшалой щелястой риге в Дроскове Афанасий Петрович обмолвился между прочим и о том, что дальновидные деникинские генералы поговаривают об организованном отступлении. Ходит, мол, такой слух… — Что ж, ждем-пождем, парень, — напутствовал Быстров мальчика. — Сиди покудова дома. Начнут белые выступать из Успенского, я буду поблизости. Может, даже у Волковых. Узнаешь что, постарайся вовремя передать. Действуй… 25 Славушка явился домой как ни в чем не бывало. Все шло заведенным порядком. Только что поужинали. Вера Васильевна ушла к себе. В переднем углу под образами сидела Марья Софроновна, Павел Федорович стоял у притолоки, курил и рассказывал Пете, почему он не стал учиться: «Деньги считать можно и без образования». Надежда толкла в чугунке картошку, свиньям на утро. Федосей в закутке плел чуни. — Пришел? — иронически спросил Павел Федорович. — Надежда, дай ему поужинать. — Я ужинал, — отказался Славушка. Он не ел с обеда, но есть не хотелось, аппетит пропал. — В штабе что? — Тебя только не хватает, — отозвался Павел Федорович. — Поди, поди, может, зачислят в ротмистры. Идти не хотелось, не хотелось встречаться с Кияшко, но нужно. В штабе тоже ужинали, бумаги на большом столе сдвинуты, Ряжский и еще два офицера ели поджаренную с картошкой свинину, перед ними бутылка самогону, пили из рюмок, одолженных у хозяев, Шишмарев требовал соблюдения приличий, он сам и Кияшко сидели тут же. Разговор вел Кияшко, все прикидывал — что правда и что неправда, донос Кудашкина вызывал сомнения, поджог в лесу странен… Славушка тихо стал у порога, но только Кияшко сразу его заприметил. — Поди, поди, расскажи, как ты лягушек ловишь… Подполковник брезгливо пожал плечами: — Каких лягушек? Ряжский услужливо рассмеялся: — Парочка идет, а их по губам лягушками! Тут уж не до поцелуев… Шишмарев неприязненно взглянул на Ряжского: — Вы находите это смешным? Кияшко внезапно притянул к себе Славушку: — Ну-ка… — И руку ему за пазуху. — Я думал, у тебя там жаба! Ворвался Гарбуза: — Поймали! Кудашкин и не думал скрываться. Сам пришел в штаб поинтересоваться, живым взяли «убивцу» Быстрова или пристукнули. Тут-то Кудашкина и взяли. — Зачем наврал, что в лесу прячется комиссар? Как у тебя очутились ведра?… Запутали вопросами, заплакал мужик. — Истинный бог… — Бог истинный, а тебя будем судить военным судом. Кияшко приказал запереть Кудашкина в амбар. С претензиями явился Павел Федорович: — Господин подполковник! Амбар, как горница, в нем семена, упряжь, а этот скот все загадит со страху. Кияшко изысканно: — Не волнуйтесь, утром мы его ликвидируем. Павел Федорович крякнул, потоптался на месте, крякнул еще… Спалось Славушке плохо. Его познабливало. На лежанке сопел Петя. За стеной похрапывал Ряжский. Спал дежурный телефонист… Проснулся Славушка ни свет ни заря. Все тихо. Вдруг за стеной волнение, зазвонил телефон, раньше обычного появился Шишмарев… — Выступаем, — уловил Славушка. Кое-как оделся и неумытый явился перед Шишмаревым. — С добрым утром! — А! — рассеянно промолвил тот. — Прощаться пришел? У Славушки замерло сердце. — Почему? — Выступаем. Все в штабе сразу засуетились. Писари, офицеры, телефонисты. Внимание Славушки привлек шум возле волисполкома. Мужиков двадцать скучилось на утоптанной площадке, столько же солдат стояло у крыльца, двое ставили скамейку, Кияшко размахивал стеком… Показался щуплый и жалкий Кудашкин в сопровождении четырех конвоиров. — Куда его? — удивился Славушка. — Вешать? — Пороть, — объяснил Ряжский. — Ротмистр хотел повесить, а подполковник не разрешил. Кияшко что-то крикнул, Кудашкин повалился ему в ноги, Кияшко взмахнул стеком, и Кудашкин принялся торопливо спускать штаны… К скамейке подошел солдат, взмахнул кавалерийской плеткой, Кудашкин завизжал… — Интересно? — спросил Ряжский. — Противно… — Славушка передернул плечами и вернулся в дом. Со сборами проканителились до ночи. В штаб то и дело заходили офицеры. У всех были свои особые дела. Ни на минуту не замолкал полевой телефон. Славушка никуда не отлучался, но что еще мог он узнать? Все уложено, даже «ремингтон» упакован и перевязан веревками. Шишмарев устало опустился на стул. — Все. — С грустью взглянул на Славушку. — Последняя ночь здесь. Расстаемся… Снимает планшет, достает и разворачивает карту. Вся она исчерчена — и синим карандашом и красным. — Вот оно… Успенское! Придется ли еще сюда попасть? А мои далеко, во Владимире. Второй год не видел сына. Тоже хороший мальчик. Опять жужжит зуммер. — По направлению к Новосилю! — кричит Шишмарев. — По направлению к Новосилю. Ваш батальон выступает к Скворчему и сворачивает на Залегощь. Рота охраны позже… Славушка прислонился к распахнутой раме… То, что происходит дальше, необъяснимо. Славушка отворачивается от окна, и глаза его замирают на планшете. Лежит на краю стола. Достаточно протянуть руку… Срабатывает какой-то импульс, который сильнее его сознания, сильнее его самого. Это все, что он еще может принести Быстрову. Славушка рывком хватает планшет и стремглав прыгает в окно… Позже, вспоминая о происшедшем, он сам не понимал, что тогда на него накатило. Сперва делают, а думают потом. Так бросаются наперерез идущему поезду, спасая играющего на рельсах ребенка… Это было сильнее его! Он падает на землю и прижимается к стене. На мгновение все в комнате замирают в оцепенении. Но уже в следующее мгновение щелкает выстрел. — Стреляйте же! — слышит Славушка… Ряжский выпрыгивает в сад. Славушка ползет вдоль фундамента и через щель в заборе выбирается на огород Волковых. По канавке, мимо Тарховых, к церкви… Но не успевает подняться из канавки, как его принимают чьи-то руки… Быстров! — Что там случилось? Рассказ Славушки бессвязен, однако Быстров быстро уясняет себе, что произошло. — Ну, ты отчаянный, — не то осуждая, не то одобряя его, произносит Быстров. — Стоило рисковать… Забирает планшет и толкает мальчика в темноту. — Быстро. К Введенскому. Стукнешь в крайнее окно. Три раза. Вот уж чему Славушка никогда не поверил бы: Андрей Модестович сочувствует коммунистам! Хоть бы сказал когда слово в пользу Советской власти. А Быстров, выходит, ему доверяет! Темно, но на всякий случай дорогу Славушка перебежал. Одиноко белеет церковь. В парке хоть глаз выколи. В доме Введенского ни огонька. Да и какое окно крайнее? Тук. Тук. Тук. Голос с крыльца: — Степан Кузьмич? — Это я, — отзывается Славушка. Введенский сошел с крыльца. Чиркнул спичкой, осветил на секунду мальчика. — Очень приятно… Идемте. — Куда? — В баню. Ведет мальчика к небольшой баньке на отлете от дома. Но Славушка здесь не один… Какой же тут поднялся радостный визг! Возле бани, оказывается, привязан Бобка. — Заходите, заходите, — строго командует Введенский. — А то собака поднимет шум… Мальчик на ходу здоровается с Бобкой. — Темно, но не беспокойтесь, чисто. Здесь вы будете жить. Вы курите? — Нет. — Очень хорошо. Огонь зажигать нельзя. Дверь не заперта, сюда никто не зайдет. Утром навещу. Славушка переступил порог, и дверь тотчас закрылась. Пахнет сырым деревом. Вытянул руку, нащупал скамейку. Шагнул. Еще скамейка, застелена не то половиком, не то какой-то попоной. В темноте отыскал дверь в баню. Принес из предбанника попону, ощупью нашел полоз, залез по ступенькам на верхнюю полку. Постелил, лег. Не страшно, а одиноко. Думалось почему-то не о Быстрове, а о маме. Ничего, завтра он как-нибудь даст о себе знать. Захотелось заплакать, до того одиноко. Нечаянно всхлипнул, сказалось нервное напряжение. Припомнились события минувшего дня, полезли в голову посторонние мысли. Мальчик подогнул ноги, шмыгнул носом и заснул. 26 Когда Славушка выпрыгнул из окна, всех, кто находился в штабе, на мгновение охватило оцепенение. Раньше других пришел в себя Шишмарев, он привык к треволнениям войны и почти без промедления сообразил, что произошло. Встретил милого культурного мальчика, да еще чем-то похожего на собственного сына, потянуло к семье, вообразил, что мальчик испытывает такие же чувства! Свалилась, как снег на голову мирным жителям, толпа утомленных и обозленных солдат, нарушила мирное течение жизни, все перебаламутила, а подполковник Шишмарев, командующий этой толпой, почему-то должен возбуждать у кого-то симпатии… Затмение усталого ума! Нисколько не нужен мальчику какой-то там Евгений Антонович Шишмарев. Мальчик подослан. Большевики привлекают на свою сторону зеленую молодежь… Шишмарев тут же подскочил к окну, выхватил револьвер и крикнул: — Стреляйте же, стреляйте! И прапорщик Численко, и Ряжский без промедления кинулись вдогонку. Но мальчишка растворился во тьме и был таков! Шишмарев озверел: попадись ему сейчас под руку этот милый мальчик, он бы его пристрелил. На выстрелы прибежал вездесущий Кияшко. В расстегнутом кителе, без фуражки. — Я вас предупреждал… На поиски не оставалось времени, на рассвете полк выступает. Речь могла идти только о возмездии. Кияшко предложил сжечь Астаховых: дом, амбары, сараи — словом, все. В пылу гнева Шишмарев готов был согласиться, но тут в комнату ворвался Павел Федорович. — Да вы что, в уме? — возопил он. — Жечь своих?! Шишмарев сразу взял себя в руки. — Вы откуда взялись? — Из соседней комнаты! — взвизгнул Павел Федорович. — Очумели вы, что ли? Или этот паршивец помутил вам рассудок?! — Вы о чем? — О том, что жечь хотите! — Подслушивали? — Да как же не подслушивать?! Я в своем дому, и меня жечь… — Это еще не решено, — сказал Шишмарев. — Ваш племянник обокрал штаб. — Да какой он мне племянник! — завопил Павел Федорович. — Пришей кобыле хвост, вот он кто мне! Привез брат, подобрал их голодных… Какое я имею к ним отношение? — А вот найдите мальчишку! — вмешался Кияшко. — Тогда поверим вам… — Да где ж я его возьму? Он рад меня сжечь! Разве генерал Деникин за то, чтобы жечь помещиков? — Но ведь вы не помещик, — сказал Шишмарев. — Вы кулак, торгаш… — А кулаки Деникину разве враги? — Не кричите, — сказал Шишмарев. — Лучше помогите найти. — Мне он не исповедовался, — не без насмешки уже отозвался Павел Федорович. — Спросите мать, может, она знает… — Правильно! — подхватил Кияшко. — А ну, Астров, позвать! Астров нашел Веру Васильевну в галерее, она стояла и вслушивалась в темноту. Астров тронул ее за плечо. — Просят… — Да-да, — тотчас отозвалась Вера Васильевна. — Я понимаю. Вошла в зал, несмело улыбнулась. Шишмарев всегда любезен, а на этот раз не предложил сесть. — Вы знаете, что сделал ваш сын? — Нет. — Похитил важные бумаги. Вера Васильевна пожала плечами. — Где он? — Не знаю. Тут опять вмешался Кияшко: — Мы поведем вас по селу, и вы будете его громко звать. — Нет, — сказала Вера Васильевна. — Значит, вы с ним заодно? — Нет. — Тогда помогите его найти. — Нет. — Да что вы заладили нет и нет? — рассердился Шишмарев. — Он у вас лжец, вор и обманщик! — Нет. Кияшко гадко усмехнулся. — А вы… — Ротмистр, без оскорблений, — вмешался Шишмарев. — Все-таки она женщина… — Она такая же предательница, как ее сын, — ответил Кияшко. — Астров, выведите ее и посторожите. И вы тоже уйдите, — приказал он Павлу Федоровичу. Астров застыл у двери, шутки с Кияшко плохи. Вера Васильевна и Павел Федорович безучастно поглядывали на Астрова. Только Вера Васильевна ушла куда-то в себя, а Павел Федорович старался не пропустить ни слова из того, что говорилось за дверью. — Преступление не может быть оставлено без возмездия, — сказал Кияшко. Шишмарев не ответил. — Передайте ее в контрразведку, — сказал Кияшко. — То есть вам? — спросил Шишмарев. — Вот именно, — сказал Кияшко. — Она не виновата, я уверен, — возразил Шишмарев. — Она не знала. — Это не имеет значения, — сказал Кияшко. — Я устрою так, что мальчишка найдется. — Каким образом? — недоверчиво спросил Шишмарев. — Очень просто, — сказал Кияшко. — Оповещу Успенское и Семичастную: если к десяти ноль-ноль Вячеслав Ознобишин не явится с повинной, его мать будет повешена. — Но она не будет повешена? — спросил Шишмарев. — Будет, — сказал Кияшко. — Если преступник не явится, я повешу его мать, иначе население перестанет верить в неотвратимость наказания. Наступило молчание, кто-то не то пальцем, не то карандашом долго постукивал по столу. Павел Федорович прислушивался уже совсем откровенно, не обращая внимания на скачущего Астрова. — Делайте как знаете, — устало согласился Шишмарев. — Штаб выступит на рассвете, не хочу видеть, как будут вешать невинную женщину, оставлю вам взвод охраны, закончите и нагоните нас в Скворчем. — Вот что, Астров… — Кияшко указал на Веру Васильевну. — Отведете ее в амбар, а ключ принесете мне. По поручению Павла Федоровича Надежда отнесла Вере Васильевне хлеба и огурцов, просунула в щель под дверью, посочувствовала, утешила как могла. Вера Васильевна попросила прислать Петю. Громадный двор наполнен шорохами, тенями, опасностями. Петя выскочил из дома, осмотрелся… Вот что наделал этот дурак Славка! Петя не знал, что натворил брат. Что-то взял, убежал, опять какая-то новая фантазия. Но ведь не все же будут относиться к нему, как мама. А маму арестовали. Из-за Славки. Петя слышит, как дышат коровы в коровнике. Жуют себе и жуют. На ступеньке у крыльца часовой. Даже без винтовки. Сидит себе и попыхивает цигаркой. — Ты что, мальчик? — Ничего. — Гуляй себе… Вот Петя и гуляет. Перед часовым. Тот не обращает внимания на мальчика. Петя делает зигзаг к сараю. Прямо против коровника белеет амбар. Дверь на замке, а ключи в кармане у Кияшко. Петя перебегает лунную дорожку. Обитая железом дверь отходит внизу. Петя ложится на землю, приникает лицом к щели и кричит шепотом: — Мамочка! Мама! — Я здесь, здесь, — слышит он совсем рядом. Мама ласковыми пальцами притрагивается к его лицу. — Петелька мой… Мама может долго говорить нежности, а ведь могут подойти и прогнать. — Славу не поймали? — Ну что ты! — Постарайся его найти. Сходи к его приятелям, где-нибудь он прячется. Ночью он не мог далеко уйти. Скажи, чтоб не появлялся, пока белые не уйдут из села. За меня пусть не боится. Это все пустые угрозы, чтобы выманить Славу. Мне ничего не сделают. А его со зла могут убить. А если Слава выдаст себя, это меня действительно убьет… Пете тоже жаль Славу, мама все очень хорошо понимает. — Хорошо, мам. — Не медли… Луна обмывает серебряным своим светом крыши, деревья, заборы, все такое белое, точно в театре, нельзя поверить, что кому-то сейчас грозит какая-то опасность. — Петелька… Как необыкновенно мама произносит его имя! — Иду, иду… — Погоди… Он подчиняется, мама притрагивается к его лицу пальцами. — Прощай, миленький… Петя пробегает мимо часового и сворачивает к Ореховым. Там уже знают: Славка чего-то набедокурил, и в отместку Веру Васильевну пригрозили утром повесить. Коля сидит в углу, закутанный в отцовскую свитку. — Колька, пойдем? — зовет Петя. — Сбегаем к Ваське? — Никуда он не пойдет! — кричит мать. — Своего горя хватает! Приходится Пете одному бежать к Левочкиным, к Тулуповым, к Терешкиным… Везде уже знают, что Веру Васильевну повесят, если Славка утром не явится с повинной. Домой Петя вернулся за полночь. Проходя через площадь, увидел солдат, вбивавших в землю столбы. Сперва не сообразил, но, увидев, что меж столбов прибивают перекладину, догадался… В зале горел свет, там не спали. Петя хотел сказать маме о безуспешности поисков, но едва вышел на галерею, как услышал окрик Кияшко. Под утро в штабе поднялась возня, выносили тюки, выступали в поход. — Ну, с богом, — услышал Петя голос Шишмарева, — стукнули стульями, хлопнула дверь, и наступила тишина. Петя побежал на Поповку. Стесняться не приходилось, постучал к Тарховым, обошел все дома, всех дьячков, всех сторожей… Напоследок заглянул к Введенскому. Введенский тоже не видел Славу, но, когда Петя сказал о поручении Веры Васильевны, попросил Петю подождать в кухне. Что-то разбудило Славушку, а что, он не мог понять. Тусклый рассвет пробивается сквозь крохотное оконце. На дощатом потолке висит большая капля воды. Славушка прислушался. Тихо. Лишь шуршит что-то за стеной. Ветерок ли постукивает о крышу ветвями рыжей рыбины, воробьи ли шмыгают и тюкают клювиками по застрехам… Крадется кто-то снаружи. Андрей Модестович тоже, оказывается, не спит. В руках у него тарелка с хлебом и кувшинчик с молоком. — Как спалось? Поешьте. — Да я не очень… Хлеб несвежий, волглый, а молоко такое холодное, что озноб по телу. — Ничего не слышно? — Как не слышно, — иронически откликается Андрей Модестович. — Приходили ночью, спрашивали — не видел ли я вас. — А сюда никто… — А зачем им сюда? Никто и не предполагает, что вы можете ко мне забрести. Что-то мнется Андрей Модестович, ничего не говорит и не уходит. — Вы что-то хотите сказать? — Да, — решается тот. — Пройдемте в дом… Совсем светло. Зеленый бодрый мир. Травы, кусты, деревья — все покрыто росой, все мокрое, свежее, утреннее. Осторожно пробираются по узкой тропинке к дому. В столовой у Введенского беспорядок. Как всегда. Что-то он уж очень торжествен. — Видите ли… Степан Кузьмич запретил вам с кем-либо встречаться. Сказал мне: «Вы за него отвечаете. В крайнем случае возьмите ружье и стреляйте, но сохраните мне мальчика». Славушка дергается. Его считают ребенком… — Я дал слово вас уберечь и хочу уберечь. Однако бывают исключительные обстоятельства, и я считаю своим долгом… Вас разыскивает брат. Он обежал все Успенское, всю Семичастную… Вот в чем дело! Быстров велел никого к нему не допускать, а Введенский хочет сделать исключение для Пети. Очень кстати. Петя и передаст маме, что все в порядке. — Дело в том, что вашу мать… — Андрей Модестович поправляется: — Веру Васильевну должны сегодня повесить. — Что-о?! — После того, как вы… После вашего побега… В штабе поднялся переполох. Уж не знаю, что там произошло, но Веру Васильевну посадили в амбар и объявили: если вы утром не явитесь, вместо вас будет повешена ваша мать. Я считаю своим долгом довести это до вашего сведения. Лично я не сумел бы жить на свете, зная, что мог спасти свою мать и ничего для этого не сделал. Поэтому я вас не задерживаю. Хотите видеть брата, я позову, хоть и не сказал ему, что вы у меня? — Сколько сейчас времени? — Казнь в десять. Сейчас восьмой… — Позовите. При виде брата Петя шмыгнул носом. — Слав! — Я все знаю. — Мама велела сказать, чтобы ты ни за что не показывался. Она сказала, ей ничего не сделают. — Значит, маму поведут на казнь, а я в это время буду прятаться в бане? Петя отвел глаза. Он не верит, что Славушка или мама могут умереть, ему жалко обоих. — Иди, — говорит Славушка брату. — К амбару ты можешь подойти? Скажи маме, пусть не беспокоится. Я не приду. Петя умоляюще смотрит на брата. — Слав! — Иди. Проходит мимо Пети, открывает дверь в кухню. Введенский стоит у окна. — Андрей Модестович, я пошел, — торжественно объявляет Славушка. — Скажите Степану Кузьмичу, я не нарушил ни одного его приказа. Но на этот раз не могу. Вот он и на аллее! На последней аллее своей жизни. Он революционер, а революционер должен жить с чистой совестью. Бедная мама! Думает, что они не осмелятся. На все осмелятся! Шишмарев добрый, а ведь открыл же стрельбу, когда Славушка выпрыгнул с планшетом. Война есть война. Славушка прибавляет шагу. Кияшко нетерпеливый человек, всякое может случиться. Славушка не сомневается, что исполнение приговора возьмет на себя Кияшко. Скучная какая сейчас сирень. Славушка уже не увидит, как будущей весной заполыхают ее лиловые гроздья. «Надо торопиться. Чуточку, конечно, боюсь, но маму я люблю сильнее. Они обязательно спросят, где планшет. Может быть, даже будут пытать. Все равно я ничего не скажу». Славушка не замечает, как начинает бежать. Расстреляют его или повесят? Быстров пожалеет его или не пожалеет? Как не пожалеть! Комсомольцев сейчас по всей волости человек десять, не больше. В такое время каждый коммунист дорог. Славушка сразу подойдет к Кияшко. «Можете меня казнить, — скажет. — Вон он я, перед вами!» 27 Появись у людей уверенность, что Советская власть не вернется, Быстрову было бы труднее скрываться, но его повсюду принимали и прятали, одни из уважения к нему самому, другие из страха перед Советской властью. Но как бы там ни было, скрываясь и подвергаясь опасности, Быстров по-прежнему чувствовал себя в волости хозяином. Всех коммунистов он объединил в отряд, их было немного, человек десять, трех инвалидов отправил в эвакуацию, а двое просто отбились, оказались в трудное время балластом. В общем это было одно из тех военизированных соединений, из которых впоследствии образовались отряды частей особого назначения. Коммунисты, подобно Быстрову, прятались по избам, овинам и гумнам, а в теплые ночи — по логам и перелескам. Но стоило белогвардейцам где-либо пригрозить крестьянам расправой, как тут же появлялся отряд Быстрова. Большого урона белым не причинял, но его мгновенные появления и исчезновения порождали среди белых беспокойство. Впрочем, отряд творил по временам суд и расправу: если кто-нибудь, не дай бог, выдавал семьи красноармейцев и коммунистов, таким человечишкам Быстров спуску не давал, двоих особенно подлых доносчиков расстрелял, а у других отбирал зерно, скот, домашние вещи и раздавал отобранное имущество беднякам. Естественно, что Быстров был хорошо осведомлен, что и где происходит в волости… Получив от мальчика планшет, Быстров уже через полчаса рассматривал его содержимое. Добыча была не столь значительна: во всяком случае, не стоила ничьей жизни, обычная оперативная трехверстка. Самое разумное было бы переслать бумаги в штаб Тринадцатой армии, отступающей под натиском деникинцев, могло случиться, что карта пригодится… Но на какое-то время забота о спасении Славушки и его матери отодвинула на задний план остальные дела. Положение вещей ясно. Полк выступал, это стало очевидным с вечера. Однако до того, как покинуть Успенское, решено казнить Веру Васильевну Ознобишину. Ее заперли в амбаре. На площади поставили виселицу. Быстров не сомневался, узнай об этом Славушка, он явится к белым. Поэтому Введенскому было запрещено говорить о чем-либо мальчику. Но нельзя допустить и гибели Веры Васильевны. Быстров приказал быть наготове и, когда осужденную поведут на казнь, попытаться ее отбить. Но тут вмешался заведующий земельным отделом Данилочкин, рассудительный хозяйственный мужичок. — А если снять часового, открыть амбар да увезти поперек седла? — Там такие замки! — А ключи на что? — Ключи у белых. — Никогда не поверю, чтобы у Астахова не было вторых ключей. Так и порешили. Быстров идет в дом, Астахова берет на себя. Остальным собраться за церковью. Зайцеву с лошадью ждать за астаховским овином. Небо стало сереть, вот-вот брызнет рассвет, когда Степан Кузьмич пробрался в кухню к Астаховым. — Здравствуй, тетка, — позвал он Надежду. Та не раз видела Быстрова, обомлела, даже присела на скамейку со страху. — Позови хозяина, — приказал Быстров. — Да тихо, чтоб никто ничего. Сила Быстрова заключалась и в том, что он умел верить людям. Надежда была из тех простых русских баб, у которых отчаянные мужики всегда вызывали восхищение. Она прошла в кладовую, где ночевал Павел Федорович. Он не спал, все прислушивался к тому, что происходит в штабе. — Дело есть, зайдите… Надежда зря не позовет. Павел Федорович пошел за ней на кухню и обомлел не меньше своей кухарки. — Здравствуйте, — сказал Быстров. — Времени у меня мало. Понимаете? — Понимаю, — подтвердил Павел Федорович. — Перестреляю кого смогу, но начну с вас. Быстренько, вторые ключи от амбара. — Нет их у меня… — Павел Федорович помотал головой. — Все ключи позабрали. Быстров усмехнулся. — Так я вам и поверю. Хотите быть целым, несите ключи, я вас не выдам. Павел Федорович колебался лишь несколько секунд. Быстров поиграл маузером. — Предупреждаю еще раз: войдет кто вместо вас, стреляю, а пристрелят меня, не позднее сегодняшнего вечера Еремеев отправит вас вслед за мной. — Об этом можно не говорить, — пробормотал Павел Федорович, аккуратно прикрывая за собой дверь. Надежда тоже смотрела на дверь во все глаза, забыв о своей печке. Но вот дверь приоткрылась, и… показался все тот же Павел Федорович. — Вот… — Он положил на стол два ключа. — От обоих замков. Все? — Все, — подтвердил Быстров. — Мне только одно удивительно, почему вы сами не выпустили жену своего брата? — А я в чужие дела не мешаюсь, — возразил Павел Федорович. — Жена не моя, а хозяйство мое, я рисковать не намерен. Быстров насмешливо взглянул на Астахова: — Хозяйство у вас тоже не навечно… — Смотрите, — напомнил Павел Федорович. — Я вас не видел и ничего не давал. — Не волнуйтесь, — успокоил его Быстров. — Я их вам скоро верну. Не успел дойти до сторожки, как возле исполкома послышался шум, белые выступали из Успенского. Постучался к Григорию. — Что происходит? — Выступают. — А это? Быстров указал в сторону виселицы. — Останется ихний ротмистр с солдатами, сделают свое дело… Быстров заторопился к церкви. Весь отряд в сборе. — Выступают. Как пройдут примерно Кукуевку, Семин и Еремеев поднимут стрельбу. Где-нибудь за почтой. Отвлекающий маневр. А ежели белым вздумается меня преследовать, прикройте… Не спеша зашагал через дорогу. И все же вздрогнул от неожиданности, едва раздались выстрелы. Подошел к амбару, отомкнул один замок, отомкнул другой, откинул болты, позвал: — Товарищ Ознобишина! Она появилась из глубины. — Выходите. — Нет. — Что нет? — А Слава? — Слава в порядке. — Не обманываете? — Да выходите же! Вставил болты, поправил засовы, замкнул замки. — Пошли. — Куда? Он поволок ее за руку, на огороде к ним подбежал Зайцев, держа в поводу Маруську. Быстров вскочил в седло, подхватил Веру Васильевну, натянул узду, чуть гикнул и галопом вынесся на дорогу. 28 Кияшко сидит за столом. Напротив киот, когда-то и он молился… Вошла Надежда, внесла крынку, чашку, поставила на стол. Молоко загустело, вечернего удоя. Кияшко слил в чашку отстоявшиеся сливки, выпил. Молоко холодное, вкусное. Выпил все молоко, ладонью смахнул с гимнастерки упавшие капли. Пора приниматься за дело! — Гарбуза! Тот тут как тут. — Готово? — Так точно. — Двух солдат ко мне, остальным построиться. Но что это?… Выстрелы! — Гарбуза! Выяснить! Но выяснять ничего не надо. Бежит один солдат, второй… — Стреляют! За почтой! — Гарбуза! Кони оседланы. Боя не принимать. Я сейчас. Конечно, лучше поскорее покинуть село, но приговор должен быть приведен в исполнение! Кияшко открывает один замок. Другой. Выдергивает болты. Отталкивает дверь. — Эй! Выходите! Никто не отзывается. — Не бойтесь! Кияшко вбегает в амбар. — Что за черт! Да где же?… Но у него нет времени выяснять, кто ее выпустил. Перед дверью Гарбуза, Держит за уздечку лошадь. — Ваше благородие! — Кто стрелял? — Где-то в лесочке. — Мадам-то ушла, Гарбуза! — Как так? — А вот так! Кияшко прислушался. — Не стреляют? — Перестали чегой-то. — Ладно… Кияшко взбирается на лошадь, он не любит лошадей, не любит Гарбузу, не любит войну, но ничего не поделаешь! Взвод охраны построился перед исполкомом. Перед бывшим исполкомом. Перед бывшим исполкомом два столба с перекладиной. Все слажено честь честью. Комендантский взвод ест глазами начальство, нервничает христово воинство, ох как хорошо бы да рвануть под гору! Но Кияшко обидно покинуть село, так и не попугав православных. И тут на свою беду появляется Савушкин. Тихон Прокофьевич Савушкин, совсем тихий мужичонка. Идет себе от Поповки, погруженный в раздумья: не хочет отец Валерий крестить за деньги, просит гречихи пуд… — Гарбуза, взять! — Эй, ты! Приходится мужику свернуть, не побежишь! — Быстро! Гарбуза указывает солдатам на мужика, те хватают его под руки и ставят перед Кияшко. — Чего ето вы меня? — Решением военно-полевого суда за пособничество большевикам… Ротмистр пальцем указывает в небо. — Давайте, давайте! Вот когда доходит до Савушкина смысл этого жеста. — Да за что же ето меня? — Не твое дело, — торопливо бормочет Гарбуза. — То исть как же не мое? — Он растерянно смотрит на офицера. — Ваше благородие! Да рази ето возможно? Без суда? — Я здесь суд! — Побойси бога! — Здесь я бог… — Вы только не медлите, ваше благородие, — поторапливает Гарбуза. — Не ровен час… — Да-да, — соглашается Кияшко, указывая на перекладину. — Не тяните! Надо торопиться, и они торопятся, впрочем, такие дела они умеют делать без промедления, точно и аккуратно. — Ваше благородие… — опять торопит Гарбуза. — Проскочим? — А мы левее возьмем, не сумлевайтесь. — По коням! — командует Кияшко… И взвод охраны устремляется под гору. 29 Славушка бежал. Мимо кустов сирени, мимо берез на обочинах, мимо просветов в листве. Торопись, торопись! Маму он обязан спасти! И вдруг почувствовал, что задыхается, не может больше бежать, ноги налились свинцом, еле отдирает от земли… Он сразу понял, что это такое, не почувствовал, а понял, вполне сознательно произнес про себя: «Страх. Я боюсь. Мне не хочется умирать. И маме не хочется. Но она согласна умереть, лишь бы я продолжал жить. А я не смогу жить, если мама умрет из-за меня. Поэтому лучше мне умереть. Хотя это очень страшно. Не видеть неба, не видеть деревьев, не видеть маму…» Он перестал бежать и пошел. Шел раздумывая, но не останавливаясь. Он даже не знает, стоило рисковать жизнью или не стоило, цена похищенных бумаг никогда не откроется Славушке, через час его глаза закроются и тело придавит земля. Мама, конечно, не захочет, чтобы он умер, поэтому нужно сразу поговорить с Шишмаревым: «Вы мужчина, вы офицер, у вас тоже есть мать…» А если у него нет матери? Если он ничего не почувствует… Вот почта! Кто-то стоит меж грядок капусты и смотрит. Почтмейстерша… — Привет, Анна Васильевна! — Славушка! — Она кричит с ужасом. Дорожка через капустное поле. Больше уже не придется ему грызть кочерыжки! Канава. Последний прыжок. Что это? Прямо перед ним буква П. Серое деревянное П… Но кто это?! Это же Савушкин… Тихон Прокофьевич! Серый, встрепанный, тихий… Вот как это выглядит! За что они его? Самый безобидный мужик… А где мама? Славушка перебегает площадь. Сад. Ограда. Дом. Крыльцо. Галерея. Сени… Бежит в кухню! Завтракают! Павел Федорович. Марья Софроновна. Петя. Надежда. Федосей. Нет только мамы. Павел Федорович кладет ложку. — Прибыли? Очень приятно. Где это вы пропадали? Все смотрят на Славушку. — Где мама?! — Нет ее, — спокойно говорит Павел Федорович. — Петя, где мама?! — Не знаю. Что же все-таки произошло, если он способен в эту минуту есть? — Успокойся, — говорит Павел Федорович. — Цела твоя мама. Тот же дьявол, что мозги тебе закрутил, спас твою мать. Что же теперь делать? — Надежда, дай ему ложку! — А где белые? — Хватился! Однако ты здесь не очень болтайся, власть еще ихняя… Он чувствует полное изнеможение. — Я пойду. — Куда? — На сеновал. Посплю. — Вот и ладно, — облегченно говорит Павел Федорович. — Возьми тулуп. Будто тебя тут и нету… Кто-то дергает его за ногу. Он весь зарылся в сено… — Слава! Слав… За тобой Григорий… Петя знает, что он на сеновале. Пете можно дергать меня за ногу. Славушка никогда не говорил Пете, что любит его, но он любит его. Пете можно дергать… — За тобой Григорий. — Какой Григорий? — Как какой? Исполкомовский. — А что ему надо? — Быстров прислал. Сонная истома убегает, как ящерица. В кухне Григорий калякает с Надеждой, она побаивается Павла Федоровича, однако кое-какие остатки перепадают Григорию для его кроликов — хлебные корки, капустные обрезки, как-то украдкой дала даже целое ведерко моркови. — Где Степан Кузьмич? — В волости, вызывают тебя. Григорий таращит усы, черные, в стрелку. Надежда правильно говорит: как у таракана. — Чем это ты деникинцев прогневил? — Узнали, что комсомолец… — Они и так знали. — Усы Григория действительно шевелятся, как у таракана. — А люди говорят, ты у ихнего полковника револьвер и деньги украл? Вот те на! На револьвер он согласен, а на деньги нет. — Нет, деньги я не брал. — А чего теряться! Буквы П уже нет перед исполкомом. — А я столбы на дрова, — отвечает Григорий на взгляд мальчика. — Охапки три напилю. — А где… Славушка не договоривает. — Родные унесли, — отвечает Григорий. Быстров в той же комнате, где всегда сидел. Даже удивительно! Белые ушли вперед, — значит, Успенская волость еще под их властью, а в здании волостного правления расположились коммунисты и хозяйничают себе как ни в чем не бывало. Быстров на обычном месте, за секретарским столиком Семин, Еремеев на диване, а хромой Данилочкин у печки, хотя топить еще рано. — Можно? — Заходи, заходи! У нас заседание… — Степан Кузьмич, где мама? — В безопасном месте. — Я хочу ее видеть. — Увидишь. Мы тут посоветовались и решили, что бумаги, которые ты забрал, надо срочно доставить в политотдел Тринадцатой армии. Возьмешь документы, спрячешь, довезу тебя до Каменки, переберешься через линию белых, это тебе легче, чем взрослому, а оттуда к железной дороге. Змиевка еще в наших руках. Дело не столько в бумагах, сколько в самом Славушке. Но об этом Быстров ему не говорит. Трехверстка, возможно, не представляет особой ценности, но мальчика надо на время отправить подальше от Успенского. Так за него спокойнее. Вот и решено послать с поручением… — Что скажешь? — нетерпеливо спрашивает Быстров. — Справишься? Славушка и озадачен и польщен. — Я готов, — говорит он. — Хотелось бы только маму… — Я же сказал, — подтверждает Быстров. — Завезу по дороге. Она у Перьковой, в Критове. Еремеев хлопает мальчика по плечу. — Дам тебе наган… — Ты что, очумел? — возмущается Быстров. — Какое еще оружие? Попадется кому — самый, мол, обыкновенный школьник. Гостил у родных в Успенском, а теперь возвращается в Орел. Славушка смотрит поверх Быстрова на стену, где еще недавно висел портрет Ленина. Ленин чем-то похож на учителя. На обыкновенного учителя. И еще немножко на папу. Славушке кажется, что он с ним встречался. — В общем, собирайся. Дома скажешь, везу тебя к себе в Рагозино. Мол, побудешь там, пока не отгонят белых. Оденься почище, потеплее. На сборы час… Полуправду Славушка сказал только Пете. Нужно, мол, уехать по делу, что за дело, не объяснил, так что в случае чего пусть Петя позаботится о маме. Он даже поцеловал Петю: — Ты мне не только брат, но и друг. Павлу Федоровичу сказал: чтобы не подвергать Астаховых опасности, поживет пока у одного парня в Рагозине. Такое сообщение Павлу Федоровичу по душе, он велел Надежде сварить на дорогу яиц и сам принес из погреба кусок сала. Вечерние тени стлались по площади, у коновязи танцевала запряженная в бедарку Маруська, в окнах исполкома отражался багрово-рыжий закат. Славушка со сборами не задержался. Быстров критически его осмотрел: курточка из серого сукна, выкроенная из старой шинели Федора Федоровича, брюки из чертовой кожи, ботинки вот-вот запросят каши, брезентовые обмотки, кепочка, мешок о лямками… — Раскручивай… Достал из-за пазухи бумаги, завернул в носовой платок, приложил к голени. — Закручивай. — Вряд ли кому придет в голову заглянуть за обмотки, — наставлял Быстров. — Никому не позволяй размотать, лучше сунь в костер… — Как Муций Сцевола, — сказал Славушка. — Кто? — Муций Сцевола. — Что за человек? — Сжег на огне руку. — Зачем? — Показать презрение к смерти. — Это ты брось! — рассердился Быстров. — Сперва доберись до политотдела, а уж потом жги. Закат догорал, на площади желтело все, что могло отразить гаснущие лучи. — Тронулись. Быстров вскочил в бедарку, прижал мальчика к себе, натянул вожжи, цокнул, Маруська рванула и рысью вынесла бедарку на дорогу. Поповка мелькнула черной тенью, ветлы напоминали монахов. Славушка прижался к Быстрову. Миновали кладбище, и опять ветлы, ветлы, да перебор черных Маруськиных ног. — Перькову Анну Ивановну знаешь? — Видел у Александры Семеновны. — Правильно, подружка ее. Учителка. Приехала погостить, никому ничего не придет в голову. Славушка пригрелся под рукою Быстрова, и уже с разлета — в Критове, село отходит ко сну, лишь собаки брешут, — тпру! — и уже на взгорье у школы. — Беги! Он уже в тепле, мамины руки обнимают его, ни Анна Ивановна, ни ее гостья не ждали Быстрова, но Вера Васильевна уже с час как стояла на крыльце. — Мне все казалось… Степан Кузьмич привязывает лошадь. — В дом, в дом, незачем свиданки на улице устраивать. Комнату освещает жестяная керосиновая лампочка. В светелке у Перьковой, как у курсистки: железная коечка, пикейное одеяльце, этажерка с книжками, а по стенам портреты: Пушкин, Толстой, Тургенев, Чернышевский, Писарев, Добролюбов и почему-то Пугачев, между Пушкиным и Толстым… Вот какая эта Анна Ивановна! — Самогонки нет? — Степан Кузьмич, откуда же у меня самогонка? — С холоду неплохо. — Сбегать? — Сбегайте. И сала займите, я потом привезу, отдадите. Перькова уходит с таким видом, точно Быстров послал ее по наиважнейшему делу. Быстров садится на кровать, накрытую девственно чистым одеялом, нескрываемо довольный всем, что он видит. — Вот и свиделись, — говорит. — Ты тоже здесь поживешь? — спрашивает Вера Васильевна. — Только вот Петя… — Петя работает на Астаховых, — не без насмешки произносит Быстров. — Ничего с ним не случится. — А Славе здесь не опасно? — Он здесь не останется, — безжалостно отвечает Быстров. — Он дальше… Вера Васильевна пугается: — Куда еще? — Поручение Союза молодежи. В Орел, по вопросам культурно-просветительной деятельности. — Ну какая сейчас просветительная работа? — недоумевает Вера Васильевна. — Со дня на день Орел займут белые… — А вы уверены, что займут? — Но ведь заняли же Успенское? — И ушли! — Вперед, на Тулу… — А там лбом об тульский самовар! — Быстров хлопает в ладоши, как точку ставит. — Они уже об обратном пути подумывают. Вера Васильевна не верит: — Выдаете желаемое за действительное. Возвращается Перькова с самогонкой и салом. — Еле достала… — Я желаю сейчас только одного, — отвечает Быстров. — Стакан самогона. Он строго смотрит на хозяйку. — Хлеб-то у вас есть? Хозяйка обижается: — У меня и обед есть. — Вот и соберите. — Он неодобрительно созерцает маленькую пятилинейную лампу. — Разве у вас нет «молнии»? — "Молния" для занятий. — Вам передали керосин? Славушка видит, как Быстровым овладевает злость. — Как же, как же, — подтверждает Перькова. — Два бидона. Позавчера. Быстров успокаивается. — То-то. Не то бы Филимонову головы не сносить… Филимонов — председатель Критовского общества потребителей. Еще несколько дней назад Быстров приказал передать весь запас керосина в школу. — Мужички с коптилками посидят, а детей обучать. Волость под властью белых, Быстров скрывается, а приказы отдает по-прежнему. Расспрашивает Перькову о дровах, об учебниках, интересуется, все ли дети будут ходить в школу. — Но ведь белые… — Как пришли, так и уйдут, а нам здесь вековать. Анна Ивановна собрала мужчинам на стол. — Мы ужинали. Быстров наполнил стакан себе, немного Славушке. Вера Васильевна прикрыла стакан ладонью. — Нет, нет! Славушке хочется выпить, он уже мужчина, но нельзя огорчать маму. Быстров ест много, быстро, охотно. Славушка не поспевает за ним. Если бы еще научиться пить, как Быстров. Вера Васильевна задумалась. — Степан Кузьмич, можно Славе не ехать в Орел? Быстров откинулся на стуле, развел руками. — Это как он сам, его не принуждают. — Слава? — Не отговаривай… Сердце Веры Васильевны полно нежности, боязни, предчувствий, но лучше всего чувства запрятать поглубже. Никому не дано остановить ход жизни. Быстров наелся, теперь нужно поспать. — Я сейчас постелю. — Вы спите у себя в комнате, а мы со Славой по-походному, в классе. Быстров не забывает подвязать Маруське торбу с овсом, а заодно прислушаться — опасности неоткуда бы взяться, да ведь береженого… Ложатся в классе на полу, на тюфячок, снятый Анной Ивановной со своей койки, накрываются ее старой шубейкой. Мужчины спят, а женщины не спят. Вера Васильевна в тревоге за сына. Анна Ивановна сама не знает, почему ей не спится, — столько беспокойства в последние дни. Филимонов отдал керосин, сам привез на телеге бидоны в школу, но предупредил — не расходовать, воздержаться, вернется Советская власть — пользуйтесь, не вернется — придется возвернуть. Слышат женщины или не слышат, как встает Быстров, как будит мальчика, как выходят они из школы?… Еще ночь, теплятся предутренние звезды. Предрассветный холодок волнами набегает на бедарку. Быстров придерживает Маруську. Последние наставления, последние минуты. Еще тридцать, двадцать, десять минут, и мальчик самостоятельно двинется дальше. — Пакет начальнику политотдела. Не отклоняйся от железной дороги. Политотдел или в Оптухе, или в Мценске. В низинах стелется туман. Впереди ничего не видно, но по каким-то признакам Быстров угадывает Каменку. — Хорошо, туман… В Каменке стоит какая-то тыловая белогвардейская часть, красных войск поблизости нет, остерегаться как будто нечего, но предусмотрительный командир всегда выставляет охранение. — Постарайся проскочить Каменку в тумане. Не задерживайся в деревне, сразу на большак, верстах в пяти хутор, — не запомнил, когда ехал со станции? Спросишь Антипа Петровича, скажешь, от меня, он нам не раз помогал. Пережди до вечера и дуй прямиком к железке. Быстров сворачивает в поле, ставит Маруську за стог соломы. Вдвоем спускаются к ручью. Туман так плотен, что белеет даже ночью. Ноги тонут в росе. Быстров знает в волости все дорожки. Славушка обязательно забрел бы в ручей. Ручей узенький, но в темноте можно и в луже вымокнуть. — По роялю и вверх по тропке, пересекай деревню по прямой… Каменские мужики ничего лучше не придумали, как вывезти из помещичьего дома концертный рояль и поставить вместо мостика через ручей. Быстров протягивает Славушке руку и решительно говорит: — Бывай! 30 Славушка перебирается по роялю через ручей, отыскивает в траве тропку. Повыше туман пожиже, темнеют овины и сараи, деревня еще спит, мальчик ныряет в проулок и быстро пересекает улицу. Вот он и на пути к цели. Предстоит перейти демаркационную линию. По словам Быстрова, это не так-то просто. Как ни беспечен противник, все-таки не настолько беспечен, чтобы не застраховаться от всяких случайностей. Славушка прошел три или четыре версты, белые не попадались. Утешался он этим недолго, понимал: добраться до политотдела все равно нелегко. Как долго будет тянуться эта серая, унылая, пыльная дорога? Он добрел до изгороди из жердей, за которой ободранные приземистые ветлы, а подальше такие же унылые строения. По всем признакам это и есть усадьба Антипа Петровича, где Славушке надлежит провести день. Подошел к воротам. Приперты изнутри кольями. Покричал. Никто не показывался. Посмотрел, не видно ли собак, перепрыгнул через плетень, и сразу из-за сарая показался какой-то дядюх в длинном брезентовом балахоне. 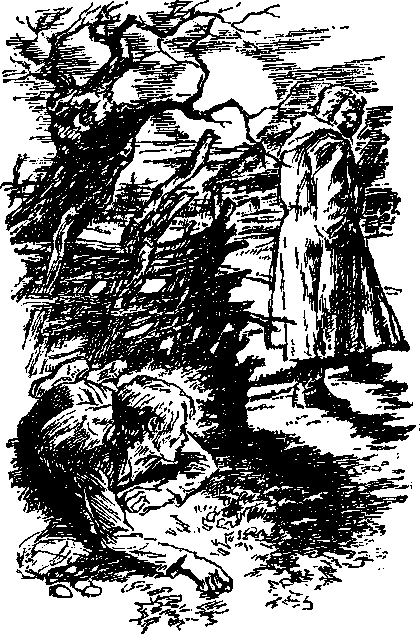 На мальчика уставилось безбородое бабье лицо. — Тебе чего? — Антипа Петровича. — Сдались вы мне… — Я от Быстрова. Степана Кузьмича. — Какого Быстрова? — Председателя Успенского исполкома. Точно проблеск мысли мелькнул на бесформенном мягком лице, он неожиданно хихикнул и так же неожиданно спросил: — А он что, жив еще? Славушка подумал, что это не тот человек, к которому его направил Быстров. — Вы Антип Петрович? — Ну я… — Меня направил к вам Быстров, я иду в Змиевку, день мне надо пробыть у вас, вечером я уйду… Человек о чем-то думал, как-то очень неприятно думал. Славушке почему-то стало страшно, он решил: если этот человек позовет его в дом, он не пойдет, не знал почему, но не пойдет. — Куда ж мне тебя деть? — сказал человек. — В дом не пущу, мне бы самому продержаться, ложись где-нибудь у забора, жди… Он стоял и все смотрел на мальчика, и Славушка почувствовал себя в ловушке, он знал, сейчас нельзя идти к Змиевке, Степан Кузьмич имел какие-то основания запрещать идти этой дорогой днем, и оставаться у Антипа Петровича не хотелось, почему-то неприятно и даже страшно находиться возле него. Сухие жесткие желваки выпирали по обеим сторонам его подбородка, какое-то осминожье лицо… Славушка с опасением огляделся — серый дощатый дом под ржавой железной крышей, серые сараи, вокруг частый плетень, несколько старых яблонь с шершавыми побуревшими листьями… Ему не хотелось здесь оставаться, и некуда больше деться. Славушка вернулся к изгороди, сел у ветлы, прислонился спиной к широкому корявому стволу, положил возле себя на траву сверточек с яйцами и салом. Можно бы пообедать, но есть не хотелось. Антип Петрович постоял, постоял и пошел в дом. Было тихо, какие-то звуки нарушали тишину, но Славушка их не улавливал, они существовали где-то вне его, он только ощущал окружающую его опасность. Пустая дорога где-то тут за плетнем, отжившие деревья и странное это существо в доме. Славушка сидел и не двигался, не спал и не мог встать. Сколько сейчас времени, гадал он. Стоял серый осенний день, хорошо еще, что не было дождя. Когда ожидание стало совсем несносным, из дома выскочила девчонка лет двенадцати в ситцевом розовом платьице, постояла, посмотрела издали и ушла. Спустя еще сколько-то времени появился Антип Петрович, посмотрел и тоже ушел. Надо было думать о предстоящем пути, о Змиевке, о том, как добраться до Орла и дальше Орла, но ни о чем другом в этом загоне, как об этой девочке и Антипе Петровиче, Славушка не мог думать. Кто эта девочка и кто этот человек? Славушка находился в тоскливой осенней пустоте, страх все сильнее охватывал его. Ждал вечера, как избавления, ничего так не хотел, как вечера. По дороге, где-то за его спиной, кто-то проехал, он не посмел встать, оглянуться, посмотреть, он ждал опасности, которая вот-вот появится из дома. Антип Петрович вышел опять, опять ничего не сказал и ушел. Происходило что-то таинственное. В сознании Славушки, в воздухе, который его окружал, вообще в мире существовало лишь одно слово, которого он боялся, оно безмолвно кружило возле него, и оттого становилось еще страшнее. Ему показалось, что осьминожье лицо появилось опять и исчезло. Он не знал, сколько времени он сидел, окруженный серой тишиной, и ждал вечера. Ему показалось, что наступают сумерки, хотя до вечера было еще далеко. Потом он почувствовал, еще немного, и все будет кончено, еще немного, и он утратит всякую волю, ужас подползал к нему со всех сторон. Надо бежать, бежать во что бы то ни стало. Ему казалось, что за ним следят, вот-вот на него накинутся. Он выждал с минуту, взял сверточек в руку и, не отрываясь от земли и не сводя глаз с дома, стал отползать к плетню. Почувствовал, как прижался спиной к плетню, рывком перемахнул через него, упал в траву, вскочил и что было сил побежал к дороге. Дорога, дорога… Настоящая дорога. Настоящий вечер" Вечер-то, оказывается, уже наступил. Сумерки становились все гуще. Ему захотелось есть, но он решил повременить, отойти подальше от этого чертова хутора. Он шел довольно долго. Наступила ночь. Небо затянуло облаками, звезды не просвечивали, тьма сгустилась сильнее. Он не понимал, что это был за хутор, что за человек Антип Петрович. Но он был счастлив, что вырвался оттуда. Все стало на свое место. Слева поля и справа поля, влажная пыль и ночь. Вероятно, уже далеко за полночь. Он чувствует дорогу. В низинах стелется туман, но все хорошо. Дорога тянется под уклон, потом вверх, за обочиной тропка и ниже овражек. В тумане, в туманной тьме, внизу ничего не видно. Славушка сошел на тропку. Мягче и безопаснее. Чу! Так и до беды додумаешься. Что-то поскрипывает, поскрипывает, пыхтит, а ты думаешь о своем, ничего не замечаешь, увлекся своими мыслями. Кто-то едет навстречу. На телеге, должно быть. И не на одной. Обоз какой-то. Кто-то едет. Навстречу. В самом деле едет. Вполне реально едет. Вот уже на расстоянии нескольких шагов… — Сто-ой! В руках у незнакомца винтовка. — Сто-ой! Кому он кричит? То смотрит на Славушку, то оглядывается назад. Впереди — скрип, скрип, и тишина, возы остановились, в самом деле остановились. Еще два шага к Славушке: — Ты кто такой? А кто он сам? Белый? Красный?… Пока что темный! Рассказывать историю о том, что гостил у родственников и теперь возвращается к маме? — А ты сам кто? Человек подходит еще ближе и, задыхаясь от нетерпения, вполголоса спрашивает: — Ты не знаешь, наши еще на Змиевке? «Наши еще на Змиевке?» Ясное дело, он не из тех, кто наступает сейчас на Змиевку, а из тех, кто готовится ее покинуть. — Да ты-то кто? — Боец ЧОНа… — А что за обоз? — С оружием. — А куда вы двигаетесь? — На Змиевку. — Да вы же в обратную сторону едете! — Как в обратную? — Вы же в Каменку едете, там белые! — Не может быть? Бежит назад, и Славушка слышит, как он кричит: — Поворачивай, поворачивай… Назад! Вам говорят… Вспыхивают огоньки, крохотные, как светлячки. Перекур. Возчики закуривают цигарки. Доносятся хрипловатые голоса: — Чаво?… Чаво тебе ишшо, то вперед, то назад… Говорили ж тебе, што станция не туды, а сюды. Лошади у нас не казенные… Раздается надсадное кряхтенье, нуканье, тпруканье, скрип колес, и невидимый обоз трогается обратно. Сопят кони, скрипят телеги, люди покрикивают на лошадей. — Давай, давай, товарищи! — кричит парень. — Скоро прибудем… — Оборачивается к Славушке: — А теперь познакомимся, — говорит он с неподдельной искренностью и представляется: — Шифрин, Давид. — Ознобишин. Пожимают друг другу руки. — Ты есть хочешь? — спрашивает Славушка. — Как собака, — со вздохом отвечает Шифрин. — Только я абсолютно пустой. Славушка молча протягивает ему яйцо. — Откуда ты взял? Они на ходу облупливают одно яйцо за другим. Шифрин сообщает, что он из Орла, член городского райкома комсомола — есть еще железнодорожный райком… Комсомольцев срочно, по тревоге, собрали в штаб ЧОНа, вооружили и отправили на Змиевку. Со станции их повезли в какое-то село, до вечера продержали в дубовой роще, ждали не то бандитов, не то какого-то восстания. Ничего толком не объяснили, сказали, что операция секретная и никому ничего не следует знать. Вечером ввели в село и разместили в школе. На ужин ничего не дали, сказали, что хлеб за ужин отдадут за завтраком. Ребята улеглись между партами, а когда ночью Шифрин проснулся, в школе никого не оказалось. Его забыли. Забыли разбудить. Сторожиха сказала, что отряд отправился обратно на станцию. Тогда Шифрин взял винтовку и отправился вслед за товарищами. — А что за обоз? Шифрин шел себе и шел, было холодно и, признаться, страшновато. А тут навстречу обоз. Он собрался с духом и вышел наперерез. Что за обоз? С оружием. С каким оружием? Мобилизовали, везем на станцию. Какая-то воинская часть, вступившая в деревню, мобилизовала шесть подвод, на телеги погрузили ящики со снарядами и приказали везти на станцию. Шифрину показалось, что мужики едут не то к белым, не то куда-то еще, но только не на станцию. Шифрин приказал мужикам повернуть. Они пытались возражать, но Шифрин пригрозил расстрелять каждого, кто не подчинится, мужики было загалдели, но потом кто-то сказал «пес с ним!» — и поехали. — Куда? — Я думал, что на Змиевку. — А ты способен кого-нибудь застрелить? — Не знаю, — признался Шифрин. — Я очень боялся… Мужикам ничего не стоило накостылять им обоим по шее, однако такая мысль, кажется, даже в голову никому не пришла, не привык мужик обходиться без начальства, кто палку взял, тот и капрал! Пошли молча, вслушиваясь в монотонный скрип колес. — Не знаешь, далеко еще до Змиевки? — прервал молчание Шифрин. Славушка мысленно прикинул: — Верст пять… — А сам-то ты идешь по каким делам? — поинтересовался Шифрин. — По общественным! — Ты комсомольский работник? — Я председатель волостного комитета Союза молодежи, — объяснил Славушка не без гордости. — Ты что-то путаешь, — недоверчиво сказал Шифрин. — В комсомольских организациях нет председателей, есть ответственные секретари… Шифрин посчитал своим долгом просветить нового знакомого. Устав РКСМ он знал назубок, знал все инструкции и циркуляры, на эту тему он мог говорить без устали. — А в Орел зачем? — спросил Шифрин, решив, что Ознобишин едет в Орел. — Я не в Орел. — А куда? — Мне нужен политотдел Тринадцатой армии. — Зачем? Вот этого он сказать не мог! — За литературой? — догадался Шифрин. — Сейчас все туда обращаются за литературой… Так за разговорами дотащились они до Змиевки. Стояла глубокая ночь. На станции царила суматоха. Везде полно солдат, суетится начальство, что-то грузят, что-то выгружают, гудят паровозы… Едва подводы показались у станции, как подбежали два командира, один в кожаной куртке, другой в длинной кавалерийской шинели. — Снаряды? Снаряды? — закричал тот, что в шинели. — Где только вы прохлаждались! — Опоздай еще на полчаса, — гневно добавил тот, что в куртке, — мы отдали бы вас под суд. Им приказали въехать по деревянному настилу прямо на перрон, на пути стоял поезд, на открытых платформах сидели красноармейцы и ждали ящики со снарядами. Не успели возчики остановиться, как красноармейцы осыпали их такой бранью, что Славушка и Шифрин не посмели раскрыть рта, безропотно помогли перегрузить ящики на платформы и ретировались, чтобы не услышать чего-нибудь в свой адрес еще и от мужиков. 31 На станции скопилось пять или шесть паровозов. На четырех колеях стояли поездные составы. Три паровоза смотрели в сторону Белгорода, один на Орел. По первому пути метался взад-вперед одинокий шалый паровоз. Останавливался у перрона, раздраженно гудел, срывался с места, уходил в темноту, в сторону Белгорода, через несколько минут появлялся опять, снова останавливался, снова гудел и бросался в противоположную сторону. У всех вагонов царила несусветная сутолока. Это были товарные вагоны. Редко где попадались классные, их чаще называли штабными, хотя штабы в них размещались не так уж часто. Люди лезли в вагоны, грузили пулеметы, тюки, мешки, истошно орали, спорили, замолкали и опять принимались кричать. Мальчики шли от вагона к вагону, на них никто не обращал внимания, и Шифрин заунывно повторял все тот же вопрос: — Где ЧОН… ЧОН? Где ЧОН? — А иди ты со своим ЧОНом… Наконец какой-то железнодорожник сжалился над ними: — Какой вам еще ЧОН, ребята? — Орловский, коммунистический отряд. Часть особого назначения. Выходили на поддержку… Железнодорожник меланхолично свистнул. — Тю-тю ваш ЧОН! Давно уж в Орле. — Не может быть! — Когда еще погрузились! Паровоз, что их возил, давно вернулся… — Предательство! — возмутился Шифрин. — Бросить своего бойца… Ну и ночь! В сизый сумрак врисовываются черные квадраты. Чиркнут спичкой, мелькнет вдали тусклый фонарь, и опять ночь черным-черна, и сырость, и грязь, и холод, и все на ощупь. — Что же делать? — Знаешь что? — Славушка взял Шифрина за плечо. — Давай рванем? — Куда? — На фронт. — В темноте продолжалась исступленная погрузка, все что-то волокли, тащили, поднимали, запихивали в вагоны, матерились и волокли снова. — Чувствуешь, куда? — На фронт. — Вот и мы… — А кто нас возьмет? Кроме того, ты сказал, тебе нужно в политотдел? — А мы доберемся до политотдела и попросимся. — Тебе сколько лет? — Какое это имеет значение! — Есть постановление — ребят моложе шестнадцати лет в армию не направлять. — В бою не интересуются возрастом бойцов! — Верно, но их возрастом интересуются до того, как пошлют в бой. — Можно и нарушить постановление… — А комсомольская дисциплина? Да ты и не удержишь винтовки! Попросимся на политработу… С этим Славушка готов согласиться, быть политруком привлекательней, чем таскать винтовку. Случается, слово разит сильнее пули: «Товарищи! В этот решительный час… Когда решается судьба… Ррродины и ррреволюции! Умрем или…» — Ты думаешь, могут послать? — Попробуем прежде найти политотдел. Они опять идут вдоль вагонов, и никому нет до них дела. — А если мы вражеские лазутчики? — глубокомысленно замечает Славушка. — Высматривай, сколько влезет? — А революционное чутье? — возражает Шифрин. — Были бы мы лазутчики, нас давно бы загребли… Остановились у штабного вагона. — Вам что, ребята? — интересуется часовой. — Командира, — строго произносит Шифрин. — Для чего? — Мы из Коммунистического союза молодежи. — Залазьте, — разрешает часовой. — Кличьте Купочкина. В фонаре над дверью тускло мерцает стеариновая свеча. Стелются черные тени. Кто храпит, кто сопит, кто вовсе не подает признаков жизни. Поди узнай командира! — Товарищ Купочкин! — неуверенно лепечет Шифрин. — Нам товарища Купочкина! — Чевой-то? — спрашивает кто-то с верхней полки. — Нам Купочкина… — А ну подходьте… — И, когда мальчики подошли: — Вы кто есть? — Представители РКСМ. — На фронт проситесь? Ладно, сидайте. Утром разберемся. — Мы разыскиваем политотдел армии, — произносит Шифрин индифферентным тоном. — Не будете ли вы так любезны?… — А сюда зачем попали? — Собеседник спускает с полки ноги в громадных яловых сапогах. — Документы есть? Шифрин протягивает комсомольский билет, но Купочкин даже не берет его в руки, — что можно рассмотреть в таком мраке? — Ребята вы, ребята… — Он сочувственно рассмеялся. — Куда забрели! Политотдел за Орлом. До него еще… — Осторожно спустился громадный мужчина, поставить мальчиков на плечи друг другу, может быть, и сравняются. — Что с вами делать… — Потянулся, зевнул, и вдруг к выходу. — Ладно! Выпрыгнул из вагона, затопал по шпалам, Шифрин и Славушка за ним. Дотопал до паровоза, что глядел в сторону Орла, — паровоз и два вагона. — Везут в политотдел типографию, — объяснил мальчикам и кулаком забарабанил в стенку. Дверь отодвинулась. — Чего? — Слушай, Снежко, — сказал Купочкин. — Вы скоро? — Чичас. — Захвати двух комсомольцев, им до зарезу нужно в политотдел. — Нехай, — ответствовал Снежко. — Только зараз. Купочкин подсадил мальчиков. В теплушке темно. — Ложись у стенки, — скомандовал, видимо, все тот же Снежко. — И не гугукать, люди спят… В темноте кто-то сопел. Под ногами шуршала солома. Ребята сели на пол, прижались друг к другу. — Вот видишь, — шепотом сказал Шифрин. — Что? — шепотом спросил Славушка. — Едем в политотдел. Поезд и вправду вскоре пошел. Проснулись мальчики от холода. Сквозь оконца под крышей просачивался серый рассвет. Какие-то машины, ящики, тюки, в углу что-то накрыто брезентом. И нигде никаких людей. Вагон тряхнуло, и поезд остановился. Славушка вскочил. Брезент вдруг зашевелился, из-под него вылез молодой парень в ватной телогрейке, только-только пробиваются усы, следом за ним мрачный пожилой солдат в длинной шинели, подпоясанной широким рыжим ремнем. — Добренького утречка, — сказал парень. — Приехали. Он подошел к двери, поднатужился… И не успевает дверь откатиться, как в вагон заглядывает военный в фуражке и суконной гимнастерке, перетянутой портупеей. — Товарищ Снежко! — выкрикивает он. — Вы что, шутите? Добираетесь третий день! — Не давали паровоз, — мрачно заявляет парень. Оказывается, он и есть Снежко. — Революция не считается с отговорками! — кричит военный в портупее и указывает на мальчиков: — Это кто? Снежко не теряется: — Погрузочная команда. — И со столькими людьми вы не могли вырвать паровоз?! Снежко оборачивается. — Смир-но! — командует он. — Товарищ завагит! Типография доставлена, погрузочная команда готова к выгрузке. — Не заправляй мне баки, Снежко, — усмехается завагит. — Все равно я буду вынужден доложить о вашей безалаберности Розалии Самойловне! — Не надо! Не надо, товарищ завагит! Нам с Егором и так… — Снежко в отчаянии смотрит на своего спутника в длинной шинели. — Егор, подтверди! Егор размашисто крестится. — Беспременно… — Выгружайтесь! — кричит завагит. — Жив-ва! Снежко тотчас оборачивается к мальчикам: — А ну ребят… Начали! Приходится расплачиваться за проезд, нельзя подвести Снежко, и, наконец, просто надо помочь, двоим тут не справиться. — Быстрей, — приказывает завагит. — Розалия Самойловна ждет… Это имя, можно сказать, вдохновляет Снежко. Вагон выгружают за какой-нибудь час. Мальчики трудятся в поте лица. — Теперь можете быть свободны, — великодушно отпускает их Снежко, созерцая груз на перроне. — На подводу мы как-нибудь сами с Егором… Шифрин облегченно вздыхает. — А где политотдел? — Вон! — указывает Снежко. — За деревьями лавка, а за ней большой дом. 32 Станция как станция. Платформа как платформа. С одной стороны туалет, с другой — пакгауз. Колокол. Затхлые помещения. Булыжная площадь. Мужиков человек сто. Домики. Палисадники. Телеги. Лошади у заборов. Но мальчикам все это ни к чему. Товарищи Шифрин и Ознобишин торопятся. — Ты заметил, как побледнел Снежко? — спрашивает Славушка. Шифрин иронически жует губами. — Бесхарактерность! — А кто такая Розалия Самойловна, как ты считаешь? — Скорее всего секретарь политотдела, — догадывается Шифрин. — Может доложить и может не доложить… — О чем? — О любом происшествии… Большой деревянный дом. Принадлежал, должно быть, какому-нибудь зажиточному лавочнику. Крыльцо с резным орнаментом. Из дома в дом снуют военные. Сперва не разберешь, кто командир, а кто рядовой красноармеец. Одежда у всех поистрепалась, шинелишки обветшали, сапоги стерлись, но в общем никто не унывает. На крыльце часовой: — Куда? — К начальнику политотдела. — Документы? Шифрин предъявляет комсомольский билет, Славушка — удостоверение Успенского волкомпарта. — Проходите. В комнате тесно, полно и столов и людей. Писаря или кто? Большая пишущая машинка. Курносый юноша в папахе выстукивает на сером листе, повторяя вслух: «При-ка-зы-ва-ю… Приказываю…» Некто с седыми усами и во френче что-то усердно пишет. Двое спорят: «Я вам говорю… Да вы поймите!» Полевой телефон. «Я вас слушаю… Я вас слушаю…» Еще телефон… Шифрин вытягивается перед человеком с седыми усами. — Можно видеть начальника политотдела? Тот указывает на дверь: — Туда. Никто их не замечает, не останавливает. Шифрин бросает взгляд на Славушку: «Идем, идем…» Опять столы. Еще больше, чем в первой комнате. Славушка жадно все рассматривает. Стопки книг. Несколько командиров. Это уже определенно командиры. На одном столе два баяна. На другом — початая буханка ржаного хлеба. Шифрин и здесь подходит к самому пожилому: — Кто здесь начальник политотдела? — Скоро будет. Мальчики замирают у стены. Выгонят или не выгонят? Кажется, они никому не мешают. А может быть, и мешают, но здесь привыкли к посторонним. Скоро будет. Скоро будет… А его все нет! Вдруг стук. Дверь! Точно порыв ветра, и частая дробь дождя. Шаги! Дверь нараспашку, и в комнату входят три, нет, четыре человека. Впереди женщина, позади нее двое, нет, трое военных, один в шинели, двое в стеганых куртках. В гимназии была такая преподавательница французского: так скажет «голубчик», что легче сквозь землю провалиться, чем взглянуть на нее и в чем-либо признаться. Знакомая серая дама в сером платье, волосы с проседью и кислая мина на лице, впрочем, не столько кислая, сколько сердитая. Необычная учительница, поверх платья черная кожаная куртка, волосы подстрижены, и на ногах хромовые офицерские сапоги. Нет, таких учительниц Славушка еще не видывал! Один из двоих, что в стеганых куртках, невысокий, круглолицый, с девическими голубыми глазами, домогается какого-то ответа: — Розалия Самойловна! Как же все-таки поступить? — Расстрелять. Вот что говорит дама в сером! Вот тебе и преподавательница французского языка! — А кого? — спрашивает человек в стеганой куртке. — Отца или сына? — Обоих, — лаконично отвечает дама. — И пусть о приговоре узнает как можно больше народа. — Взгляд ее обегает комнату и находит нужного ей сотрудника. — Товарищ Мавракадаки, напишите листовку, заголовок — «Дезертирам не будет пощады», покажите мне через полчаса, предупредите типографию напечатать без промедления. — Мальчиков заметила, как только вошла: — Это кто? — Вас ждут, Розалия Самойловна. Так эта дама и есть начальник политотдела? Шифрин еле слышно произносит: — Мы к вам… Изящным движением дама вскидывает лорнет в черепаховой оправе… Как же Славушка сразу не заметил лорнет на тонком черном шнурке? Начальник политотдела Тринадцатой армии рассматривает посетителей в лорнет! — Нам нужен начальник политотдела, — говорит Славушка. — Я заведующая политотделом, — подтверждает дама. — Слушаю вас, товарищ. — Я… мы… насчет литературы, — запинается Шифрин. — В губкомоле давно собирались обратиться в политотдел… — А у меня к вам поручение, — волнуясь, говорит Славушка. — Я из Успенской волости. По поручению волостного комитета партии. У меня к вам письмо… Можно не сомневаться, заведующая политотделом никогда не слышала об Успенском, но смотрит на мальчика так, точно знает об обитателях Успенского все. — Проверил кто-нибудь ваши документы? — осведомляется она, хотя ей-то, несомненно, не нужны никакие документы, она и без документов каждого видит насквозь. — Да, — подтверждает Шифрин, имея в виду часового. — Вас зовут? — Шифрин, политпросвет городского райкома Орла. — Самойлова, — называется, в свою очередь, заведующая политотделом, подавая каждому руку. — Слушаю. Шифрин повторяет что-то о литературе, литература очень нужна… Заведующая политотделом переводит взгляд на Ознобишина. — У меня два дела, одно от коммунистов нашей волости, и другое от нас двоих… — Слушаю, слушаю, — торопит заведующая политотделом. — Поручение наших коммунистов могу передать вам только наедине, — говорит Славушка. — Это секретно. Заведующая политотделом согласно наклоняет голову, для нее это привычно. — Хорошо, идемте. На этот раз ее никто не сопровождает. Славушка выходит следом за ней в узенький коридорчик, и вот они в тесной комнатке, которая, как понимает Славушка, и есть кабинет заведующей политическим отделом армии. Ломберный столик вместо письменного стола, два стула, обитых зеленым плюшем, табурет, переносный несгораемый ящик, в углу вместительный кожаный чемодан, и за японской ширмой железная койка, небрежно прикрытая суконным солдатским одеялом. Кабинет для особо важных разговоров, и здесь же ее спальня. На столе бювар с бумагами, на подоконнике стакан с водой, пузырек с какими-то каплями, зубная щетка, коробка с зубным порошком и флаконы с одеколоном, Славушка видел такие у матери, интеллигентная дама в боевом походе. — Так что у вас? Славушка ставит ногу на табурет, раскручивает обмотку, подает бумаги. Товарищ Самойлова кладет карту на стол. — Так… так… — Она складывает карту, ее продолговатое лицо вытягивается еще больше. — Благодарю вас, товарищ, — говорит она, не глядя на Славушку, и быстро выходит. Славушка за ней. — Товарищ Пысин! — зовет Розалия Самойловна. — Немедленно соедините меня по прямому проводу со штабом Южного фронта. Должно быть, ее здесь здорово побаиваются, потому что товарищ Пысин исчезает мгновенно. Теперь товарищ Самойлова рассматривает мальчиков более доброжелательно, чуть подавшись вперед, как делают это близорукие люди. — И что еще? — Мы хотели бы… — Славушка оглядывается на Шифрина. — Мы хотим на фронт! Розалия Самойловна молчит, но Шифрин чувствует, она с ними не согласится. — Мы можем пойти на политработу, — спешит он сказать. — На политпросветработу… — Нет, нет и нет! — сердито восклицает Розалия Самойловна. — А кто будет работать после того, как мы отгоним Деникина? — Еще будет сдана Змиевка, еще будет сдан Новосиль, еще будет сдан Орел, а она уже знает все наперед. — Вот что, товарищи, сейчас мы отступаем, но скоро будем наступать. Придется хорошо поработать… То, что она говорит, почти сказка, но Славушка верит ей, он верит в такие сказки. — Вам придется пробыть в отделе до утра, — говорит она Славушке. — Можете понадобиться. Но бездельничать незачем… Подзывает товарища Мавракадаки. — Листовка? Приказывает дать «товарищам из Орла» последние газеты, «обратите внимание на решения съезда молодежи, это вас непосредственно…», дать белые газеты, «надо знать, что говорят враги»… Мавракадаки приносит газеты, Розалия Самойловна читает листовку, посылает Мавракадаки в типографию. Классная дама держит перед глазами лорнет, — только сейчас Славушка понял, что она не близорука, а дальнозорка, — сухой нервной рукой перелистывает газетные листы, длинным тонким пальцем указывает, — интересно, играет ли она на рояле? — «Призыв», деникинская газета, печатается в Царицыне. — Читайте: «Коммунистов надо истреблять поголовно и беспощадно по всей России и истребить несколько десятков тысяч человек…» — В глазах усмешка, умная, лукавая, никакая она не классная дама. — «Коммунисты страшны тем, что они большевики не по принуждению, не за деньги, не по слабости характера, а по убеждению, им не страшны ни пытки, ни смерть». Розалия Самойловна просматривает какие-то списки. Подзывает долговязого юношу. «Я у вас недавно, а штаты отдела давно надо сократить, долго вы будете ждать свои мячики? — Это долговязому. — Целый месяц бездельничаете в ожидании мячей! — Карандашиком аккуратно зачеркивает строку. — Сократим вашу должность, обойдемся пока без инструктора по спорту, сегодня же отправляйтесь в двести шестнадцатый кавалерийский полк, примите командование эскадроном, поздравляю вас, вот направление…» Долговязый смущен, но не слишком, командовать эскадроном легче, чем находиться под командованием Розалии Самойловны. «И вы… — обращается заведующая политотделом к сотруднику в заплатанном кителе. — Вы прапорщик, имеете боевой опыт, а занимаете должность помзавагиторганом! Вам доверят батальон. Вот назначение…» Она щедро раздает своих сотрудников батальонам, ротам, полкам… — Где Пысин? Пысин появляется как из-под земли. — Штаб фронта на проводе! — Иду, иду, и сразу же еду на Оптуху, проверить охрану моста… — Заведующая политотделом что-то силится вспомнить. — Это важный мост, с него лет тридцать назад упал пассажирский поезд… Эти товарищи остаются до завтра. Накормите. Зачислите на довольствие за счет отправленных на фронт. Она уходит, но ничто вокруг не меняется, все в работе, все в этом учреждении живет размеренной жизнью, — Розалия Самойловна уехала, но все время ощущается, что с минуты на минуту она может войти. Пысин зовет их обедать. Ведет на станцию. На дверях буфета — «Вход по пропускам». Столовая политотдела. На буфетной стойке термосы, горка эмалированных мисок, за стойкой красноармеец в буденовке, на стене плакат «Съел обед — помой посуду», несколько человек за столиками лязгают ложками. Пысин передает красноармейцу два ордера на обед. В обмен на ордера мальчики получают по миске щей из капусты и воблы, и по черпаку пшенки, хлеба нет, хлеб выдают по утрам на весь день. Рядом в зале для пассажиров сдвигают скамейки. — Будет суд. — А нам можно? — Вход свободный, учитесь. Ознобишин и Шифрин учатся. Публики в зале предостаточно: какие-то бабки, подростки и мужики, ожидающие чего-то на станции. В зал входят судьи. Рассаживаются за столом. Голубоглазый военный, сопровождавший Розалию Самойловну, оказывается, председатель трибунала. Приказывает ввести подсудимых. Их вводят два красноармейца — мужика с седыми волосами на голове и рыжей бородой и курносого парня с синяком под глазом. — "Революционный военный трибунал сорок второй стрелковой дивизии… — читает председатель. — Иван Егорович Хабаров укрывал в клуне под замком своего сына Василия Ивановича… Хабаровых — Василия за трусость и позорное шкурничество, Ивана за умышленное укрывательство… Побуждаемые революционным правосознанием…" — Во время чтения приговора вбегает один из конвоиров. — Коська, Коська!… — кричит он. — Да куда же ты, сука, подевался, они же разбегуц-ца… Старший Хабаров утешает конвоира: — Не пужайся, куды от вас скроишься… У выхода раздают листовку «Дезертирам не будет пощады!». — Тебе их жалко? — спрашивает Шифрин. — Нет, — твердо произносит Славушка. — И мне… не жалко, — говорит Шифрин. — Но в общем их тоже можно понять, отец ведь… На ночь Пысин устраивает ребят в караульном помещении. «Шумно, зато тепло». Они спят в караулке, как убитые, не слыша ни смены караулов, ни брани. Рассвет еще только брезжит, и все тот же Пысин трясет Славушку за плечо: — Вас зовет Самойлова! — Давида тоже? — Нет, нет, пусть спит, вас одного. На улице предрассветная тишина, точно и нет войны, лишь слышно, как в коновязях жуют лошади. Мир спит, и политотдел спит. В канцелярии безмолвие, кое-где на столах спят сотрудники отдела, доносится только стонущее дыхание, точно стонут неисполненные бумаги. Пысин осторожно обходит столы. Кто-то поднимает голову: — Тебе чего? — Ничего, ничего, мы к Розалии Самойловне. — А она где? — У себя. Пысин не успевает постучаться. — Войдите. — Ваше приказание… — Хорошо, товарищ Пысин, оставьте нас. Она все в том же платье, на ширмочке висит кожаная куртка. Розалия Самойловна писала, бювар раскрыт, разбросаны листки почтовой бумаги. — Садитесь, товарищ Ознобишин. Ей предстоит разочаровать посланца неизвестных ей успенских коммунистов, а ведь как не хочется разочаровывать своих людей. — Я разговаривала с командующим, с вашими бумагами ознакомились, наша разведка располагает сведениями, которые содержатся в доставленных вами бумагах… Постель не тронута, Самойлова еще не спала, а может быть, и не будет спать, революции не до сна, в комнате нестерпимо пахнет валерьянкой, пузыречки с лекарствами перекочевали с подоконника на стол… Бедная, бедная Розалия Самойловна, революция в опасности, и ты возишь с собой свою аптечку, чтобы вовремя выпускать листовки, расстреливать дезертиров и поучать молодежь… — Но вы не расстраивайтесь, дорогой товарищ… — Заведующая политотделом встает, в ее голосе даже некая торжественность: — Передайте своим товарищам по организации, что политотдел Тринадцатой армии выражает им свою благодарность, продолжайте действовать в том же духе. — Она пожимает Славушке руку. — Предстоит большая работа, мы должны мобилизовать все силы… Она произносит какие-то общие фразы, но сейчас они звучат священным напутствием. — Разрешите идти? — Идите, — соглашается она. — Мне нужно хоть немного поспать. Товарищ Пысин организует отъезд, вам дадут литературы… Славушка тихо закрывает дверь и возвращается в канцелярию. Пысин дремлет за столом, уронив голову на руки. — Товарищ Пысин! — шепотом зовет Славушка. Он тотчас поднимает голову. — Товарищ Самойлова сказала… — Я все знаю, — говорит Пысин. — Вы получите литера и литературу, доедете со своим товарищем до Орла, там сделаете пересадку. Змиевка занята белыми, добирайтесь до Залегощи… Все уже предусмотрено, Шифрин ждет Славушку, им выдают хлеб за вчерашний день и за сегодняшний, дают по пачке литературы. Пысин не провожает их. — Спросите на станции дежурного. Мальчиков сажают в первый же поезд, идущий в сторону Орла. Сажают даже в классный вагон. Но дальше коридора не пускают. Коридор заставлен какими-то баллонами. Проводник в черной шинели смотрит на мальчиков с состраданием. «Не курить», — говорит проводник. Солнце показывается из-за туч. Светлые тени бегут за окном. «Отрада». Кто-то что-то кричит в тамбуре: «Что за станция?» — «Отрада». Вагон качнуло. Вот и все, сейчас поедем. — Что за литературу нам дали? — задумчиво интересуется Шифрин, рассматривая книжки. Политические брошюры. Пьесы. Стихи. Даже стихи. Вот и поехали. Отрада отходит назад. — Вы, ребята, сядьте на свои книжки, — советует проводник, — так вам будет способнее. Какую глупость он говорит: сидеть на литературе! 33 Поезд, на который посадил мальчиков политотдельский товарищ Пысин, миновав все препятствия, благополучно приближался к Орлу. — Ты слезешь? — спросил Шифрин, выглядывая в окно. — Не знаю, — вяло отозвался Славушка. — Надо спешить… Шифрин чувствовал себя уже дома. — Как ты думаешь, мы не набрались вшей? — задумчиво спросил он. — Не знаю, — равнодушно ответил Славушка. — Меня это не интересует. — To есть как не интересует? — возмутился Шифрин. — Как только вернемся, надо сейчас же прожарить белье! — Он находил время даже для санитарно-гигиенических советов. — Я думаю, тебе необходимо остановиться в Орле, — сказал он затем. — Ты еще неизвестен в губкомоле, и тебе следует… — А где остановиться? — сказал неуверенно Славушка. — Я никого здесь не знаю… Впрочем, один знакомый у него уже есть в Орле, за три дня знакомства он привык к Давиду, не было сомнений, что Давид предложит остановиться у него. — Ты сможешь переночевать в губкомоле или даже у нас в райкоме, — сказал Шифрин. — В конце концов это не проблема… Нет, к себе он не звал. В голосе его какая-то сухость, он как-то странно напряжен… Славушке даже неудобно за Шифрина. Тот еще не договорил, как Славушка решил не задерживаться в Орле, не хочет он гостеприимства ни губкома, ни райкома, ответ Шифрина задел его. Черт с ним, с Орлом, надо поскорей добираться до своего Успенского! — Не остановлюсь я в Орле, — твердо сказал Славушка. — Тем более что и в политотделе советовали не задерживаться, даже записку дали… У него действительно была записка на имя коменданта станции Орел, подписанная самой Самойловой, в ней предписывалось «оказать товарищу Ознобишину содействие в дальнейшем следовании…». В Орле мальчики еще на ходу выскочили из вагона. Шифрину, должно быть, не терпелось отправиться поскорей в город. «Ну, бывай», — поторопил его Славушка. «Когда будешь в Орле, заходи», — сказал Шифрин. Пожали друг другу руки и расстались, Шифрин побежал со своей литературой к выходу, а Славушка со своей отправился искать коменданта. Мальчика без задержек посадили в поезд на Елец. Поезд был самый обычный или, вернее, необычный, обыкновенный пассажирский поезд, потому что в ту пору пассажирские поезда ходили нерегулярно и редко. Вагоны были переполнены, помощник коменданта довел мальчика до паровоза, попросил машиниста ссадить паренька в Залегощи, Славушка и проехал всю вторую половину пути на паровозе, оберегая свои книжки от мазута и копоти. На Залегощи тоже все сложилось удачно: ни белых, ни красных; красных и не могло быть, а белые рвались вперед, мало заботясь о тылах, в расчете на кулаков и помещиков. Славушка прошел через грязный заплеванный вокзал и зашагал на Верхнее Скворчее, помахивая свертком с литературой, легкомысленно, потому что, попадись он со своими советскими брошюрками в руки какому-нибудь Кияшко, ему бы головы не сносить. Все-таки Скворчее он обошел стороной, чтоб случайно не попасться кому не надо на глаза, и вдруг впереди, у ракиты, похожей больше на растрепанный веник, чем на дерево, увидел какого-то человека, тот полулежал на земле и что-то или кого-то высматривал. Славушка задумался: идти или не идти, но убегать тоже опасно, пошел вперед. Но уже через несколько шагов побежал, а человек встал и заулыбался, похлопывая себя веточкой по ноге. Еремеев! Как он здесь очутился? И бог ты мой, а говорят еще, что мечты не сбываются, вот, они перед ним, все успенские коммунисты, и, главное, Быстров, сам Степан Кузьмич Быстров собственною своею персоной! — Я так и думал, что возвращаться будешь через Залегощь, — говорит он. — А мы тут порядок неподалеку наводили. Отдал? — Отдал. — Кому? — Начальнику политотдела. — А это что? — Литература. — В политотделе снабдили?… Логунов! Забери у Ознобишина книжки, небось намучился с ними. Завезете потом в Успенское. Спускаются в ложок, здесь и кони и Маруська, запряженная в любимую быстровскую бедарку. Быстров отдает какие-то распоряжения, отряд разъезжается в две стороны, а сам Степан Кузьмич указывает Славушке место рядом с собой и гонит Маруську прямо по жнивью. — Мы куда? — не выдерживает Славушка. — В Ивановку. — А не в Успенское? — Зачем рисковать? — А как мама? — Порядок. — А вообще в Успенском? — Тоже порядок. И вот они уже на задворках Ивановки, Быстров опять въезжает в какой-то овражек. — Светло еще, отдохнем. Маруську Быстров не распрягает, не привязывает, никуда не уйдет от хозяина, впрочем, и привязать не к чему, вытаскивает из-под сиденья домотканую дорожку, кидает на землю. «Поспи покуда…» Славушка ложится и сразу же, как по приказу, засыпает. В темноте подъезжают к школе. Славушка только тут догадывается — к Александре Семеновне. Она встречает их на крыльце, и вот они в ее комнате, все здесь, как и у ее подружки Перьковой, такой же стол, такая же этажерка, такая же кровать, только канарейки у Перьковой нет, а у Александры Семеновны на столе клетка с канарейкой. — Вот ты и у меня, — сказала мальчику Александра Семеновна. — Слышала я о твоих похождениях… До чего у Александры Семеновны уютно и просто! — Будете есть? — Обязательно, — соглашается Быстров. — Мне к утру еще в Покровское… Проснулся Славушка от ощущения, что около него кто-то стоит. — Уже утро? — спросил шепотом. — Спи, спи, — тихо сказал Быстров. — Уезжаю. А ты побудь у Александры Семеновны. Отдыхай, скоро будет много работы. — Постоял, высокий, ладный, глядя на мальчика сверху вниз. — Удивляюсь, откуда у тебя классовое чутье. Сам не пойму, как это тебя догадало не зайти к Антипу Петровичу. — А он что, белый? — спросил Славушка. — Предатель? — Нет, не белый… — задумчиво сказал Степан Кузьмич. — Но все равно предатель. Все равно мы его расстреляем. Убийца. Грабитель. Притворялся, что сочувствует нам, обещал помогать, а на самом деле грабил и наших и ваших. Прямо бог тебя спас. — А я заходил к нему, — сказал Славушка и даже вздрогнул от вновь нахлынувшего на мгновение ужаса. — Только он не пустил меня в дом. — За-хо-дил? — переспросил Быстров, силясь что-то сообразить, и вдруг весело бросил: — Впрочем, что ж с тебя… Славушка остался вдвоем с Александрой Семеновной. Хотя школы в ту осень формально еще не начинали занятий, Александра Семеновна занималась с детьми. Ей нравилось обучать детей, читать стихи, заставлять детей их повторять, решать с ними задачи. У одного мальчика девять яблок, а у двух его товарищей ни одного, сколько останется яблок у мальчика, если он поровну поделится со своими товарищами? За время, проведенное в Ивановке, Славушка, можно сказать, подружился с Александрой Семеновной. Быстров появлялся в Ивановке через день, через два, всегда вечером, иногда совсем поздно, не стучал, лишь касался пальцем стекла, но Александра Семеновна тотчас угадывала, кто стоит под окном, торопилась к двери. Степан Кузьмич входил, с равным вниманием разговаривал со Славушкой и с женой, сообщал новости, он знал все, что происходит в волости, в Орле, в Москве и даже в Америке, иногда ужинал, иногда отказывался, потом Александра Семеновна стелила Славушке постель в классе, уходила с мужем к себе, и еще до света Быстров исчезал из школы. Вечера, когда Быстров не появлялся, Александра Семеновна и Славушка проводили вдвоем, ужинали молоком с хлебом, она накрывала клетку с канарейкой платком, зажигала пятилинейную лампу. Славушка читал что придется, Александра Семеновна обязательно начинала чтение с «Капитала»; Быстров подарил ей два тома, сам он их не читал и честно в том признавался, «все руки не доходят», труден был для Степана Кузьмича «Капитал», но с Александры Семеновны был другой спрос. «Жена коммуниста обязана знать евангелие пролетариата!» Она прочитывала одну-две страницы и откладывала книгу — «Капитал» и для нее был труден, брала какую-нибудь книгу по истории, часто просила Славушку почитать вслух. — Зачем вам птица? — спросил как-то Славушка, держать дома птиц, а особенно канареек, он считал мещанством. — У меня отец большой любитель канареек, — объяснила она. — Вот и дал одну, когда уезжала в деревню. — А он у вас действительно генерал? — поинтересовался Славушка. — Да, генерал, — улыбнулась Александра Семеновна. — Но он несколько своеобразный человек. — Генерал, обожающий канареек? — Генерал, набравшийся мужества осудить весь пройденный им путь, — поправила его Александра Семеновна. — Он никогда не уважал ни царя, ни его сподвижников, с первых дней революции перешел на сторону народа и признал в Ленине национального вождя. — И развлекается теперь с канарейками? — насмешливо спросил Славушка. — Он в Красной Армии, командует дивизией под Орлом… После этого разговора Славушка начал посматривать на канарейку с большим уважением, сам стал подсыпать ей конопли, канарейки, оказывается, не отвлекали людей от революционной борьбы. Однажды Быстров явился мрачнее ночи, отказался от ужина, сел за стол, долго молчал, заметно было, что ему не по себе. — Ты не простудился? — спросила Александра Семеновна. Он не ответил. — Что с тобой? — Сдали Орел. Долго молчали все трое. Александра Семеновна хорошо знала, когда Степана Кузьмича нельзя прерывать. — А что она могла сделать, эта армия, набранная из дезертиров? — вдруг сказал он, оправдываясь перед женой и Славушкой, имея в виду Тринадцатую армию, во всяком случае, так его понял Славушка. — Не так-то легко переломить мужиков… Опять он долго молчал, все о чем-то думал. — Как же так, Степа? — спросила Александра Семеновна. — Как это им удалось? — Корниловцы, — объяснил Быстров. — Корниловская дивизия, отборные офицерские части. Звери, а не люди! У нас пятьдесят тысяч штыков и больше четырехсот орудий, а у них двести орудий и сорок тысяч, но у нас мужики, а у них кадровые офицеры. Не хватает нам… — Чего не хватает, Степа? — Пролетарьяту. Рабочего класса не хватает. Он вскоре уехал, не остался ночевать и появился снова лишь через три дня. Опять пробыл недолго. Александра Семеновна спросила: — Ну что там? — Вся свора сбегается… — Быстров указал куда-то за окно. — Послы всякие, домовладельцы, помещики. По Болховской улице гуляют казачьи патрули. Достаточно указать: вот, мол, советский работник, — сразу шашкой по черепу… — Его взгляд упал на «Капитал». — Убери! На черта это читать, все равно всех нас скоро повесят… Он исчез и не показывался дня четыре, неожиданно примчался днем, верхом, а не в бедарке, накинул поводья на зубцы изгороди, молодцевато постукивая каблуками, вошел в дом. — Выбили их, Шура! — крикнул на всю школу. — Принеси карту! — Кого? — не сразу поняла Александра Семеновна. — Из Орла! — крикнул Быстров. — Позавчера после ночного боя наши взяли Орел! — Сам полез в школьный шкаф, нашел карту Европейской России, принялся объяснять, пожалуй, не столько жене, сколько Славушке: — Кончается твое здесь сидение, скоро опять за работу! Белые ударной группой обрушились на Тринадцатую армию, их фронт шел дугой от Воронежа до Севска. Тринадцатая армия растянулась более чем на двести верст, ее левый фланг был обращен против наступавшего на Орел противника. Но отборные офицерские части спутали все карты… Он вдруг хитро улыбнулся и рассмеялся. — А наша партия спутала карты офицерам. Они рассчитывали на мужицкое сопротивление и победили бы, но… В бой вступил международный рабочий класс, прибалтийские рабочие, коммунисты! Эстонская дивизия и латышские части вместе с правым флангом Тринадцатой армии перешли в наступление и после боя выбили белых из Орла… Он все водил и водил по карте пальцем… — Запомни, — сказал Степан Кузьмич мальчику. — Большевики не возвеличивают отдельных личностей, но тем, кто организовал разгром деникинцев под Орлом, поставят памятники. И Егорову, и Уборевичу, и Примакову. Ты еще увидишь обелиски в их честь. Он напился чаю, ускакал, но через два дня появился снова, еще более мрачный и подавленный, чем даже тогда, когда привез известие о падении Орла. — Опять плохо? — встревожилась Александра Семеновна. — Напротив, похоже, взят Воронеж… Он подошел к клетке с канарейкой и накинул на нее платок. — Что за забота? — удивилась Александра Семеновна. — Пусть не слышит того, что я сейчас скажу, — ответил Быстров, притянул жену и посадил к себе на колени. — Ты сошел с ума! Но Быстров точно не слышал, он обхватил ее голову и прижал к груди, чтобы она не могла заглянуть ему в глаза. — Спокойно, — пробормотал он. — То, о чем я тебе сейчас скажу, не менее страшно, чем падение Орла… Александра Семеновна замерла, Быстров не умел шутить и никогда ее не пугал. — Семен Дмитриевич… — сказал Быстров и смолк. — Убит? — Да. Она высвободилась из его рук, не заплакала, не закричала. — Говори. Семен Дмитриевич Харламов командовал дивизией. Какой-то его штабист перебежал к белым и указал местонахождение штаба. Харламова захватили. Предложили перейти на сторону деникинцев, соглашались сохранить за ним генеральское звание, обещали доверить дивизию. «Я служу Советам вот уже год, — сказал генерал Харламов, — служу не за страх, а за совесть, дело рабочих и крестьян должно победить, Красная Армия разобьет вас…» Его предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни. Предложили просить о помиловании. Харламов отказался. Казнили его на площади. Выжгли на груди пятиконечную звезду. Харламов поднялся на помост, отстранил палача. «Отойди, — сказал Семен Дмитриевич. — Я служил рабоче-крестьянской власти и сумею за нее умереть». Сам накинул себе петлю на шею… Александра Семеновна не проронила ни слова. Встала, как всегда, постелила в классе постель и подошла к мальчику. — Сегодня я буду спать на твоем месте, — сказала она. — А ты ложись вместе со Степаном Кузьмичом. Ушла и закрыла за собой дверь. 34 Быстров и Славушка проснулись одновременно. Славушка собрался, как на пожар. Быстров приоткрыл дверь в класс. Александра Семеновна сидела за партой. Славушка так и не понял: ложилась она или нет. — Шура, мы едем… — Хорошо, — безучастно отозвалась Александра Семеновна. Быстров вывел из сарая Маруську, вскочил в седло и обернулся: — Удержишься за спиной? Славушка уцепился за всадника, Маруська рванулась, они понеслись. Домчались до леска позади Кукуевки, там Быстрова ждал отряд. Подозвал Еремеева: — Есть запасной конь? У Еремеева в запасе было все — и конь, и оружие, и даже лишняя шинель, хотя и не по росту мальчику. Еремеев вопросительно взглянул на Быстрова. — На Корсунское, — сказал тот. — Дошел слух, собирается наша княгиня наделать глупостей… Единственную титулованную помещицу в волости — княгиню Наталью Михайловну Корсунскую — Быстров называл нашей потому, что в ранней молодости Степана Кузьмича она его опекала, в четырнадцатилетнем возрасте Быстрова взяли в помещичий дом поваренком, он показался молодой Наталье Михайловне удивительно смышленым мальчиком, и она надеялась, что со временем из него получится неплохой повар. Но Быстров провел на барской кухне менее года, ему быстро наскучило шинковать капусту и крутить мороженое, он удрал из родного села к дальней родне в Донбасс и работал на шахте, пока его не призвали в армию. Наталья Михайловна была вежлива с прислугой, вежлива была и с поваренком, со Степочкой, у Быстрова сохранились о ней добрые воспоминания, после революции Корсунских потеснили, землю и скот отобрали, но самой Наталье Михайловне с сыном и сестрой позволили остаться на жительство в бывшем своем доме. Однако бывшие помещики многим на селе были как бельмо на глазу. С приходом деникинцев они опять как бы вышли на сцену и провожать отступающее белое воинство собрались даже слишком демонстративно. По этой причине Сосняков и не находил себе места. Принимался читать — не читалось, принимался подлатать старые валенки — дратва не продевалась. А рядом гремела ухватом мать, с шумом ставила в печь чугуны с картошкой, заметно серчала, с утра была не в духе. — Ты чего? — спросил Иван мать. Она шаркнула ухватом по загнетке. — Молебствовать собираются! — Кто собирается? — Известно кто — господа! — Все уже знали, что княгиня провожает сына в деникинскую армию. — Неужто наши не совладают с белыми? — Как не совладать, когда их гонят? — Гнали бы, сидели бы господа дома! Наступили решительные дни. Алешка уйдет, всем дезертирам пример. Нельзя ему покинуть село. После того как Ивана выбрали секретарем комсомольской ячейки, он избегал встреч с Корсунскими, конфликтовать как будто было не из-за чего, но и здороваться тоже не было охоты; однако тут исключительное обстоятельство. Иван дошел до усадьбы, дождался, когда Аграфена Ниловна, бывшая княжеская кухарка, выскочила зачем-то во двор. — Ахти, кто это? — Вышли сюда князька… Алеша не заставил себя ждать, спустился с террасы, остановился у клумбы с отцветшими настурциями, взглянул на Ивана и тут же отвел глаза. — Чего тебе? Сосняков сказал, что Алеша не должен никуда уезжать, дурные примеры заразительны, это не в интересах самого Алексея, зачем поддерживать то, что должно неизбежно рухнуть, он запрещает Корсунскому куда-либо отлучаться… В голосе его зазвенели угрожающие нотки. Алеша не перебивал, лишь постукивал носком сапога по кирпичикам, которыми обложена клумба. — Что ж ты молчишь? — спросил наконец Сосняков. Алеша почувствовал, как кровь приливает к лицу. Корсунские ни перед кем не склоняли головы… Она в нем и забурлила — голубая кровь! — Ты… Как тебя… — Носком сапога Алеша выбил осколок кирпича из земли. — Пятьдесят лет назад тебя велели бы отодрать на конюшне, а сейчас, — дискансом выкрикнул Алеша, — иди и радуйся, что нет на тебя управы! У Ивана зашлось сердце. Влепить бы ему! Но даже на секунду он не поддался такому желанию. Все должно быть по закону. Помещик… Деды его травили таких, как Иван, борзыми да гончими, а этот вроде болонки, что сдохла у княгини в прошлом году. Маленькая и злобная. Пальцем придавишь, а норовит укусить. Иван стиснул зубы. Черт с тобой! К тебе по-хорошему, а ты… Найдем для тебя веревку, обратаем! Сосняков вернулся домой, заметался по избе… Завтрашний молебен — открытая контрреволюционная агитация! Где найти Быстрова? Носится отряд по волости, а не поймать… — Мама, я пошел. — Хфуфайку надень да набери в карманы картошечки. На улице предрассветная синь. Знобит. Тоскливо. Сосняков идет через огород в низину, сухим руслом до рощи, меж мертвенных белых стволов до той самой балки, где не раз собирался отряд Быстрова. Сидит на сырой земле. Ждет. Безнадежно ждать. Никого нет. Звонят колокола. Молебен! Тот самый проклятый молебен! Провожают Алешку… С досады Сосняков жует картошку за картошкой. Соль забыл взять, от пресноты сводит скулы. И вдруг — вот они… Еремеев. Славка и сам Быстров… — Степан Кузьмич! — Чего ты тут? — Деникин возвращается! — Ты, брат, того! Красная Армия гонит его… Сосняков скороговоркой докладывает об отъезде молодого Корсунского. — Молебен, говоришь? На лицо Быстрова набегает тень. — А ну ребята! В Корсунском оживление ощущалось с утра. Как в большие праздники. Даже день выпал весенний. Будто не осень. Даже солнечно. Наталья Михайловна вновь чувствовала себя поилицей. Хоть день, да мой! Тщательнее одевалась, смотрелась в зеркало, строже осматривала Алексея. — Как ты держишься… Алексей неуловимо сравнялся со всеми деревенскими парнями. — Ты совсем забыл французский, Алеша? — Почему, я заглядываю в книжки. — Ах, язык без практики ничто! Что затевает Наталья Михайловна, первой догадалась Варвара Михайловна. — Поверь, Натали, ты затеваешь безумие! — Ты наивна, Барб… Барб под пятьдесят, Наталья Михайловна моложе на десять лет. В пятницу Наталья Михайловна вызвала Аграфену Ниловну, сменившую в войну своего племянника Василия, повара Корсунских, ушедшего по мобилизации в армию, после революции Аграфена Ниловна ушла жить домой и приходила к Корсунским только в гости. — Аграфена Ниловна, прошу на воскресенье обед, и обязательно любимые Алешины пирожки… Потом она перечитывала письма мужа, убитого на германском фронте пять лет назад в Мазурских болотах. Потом на коленях стояла перед иконой Корсунской божией матери, молилась. Потом попросила сестру позвать Алешу и оставить ее с сыном наедине. — Тебе надо идти в армию, — сказала она сыну. — Конечно, Россия достойна и лучшего царя, и лучшего полководца, Николай Александрович не был Петром, а Александр Иванович не Суворов, но следует быть среди своих… — Чего же ты от меня хочешь? Алеша хоть и огрубел, но сказалось воспитание, — не стал ни спорить, ни обсуждать решение матери. — Я хочу, чтобы ты отправился в армию Александра Ивановича Деникина… Тетка встретила его за дверью. — Она дура! — воскликнула Варвара Михайловна. — Посылать своего ребенка к этим… Она не находила слов. — Тетя! — остановил ее Алеша. — Мамой владеют идеи… Сам он не собирался в армию, но перечить матери не осмелился, многие их знакомые бежали на юг и дальше… В субботу Наталья Михайловна послала Алешу за отцом Николаем, служившим в Корсунском больше двадцати лет. — Прошу вас, отец Николай, отслужить в воскресенье молебен. — По какому поводу? — Провожаю Алешу в армию. — В какую? — Корсунские верны присяге… — Увольте, княгиня, не могу. — Как это не могу? — Такое время. Поднявший меч… И благословляющий меч — тоже. Я бы не советовал посылать сына, Мальчик еще… Наталья Михайловна встала. — Я не прошу советов, отец Николай… Вы отслужите молебен в воскресенье! — Со всем расположением, только не по такому поводу. — Смотрите, потеряете приход! — А это уж как консистория… Наталья Михайловна отвернулась от отца Николая: трусливый деревенский поп! Нашла парня, — помогла Аграфена Ниловна, — одна из баб за платье, одно из любимых платьев Натальи Михайловны, из настоящего лионского шелка, сшитое в Москве у Ламановой, согласилась послать сына в Успенское, там два священника, за одним из них, все равно за каким! Наталья Михайловна велела передать, что не поскупится. Отец Валерий отказался наотрез, стар, болен, ревматизм, отец Михаил обещал… Он прискакал в воскресенье, верхом, подобрав рясу под себя, красивый, улыбающийся. Наталья Михайловна собирала сына всю ночь, Варвара Михайловна помогала и причитала: — Это безумие. Ты губишь и его и нас. Ты судишь о большевиках по Быстрову. Ты мало сталкивалась с этими людьми… Лошадей у Корсунских национализировали, у мельника Спешнева она выменяла добротную вороную кобылку на золотые часы. Утром позавтракали своей семьей, Аграфена Ниловна считалась своей. Алеша ел любимые пирожки, остаток завернули ему на дорогу. Молебен отслужили не без скандала, отец Николай не дал ключей ни от церкви, ни от колокольни, церковный замок не решились сломать, а на колокольню ребята забрались через окно. Ребята звонили как на пасху, народ потянулся — и спектакль и политика, — какая мать пошлет родного сына на погибель! Наталья Михайловна с паперти поклонилась всем, кто пришел. — Простите! Проводим Алексея Владимировича… Она с вечера пыталась узнать, не хочет ли кто сопутствовать Алеше, добровольцам обещала купить лошадей, но попутчиков не нашлось, даже самые зажиточные мужики выжидали. Отец Михаил деловито, по-военному, отслужил молебен, икону Корсунской божией матери в старинной серебряной ризе принесли из дому, вместо кропила пошла в ход кисть из бритвенного прибора покойного князя. — Спаси, господи, люди твоя!… — залихватски пропел отец Михаил… Процессия тронулась по селу, кто-то из мальчиков вел в поводу лошадь, еще до молебна к седлу приторочили саквояж, дошли до околицы, Алеша стал перед матерью на колени, она благословила его иконой, Алеша сел в седло, не очень-то по-гусарски, отец Михаил махнул крестом, Наталья Михайловна перекрестилась, и Алеша рысцой затрусил по раздолбанной грязной дороге. Быстров проскакал через Рогозино, пролетел улицу, чуть отпустил поводья, спускаясь в овраг, берег коню ноги, и к церкви. Церковь на замке. Пусто. Наврал Сосняков? Быть того не может! Оглянулся на своих спутников, поманил Еремеева. — Подождите меня… Шажком приблизился к поповскому дому. — Отец Николай! Тот осторожно выглянул из-за занавески, сощурил приветливо глазки, вышел на крыльцо. — Чем могу? — Служил молебен? — хмуро осведомился Быстров. Отец Николай почмокал губами. — Я, Степан Кузьмич, барыниным капризам не потатчик. — Молебен служил? — Говорю же! Знаете меня… Неужели пойду на такое безрассудство? — А что же здесь происходило? — Молебен. Из Успенского отец Михаил служил. На паперти божьего храма! Я им даже ключей от церкви не выдал. — А где же они? — Провожают молодого князька до околицы… — Да я только от околицы — никого! — Разошлись… Быстров резко повторил: — А ну, Митя, едем в гости! Прелестный дом, весь в деревянных кружевах, в несмываемой белой краске, с террасами, с башенками, о угольчатыми шпилями… — Эй, кто есть?! Никого, только ветер шелестит опавшей листвой. — Эй! Кто-то метнулся за окном и пропал, выглянул в дверь и опять пропал. Быстров спешился, не глядя бросил поводья, взбежал, рванул дверь. — Стой, стой! Аграфена с узлом бежала через залу. — Покажи-ка… — Быстров глазами указал на узел. — Чего тут? Аграфена развернула рыжую шаль. Платья, скатерти, шляпа со страусовым пером… — Грабишь? — Отродясь не брала чужого! Дареное… — Где Наталья Михайловна?… Не глядя на Аграфену, Быстров пересек зал, он хорошо знал дом, Корсунские жили теперь в пристройке, где раньше помещалась прислуга, там им отвели две комнаты. Наталья Михайловна сидела на кровати, в руке мятый платочек, должно быть, плакала, Варвара Михайловна стояла у окна. — Не ожидал от вас такой глупости, — сердито сказал Быстров. — Жили бы и жили, а тут нате вам: крестный ход. Тех, кто такие ходы устраивает, расстреливают, как зайцев по первой пороше… — Прежде всего здравствуйте, — металлическим голосом произнесла Наталья Михайловна. — Да вы понимаете, что наделали!… — Степан Кузьмич, я вас еще подростком учила постучаться, поздороваться, а потом уже… — Да ведь Алешку вашего расстреляют! Это же глупая демонстрация… Он и в самом деле жалел Алешу Корсунского. Быстров не отличался сентиментальностью, но не терпел напрасных смертей. Он сам не боялся смерти, понимал, что смерть иногда неизбежна, не боялся убивать врагов, но зря убивать не хотел, и бессмысленность поведения Корсунских выводила его из себя. — Кто заставил вас лезть в политику? Мы Деникина бьем и добьем, а ваш Алешка мог бы стать человеком… — Мы с вами по-разному понимаем, что значит быть человеком. Варвара Михайловна зло посмотрела на сестру. Потеряла сына, а теперь сама лезет в петлю. — Ты слушай, слушай лучше, — строго сказала Варвара Михайловна. — Помолчи, пожалуйста. — Ты ужасно прозаична, Барб, — ответила Наталья Михайловна. — Иногда форма важнее содержания. — Вас арестуют, — сказал Быстров. — За что? — Мужики не поверят, что у вас не все дома! Раз послали сына к белым, начнут ждать возвращения деникинцев… Насколько же труднее будет собирать хлеб! — Слушай, — повторила Варвара Михайловна. — О, ты пойдешь к ним в учительницы, — не без колкости произнесла Наталья Михайловна. — Вас я как-нибудь защищу, — сказал Быстров Варваре Михайловне. — А с этой… Хотел назвать Наталью Михайловну дурой и не смог, есть в ней что-то, что позволяло уважать ее, даже когда она делала глупости. — Пеняйте теперь на себя… Наталья Михайловна привстала, угроз не боялась, но сожаление Быстрова ее подавляло. — Куда вы? — За вашим дураком! — Вы хотите его спасти? — Наказать! — Но это я виновата… — Вы обманули меня! Поверил в ваше благоразумие… Бойцы отряда на конях ждали Быстрова возле дома. Он спустился с крыльца, пошевелил носком сапога опавшие листья. — Митя! Трюхает наш князек, вот какое дело. Нельзя его отпустить. В семнадцать годов полагается отвечать за свои проступки. Еремеев согласно кивнул. — Догоним… — Мы к Ливнам подадимся, там обозы у белых. Придержим. А ты возьми с собой Логунова, и Славу прихвати, куда его тащить к Ливнам, завезешь домой, и догоняй! Алеша Корсунский не торопился на своей кобылке. Ехать-то он ехал, но куда? К кому? Не очень-то отдавал он себе отчет, куда едет… Вот он и трусил на своей вороной кобылке с притороченным к седлу саквояжиком и со свертком домашних пирожков. Еремеев и Логунов ехали побыстрее. Алеше неясна цель путешествия, а им во что бы то ни стало нужно Алешу догнать. Лошаденки у них похуже, чем у Алеши, но неслись они во всю прыть! Грязь комьями летит во все стороны. Славушка плетется далеко позади, обижается на Быстрова за то, что не взял с собой к Ливнам. За Барановкой увидели всадника. — Он? Подстегнули лошадок. — Он?! Еремеев поднялся в стременах и заорал во всю силу своих легких: — Эй ты, паразит! Алеша услышал крик, обернулся и… совершил непоправимую ошибку. Может быть, испугался, может быть, оскорбился, но вместо того, чтобы остановиться, он, напротив, хлестнул свою кобылку, и та рванула вперед. Тогда остановился Еремеев. Лошадь его притомилась, а княжеская бежала куда как резво, можно и не догнать. Еремеев тронул товарища за плечо. — Логунов! Гляди внимательнее! — Он! Он! Еремеев спрыгнул на землю, поставил свою лошадку поперек дороги, положил для верности винтовку на седло, взял на мушку голову в светлой фуражке, прицелился, — господи, благослови! — и спустил курок. Вороная кобылка остановилась. Еремеев вскочил в седло и подъехал к убитому. Алеша висел вниз головой, бледный, чистолицый и как будто удивленный, что все так быстро кончилось. — Убит при попытке к бегству, — беззлобно сказал Еремеев. — Помоги, Логунов. Они приподняли убитого, приторочили покрепче к седлу и повернули обратно. — Не мы их, так они нас, — сказал Еремеев. — Не родись красив, а родись счастлив… Славка! Один до Успенского доедешь? — Почему ж не доехать… — Вот и я так думаю. Нам тоже время терять нечего, подадимся к Ливнам, там обозы у белых. Смутная надежда, что Еремеев захватит его с собой, развеялась. — Лошадь отдашь Григорию, он знает, куда отвести. — Придержал мальчика за плечо. — И вот что: если будут спрашивать насчет князька, сам видел, не догнали бы мы его, ушел бы. 35 Славушка не заметил, как добрался до Успенского. Переехал Озерну, поднялся в гору, остановился перед сторожкой. Недавно здесь стояла виселица. И Алеша и Савушкин погибли удивительно нелепо. Савушкин вообще ни в чем не был виноват, да и Алеша мог бы жить. Жестокость? Да. Но есть жестокость необходимая, и есть жестокость ненужная… Славушка крикнул: — Дядя Гриша! Он тут же застучал култышкой, появлению Славушки нисколько не удивился, будто тот отлучался на какой-нибудь час и не дальше Кукуевки. — Прибыл? — Велели лошадь тебе отдать. Взял повод и сразу повел лошадь куда-то на село, а Славушка, точно и вправду отлучался всего на какой-нибудь час, пошел домой. Мама дома, пожалуй, для него это главное. А мама даже не поцеловала, только погладила по руке. — А Петя? Петя, как всегда, при деле, вместе с Федосеем вспахивает зябь. И все остальные на месте. Павел Федорович ходит да позвякивает ключами; Марья Софроновна на кухне рядом с Надеждой, то редьки себе натрет, то за капусткой пошлет, пьет рассол корец за корцом, привередничает; Прасковья Егоровна лежит, задыхается, немытая, неприбранная, сводит с ней счеты невестка. Вера Васильевна пыталась взять на себя заботу о свекрови, принесла таз, ведро воды, мочалку. Марья Софроновна вывела невестку из комнаты. — Мамашу предоставьте мне, вам с ней не справиться. — Не пачкайтесь, — поддержал Павел Федорович жену. — Федор вернется, не простит, если позволю вам грязь подбирать… Не подпустили Веру Васильевну к свекрови. На селе тишина безвременья, точно все замерло перед приближающимися событиями, и нарушалась она только мелкими происшествиями. Вскоре по возвращении Славушки к Вере Васильевне прибежала почтмейстерша. Почта поступала в Успенское от случая к случаю, какими-то неведомыми путями; то забрасывали пачку «Призыва», издававшейся в Царицыне белогвардейской газетки, то неведомо кто доставлял сверток с «Правдой» и «Известиями», письма приходили и с советского севера, и с белогвардейского юга, одни письма почтмейстерша отдавала адресатам, другие уничтожала, поступала, как ей попричтится, ее отдаривали, и почтмейстерша обнаглела, принялась письмами торговать, — «голову из-за чужих писем подставлять не хочется…» — с кого брала крынку сметаны, с кого старый ботинок, годится подлатать туфли! Она посочувствовала Вере Васильевне: «Трудно вам, понимаю», — и показала конверт с адресом, надписанным рукой Федора Федоровича. — Спасибо. — Гуся! — Какого гуся? — Могу отдать за гуся. Знаете, что мне будет от белых, если узнают, что передаю письма из Красной Армии? Гуся у Веры Васильевны не было, она направилась было за гусем к Ореховым. — Вы куда? — Гуся покупать. — А на что будете менять? — На блузку. — Блузку я и сама могу взять… Письмо четырехмесячной давности из-под Полтавы. Федор Федорович командовал там кавалерийским эскадроном, писал, что белые могут докатиться даже до Орла, но все равно их песенка спета… Петя и Федосей вернулись затемно, приволокли на себе один плуг, а второй оставили в поле. Перед самыми сумерками к ним подъехал какой-то отряд, человек двадцать, белые или красные, они не разобрались, лошадей выпрягли и угнали, вот они и тащили плуг. Павел Федорович с Федосеем пошли за вторым: «На темноту рассчитывать нечего, унесут». Федосея и Петю ругать не стал: «Что можно — сохрани, но зря не гомони». А днем пропал отец Михаил. Алевтина Ионовна, его супруга, искала мужа весь день, а под утро бабы прибежали сказать, что отец Михаил грабит почтмейстершу. К почте подъехал казачий разъезд, казаки вошли в дом и принялись очищать сундуки, почтмейстерша билась об стену головой, но каковы же были ее ужас и удивление, когда в казачьем уряднике она узнала своего же успенского попа. — Побойтесь бога, отец Михаил! — Мой бог твоему богу не товарищ, — ответствовал тот. — Нахапаешь еще! К почте примчалась несчастная попадья. — Что же это ты творишь, сукин сын? Куда ты сбрил бороду? Как дальше будешь священствовать? — А кто тебе сказал, что я буду священствовать? — отвечал он жене. — У меня с тобой и с церковью полный расчет, буду воевать бога не крестом, а мечом! Позже в село ворвался какой-то отряд, бойцы называли себя вольными анархистами. По всей видимости, отряд вклинился между двух армий и торопился запастись продовольствием, поживиться и как можно скорее исчезнуть. Несколько человек ворвались к Астаховым. Спросили хозяина. Павел Федорович, как обычно, указал на мать. Кто-то из вольных анархистов потребовал от нее золота. Марья Софроновна засмеялась: «Лежит она на своем золоте!» Дух от Прасковьи Егоровны шел тяжелый. «А что, ребята, может, под нее они и заховали свои ценности?» Старуху сволокли на пол, штыками перетряхнули всю постель, но так ничего и не нашли. Прасковья Егоровна хрипела всю ночь, Вера Васильевна пыталась ее напоить, Марья Софроновна кричала: «Не лезь к матери, чистое белье постелено, опять запакостит», так и не дала свекрови напиться, а к утру Прасковья Егоровна отдала богу душу. 36 Егорыч как снег на голову подкатил на неизменной таратайке с саврасым одром к крыльцу: — Примете сироту? У меня новостей, новостей… Неизвестно откуда взялся, неизвестно куда пропадет старый, всюду поспевающий Егорыч. Павел Федорович искоса поглядел на дядюшку, не ко времени он, вздумает еще чего попросить. Зато Марья Софроновна готова приветить всю астаховскую родню, чувствовала себя виноватой перед покойницей, а это как-никак ее брат. — Дяденька, миленький, заходьте, заходьте, сейчас соберу покушать. — Мне бы чайку, чайку! — Откуда бог несет? — спросил Павел Федорович. — С Новосиля, с Новосиля! — Эк вас занесло… — Торговал! — Дырками от бубликов? — Шутник, шутник! Старые овчины завалялись у меня, заскорузли не дай бог, а я помыл, обстриг, фунта три шерсти набрал, свез, продал, в Новосиле цена подороже… Дурак и есть дурак, гонять лошадь из-за трех фунтов в Новосиль, да и намного ли выше цена… — Ну а новости? Славушке нравится слушать старика, все у него ладно, все необычно, ни на что не обижается, никому не надоедает, легко живет. — Откатывается. — Чего откатывается? — Деникин. От Тулы, от Орла. Маршем, маршем, краковяк! Павел Федорович рассердился, прикрикнул: — Вы толком рассказывайте — что, где! — Катится… — Егорыч хихикнул. — Все спето, не состоялся молебен в Москве, отступление по всему фронту, отходят… — И снова хихикнул. — На новые боевые рубежи. Славушка обычно только слушал, не вмешивался с расспросами, а тут взволновался: — Куда ж они? — На Курск, на Оскол, на Валуйки… — Дальше Валуек Егорыч не езживал. — К ночи здесь будут, а потом дальше, на Малоархангельск… Ведь врет… А, впрочем, на карте у Шишмарева был отмечен Малоархангельск… В степи, в сторону от железнодорожных путей? Пойдут, выскользнут из-под удара… Что делать? Не с кем даже посоветоваться. Быстров где-то под Ливнами… Вера Васильевна исправляла ошибки в тетрадях. Петя крошил табак, изготовлял махорку для Павла Федоровича, а приватно и для себя. — Нельзя читать при таком свете, — обычно говорила Вера Васильевна старшему сыну, — Ты испортишь глаза. Она видела: сыну не по себе. Тут пришлепала босая Надежда. — Айдате ужинать! Вера Васильевна заторопилась: — Идем, идем… Вышли в сени. Славушка свернул в галерейку. — Ты куда? — Я сейчас. Во дворе тихо. Слышно, как жуют жвачку коровы. Серебряный полумесяц повис в небе. Над избой Ореховых тонким столбиком клубится дым. Зайти к Кольке, что ли? Славушка медленно идет в сторону Ореховых. Но так и не заходит. Колька не развеет тоску. Через овраг мерцает огонек. В школе. У Никитина. Читает или ужинает. А дальше опять тьма. Поле… И вдруг ощущение одиночества тает. Ничто не изменилось. Только вспыхнул костер. Далеко-далеко. Где-то в поле. То вспыхивает, то угасает. Там люди. Что-то делают, зачем-то жгут. Греются, готовят ужин… Люди в ночи! И мальчику уже не так одиноко. Славушка возвращается. На кухне горят две коптилки. — Ну, наследник-цесаревич… — говорит Павел Федорович. Вера Васильевна тревожно смотрит на сына. — Куда ты пропал? — Так… — Наложить пшенника? — спрашивает Надежда. — Али молочка нацедить? Ночью ему не спится. — Слава, почему ты не спишь? — Я сплю, мама… Он мысленно перелистывает страницы книг, герои которых находили выход из самых безвыходных положений. Вспомнился какой-то роман об индейцах. Не то Майн Рид, не то Купер… Белые поселенцы в походе, идут изгонять индейцев с насиженной земли. Те подготовили засаду. Неожиданно поселенцы сворачивают в обход противника. Это становится известным двум индейским юношам. Они опережают колонну белокожих и разжигают среди прерии костры. Захватчики, думая, что перед ними индейское войско, меняют план и направляются как раз туда, где их поджидает засада… Утром Славушка встает раньше всех. — Ты куда? — Надо. На этот раз он заходит к Ореховым. — Колька, пошли! — Кудай-то? — спрашивает его мать. — Яблоки перебирать… Пустить Кольку перебирать яблоки она согласна. Выходят из избы. — Чего? — Есть дело. Созовешь всех ребят: Саньку, Сеньку, Костю… А я в Семичастную. Соберетесь у школы. Пришли многие, толклись перед крыльцом. Прибежал Славушка. — Пошли в сад… Расположились под лиственницей, расселись прямо на земле, на зеленом прозрачном коврике, нежная хвоя начинала уже осыпаться. — Чего там? Надо помешать деникинцам уйти от возмездия. Как это объяснить? — Красная Армия преследует деникинцев, откатываются они… Нашего села не минуют. В степь бегут, а надо не пустить в степь… — Как же ты их не пустишь? — насмешливо спрашивает Терешкин. — Если подойдут ночью, разожжем за селом костры, испугать надо, будто обошли их красные части. Они сдрейфят… — Так они и сдрейфили! — Так они ж в панике… Почему не попробовать? Ребята насупленно молчат. — Что нам стоит? — взмолился Слава. — Сгорит омет соломы… Ну зря сгорит. Ну и что? — Какие-то у тебя несообразные выдумки, — осудил Славушку Терешкин. — Степан Кузьмич говорил… — Что говорил? — недоверчиво спрашивает Терешкин. — Что белые попытаются миновать железную дорогу. Им выгоднее уходить степью… — А мы-то при чем? Славушка резко повернулся к Терешкину. — А при том, что мы не в стороне… Замысел Славушкин не очень ясен ребятам, да ему и самому не все ясно, но где-то в глубине души он чувствует, что в поворотные моменты истории никто не смеет оставаться в стороне. — В порядке комсомольской дисциплины… — задумчиво произносит Славушка. — Но в данном случае я никого не неволю. Комсомольцы сами должны понимать… — А здесь не все комсомольцы… — Вот они и докажут, способны ли быть комсомольцами… — Он сразу же переходит к практическим указаниям: — Вечером, после ужина, собраться у кладбища… — Чего ты командуешь? — обидчиво спрашивает Терешкин. Он старше всех, тон Славушки его раздражает. — Вовсе не командую, а кто не хочет, может не приходить. — Нет, я на погост не пойду! — говорит Сенька Карпов. — Куда хотите, только не на погост. «Действительно, — думает Славушка, — кладбища забоятся, надо менять место сбора…» — Пожалуйста, — предлагает он, — пусть у мельницы. У селезневской мельницы. А теперь расходитесь. Он смотрит ребятам вслед, вечером выяснится, кто за и кто против революции. Он готов молиться хоть богу, хоть черту, лишь бы хоть как-то узнать о движении деникинских частей. «Силен большевистский бог!» Ох, до чего Быстров любит эту фразу! Занарядят лошадей пахать вдовам зябь, а тут дождь — не поворачивать же, вышли в поле, и вдруг ветер разогнал тучи… Силен большевистский бог! Собрались в Барановку, проверить кулацкие закрома, как ни таились, слух опередил продотряд, успели спрятать, ссыпали зерно кучей, прикрыли брезентом, обложили дерном, а тут дождь смыл землю… Силен большевистский бог! Ведь это только предположение, что белые дойдут до Успенского. Лучше не думать о неудаче. Лучше поломать голову, как украсть спички. Спички — редкость, в иных домах обходятся одной спичкой в день, разожгут печь, а потом от уголька — и закурить и засветить. Павел Федорович прячет спички в лавке, над конторкой, в жестянке из-под печенья «Жорж Борман». Славушка слоняется по двору. Со скучающим видом. — Ты чего? — осведомляется Павел Федорович. — Ничего. Жду ребят. Пойдем репетировать. — Чего репетировать? — раздражается Павел Федорович. — Устроят вам белые спектакль, перепорют всех перед школой. Может, собьем масло? — Непременно… — соглашается Славушка, отказаться неудобно, масло он тоже ест. — Если ненадолго… Павел Федорович открывает лавку и собирает маслобойку, Надежда носит из погреба ведра, сливок не наберется и полбочки, Славушка начинает крутить… Он крутит медленно, не торопится, его сменяет Надежда, но у ней множество дел, Павел Федорович отпускает ее, сменяет сам, затем опять зовет Славушку: — Покрути, пойду резки коровам накрошу. Славушка крутит, крутит, Павел Федорович зовет жену, они уходят в сарай. На полчаса, а то и на час, если Марье Софроновне вздумается вздремнуть на соломе. Славушка раскручивает бочку и бросает, та крутится по инерции. Разом, через прилавок. Жестянка на месте. Коробки со спичками наверняка пересчитаны, берут их только Павел Федорович и Марья Софроновна. Сколько взять? Шесть?… Четыре! И то много. Павел Федорович будет подозревать жену. Пусть! Он ревнует ее к Ваське Ползунову. Пусть! Спички за пазухой. Мальчик опять крутит бочку. Плещется пахтанье. В дверях Павел Федорович. — Устал? Заглядывает в стеклянный глазок, на стекле осели крупинки. Сейчас позовет Надежду, и они вместе начнут выбирать масло. — Теперь беги на свою репетицию, спасибо. За ужином Слава сообщает: — Я иду в ночное. — Какое ночное? — изумляется Вера Васильевна, даже она понимает, что в конце октября лошадей не пасут в поле. — Будем картошку печь, — объясняет Славушка. «Ох уж мне эти романы, — думает Вера Васильевна. — Игра в романтику. Тайны, приключения, заговоры. Так вот они играют и в свой комсомол. А потом их расстреливают. Не понимают, что это не игра. Но никого не остановить. Такой возраст. Такое время». — Можно взять картошки? Вопрос обращен не к матери, к Павлу Федоровичу. Мальчик набирает в карманы картошки… — Надень фуфайку, — бросает вслед Вера Васильевна. Колька ждет Славушку на улице. — Богатые, — не без зависти говорит Колька. — Долго ужинаете. Мальчики огородами пробираются к селезневской мельнице. Темно. Пустынно. Лишь гавкают кое-где псы. Небо затянуто тучами, поэтому еще темнее. Ни звезд, ни огней. — Как думаешь, придут? — нерешительно спрашивает Славушка. — А почему не прийти? — отвечает Колька. Тень мельницы. Деревянные крылья загораживают мальчиков от посторонних глаз. Кто стоит, а кто сидит. Утром было восемнадцать, сейчас одиннадцать. Не пришло двое комсомольцев. Вот когда проверяются люди, думает Славушка… — Пошли, товарищи, — командует он. — Не шуметь, разговаривать шепотом… — А почему шепотом? — Ведь это же война! Мимо риг, мимо скирд, все дальше в поле. Выходят на дорогу. Уходят от села версты за четыре. Далеко-далеко впереди Малоархангельск. Позади Скворчее, Залегощь, Новосиль. Оттуда и следует ждать белых. Темно. В поле чернеют ометы обмолоченной соломы. — Ребята! Запалить костры по всему полю. Как можно больше. Вот спички. Разделимся по трое. По числу коробков. Мы с Колькой вдвоем. Берите из ометов солому и зажигайте. Роздал спички, похлопал кого-то по плечу… — Заметите кого, — предупреждает Славушка, — убегайте. Он с Колькой подходит к омету. Дождя нет. Дует ветер. В соломе что-то все время шуршит. Даже пискнуло. Мыши заняты своими делами. Мальчики поднатужились, солома слежалась, плохо поддается их усилиям. Надергали целый ворох, разнесли по полю. Неподалеку вспыхнул костер. Потом другой. Сперва горят лишь два костра. Потом вспыхнули еще. Еще. Колька и Славушка тоже разожгли. По всему полю, то тут, то там яркие желтые огни. — Подкладывай! — кричит Колька. Опять побежали за соломой к омету. — Постой, — сказал Славушка. — Влезь, посмотри в сторону Туровца. Не так-то просто влезть на скользкий омет. Омет высок. Колька повисает и снова съезжает на плечи Славушки. Кое-как, с помощью подоткнутой под омет жерди, забрался наверх. — Видишь? — спрашивает Славушка. — В такой темноте увидишь! — насмешливо отзывается Колька. — А ты смотри. — "Смотри"! — передразнивает Колька. — Под носом у себя ничего не видно… Кто-то из ребят что-то крикнул. Славушка обернулся, слов не разобрал. Костры полыхают по всему полю. Желтые, веселые, но ребятам не до смеха, скорее страшно, хотя никто не рискует признаться. Желтые блики метались по полю, отсвечивали даже облака. — Идут, идут! — вдруг негромко закричал Колька. — Ей-богу! — Кто идет? — А кто его знает! — ответил Колька. — Движется что-то по дороге за селом. Точно змея. И что-то везут. Как на похоронах. Славушке становится страшно. Но только на минуту. Костры горят. Где тускло, где ярко, но горят. Он не знает, что произойдет дальше. Не знает, куда поползет змея. Не знает, есть ли в этих кострах смысл! Но зажгли они костры в срок. Силен большевистский бог, думает он. Неизвестно, получится ли что из этой затеи, но костры они зажгли в срок. — Колька? — позвал он. — Чего? — Колька соскользнул с омета. — Пошли подбросим соломки! — Силен большевистский бог, — сказал не без хвастовства Славушка. — Хоть мы и не верим в бога. Много-много лет спустя, вспоминая об этой необыкновенной осени, Славушка не мог твердо сказать, случилось ли все это наяву или то был только сон, страница из какого-то исторического романа… Мечта и действительность. Действительно ли все произошло так, как сохранилось в памяти, или то была только мечта, с течением времени ставшая в сознании явью? История шла своим ходом, игра успенских подростков на ход истории никак не влияла, главный смысл того, что происходило, заключался в том, что сами подростки ощущали свою сопричастность с историей. Отступавшие деникинцы или, точнее, какая-то их воинская часть свернула в сторону железной дороги не потому, что испугалась костров, загоревшихся осенней ночью в далеком поле. Но на формирование поколения, к которому принадлежали Славушка и его сверстники, сознание того, что от каждого их поступка зависит ход истории, влияло, конечно, чрезвычайно. Все они чувствовали себя Архимедами, обретшими точку опоры для того, чтобы перевернуть мир! И в общем-то были правы. «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию», — сказал Ленин. А Ознобишин с товарищами и принадлежали как раз к этой организации, которая начинала переворачивать Россию… Всей своей детской душой Славушка страстно желал свернуть вражескую армию туда, где она найдет гибель… И она свернула! Передовые части противника, если только можно назвать передовыми тех, кто отступает, вместо того, чтобы двигаться прямо на юг, к Малоархангельску, дойдя до Успенского, внезапно свернули в сторону железнодорожной линии Орел — Курск, где деникинцев ожидали изматывающие бои… Что заставило деникинских офицеров повести свои части под удар наступающих советских войск? Ночь. Измотанные солдаты. Утраченная вера. Бесконечные русские поля. Где-то позади безжалостная конница Примакова. На самом деле конная армия Примакова действует в районе Воронежа. Казаки не стремятся к встречам с неистовыми красными кавалеристами. Но все это потом, потом. Позже. В аудиториях военных академий. Анализ. Разбор просчетов. Изучение документов… А пока ночь, и холод, и слякоть, и нежелание принимать бой… И вдруг — костры! Множество костров. В действительности их не так много. Детские костры. Костры мерцают, гаснут, загораются вновь. Огонь не слишком ярок, верст за десять, не ближе, это лишь во тьме огни кажутся ближе. Огни в ночи! Да были ли они в самом деле? Не выдумал ли Славушка эту ночь? Костры, которые будут светить ему в течение всей его жизни! 37 Все заметнее возвращение к порядку. Промчались через Успенское наступающие части: кавалеристы, пехота. Какую-то пушку часа три выволакивали из-под горы… Война отошла куда-то за Фатеж, за Малоархангельск, подтягивались армейские тылы. Поздняя осень готовилась вот-вот перейти в зиму, окончились дожди, за ночь смерзлась грязь, тонкий ледок затягивал редкие лужицы, иней серебрил по утрам желтую траву, серые облака затягивали небо, каждую минуту мог пойти снег. В такой вот стылый ноябрьский день появился еще один обоз подвод в десять, с большой поклажей, с ящиками, с тюками и даже мебелью, будто не армейский обоз, а переселенцы с домашним скарбом. На одной из телег ножками вверх стол и стулья, на другой — дубовый гроб. Обоз стал табором перед волисполкомом. Красноармейцы поспрыгивали с телег, составили в козлы винтовки, распрягли лошадей, задали корм, втащили в помещение тюки и гроб, который при ближайшем рассмотрении оказался шкафом, и пошли по избам с просьбой сварить кулеш и согреть на чаек кипяточку, крупу приносили свою, а кто пощедрее, так даже угощали детишек сахаром. Много ли нужно солдату времени, чтоб обжиться на новом месте?! Чуть позднее в двух пролетках прибыли начальники, в суконных шлемах, с портупеями через плечо, двое даже с портфелями, и тут же скрылись в здании. Славушка с Колькой увидели обоз, едва он выполз из-под горы. Пошли в разведку. Прошли через табор раз, другой. На них не обращали внимания. Прошли еще раз… У входа в исполком стоял часовой, курносый, небритый, невозможно серьезный. — Ну чего разбегались? — не выдержал, прикрикнул он, когда мальчики прошли в третий раз. — Это какая часть? — полюбопытствовал Славушка. — А сами-то кто такие? — с подозрением спросил часовой. — Видали мы тут… — Мы комсомольцы, — объяснил Славушка. — Ну и топайте по своим делам, здесь баловать нечего. — А все же что за часть? — повторил Славушка. — У нас, может, дело… — Это не часть, а военный трибунал, — строго сказал часовой. — Какие могут быть у вас к нам дела? — Наша организация молодая, — виновато сказал Славушка. — Может, литературу какую дадут. — Литературу! — презрительно сказал часовой. — Мы судим, а вы — литературу. — А в шкапу у вас что? — полюбопытствовал Колька. — Дела, — твердо сказал часовой. — Приговора. — А какого же вы корпуса? — Да что ты все допытываешься? Кто много знает, рано помирает. Сказано вам: пошли! Мальчики огородами дошли до почты и двинулись к Народному дому. Двери заперты и заколочены, но доски кое-где отодраны. Славушка пальцем тронул замок. — Пора открывать. Колька кивнул: — Давно пора. Обошли дом, спустились к реке. Холодная вода неподвижно чернела в Озерне. — Скоро станет. — Где там скоро, — возразил Колька. — Не ране как к рождеству. Берегом пошли домой, взобрались по круче, опять мимо исполкома. На этот раз у здания какая-то суета. Солдаты оживленно переговаривались. — И как это подобрался? — Обучен, известно! — Полковник? — Капитан генерального штаба, сам слышал. — Не признается? — Такой разве признается? Часовой заметил их и неожиданно сказал: — Шпиона, ребята, поймали, вот какие сегодня дела! Колька удивился: — Какого шпиона? — Известно какого — деникинского! — А его что, будут судить? — А как же без суда? — Что без суда? — Без суда немыслимо расстрелять. — А скоро будут судить? — Вот пообедаем… Вдруг со стороны, куда шли войска, появились четыре всадника. Молодой, скакавший впереди, натянул поводья, и все четверо разом остановились. — А ну-ка! Где ваш начальник? Но тот уже торопился навстречу — во френче, в фуражке, в пенсне, строгий, немолодой, утиный нос, узкие бледные губы, такие узкие, точно ниточка, фиолетовые чернильные глаза. — Начальник отдела Хромушин. Здравствуйте, товарищ комкор! — Знаю, знаю. Что ж это вы застряли, товарищ Хромушин? — с упреком сказал комкор. — Штаб куда как далеко, а вы все тащитесь? — Дела, товарищ комкор. — Занимаем города, изменники ждут суда, а вы где? — Задержали шпиона. — Какого еще шпиона? Хромушин махнул кому-то рукой. — Выведите… Это был Полеван! Торбы на нем нет, но он в своем неизменном армяке, холстинных портах и грязной розовой рубахе. Вышел меж двух конвоиров, шел охотно, чувствуя себя предметом внимания и, видимо, гордясь оказанной ему честью. — Да это же Алешка! — воскликнул Славушка, обращаясь и к Кольке, и к часовому. — Здешний дурачок. — Ну да! — недоверчиво возразил часовой. — А карты чего ж таскает и дис… дис… — Часовой запнулся. — и дис-ло-ка-цию записывает. Тетрадь у него нашли… Полевана нашли на косогоре, он лежал на животе и рассматривал площадь. Его забрали, привели в штаб, обыскали. Нашли в торбе тетрадь, в ней цветными карандашами вычерчены какие-то планы, записаны цифры. Стали допрашивать, арестованный мычит: «Ны-ны-ны» да «гы-гы-гы», а потом вдруг заговорил: «Смотри, какая цаца, бултых, бултых, кому чего дать, антиресно, антиресно, антиресно…» — Хотите допросить? — спросил Хромушин. — Нет, нет… — Комкор отмахнулся от Хромушина, как от мухи. — Вы председатель… — Задержали совсем неподалеку, — доложил Хромушин. — Следил за нашим передвижением. — Это еще не доказательство, — заметил комкор. — Может, просто испугался? — Но при нем обнаружены кроки, — внушительно сказал Хромушин. — И шифр… — Какие там кроки? — Убедитесь. Принесли какую-то тетрадь. Продолжая сидеть в седле, комкор небрежно перелистал. — Какие там кроки, — лениво повторил он. — Я бы его отпустил. Хромушин насупился. — Вы сами его допросите. — Кто вы такой? — спросил комкор. — Отвечайте, — сказал Хромушин Полевану. — Вас спрашивают. Идиот ласково посмотрел на всадника. — Миленький, миленький… — пробормотал он. — Лошадка. Прыг-скок! — Я бы отпустил, — повторил комкор. — Впрочем, дело ваше. — Нет, надо разобраться, — возразил Хромушин. Комкору не хотелось спорить, он все посматривал в сторону Критова, голова его была занята более важными делами. — Извините, нам некогда, — вежливо объяснил он. — Мне надо в расположение бригады Кропачева… — Он кинул укоризненный взгляд на бивак. — И поторапливайтесь, пожалуйста. В Понырях полно дезертиров… — Он пошевелил поводьями. — Поехали? Брызнуло грязью, всадники понеслись в Критово. — Нет, так нельзя, — сказал Хромушин, указывая на Полевана. — Отведите его в школу, все надо по закону. — Подумал и добавил через плечо: — И оповестите близлежащих жителей, суд открытый, судим мы в воспитательных целях. Полевана повели. Славушка и Колька тоже пошли. В классе на задних партах сидели трое старичков и с десяток баб. Посередине стол для судей, у стены табуретка для подсудимого. Полевана посадили, два конвоира по бокам. Быстрым шагом вошел командир комендантского взвода: — Прошу встать, суд идет! Старички встали, а бабы сидят. Вошли судьи: председатель трибунала и двое помоложе, один в суконном шлеме, другой в фуражке. — Прошу снять головные уборы, — сказал председатель, снял фуражку и сел. Двое заседателей тоже сняли и сели. Вошла девица в гимнастерке и в сапогах, приготовилась писать. Суд начался. — Заседание революционного военного трибунала объявляю открытым. Председатель Хромушин Игнатий Виссарионович, члены краском Коваленко Николай Павлович и краском Полотеевский Павел Николаевич при секретаре Спесивцевой. Отводов нет? — Но так как отводов быть не могло, он тут же продолжил: — Слушается дело гражданина Полевана Алексея, отчество неизвестно, по обвинению в собирании сведений, составляющих государственную тайну, в целях ниспровержения строя рабочих и крестьян. Обстоятельства дела… В поведении Хромушина чувствовалась увлеченность своим делом, судья — тот, что в буденновке, скучая смотрел в окно, а другой хмуро слушал Хромушина, пытаясь разобраться в происходящем. Председатель зачитал обвинительное заключение, можно было подивиться, когда он все успел написать. В сенях громко хлопнула дверь. Жалобно, на всю комнату, вздохнула какая-то баба: — Ох-хо-хонюшки… Председатель постучал по столу: — Прошу соблюдать тишину! Баба опять вздохнула. — Товарищ Малафеев! — подозвал председатель командира комендантского взвода. — Примите меры… Командир взвода тоже вздохнул и сел за парту. — Признаете себя виновным? — обратился председатель к подсудимому. Секретарша встала и подошла к Полевану: — Говорите! Полеван посмотрел ей в глаза и засмеялся. — Бултых, бултых, — сказал он. — Помолимся, помолимся… — Отлично, — холодно сказал председатель. — Продолжаете упорствовать? Переходим к допросу… У Славушки зазвенело в ухе. — В каком ухе звенит? — спросил Кольку шепотом. — В левом, — немедленно отозвался тот. — Угадал? — Ты всегда угадываешь… Этот Хромушин зудит вроде комара. Что он делает? Ради чего? Ведь Алешка дурак, это все знают и почему-то молчат, а сам Алешка не способен ничего объяснить. Председатель постучал по столу. — Прошу соблюдать тишину! — Он повернулся вполоборота к подсудимому. — С какой целью вы прятались? — Смотрел! Кажется, Алешка начал что-то понимать. — С какой целью отрастили волосы? — Сивый, сивый, а красивый! — Ваш издевательский ответ только подтверждает, что вы отлично все понимаете. — Смотрю — давлю. — Напрасно вы так говорите… Полеван встал. — Сядьте. Конвоиры придавили Полевана к табуретке. — Сядьте, как вас там… Не имею чести знать ваше звание… Что значат эти цифры? — Председатель помахал отобранной у Полевана тетрадкой. — Два да два, три да три… — Я понимаю, что это выглядит как таблица умножения. Ну а на самом деле? Славушка посмотрел на тетрадь, Хромушин поймал его взгляд. — Товарищ Малафеев, — обратился он к командиру комендантского взвода. — Ознакомьте присутствующих с вещественными доказательствами. Малафеев пошел вдоль парт. Бабы заглядывали в тетрадь и виновато качали головами. Славушка тоже посмотрел в тетрадь. Каракули, загадочные рисунки, таблица умножения… — Вы разъясните нам шифр? Славушка не мог больше терпеть, поднял руку, как на уроке. — Позвольте! — А вы кто такой? — Прошу вызвать… Как свидетеля. — Я спрашиваю вас, кто вы такой? — Председатель волостного комсомола. — Что вы хотите? — Но он же дурак! — с негодованием воскликнул Славушка. — Это все знают! Я живу здесь год… — Это не делает вам чести, — строго прервал Хромушин. — Именно из-за отсутствия бдительности французский пролетариат утратил в 1871 году власть! — Но я даю честное слово! — горячо перебил Славушка. — Самая настоящая таблица умножения! Он спер тетрадь у какого-нибудь школьника… — Вы сами школьник, — гневно возразил Хромушин. — Целый год враг живет рядом с вами, и вы не разобрались… — Спросите его! — Славушка указал на Полевана. — Дважды два, трижды три… Полеван радостно закивал: — Два да два, три да три… — Я призываю вас к порядку! — Кого вы судите?! — Малафеев, выведите его прочь… — Где же справедливость! — Малафеев, выведите… Малафеев ухватил Славушку за руку и поволок прочь. Судья, тот, что хмурился, неожиданно пожалел Славушку. — Ты иди, иди, здесь детям не место, — сказал он мальчику. — Мы разберемся, разберемся… — Ты не уходи, — сказал Славушка Кольке из-под руки Малафеева. — Мы поговорим… Малафеев вытолкнул мальчика из сеней, щелкнул крючком! Славушка с горечью посмотрел на церковь. На зеленый купол, на тусклый крест… Эх, черт! Сюда бы Быстрова! Он бы не дал Полевана в обиду. А этот дурак Алешка сидит радуется… Мальчик постоял возле школы… Холодно! Пошел к Тарховым. Верочка читала, Наденька вышивала, Любочка музицировала, Сонечка мыла чашки. Славушка сел у окна. Наденька подивилась: — Что вы сегодня такой неразговорчивый? Но тут народ потянулся из школы, и Славушка сорвался со своего наблюдательного пункта. Старички, свернув цигарки, побрели по домам, бабы, пригорюнившись, стояли у крыльца. Прошли судьи, Малафеев и конвоиры вывели Полевана, подошли солдаты. — Исполняйте, товарищ Малафеев, — скрипучим голосом сказал Хромушин и зашагал к исполкому. Славушка сразу догадался, что предстоит исполнять Малафееву, и сознание этого защемило ему сердце. Он бросился догонять этого равнодушного и, как все равнодушные люди, безжалостного судью. — Товарищ Хромушин! — взывал мальчик. — Постойте, постойте же, я вас прошу! Хромушин остановился. — Неужели вы не понимаете, что он не виновен? — говорил Славушка. — Он не притворяется! Честное слово! Его не за что убивать… Хромушин улыбнулся, лицо его посветлело, в нем даже проступила доброта. — Ты еще очень ребенок, — негромко произнес председатель трибунала. — Совершенно не понимаешь, что такое революционная целесообразность. Может быть, и не притворяется. А если притворяется? Поэтому целесообразнее уничтожить. У Славушки сдавило горло. — Вы… Вы не революционер! Хромушин поправил пенсне. — Тебя следует наказать за дерзость. Твое счастье — закон оберегает подростков… Их нагнал судья, что хмурился на процессе. — Что же вы? — упрекнул его Славушка. — А что я? — хмыкнул судья. — Я голосовал против. Сейчас позвоню к тем, кто постарше. Не волнуйся… А Полеван шагает. Прямой, длинный, в обвисшем армяке, босой. На плече у него лопата. Его это забавляет, у солдат ружья, и у него что-то вроде ружья. Солдаты идут, беспорядочно окружив дурачка. Что-то говорят… До кладбища с километр, и они быстро проходят это расстояние. Мальчики подходят ближе. Малафеев оглядывается. — Уходите! Но ему не до них — хорошо бы успеть до сумерек. — Копай! — приказывает он Полевану. Тот мотает головой. — Копай, тебе говорят, — сердится Малафеев. — Не хочу, — разумно отвечает Полеван. Мальчики подходят еще ближе. — Становись! — кричит Малафеев хриплым голосом. — Становись… Непонятно кому кричит — Полевану или солдатам. — Рыбалко! Рыбалко берет Полевана за плечо и толкает к забору. Полеван становится у забора, улыбается, смотрит на солдат. Он ничего не понимает. Вероятно, полагает, что это какая-то игра. Позади его, как свечи, вытянулись белые стволы. Мокрые, несчастные березы. — Стой! — кричит Малафеев Полевану, но тот и так стоит. Внезапно Малафеев поворачивается и свирепыми глазами смотрит на мальчиков, он о них не забыл. — Уходите! Слышите? — Он кричит так страшно, что мальчики невольно пятятся. Славушка не выдерживает, бежит обратно, добегает почти до самой канавки, где стоят солдаты, и прерывающимся голосом кричит на Малафеева: — Не имеете права! Слышали? Насчет приговора? Еще будут звонить… — Ты уйдешь?! — Малафеев достает из кобуры револьвер. — А ну! Славушка наклоняет голову и медленно идет прочь. Он ничего не видит… И опять слышит неистовый крик Малафеева. Оборачивается. Полеван сидит. Преспокойно сидит у забора. — Встань, сука! Полеван сидит. Малафеев не выдерживает: — А ну целься! — кричит он. Солдаты вскидывают винтовки. Славушка отворачивается. Слышно несколько беспорядочных выстрелов. Будто стреляют не по цели, а просто так, в воздух. Судья, тот, что хмурился, показывается на дороге. — Отменен, отменен! — кричит он. — Не стреляй! Колька и Славушка бегут к Полевану. Похоже, он пытался поймать пулю рукой. Как шмеля. Ладонь у него в крови. Но он жив! Сидит и удивленно рассматривает свою руку. 38 Все в Успенском чувствовали себя, как после болезни: становиться надо на ноги, а боязно, нужна рука помощи, твердая рука, которая возьмет тебя, очумелого, за руку и поведет, поведет… Опять же — земля. Как с нею быть? Заново делить или по-старому все, и как по-старому: по-старому, как до белых, или по-старому, как до красных? В школах тоже надо начинать занятия — нужны методические указания и, между прочим, дрова, откуда их брать и кого занаряжать? Оно хоть и война и смена властей, а человеки, между прочим, родятся и умирают и, между прочим, женятся, им нравится жениться независимо от смены властей, а как оформлять это все, одному богу известно. В церкви?… Советская власть после осьмнадцатого года не признает ни венчаний, ни крестин, как ни купай младенца, но без регистрации в исполкоме не считается родившимся, а не считается, значит, и земли не причитается, все в книгу, в книгу надо записать, не записал покойника в книгу, значит, живет он, едят тя мухи с комарами! Никитин Иван Фомич не начинает занятий только из-за отсутствия дров, это человек самостоятельный, перед Быстровым особенно головы не гнул, а перед всякими проезжими хорунжими да есаулами тем более, этот ждет возвращения нормальной власти с достоинством. И Андрей Модестович Введенский ждет тоже с достоинством, даром что сын благочинного, тоже перед белыми не очень заискивал. Слоняется между Кукуевкой и Семичастной Виктор Владимирович Андриевский, человек просвещенный, санкт-петербургский адвокат, в бога никак не верит, но его прямо бог спас, произнеси он на сходе по случаю выборов волостного старшины свою отличную, загодя заготовленную речь, и не миновать бы ему ЧК, а так, может, и обойдется, и уехать не может, скажут, убежал, а куда убежал — известно, всех Пенечкиных сразу под удар… Сложное, в общем, у него положение! Остальные тоже, у кого рыльце в пушку — смахивают пушок, а кому нечего смахивать, не смахивают, не прихорашиваются, так красивы… Ждут Быстрова деятели юношеского коммунистического движения. Оказывается, без Быстрова не так-то просто определиться, теряется товарищ Ознобишин, года не прошло, как создана комсомольская организация, сам он председатель волкомола, Народный дом, можно сказать, почти прибрали к своим рукам, школу, не какую-нибудь там школу вообще, а свою, Успенскую среднюю школу, хоть и со скрипом, на тормозах, но тоже начали поворачивать, по всей волости взяли на учет батрачат и не просто на учет, а ясно дали понять их хозяевам, что если ребят будут обижать, то… И при белых тоже не подкачали, как могли, помогали старшим товарищам, никого не подвели, поручения выполняли… А что дальше? Что дальше, хочет он знать! Ознобишин не знает. Никто ничего не знает. Не хватает Быстрова. Нет в Успенской волости Советской власти. Пропала. Самим, что ли, организовать? Ехать в Малоархангельск за директивами, идти в уездный исполком, в укомпарт, найти, например, Шабунина… Его, кажется, зовут Афанасий Петрович?… Так и так, мол, товарищ Шабунин, время не ждет, положение невыносимое, пора налаживать… — Вставай, товарищ Ознобишин… Вера Васильевна в школе, Петя где-нибудь с лошадьми, а Славушка еще может поспать за отсутствием дел. Скользкое ноябрьское утро, моросит дождь, за окном черные ветки. Павел Федорович расталкивает мальчика: — Вставай, вставай, вернулась твоя власть… Тут не до расспросов, не до завтрака, штаны в руки — и бегом. Точно и не было белых! Над исполкомом сине-белая вывеска, у коновязи понурые лошаденки, из трубы сизый дымок… В коридоре на дверях те же дощечки, все те же мужики, и все так же сидит Дмитрий Фомич, и Быстров на своем месте, и портрет Ленина на своем… Все цело, все, как было, снова в волости Советская власть! — Приехали?! Степан Кузьмич здорово похудел, осунулся, землистый цвет лица… — Здравствуй. — Протягивает руку, почти не глядя: не рад или Славушка провинился? — Не уходи, погоди. Здесь Данилочкин, и Еремеев, и Семен, и посетителей полно, вчера тишина, а сегодня все дела сразу. — Сразу занарядить подводы за дровами для школ, а пока обязать сельсоветы доставить в каждую школу по десять возов соломы. Во всех деревнях провести сходки. Товарищу Семину составить список коммунистов кому куда. Одновременно пусть выберут комиссии, проверить потребиловки. Товарищ Еремеев, форсируйте поиски оружия. Открыть народные дома, пусть готовят спектакли. Всех коммунистов вечером вызвать на секретное собрание… Так можно просидеть до ночи, за день Быстрову не переделать все дела! — А вам, товарищ Ознобишин, провести завтра заседание волкомола, вызвать всех комсомольцев, будем посылать нарочных, передадут… И все, и никаких разговоров, идите и делайте! Славушка идет, пишет повестки, приносит Дмитрию Фомичу, а Быстрова уже нет, умчался… И Дмитрию Фомичу не до Славушки, только знай пиши и пиши! Сходить в Народный дом, посмотреть, как там… В коридоре слышен крик Еремеева, слева его резиденция, волостной военный комиссариат, он орет так, что звенит по всему зданию: — Расстреляю! Отдам под суд!… Славушка заглядывает в военкомат. — Зайди, зайди, товарищ Ознобишин! Перед Еремеевым переминается рыжебородый мужик. Из Туровца. У него нашли две винтовки. — Откуда? — кричит Еремеев. — Нашел… — А почему не сдал? У печки топчется Трошин, ему двадцать лет, живет в Дуровке, учится во второй ступени, один из самых прилежных учеников. Еремеев клеймящим жестом указывает на Трошина: — Полюбуйтесь, товарищ Ознобишин: дезертир! — Учащийся, — поясняет Славушка. — А учащиеся пользуются отсрочкой. — Какой?! — вопит Еремеев. — Я понимаю, шестнадцать, семнадцать… Отечество в опасности, а он задачки решает! Такой лоб… Когда открывали вторую ступень, для того, чтобы вызвать приток поступающих, было объявлено, что учащиеся второй ступени получат отсрочки, так что формально Трошин не дезертир, но Славушка больше сочувствует Еремееву: война, не до алгебры. — Отдам под суд! — вопит Еремеев. — А не лучше ли послать в армию? — советует Славушка. — По закону Трошин не виноват. — Я ему покажу закон! — продолжает Еремеев. — Чтоб завтра же с вещами!… — Машет Славушке рукой и идет к двери. — У меня к тебе секретный разговор. Выходят на улицу. Моросит мелкий дождь. Отсыревшие лошади понуро переступают у коновязи. Еремеев останавливается среди площади и стоит, точно над ним сияет яркое солнце. — Вот какое дело. Составь список. Нужны комсомольцы понадежнее. Которых можно на обыски. Оружие. Хлеб. И вообще. Чтоб не испугались. И на слезы тоже не поддавались… — Когда? — К вечеру. Военком поправляет на голове мокрую фуражку. Еремеева Славушка решается спросить, почему они так долго не возвращались. — Где это вы пропадали? — Не говори! — Еремеев ухмыляется. — Ливны всем ворам дивны! Два обоза отбили. Не для себя работали, для государства. Ну, и… — Он вздыхает. — Ранили Степана Кузьмича. — Куда? — Легкое прострелили. — Он же ходит? — Поднялся и заторопился сюда… Сам Еремеев не удивился этому, в порядке вещей вернуться при первой же возможности в строй. Славушка не прочь поискать Степана Кузьмича, но знает, что это бесполезно, тем более что Александра Семеновна не вернулась обратно в Кукуевку. Весь вечер председатель волкомола сочиняет план работы. Утром он ни свет ни заря на ногах, знает, что придет раньше всех, но товарищи тоже поднялись ни свет ни заря, возле волкомпарта все уже в сборе — Елфимов, Саплин, Сосняков, Терешкин, кворум, пришли и не члены комитета — Колька, Кобзев, Карпов, только дядя Гриша не пускает их в помещение, ключи доверяет одному Славе. Заходят в свою комнату, помещение волкомпарта они уже считают своим, у них уже есть опыт, понимают, что сейчас состоится заседание. — Товарищи… Но дядя Гриша умеряет их пыл: — Степан Кузьмич наказывал не начинать без него… Быстров не заставляет себя ждать, входит вслед за дядей Гришей, он еще худее и темнее, чем вчера, должно быть, не спал, торопился в Успенское. — Товарищи… Быстров рукой останавливает Славушку: — Не надо, давайте попросту. Садится на лавку, и ребята садятся, сейчас он скажет что-нибудь очень, очень важное, и он говорит, и то, что говорит, действительно очень, очень важное. Он рассказывает о том, что происходит в волости, где что разграблено, где кто обижен, кто как себя проявил… Он все знает, мотался отряд по логам да огородам, а тайн для него никаких! — Побыть с людьми во время вражеского нашествия, — объясняет Быстров, — это все равно, что в бане вместе помыться, все наружу… Всматривается в ребят. А Славушка всматривается в Быстрова: что он только о нас думает? Быстров морщится. Славушка догадывается: тревожит рана. — Бросили вас на глубоком месте, — говорит Быстров. — Заведут ребенка в воду, плыви — один ни за что не поплывет, за берег уцепится, а другой идет, идет, все смелее, смелее, так вот и в революцию входят, на вас надежда, одним коммунистам не справиться. Прежде всего хлеб; на тех, кто вилял перед белыми, особо нажмем, затем дезертиры, последние люди, не дорожат Родиной, далее ликбез, без грамоты ничего не построить, и самим надо учиться и других учить, прошу вас, беритесь, завтра сами станете коммунистами, вчера вы еще были дети, а теперь вы уже взрослые. 39 Надо бы в школу, но какие уж тут занятия, есть дела поважнее! Война и школа несовместимы, но вот при первой возможности дилинькает звонок, Иван Фомич входит в класс, ему безразлично обращение «господа», как в гимназии, хотя ученики никакие ему не господа, или товарищи, хотя какие же они ему товарищи, или ироническое «господа товарищи», или, как там их еще называть, они для него только ученики независимо от возраста и способностей, маленькие сырые человечки, из которых он лепит не нечто по своему подобию, а нечто для общества, частью которого он тоже является, его ученики, и он вдалбливает, вколачивает, вбивает в них знания. Иван Фомич не устает повторять имена Ломоносова, Тредиаковского, Радищева, Державина, Новикова… — Гордитесь тем, что вы русские, девятнадцатый век украшение русской культуры, но и восемнадцатому есть кем похвалиться… Он возвращал учеников в восемнадцатый век, заставлял заучивать стихи, которые, казалось, и смешны, и не нужны. — Что вы знаете о Василии Кирилловиче Тредиаковском? Никто ничего не знает, кроме Славушки: — Незадачливый одописец! Иван Фомич щурится: — А вы знаете, что Василию Кирилловичу Тредиаковскому русская литература обязана современным стихосложением, неизвестно, как бы еще писал Пушкин, не будь Тредиаковского, гении не рождаются на голом месте… Он стремительно уходит и через минуту возвращается, в руке толстая-претолстая книжечка в матерчатом коричневом переплете, едва ли не из той самой библиотеки, что растащена успенскими мужиками при покупке озеровского имения. — Придворных дам во времена Анны Иоанновны наказывали тем, что заставляли заучивать по десять строк «Телемахиды». Слушайте! — "Мраком сомнений задержан…" — Листает. — «Тьма стелется по океану…» — Листает. — «Смерть из рядов в ряды металась…» Он читает стихи так, точно произносит речь на митинге: Горе! Чему цари бывают подвержены часто? Часто Мудрейший в них уловляется в сети не чая: Люди пронырны, корысть и любящи их окружают; Добрый все отстают от них, отлучаясь особно, Тем, что они не умеют ласкать и казаться услужны: Добрый ждут, пока не взыщутся и призовутся, А Государи почти не способны снискивать оных. Злыи ж, сему напротив, суть смелы, обманчивы, дерзки, Скоры вкрасться, во всем угождать, притворяться искусны, Сделать готовы все, что противно Совести, Чести, Только б Страсти им удоволить в Самодержавном. О! злополучен царь, что толь открыт Злых коварствам: Он погиб, когда Ласкательств не отревает, И не любит всех вещающих Истину смело. — Настоящая гражданская поэзия, не хуже, чем у Некрасова, — годятся эти стихи для нас? Деникин еще не добит, из Крыма наступает Врангель, один за другим коммунисты уходят на фронт, дезертирам не будет пощады, вечная проблема — хлеб, поддержать рабочий класс и сохранить семена, живем не одним днем, в волости не одна школа… У Никитина одна школа, а у волкомола Двадцать, обо всех надо позаботиться. Степан Кузьмич покрикивает уже на товарища Ознобишина, когда где-то не хватает дров или учебников, его меньше интересует «Трутень» Новикова, чем трутни, ворующие керосин, предназначенный для школьных занятий. Советская власть как-то странно восстанавливалась в волости. Будто ничего не произошло, все как было: те же вывески, те же работники, но за три месяца безвременья люди стали понятнее: один все уберег, а другой всему поперек! Не успели работники исполкома рассесться на своих стульях, как Быстров разослал предписание провести в честь второй годовщины Октябрьской революции митинги в Успенском, Корсунском и Критове, ораторы будут присланы, явка обязательна, в случае ненастной погоды перенести собрания в школы, а Успенское предложено обеспечить еще спектаклем, для чего срочно приглашен Андриевский. Он появился незамедлительно, точно за ним помчался не Тишка Лагутин, который вместе со своим мерином дежурил в тот день при властях в качестве вестового, а будто вызвали его по телефону, хотя в ту пору телефонная связь не снилась даже деятелям уездного масштаба. Не успел Тишка скрыться под горой, как Андриевский вошел в исполком, и не прифранченный, как обычно, а в заскорузлом брезентовом плаще с капюшоном, хотя дождя в тот день и не было. Остановился перед Быстровым: — Чем могу служить? — Спектакль, — лаконично сказал Быстров. — Подготовить торжественный вечер и спектакль. — За два дня! — воскликнул Андриевский. — Сие невозможно. — Меня это не интересует, — холодно возразил Быстров. — Для большевиков нет ничего невозможного. — Но я не большевик… — Это мы хорошо знаем. Придадим в помощь комсомольцев! — Лучше без них. — Как угодно, но чтоб спектакль был. — Что-нибудь возобновим из старого, за два дня новый поставить немыслимо. — А что именно? Служитель муз задумался: — Если «Без вины виноватые»? Быстров смутно помнил: какая-то слезливая история о незаконном сыне, которого находит какая-то актриса… — А что-нибудь политическое нельзя? — Пока еще товарищ Луначарский не обеспечил. — О Степане Разине ничего нет? — Быстров мобилизовал свою память: — «Борис Годунов»! Андриевский опешил: — Почему именно «Годунов»? — Как же: Смутное время, Россия, народ… — Народ там безмолвствует, — сухо сказал Андриевский. — Да и не найдем столько народа… Быстров отступил: все-таки этому… актеру… ему и карты в руки… — А почему виноватые?… — Он имел в виду «Без вины виноватые». — Будет хоть как-то соответствовать… моменту? — Торжество справедливости! — Служитель муз снисходительно обозрел политического деятеля. — Правда жизни… — Ну делайте как знаете, — согласился Быстров, — Но чтобы спектакль у меня был! На митинг к исполкому мало кто пришел, собрались работники исполкома и комсомольцы, праздник пришелся на понедельник, у всех дела, а объявить приманки ради какой-нибудь животрепещущий вопрос вроде передела земельных участков или дополнительной хлебной разверстки Быстров не захотел, — не стоило смущать умы лишними тревогами. Зато вечер удался на славу, народу набилось в Нардом видимо-невидимо — первый спектакль после возвращения Советской власти. Пришла вся Семичастная, да и из Успенского немало пришло, вся молодежь, и мужиков собралось достаточно, на всякий случай: не объявят ли чего нового? Степан Кузьмич произнес пламенную речь, пели под фисгармонию революционные песни, и супруги Андриевские старались петь громче всех. А на следующий день Славушку и Елфимова, который стал заместителем Ознобишина потому, что жил рядом с Успенским, в Семичастной, пригласили в волкомпарт. — Пора вам обзавестись своей канцелярией, — объявил им Быстров. Писаниной в Успенской партийной организации ведал Семин, Быстров для того и вызвал мальчиков, чтобы Семин обучил их канцелярской премудрости: списки, анкеты, протоколы, входящие, исходящие… Сам Быстров собирался в Малоархангельск. — Что-то я тебе привезу, — загадочно пообещал он. Вернулся через два дня, встретил Славушку под вечер и повел в волкомпарт. Позвал дядю Гришу и велел зажечь лампу-"молнию", которую зажигали только на время партийных собраний. За окном шел дождь. На столе ярко горела лампа, и стены белели как в больнице. Степан Кузьмич отпер сейф, достал небольшой сверток, положил на стол, сел. — Нет, ты не садись, — сказал он Славушке, когда тот сел. Достал из кармана кителя крохотную книжечку в красной бумажной обложке. — "Товарищ Ознобишин Вячеслав Николаевич", — прочел он, раскрывая книжку. — Стаж с августа тысяча девятьсот девятнадцатого года… Поздравляю тебя, получил твой билет в уездном оргбюро РКСМ. В силу исключительных обстоятельств, чтоб не отрывать тебя от работы, доверили мне. Засчитали стаж не с мая, когда создали организацию, а с момента прихода деникинцев, считают, что в этот момент ты определился как комсомолец… — Он подвернул фитиль, прибавил света, развернул сверток, рассыпал по столу комсомольские билеты. — Шестьдесят три. Товарищ Ознобишин, вручаю вам билеты и анкеты под вашу ответственность. Мне предложили десять билетов. «Деревенская молодежь вступает с трудом», — сказали. «Только не в нашей волости», — ответил я и попросил все. В наличии оказалось шестьдесят три. Теперь дело за тобой, каждый билет должен найти своего владельца. Документы храни в партийном сейфе… Славушка хотел сказать Быстрову тоже что-нибудь значительное и торжественное: что этот билет… что борьбе… что всю жизнь… Но не смог. Собрал билеты, завернул, положил обратно в сейф. Свой билет сунул за пазуху. Взглянул на Быстрова, тот кивнул и задул лампу. Постучал в стену дяде Грише: мол, ушли. Дождь кончился. Небо тяжелое, мрачное. Поблескивают в темноте лужи. Степан Кузьмич притянул к себе Славушку за плечо и пожал ему руку: — Теперь ты комсомолец по всей форме. 40 Славушка собирался в школу, хотя окончательно еще не решил, идти или не идти, занятия в школе все-таки личное дело, а тут ликбез, всеобуч, книги… Книги теперь в России не продаются, а распространяются, тюками приходят по разнарядке в волость, распределение книг доверено по совместительству Ознобишину, — их столько, что в каждой деревне можно открыть по избе-читальне. Возню с книгами прекратило появление дяди Гриши. — Степан Кузьмич кличет… Какие уж тут занятия! Быстров деловит и торжествен, рядом Дмитрий Фомич Никитин, как всегда, с ручкой за ухом, когда не пишет, а слушает разговор. — Товарищ Ознобишин, вы командируетесь в Корсунское, — объявляет Быстров будничным голосом. — Революция не для того изгоняет буржуазию из дворцов, чтоб они пустовали, локомотив истории не может простаивать… Что ж, Славушка готов двигать Историю! — Поедешь в Корсунское, осмотришь усадьбу и дом, — переходит Быстров на прозу. — Бывшие хозяева самоликвидировались, имущество разворовали мужики и не сегодня-завтра начнут тащить окна и двери. Здание следует сохранить. Для народа. Это дело мы решили поручить комсомолу. Тебе предлагается выехать, осмотреть и сообразно местным условиям использовать дворец… — Открыть избу-читальню! — радостно предлагает Славушка. Быстров задумывается. Дмитрий Фомич лукаво взглядывает на мальчика. — Не велика ли изба? — Избу можно, — соглашается Быстров. — Но для нее достаточно флигеля. Есть тенденция под потребиловку пустить или для проживания вдовых солдаток. Но я думаю, такое здание должно двигать культуру… Славушка понимает Быстрова с полуслова: — Дмитрий Фомич, мандат готов? Никитин передает бумажку Быстрову. — Подвода сейчас придет… После его ухода Дмитрий Фомич говорит Быстрову: — Вы как бог: он женщину из ребра, а вы из ребенка хотите сделать политика. Дите. Деникина еще не добили, а им танцы лишь и спектакли… — Консервативные воззрения у вас, — отвечает Быстров. — Мальчик меня понял. В Корсунском Славушка прежде всего идет к председателю сельсовета Жильцову. Жильцов из зажиточных мужичков, все выжидает, против Советской власти не выступает, но и не так чтобы за нее, присматривается. — Господский дом заперт? — Местами заперт, а местами не заперт… — Так вот я занимаю этот дом! — Как так? Славушка предъявляет мандат. — Так, так, — задумчиво бормочет Жильцов и медленно вслух читает: — «Ознобишину Вячеславу Николаевичу поручается оформить национализацию дома помещиков Корсунских…» Длинный ключ от парадных дверей, украшенный завитушками из бронзы, висит у Жильцова на гвоздике под божницей. Он отдает его так, точно вручает завоевателю ключ от крепости. — Баба с возу — коню легче, теперь ни за какую утварь не отвечаю… — А мебель какая-нибудь сохранилась? — Есть кой-что… От Жильцова Славушка идет к Соснякову. Иван Сосняков — секретарь комсомольской ячейки. Он очень беден. Мать его — вдова, у него братья и сестры, Иван — старший, земельный надел они получили только после революции, прежде мать работала на людей. Иван старателен и завистлив, он никогда хорошо не жил и презирает всех, кто хорошо живет. Славушка стучит в маленькое тусклое оконце. — Войдите! — начальственно откликается Сосняков. В избе голо, щербатый стол и узкие доски вместо скамеек, наглухо приколоченные вдоль стен. Но сам Иван за столом на позолоченном стуле, обитом малиновым атласом, выводит на листке из тетради колонки каких-то цифр. — Здравствуй, Ваня. — Здорово, Слава. — Чего это ты подсчитываешь? — Сколько у кого из наших кулаков спрятано хлеба. — А откуда ж ты знаешь? — Можно сообразить. А ты чего к нам? — Поручение волисполкома. Собери-ка собрание ячейки. — Когда? — Через час, через два, как успеешь. — А где — в школе или сельсовете? — Не там и не там. В господском доме. — Жильцов не позволит. — Нам? Да у меня уже ключ! Ты собирай ребят, а я прямо на усадьбу… Ворота сорваны, аллея завалена снегом, кособоко стоят клены и вязы, величествен строй столетних лип. Славушка скользит по насту, поднимается по ступенькам на крыльцо, но парадные двери не открыть, замок заржавел или сломан, по сугробам обошел дом, стекла кое-где выбиты, недавно здесь обитали, а сейчас запустение… Вот еще дверь… Заперта! Не через окно лезть… Дальше. Похоже, что кухня. Снег утоптан, валяются остатки хозяйственного инвентаря. Корыто. Кадушки. Дверь чуть отошла. Не заперта… Славушка шел по комнатам. Дом хоть и деревянный — ширь, размах, красота. Пустынно и просторно. Особенно просторно от того, что пусто. Быстров прав: мебель разворована. Но кое-что сохранилось. Некоторые вещи так велики, что не вместятся ни в какую избу, а поломать не успели… Книжные шкафы от потолка до пола. Паркетные полы затоптаны, сплошь побурели от грязи. Здесь мыть, мыть… Кое-где на полках еще стоят книги. Диваны во всю стену. Поломанные стулья. Такие же, как стул у Соснякова, только без ножек. Бильярд, хоть сукно и содрано… И в пустом-пустом зале — рояль! Никем не тронутый, сияет белый рояль! Затаив дыхание, Славушка поднял крышку. Тусклые клавиши казались мертвыми. Пальцем ударил по одному, по другому. Звуки задребезжали и умерли, едва отнял палец… Бедный замерзший инструмент! Славушка вздрогнул. До чего холодно и неуютно. Глупая затея собирать сюда комсомольцев… Но ведь именно здесь они должны все изменить! Он опять ударил по клавишам. Он умел наигрывать два мотивчика, «Чижика» и «Собачий вальс». «Чижик» кое-как получался: «Чижик-пыжик, где ты был…» Вернулся к книжным шкафам. Продолговатые томики в желтых обложках. Французы! Потому-то никто и не взял. От книжек его оторвали шаги… Сосняков шаркал валенками по грязному паркету, за ним шествовала вся ячейка. Впрочем, не вся. В Корсунском девять комсомольцев, а Сосняков явился сам-семь. — А где ж еще двое? — Не нашел… Вот они, те, кому предстоит все переделать в Корсунском. Сам Иван. Упрямый, настырный, от работы никогда не отлынивает. Но характер… Дроздов. Беленький, как девочка. Сын кулака, ушел от отца, живет у тетки, отца видеть не хочет. Вася Левочкин. Бесценный Вася Левочкин. Гармонист. Достаточно ему прийти на собрание, и вся молодежь тянется за ним. Еще двое парней. Славушка не знает их фамилий, должно быть, недавно вступили в комсомол. Две девушки. Две подруги. Таня, сестра Левочкина, и Катя, дочка учительницы Вишняковой. — Товарищи, мы сейчас проведем собрание ячейки… — В таком-то холоде? Если Ознобишин предложит, Сосняков обязательно возразит. — А почему не в сельсовете? — Потому что всегда будем здесь заседать, дом этот теперь за нами… — Как за нами? — Вот об этом и поговорим… Сосняков все равно стоит на своем: — Однако мерзнуть нечего. Сперва натопить, а потом уж всякие там доклады… — Такой домище? Все же Сосняков уводит с собой всех парней… Розовые тени бегут по стенам. В камине весело полыхает огонь. Ребята нанесли хвороста, сучьев, штакетника. Из бильярдной притащили диван — «во-от такой длиннины!». Сидят на нем как воробьи. — Товарищи, международная обстановка… Славушка докладывает о международной обстановке. О положении на фронтах. Без этого не начинается ни один доклад. Даже о помощи вдовам красноармейцев. Даже о постановке спектакля. — Волостной исполком поручил нам решить вопрос об использовании этого здания… — Открыть коммуну! — Народный дом! — Расселить нуждающихся… — Библиотеку… — Общежитие для сирот… У каждого свое предложение. Все прекрасны, все продиктованы желанием использовать этот громадный дом как можно лучше. На чем остановиться? Славушка быстро думает. Глупо ставить предложения на голосование. Не для того его командировали в Корсунское. Надо самому найти правильное решение и навязать собранию. Так поступает Быстров. Навязать и проголосовать. Осуществлять решение придется ведь этим ребятам. — А я думаю, самое правильное открыть в этом доме школу. Настоящую большую школу с хорошими учителями. Помещений хватит для всех классов. А во флигеле, в пристройках поселить учителей… Катя Вишнякова захлебывается словами, голосок тоненький. Славушке кажется, что это то самое, на чем следует остановиться; Быстров дал установку: такое здание должно двигать культуру, быстро двигать… — Мы все сходимся на том, что надо двигать культуру. А как двигать, когда сами некультурные? Нам подучиться, и тогда… — Думаешь, для движения культуры недостаточно революционной сознательности? — придирчиво возражает Сосняков. — А почему ж все культурные идут против Советской власти? — А они уж не такие культурные, — возражает Слава. — Богатые, но некультурные! — Вся интеллигенция против Советской власти! — А Ленин — не интеллигент? — А что с того? — А Ленин — самый культурный! — Разве я против него? — Так в чем же дело? Вот и откроем школу. Второй ступени. Школу имени Ленина! Это всем нравится. — Иван, голосуй! Он, конечно, голосует, и все, конечно, голосуют за школу. — Теперь, товарищи, самое важное… Вот почему Быстров любит Славушку: в нем задатки организатора, важно не только принять хорошее решение, но и осуществить, сообразить, что практически можно сделать. — Прежде всего подумаем об учителях, их не так просто найти. Однако учителя знают друг друга. В Корсунском сколько учителей — пять? Пригласить, объяснить, попросить помощи… Сосняков обрушивает на докладчика свою иронию: — Решаем, и тут же за чужую спину? — А почему, ты думаешь, разбили Деникина? Коммунисты приняли решение и подняли весь народ. Даже царских офицеров привлекли, которые захотели пойти с народом. Это тебе неизвестно? Привлечь возможно больше людей… — Слышишь? — запальчиво повторяет Таня. — Как можно больше народу! — Теперь дрова. Всем организоваться на заготовку дров. Считать себя мобилизованными на это дело, — продолжает Славушка. — И еще — вернуть мебель. Среди голых стен не развернешься. Всю мебель пораскрали. — Как ее вернешь? — Очень просто. Завтра с утра всем комсомольцам и комбедовцам пойти по домам и отобрать. — Не дадут. — Я предупрежу Жильцова. Оставить мебель у вдов, в семьях красноармейцев и у самых-самых бедняков. У остальных все обратно. Вплоть до конфискации хлебных излишков. За похищенную мебель. И особенно собрать все книги. Долго обсуждают, как и у кого собирать мебель… Тьма занавесила окна. Сосняков отыскал на кухне коптилку с керосином. Пламя над фитильком чуть подпрыгивает. Желтеют лица. Оранжевые блики от горящего хвороста прыгают по стенам. Все разговорились, согрелись, чувствуют себя как дома. Катя подошла к роялю. — Можно? — Попробуй. Она играла стоя, сперва «Собачий вальс», потом еще какой-то… Кажется, даже рояль отогрелся, не так дребезжит, как под пальцами Славушки. — Ты разве умеешь играть? — удивляется Сосняков. — Мы потанцуем, — говорит Катя. — Вася, сыграй нам. — Он баянист, — назидательно произносит Сосняков. — Как-нибудь, — просит Катя. Левочкин неуверенно коснулся клавиш, попытался подобрать тот вальс, что играла Катя. Девушки кружились, Дроздов стоял у дивана, смотрел во все глаза, Славушке казалось, что Дроздову тоже хочется танцевать, но он боится осуждения Соснякова. Двое парней, чьих фамилий Славушка не знал, подбрасывали в камин сучья. Сосняков подвинулся к Славушке. — Ты это из-за меня затеял? — спросил он. — Что? — Насчет мебели. — Почему из-за тебя? — Чтоб я принес свой стул… Славушка совсем забыл, что у Соснякова стул из помещичьего дома. — Какие глупости! — воскликнул он. — И потом, ты можешь не возвращать, мать у тебя вдова… Он отстранился от Соснякова, не хотелось сейчас разговаривать о каком-то стуле. Он думал о будущем. О том, что будет здесь через несколько лет. Даже не через несколько лет, а совсем скоро. Просторный помещичий дом. В нем комнат тридцать. А жила одна семья. Всего три человека. Что они делали в этих комнатах? А теперь здесь откроется школа. Будет не меньше ста учеников. Будут играть на этом рояле. Танцевать… Потом подумал, что станется с этими ребятами, которые только что решили открыть здесь школу. Этого он не знал. Про Соснякова, впрочем, знал. Знал, что им придется еще столкнуться… Ему хотелось, чтобы этим ребятам, которые находятся сейчас рядом с ним, было хорошо в жизни. Он знал, что у них у всех длинный путь. Кто-то проведет всю свою жизнь в Корсунском, а кто-то покинет родное село, чтобы никогда уже сюда не вернуться. Кто-то будет долго и упорно учиться, а кто-то всю жизнь ходить за плугом. У каждого особая, своя собственная судьба. Но что именно суждено каждому из этих ребят, Славушка угадать не мог… Ничего он еще не знал, не мог даже предугадать, что случится с ним самим в жизни. Багровые блики метались по белым стенам. Поблескивал в темноте рояль. Левочкин играл все увереннее, двое парней подбрасывали в камин сучья, Дроздов влюбленно смотрел на кружившихся девушек, и Славушке ужасно, ужасно хотелось, чтобы всем им было хорошо в жизни. 41 Славушка провел в Корсунском три дня. Между собранием комсомольцев и заседанием сельсовета, где официально постановили ходатайствовать перед волисполкомом об открытии в селе средней школы, он не имел ни минуты покоя. Хотя Сосняков и голосовал за открытие школы, и голосовал вполне искренне, Славушка все время ощущал какое-то скрытое противодействие с его стороны. На собрании комсомольцы решили с утра поговорить с учителями. Учителей Сосняков решил вызвать в помещичий дом, с утра послал за ними девчонок. Как только Славушка об этом услышал, побежал к Ивану. — Ученики учителей не вызывают. — На этот раз мы руководители! — А иногда не худо руководителям поклониться руководимым. Это же хамство, давно ли ты у них учился, а теперь развалишься в кресле и вызовешь… — Ты меня креслом не попрекай! Тьфу, Славушка совсем забыл… Но одного Ознобишина Сосняков к учителям не пустил, пошли вместе, и в разговоре с ними был вежлив и дипломатичен. Учителя обрадовались: такой дом — сила! Потом собрали в сельсовет всех членов комбеда. — Есть категорическое указание волисполкома собрать расхищенное имущество… Указания не было, но идея была правильная, комсомольцы и члены комитета бедноты пошли по дворам отбирать помещичью мебель. Сосняков разбил всех на группы, затем исчез и первым появился на улице, волоча свой стул, отпрокинутый сиденьем на голову. — На, получай, — зловеще пробормотал он, поравнявшись со Славушкой у сельсовета. — Это не мне, и тебе необязательно сдавать по своему имущественному положению… Все же Иван поступал правильно, показывал всем пример. Жена Жильцова не хотела отдать трюмо. — На что оно вам? — Как ты не понимаешь, тетя Феня, таков порядок… — Чтоб вам ни дна ни покрышки! — Стукнула обухом колуна по зеркалу. — Не придется вашим девкам смотреться. Славушка тут же вручил предписание. Как уполномоченный волисполкома. Гражданину Жильцову. Немедленно сдать десять пудов хлеба. В возмещение ущерба. Жильцов уклонился от участия в «мероприятии», околачивался где-то у соседей, а тут сразу примчался домой. — Не жирно? Такие зеркала в Туле и в Орле за полпуда отдавали, а вы — десять пудов! — Можете не вносить. Степан Кузьмич сам приедет. Или пришлет Еремеева… — Откуда вы только взялись на нашу голову! Отсыпал-таки все десять пудов, сам вешал и сам отвез зерно все в тот же злополучный дом. — Мышей кормить! — Убережем, — утешил его Сосняков. — До первого продотряда. Учителя согласились взять дом под свое наблюдение, комсомольцы занялись приведением его в порядок. Можно и домой! Жильцов воспользовался оказией, посадил Ознобишина к старику Тихомирову, ехавшему в исполком хлопотать о разделе имущества с сыном. Выехали за околицу, ветерок продирал до нутра. — Прикройся тулупом, — пожалел мальчика Тихомиров. — А то не довезу до Быстрова его гвардию! Славушка съежился под тулупом, как котенок. Ничто не нарушало зимнего безмолвия: ни шелест парящей птицы, ни шорох падающего снега, ни даже дыхание сонной земли. Волнами катятся сугробы, тонут в лощинах и ложбинах и вновь возникают в туманной дали. Серебрится укатанная дорога, да темнеют то тут, то там зеленовато-коричневые конские котяки. Растопырили ветви придорожные ветлы, то выстроятся в ряд, как поставленные в строй рекруты, то собьются в кучу, подобно судачащим бабам. И так от деревни до деревни — сугробы, да ветлы, да нескончаемый санный путь. Солнце клонится к западу, розовое, как спелая боровинка, и розовые полосы чередуются с черными тенями, напоминающими бесконечный убегающий назад частокол. На востоке уже пылит предвечерний ветерок, предвещая ночную поземку. Как вспугнутый зайчишка, взметывает он сухой снежок, припадает к долу и опять мчит туда, где небо окрасила таинственная прозелень. Зимний день… До чего ж ты короток, зимний день! Блеснуло морозное солнце, рассыпалось алмазными искрами, и вот уже день тускнеет, меркнет и воровато бежит прочь… Старик Тихомиров всю дорогу сетовал. — Нет, теперь всему крышка, — сам с собой рассуждал он. — Теперь, как дите родится, сразу надо топить. Как щенка! — Какое ж дите так тебе досадило? — Собственное, — пожаловался Тихомиров. — По прошлому году женился, а уже выделяется. Да я бы ему овцы не дал… — Кнутовищем постукал кобылу по бедру. — Как полагаешь, начальник, много ему выделят? — Поровну. — Чего? Я всю жизнь горб натирал, а ему половину имущества? Помолчали. Лошаденка трусила. Славушке дремалось, да и старик начинал дремать. — Нет, Совецкой власти не продержаться, — встрепенулся Тихомиров перед Успенским. — Каюк! — Что так? — Да хоть из-за тебя. Уж ежели никто не идет на службу, и дитёв навроде тебя ставят начальниками, у комиссаров труба… В исполкоме полно посетителей, однако Быстров сразу замечает мальчика. — Замерз? — Не шибко. — Садись докладывай, как вы там распорядились? — Собрали комсомольское собрание, единогласно приняли резолюцию, привез с собой. — И что же вы там единогласно решили? — Открыть школу второй ступени, собрать инвентарь, учителя обещали списаться с коллегами из города… Быстров хохочет, откидывается на спинку дивана, с торжеством смотрит на Никитина. — А ты говорил! Я знаю, что делаю! Молодежь — сила! Не боюсь довериться… Дмитрий Фомич сунул ручку за ухо. — А бюджет? Жалованье-то учителям из чего платить? Быстров не унывает. — Натурой, натурой! Огороды выделим. Выпросим средства. Не может того быть, чтобы на школу не нашлось… Дмитрий Фомич не осмеливается возражать, берет в руку ручку, задумчиво осматривает перо и неодобрительно смотрит на Славу. — Н-да, Степан Кузьмич, ребенок и есть ребенок, что с него взять! 42 Сумерки заполняют комнату, точно клубы табачного дыма, собеседники как бы отдаляются друг от друга. Их трое — Быстров, Дмитрий Фомич и Слава. Собственно, разговаривают Быстров и Дмитрий Фомич, Слава сидит на подоконнике и с любопытством прислушивается к тому, как Быстров лениво и будто нехотя, а на самом деле непоколебимо отражает доводы Дмитрия Фомича, такие разумные, осторожные, диктуемые жизненным опытом старого крестьянина. Разговор шел о переделе земельных наделов по всей волости. Быстров вот уже как с месяц пригрозил вызвать весной землемера и перемерить всю землю для того, чтобы заново нарезать мужикам земельные участки в соответствии с их действительным семейным положением. Дмитрий Фомич не стал возражать ему на заседании исполкома, но стоило им остаться наедине, — Славушка в счет не шел, — как Дмитрий Фомич принялся отговаривать Быстрова. Заложив по старой писарской манере ручку за ухо, — Славушка всегда дивился, как это Дмитрию Фомичу удается не запачкаться чернилами, — секретарь волисполкома аккуратно рассовывал по папкам лежавшие перед ним бумажки и, попыхивая короткой трубочкой, выговаривал Быстрову добродушным тоном: — Мужики только-только на ноги становятся, а вы опять хотите все вверх тормашками… Быстров недовольно смотрел на Дмитрия Фомича. — Так ведь несправедливо же. — Правду искать, досыта не наедаться, — степенно возразил Дмитрий Фомич. — Всех голодных не ублаготворишь. Быстров покачал головой. — Один за войну всю семью растерял, а земли на десять душ, блаженствует, у другого семья разрослась, а земли на две души, куда это годится? — Вы всю экономику в волости нарушите, — убеждал Дмитрий Фомич. — Те, у кого земля, окрепли, они-то и обеспечивают государство хлебом, а безземельных наделить, как-то они еще с землей справятся… — Значит, заботиться о кулаках? — При чем тут кулаки, — досадливо отмахнулся Дмитрий Фомич. — О государстве должны мы заботиться. Из Орла только и слышно: давай да давай, а у кого взять? Начнете передел, не похвалят, государству хлеб нужен, а не справедливость. — Не слушай его, — повернулся Быстров к Славе. — Советское государство без справедливости жить не может, без правды нам хлеб не в хлеб. Дмитрий Фомич крякнул. — Эх, Степан Кузьмич… — Меня не переговоришь, — сказал Быстров. — Землемер весной будет. Дмитрий Фомич встревожен и растерян: — Значит, старый мир разроем до основанья, а там как бог даст? — Разроем и построим, — сказал Быстров. — И не как бог даст, а как говорит наука. — Не похвалят вас за это, — сказал Дмитрий Фомич. — А я и не жду похвал, — сказал Быстров. — Сколько добра ни делай, при жизни спасибо не услышишь, разве что помянут когда-нибудь после смерти. — Нет, Степан Кузьмич, загибаете не туда и загибаете против своего же авторитета, — сказал Дмитрий Фомич с ласковой укоризной. — Для чего затевать еще одну революцию? — Вторая революция нам ни к чему, революцию мы в семнадцатом сделали, а теперь только укрепляем. — Быстров провел ладонью по столу. — Укрепляем и расширяем. Дмитрий Фомич усмехнулся мягко, необидно. — Привыкли вы во всем действовать с размахом, а того не замечаете, что здесь своя Успенская волость, которой мировая революция… Быстров добродушно подсказал: — Ни к чему? — Да оно бы, пожалуй, и ни к чему, — согласился Дмитрий Фомич. — Нам, мужикам, что нужно: побольше землицы — и все. — А ты лично давыдовской земли что-нибудь получил? — равнодушно спросил Быстров. Он имел в виду земли Давыдова, богатейшего помещика, владевшего землей неподалеку от Успенского. — Получил, — ответил Дмитрий Фомич. — Десятин пять, должно быть. А что? — Так разве без мировой революции ты бы ее получил? — сказал Быстров. — От землицы вы все не отказываетесь, а мировая революция вам и впрямь ни к чему! — Оно и так и не так, — сказал Дмитрий Фомич. — Мы бы эти пять десятин и без революции заимели бы. — Купили бы? — Купили, — согласился Дмитрий Фомич. — И даже с меньшими хлопотами. — Вы бы купили, — в свою очередь, согласился Быстров. — Вы в кулаки вылезали, да и сейчас от них недалеко. А вот каково было Ореховым, Стрижовым, Волковым? — У вас все, кто работает, кулаки, — ответил Дмитрий Фомич. — А Стрижовы, да и Волковы спокон веку не работали и не будут, ко мне же завтра придут свою землю в аренду сдавать. — А вы тому и рады? — сказал Быстров, не повышая голоса и как бы даже не сердясь. — А чем Стрижов или хоть тот же Волков будет ее обрабатывать? Сохой? А за лошадкой к вам же приди, поклонись, а осенью и половину овса отдай, верно? — Так землемер же их лошадями не наделит? — возразил Дмитрий Фомич. — Сидели бы дома, не шатались по городам, были бы и у них лошади. — Лошадьми наделю их я, — сказал Быстров. — Или, правильнее, Советская власть. — Откуда же вы их возьмете? — не без язвительности спросил Дмитрий Фомич. — Пролетариат сам лошадьми нуждается, скорей на колбасу пустит, чем мужикам даст. — А я у тебя возьму, — спокойно сказал Быстров. — Одну оставлю, а другую возьму. Дмитрий Фомич глубокомысленно посмотрел на Быстрова. — На такое дело закон нужен, Степан Кузьмич, хотя бы вы и действовали ради мировой революции. — А это нам недолго, — насмешливо возразил Быстров. — За ради дела? Закон будет моментально! Пишу Ленину, и через пару дней будем иметь декрет. Пожалуйте, товарищ Никитин, вот вам и закон: председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов — Ленин. Дмитрий Фомич усмехнулся. — Ну, это уж вы, Степан Кузьмич, немножко того. Быстровых, извините, все же много, а Ленин — один: там государственные соображения! Быстров негромко засмеялся. — А ты что ж думаешь, Быстровы действуют совсем уж без государственного соображения? — Нет, зачем же… — Быстров понимает, что это такое — написать Ленину, — продолжал Быстров. — Даже написать Ленину и то надо иметь… — Он постучал пальцем себе по лбу. — С бухты-барахты не напишешь. — Мгновение помолчал. — А что касается лошадей, — добавил он уверенным тоном, — лишних лошадей мы все-таки заберем, и безлошадным дадим, и середняку оставим… — А кулаку? — не без язвительности спросил Дмитрий Фомич. Быстров нахмурился. — Ну а что касается кулака, это особый разговор, — жестко сказал Быстров. — С кулаком у нас война. Дмитрий Фомич засопел трубочкой. — И когда ж думаете в трубы трубить? Быстров не понял. — Как вы говорите? — В трубы, говорю, — пояснил Дмитрий Фомич. — Победу, говорю, когда думаете праздновать? — До победы еще далеко, — медленно произнес Быстров. — Еще очень далеко, это я понимаю. Война будет длительная, трудная, вы меня дураком не считайте. — Но победа-то будет? — серьезно спросил Дмитрий Фомич. — А кто же начинает войну, не веря в победу? — ответил ему Быстров. — Победа будет, нет такой силы, которая могла бы остановить революцию, но… — Эх, Степан Кузьмич, Степан Кузьмич! — прямо-таки с отцовской теплотой вырвалось у Дмитрия Фомича. — Хорошо писали на бумаге, да забыли про овраги! Быстров усмехнулся. — А по ним ходить, хотите сказать? Он привстал с дивана, оперся обеими руками о стол и посмотрел в сгущающуюся темноту, туда, где смутно белели изразцы кафельной печки, посмотрел так, точно в этом сумраке раскрывалось перед ним далекое будущее, вплоть до собственной смерти. — Знаю, — сказал он и еще раз сказал: — Знаю. Много еще чего будет. То он нас, то мы его. Война будет пострашнее, чем с Деникиным. И крови будет, и слез… И крови и слез, — повторил Быстров и почти с мукой выкрикнул: — Но ведь не отступать же? Он опять сел, привалился к спинке дивана. Славушка с нежностью посмотрел на Быстрова. На черной коже дивана смутно выделялась его голова. «Умная, решительная и родная голова, — мысленно сказал себе Славушка и тут же подумал: — Почему родная? Почему Быстров кажется мне таким родным?» Быстров молчал, и Дмитрий Фомич молчал. Потом Дмитрий Фомич встал, прошел по комнате к печке, с легким кряхтеньем опустился на корточки, открыл дверцу, грубой мужицкой рукой пригреб к краю топки горстку золы, подул на нее, выбрал не погасший еще уголек и, перебрасывая его с ладони на ладонь, положил уголек в потухшую трубку, раскурил, бросил уголек обратно, аккуратно прикрыл дверцу и вернулся на свое место. — Так, так, — негромко сказал он, глотая дым частыми глотками. — Не обидьтесь на меня, мужика, Степан Кузьмич, за поперечное мнение, вы хоть и моложе меня, однако видели в жизни побольше, но попомните то, что я вам скажу: отступать вам придется скоро. Вы сами, Степан Кузьмич, здешний мужик, хоть и лезете в баре, — продолжал Дмитрий Фомич. — Вы нутром должны понимать, что за страшная сила русский мужик, с нею совладать невозможно. Я уважаю Ленина, он наш, российский, Россию понимает и любит, большевики худа народу не желают, и ваша прямота для меня тоже очевидна, но мы с вами вышли уже из того возраста, когда веришь в сказки и во всякие там кисельные берега… В его голосе прозвучала даже не отцовская, а дедовская какая-то теплота, он посмотрел в окно, где на подоконнике сидел Слава, но так, точно смотрел сквозь мальчика, точно мальчик был прозрачным, точно в темноте перед ним расстилалось такое знакомое и известное ему во всех подробностях Успенское. — Вот Вячеславу Николаевичу простительно верить в мировую революцию. Он, конечно, может поверить, что товарищ Ленин превратит меня в коммуниста, но ведь он же мальчик, ребенок еще, ведь меня всеми огнями жги, а приверженности моей к сохе не выжгешь, я свою Гнедуху в могилу с собой положу, а Ваньке Стрижову не отдам, и вы думаете, это можно во мне изменить? Дмитрий Фомич опять как-то неторопливо и задумчиво смолк. В комнате совсем стемнело. Стояла такая тишина, что Слава слышал, как бьется его сердце. Быстров пошевелился, и Славушка скорее уловил, чем услышал, ответ Быстрова. — Можно, — ответил Быстров шепотом. Но и Дмитрий Фомич услышал его ответ. — Нет, нельзя, — уверенно возразил он. — Мужика переделать нельзя, и вы это знаете. Я наперекор большевикам не иду, но, поверьте мне, сам товарищ Ленин должны будут отступить, жизнь заставит, и вы это увидите. Быстров опять глотнул воздуха, выпрямился за столом и спокойно, так, как говорят обыкновенно учителя, подытоживая какую-нибудь серьезную беседу с учениками, сказал: — Я знаю, Дмитрий Фомич, вы человек честный, иначе мы бы вас в исполком не допустили, запомните и вы меня: наша партия не отступит. Владимир Ильич Ленин никогда не отступал, может, там, наверху, и есть люди, которые рады отступить, но отступления не будет. Я скажу даже больше: на жизнь Ленина могут покушаться, хоть и страшно об этом подумать, но правду его не убить, всех коммунистов не убить… Дмитрий Фомич вдруг засуетился, засуетился еще до того, как Быстров договорил, принялся запихивать в ящики стола папки с бумагами и запирать ящики ключами, которые висели у него на одной связке с ключами от домашних сундуков и амбаров, сунул ключ в карман, поправил на голове старую фуражку с бархатным околышем, подаренную ему еще до войны каким-то чиновником, и пошел к выходу. — Вы меня извините, Степан Кузьмич, — проговорил он на ходу, устремляясь к двери. — Совсем было запамятовал. Сегодня на селе сход, подводы будут наряжать за лесом для школы, не придешь, не посмотрят, что секретарь волисполкома, так занарядят, что и за две недели не отъездишься. — А ты чего молчишь? — спросил Быстров мальчика. — Сидишь и молчишь, точно мышонок? — Так я с вами… — Слава сконфуженно запнулся. — Так я же с вами согласен! — А если согласен, — сказал Быстров уже с раздражением, — чего же молчишь? — Он укоризненно покачал головой. — Так, брат, не годится. Ежели согласен, спорь, действуй, партии молчальники не нужны. 43 Приближался двадцатый год. Слава Ознобишин ездил по деревням, организовывал комсомольские ячейки, открывал избы-читальни, искал у кулаков хлеб, ссорился с учителями… С учителями здорово ссорился! Они хотели обучать детей. Только. А Слава именем революции требовал, чтобы они устраивали митинги, выступали с лекциями, ставили спектакли. Да и мало ли чего от них требовал, требовал, чтоб они занимались политикой, а им политика была ни к чему. По ночам Слава составлял планы мировой революции. В волостном масштабе. Но мировой! Потому что чтение газет неграмотным старухам тоже часть мировой революции. Как-то Саплин задержался в Успенском, он чаще всех наведывался в волкомол по делам, связанным с защитой подростков, все сироты и полусироты, все батрачата искали его в исполкоме. Быстров даже распорядился отвести ему место в земотделе, — засиделся до вечера, не успел к себе в Критово, и Слава, хоть и с нелегким сердцем, можно ждать язвительных замечаний Павла Федоровича, привел Саплина к себе ночевать. Саплин лежал на лавке, на каких-то тряпках, постеленных Надеждой, подложив под голову подушку Славы, принесенную из комнаты, посматривал черными маслеными глазами на Федосея, сожалея, возможно, что тому не четырнадцать лет, вот бы он тогда показал Астаховым! — Хочешь, взыщу с твоего хозяина пудов десять хлеба? — предложил он вдруг Славе. Слава оторвался от сборника одноактных пьес, подбирал репертуар для школьных спектаклей. — Какого хозяина? — Этого… Саплин кивнул на дверь, и Слава понял, что имеется в виду Павел Федорович. — Какой же он мне хозяин? — Не тебе, твоему брату. Знаю, как он тут батрачит… — Не вмешивайся, пожалуйста. Слава поморщился: Саплина постоянно приходится осаживать, Слава предпочитал разговоры на отвлеченные темы. — А ты задумывался, — спросил он, — что такое счастье? Саплин потянулся, попросил: — Подай-ка воды… Напился, поставил ковшик на стол. — Я счастливым стану года через четыре, — уверенно сказал он. — Вступлю в партию, получу должность, женюсь… Слава ничего не сказал в ответ, не хотел ссориться, вместо этого обратился к Федосею: — А ты, Федосыч, счастлив? — Ясное дело, — ответил тот, отрываясь от плетенья веревочных чуней. — Все мое при мне. Ах, Федос Федосович! И ведь он прав! При нем его жена и его чуни, сейчас он кончит их плести и завтра будет с сухими ногами… Утром Слава выпроводил Саплина пораньше; когда Павел Федорович появился в кухне, того и след простыл, но Павел Федорович, оказывается, не только знал о пребывании Саплина, но и не высказал никакого осуждения. — Чего ж отпустил товарища без завтрака? — спросил он. — Слыхал о нем, башковитый парень, с такими знакомство стоит водить. Новый год Вера Васильевна неизменно встречала с сыновьями, такую традицию завел еще Николай Сергеевич Ознобишин. К встрече он всегда покупал шипучую ланинскую воду и, к восторгу сыновей, притворялся пьяным, и на этот раз Вера Васильевна тоже сочинила какой-то напиток из сушеных вишен, а к вечеру сбила суфле из белков и варенья. Но жизнь, как обычно, нарушила мамины планы. Совсем стемнело, когда появился Быстров. В бекеше, перешитой из офицерской шинели, в казачьей папахе, с прутиком в руке. — Извиняйте, за Славушкой! Бедная мама растерянно отставила в сторону суфле. — Как же так… Неужели вы занимаетесь реквизициями даже в новогоднюю ночь? — О нет! — Быстров засмеялся. — Просто приглашаю вашего сына встретить Новый год со мною и Александрой Семеновной! Вера Васильевна облегченно вздохнула, Новый год ее сыновья всегда встречают с нею. Славушка виновато посмотрел на Веру Васильевну. — Мама… Я не знаю… Он уже решил ехать, она это поняла, но мало того, ему еще хотелось, чтобы мать одобрила его решение. — Чего ты не знаешь? — Помолчала. — Поезжай… У крыльца переминался буланый жеребец, запряженный в розвальни, зимой Степан Кузьмич мало езживал на Маруське, берег ее, но и жеребец неплох, Быстров не любил тихой езды. Два тулупа валялись в розвальнях, Быстров закутал Славушку, закутался сам, и только снег полетел от копыт, доехали до Ивановки меньше чем в полчаса. Александра Семеновна встретила Славушку у дверей, ввела, раскутала, посадила у печки. — Я соскучилась по тебе. У стены свежесрубленная елка, без украшений, без свечей, только хлопья ваты набросаны на ветки. В углу на полу клетка с наброшенным на нее шелковым синим платком. — Спит? — Спит. Все как было. Только над столом фото в рамке, моложавый офицер, усы колечками, дерзкий взгляд. — Мой отец… Сама Александра Семеновна все переходит с места на место, то у стола постоит, то у печки, то поправит тарелку, то переложит вилки, не суетится, но беспокойная какая-то, а Быстров спокоен, снисходителен. Стол накрыт к ужину: сало, огурцы, винегрет, все аккуратно нарезано, разложено по тарелкам, самогонку Быстров принес откуда-то из сеней. — И еще курица. — Пируем! — И пирог. — Съедим! Степан Кузьмич налил с полстакана себе и понемногу жене и Славе. — Выпьем? — За что? — За генерала! — Быстров посмотрел на фотографию. — За генералов, которые пошли вместе с народом. Он выпил самогон и стал обгладывать куриную ногу. После ужина Быстров принес кожаный чемодан, протянул Славушке. — Это я тебе. Вроде подарка. Чемодан полон бумаг, пожелтевших, исписанных. — Из Корсунского, — объяснил Быстров. — Там таких бумаг на антресолях полным-полно. Вся княжеская жизнь… Слава принялся перебирать бумаги. Семейная переписка русской аристократической семьи. Письма, написанные столетие назад, и письма, написанные во время последней войны, письма, посланные из заграничных путешествий, и письма, посланные с фронта… Пожалуй, эти письма интереснее любого романа. Листок тонкого картона с виньеткой, раскрашенной акварелью. Протянул карточку Александре Семеновне. — Что это? — поинтересовался Быстров. — Меню царского ужина. — Что же ели цари? — Седло дикой козы. Спаржа. Парфе… — За дикими козами и мне приходилось охотиться, — похвастался Степан Кузьмич. — А вот парфе… — Что такое парфе? — Что-то вроде мороженого… — Парфе у тебя нет? — Есть овсяный кисель… Кисель из овсяных высевок делали по всей деревне. — Давай, давай! Кисель чуть горчил, запивали его холодным молоком, и кисель показался не хуже царского парфе. Быстров кивнул на чемодан с бумагами. — Тоже в какой-то степени наше прошлое. Александра Семеновна неуверенно взглянула на мужа: — А княгиня не оскорбится, что кто-то копается в ее письмах? — Княгиня теперь в Питере… — Быстров нехорошо усмехнулся. — Давали возможность жить, не захотела. Утряслась к своей питерской родне… После смерти Алеши Степан Кузьмич резко изменил свое отношение к Корсунским, сперва мирволил, добром поминал свою службу у них, а после нелепой демонстрации, устроенной Корсунской, приказал ей убраться из волости «в двадцать четыре часа». — Ты знаешь, что она мне сказала? — вдруг вспомнил Быстров. — Приезжаю, говорю: «Что же это вы натворили?» А она мне: «Вот что делает ваша революция!» — «А что она делает?» — спрашиваю. «Убивает детей!» — «Так это же вы, — говорю, — его убили…» А она знаешь что в ответ? «Вам не понять, что такое в нашей среде принципы…» Самогона больше не было, он залпом выпил стакан молока. — А теперь по домам. Пошел за лошадью. Александра Семеновна тоже оделась. — А ты куда? — удивился Быстров. — С вами… Ему понравилась эта затея, он закутал и Славушку и жену в тулупы, сам стал в санях на колени и помчал. Ветер был в лицо, снежная пыль оседала на лица. Степан Кузьмич домчал до Успенского в какие-нибудь полчаса. Все спало в доме Астаховых. Славушка постучал по стеклу, за окном кухни кто-то завозился, зашаркал в сенях, брякнула щеколда, Надежда открыла дверь. — Полуночничаешь? — сказала беззлобно, в полусне. Слава тихо вошел в комнату. Луна лила в окна призрачный белый свет. Петя весело посапывал, точно бежал во сне. Мама тоже спала. На столе стояло блюдечко с суфле, оставленное для Славушки. Он подошел к матери. Лунный свет освещал ее. Рука лежала поверх одеяла. Славушка наклонился и поцеловал руку. Мама не шевельнулась. Спит или обиделась?… Разделся, лег на кровать и закутался с головой, чтоб скорее заснуть. Но и сквозь одеяло слышал, как постукивают за стеной часы: «Тук-тук, тук-тук…» Наступил Новый год. Двадцатый год. 44 Февральские тени бегут за окном, то серые, то голубые, вспыхивает солнце и, дробясь в оконном стекле, пробегает по выцветшим обоям, перелом к лету еле ощутим, но нет-нет да и пахнет весной, особенно по воскресным дням, когда можно не идти в школу. Вера Васильевна выходит в галерейку. Все идет своим чередом. Бегает по двору Надежда, постукивает где-то молотком невидимый Федосей, что-то заколачивает или приколачивает, стучит ножом в кухне Марья Софроновна, готовит завтрак: «Два кусочка — вам, вам, два кусочка — нам, нам…» Вера Васильевна дышит чистым воздухом, которого обычно не замечает. Спокойно и свежо, почти как в Москве в погожие зимние дни. В комнату входит Павел Федорович, в руке у него ведро. — Вот я тут вам сахарок принес. Дальше как знаете. Осталось около пуда. Всего в доме восемь человек, трое вас, трое нас, Марья Софроновна на сносях, так что дите тоже считаю, да Федосей с Надеждой. По четыре фунта на душу. На будущее прошу не рассчитывать… Павел Федорович с минуту стоит, точно ждет каких-то вопросов или возражений, и выскальзывает за дверь. Вера Васильевна ставит ведро на стол. — Вот вам, ребята, и сахарок. — Что ж, дели, — говорит Славушка. — То есть как делить? — удивляется Вера Васильевна. — Кому делить? — На троих, — предлагает Славушка. — Зачем же делить? — еще больше удивляется Вера Васильевна. — Мы же вместе… — Так тебе вообще ничего не достанется, — объявляет судейским тоном Славушка. — Нет уж, дели, каждому свое… Он настоял, сахар стаканом поделили на три равные доли, и свою Славушка спрятал в этажерку. — Не понимаю, — еще раз сказала Вера Васильевна. — Раньше ты не отличался скупостью… Поэтому пили чай врозь, Вера Васильевна и Петя вдвоем и отдельно Славушка. А дня через четыре обнаружилось, что Славушка пьет чай без сахара. — Неужели ты съел весь свой сахар? — удивилась Вера Васильевна. — Съел, — подтвердил Славушка. — Какой ты сластена! — упрекнула сына Вера Васильевна и тут же пожалела его, придвинула к нему вазочку с сахаром. — Возьми у меня. Славушка решительно отодвинул вазочку. Еще позавчера он незаметно достал свой пакет из этажерки и принес в волкомол, ребята как раз собрались на очередное заседание. — У меня для вас сюрприз, — заявил он, открывая заседание. — Тут немного сахара, надо бы его поделить… Члены волкомола оживились, давно уже они не видали сахара. — Откуда это у тебя? — подозрительно спросил Сосняков. — Откуда бы ни было, — ответил председатель волкомола. — Сахара хотите? — Разделим, — предложил Терешкин. — Откуда бы он ни взялся! — А все-таки где ты его достал? — допытывался Сосняков. — Какой-нибудь документ на него есть? — Какой там еще документ! — разозлился Славушка. — Дают — бери, а не рассуждай. — Нет, так нельзя, — возразил Сосняков. — Все должно быть по форме. — Ну и буквоед ты! — огрызнулся Славушка. — Не хочешь — не бери. — Мы вправе знать, что это за сахар, — настаивал Сосняков… Не мог Славушка признаться, что отдает собственный сахар, но тут его осенило. — Быстров дал, вот откуда, — объяснил он не без насмешки. — Пойди спроси, откуда у него сахар. Пойти к Степану Кузьмичу Сосняков не осмелится, Быстров Соснякову не подконтролен. — Так бы и сказал, — миролюбиво согласился Сосняков. — У кого-нибудь из кулаков конфисковал, при обыске, не иначе. — А откуда ж еще, — подтвердил Славушка. — Давайте разделим — и за дела. Сосняков придвинул к себе пакет, вывалил из деревянной плошки канцелярские кнопки и принялся рассыпать сахар на ровные кучки. — Это тебе, это тебе, это тебе, а это мне… Сахар он поделил с аптекарской точностью, и почему-то сахар этот сделался Славушке неприятен, он свернул бумажный кулек, ссыпал в него свою долю. — А я что-то не хочу сахара, — сказал он. — Отнесу его дяде Грише. 45 В феврале к Астаховым нагрянул странный посетитель, сухощавый человек, в аккуратной серой шинели, с брезентовым вещевым мешком за спиной и с рукой на черной перевязи, какой-то опоздыш минувшей военной осени. Не спеша приблизился к дому, постоял в галерейке, дождался Павла Федоровича. — Мне бы Астахову Веру Васильевну… — А вам на что? — А уж это ей я скажу. Пришлось Павлу Федоровичу вызвать невестку. — Я от Федора Федоровича… — Он вопросительно оглянулся. — Заходите, заходите, — обрадовалась Вера Васильевна. — Я очень рада. Павел Федорович потянулся было за ними. — А вы кто, простите? — неприязненно поинтересовался незнакомец. — Брат, — обиженно представился Павел Федорович. — Да и хозяин, так сказать… — Это неважно, — ответил незнакомец. — Мне с глазу на глаз… Славушка был как раз дома, когда мама ввела гостя в комнату. — Сын? — догадался гость. — Федор Федорович говорил… — Вы надолго? — На самое короткое время. — Переночуете? — Нет. — Чаю хотя бы?… — От чая не откажусь… Сух, лаконичен, четок, почему-то медлит, не начинает разговора. Вера Васильевна накрыла на стол, принесла молока, хлеба. — Григорьев моя фамилия, вообще-то я учитель. Служил с вашим мужем в одном полку, только он по строевой, а я по политической части… Он не спешит, Вера Васильевна налила чаю, пододвинула молоко, сахар. — Ешьте, пожалуйста. — Спасибо. Мы с товарищем Астаховым вместе находились при отступлении… — Говорит и недоговаривает. — Из Полтавы. Впрочем, он отступал, а меня оставили по некоторым соображениям в тылу… Прихлебнул чай, и тут Вера Васильевна все поняла, и — что самое удивительное, что поразило Славушку, — не удивилась, столько уже смертей прошло на ее глазах, лишь с одной смертью не могла примириться, со смертью первого мужа, не мог Федор Федорович заменить ей Николая Сергеевича. Федор Федорович существовал для помощи в борьбе с тяготами жизни, а Николай Сергеевич и после смерти оставался источником любви. — Вы хотите сказать… — все-таки она запнулась: — Вы хотите сказать, что Федора Федоровича нет в живых? — Точно, — словно обрадовался гость. — Я был оставлен в тылу, перешел, так сказать, на штатское положение, а товарищ Астахов в арьергарде армии отбивал атаки наступающего противника и, простите, попал в плен. — Был убит? — Нет, попал в плен. — И что же? — Бывший офицер! Да он и не скрывал этого. Ему, разумеется, предложили покаяться. «А что обо мне подумают мои дети», — ответил он. Предали военно-полевому суду. Для внушения и острастки суд устроили гласный: «За измену царю и отечеству предается смертной казни через расстреляние…» За стеной кто-то шуршал: Павел Федорович, может, и посовестится, но Марья Софроновна подслушивала наверняка. Гость пил чай и продолжал рассказ все с тою же обстоятельностью: — В Полтаве в те поры проживал Владимир Галактионович Короленко… — Тут гость слегка улыбнулся. — Великий писатель и еще более великий человек. Посоветовались мы в подполье, обратились к нему, просили похлопотать, и хоть это было рискованно даже для такого человека, как Владимир Галактионович, он поехал в контрразведку, и в штаб… — И ничего не получилось? — Да, даже просьба Короленко не возымела действия. Казнь происходила публично. Народу было немного, но я присутствовал. Его поставили у ограды сада, какая-то женщина подала ему кулек со сливами, и он взял, ел. Офицер, командовавший исполнением приговора, спросил, нет ли у него последней просьбы, он посмотрел на немногочисленных зрителей и сказал, что, если кто из местных жителей возьмется передать его жене кольцо и записную книжку, будет очень признателен. Тут выступил я. «Вы кто?» — спросил офицер. «Учитель», — сказал я. «Что ж, примите поручение», — разрешил офицер. Федор Федорович снял с пальца кольцо, подал записную книжку, я отошел, ему предложили завязать глаза, он отказался и, как мне почудилось, попытался даже улыбнуться… — Его расстреляли? — Да. Гость достал из кармана завернутые в носовой платок записную книжку и кольцо и подал их Вере Васильевне. — Я уже на мирном положении, заведую губнаробразом, еду в командировку в Москву. Сошел с поезда, счел своей обязанностью… — Он опять запнулся и повернулся к Славушке: — У тебя был достойный отец… Побыл он в Успенском недолго. — Извините, тороплюсь, не хочу терять время. — А как же вы? — Дойду, не впервой, пешочком. Вера Васильевна попросила Павла Федоровича отвезти Григорьева на станцию, но Павел Федорович категорически отказал: — Не могу, овса нет, на носу весна. Тогда Вера Васильевна спросила сына: — Ты что-нибудь придумаешь? Слава побежал в исполком, и Степан Кузьмич дал лошадь до Змиевки. Вера Васильевна овдовела вторично. Окружающие удивлялись, а может быть, и осуждали ее за то, что она не выражает никакого отчаяния. Славушка даже с удовлетворением отметил про себя, что Федор Федорович не смог заслонить в сердце мамы его отца. Но ночью, глубокой ночью, Славушку что-то разбудило. Он не мог понять что. Часы за стенкой привычно отсчитывали время. Непроницаемая, безмолвная тишина. Слава поднял голову, прислушался. Плакала мать. Совсем неслышно. Петя, услышав о гибели отчима, плакал долго и безутешно, по-детски всхлипывая и вытирая кулаками глаза. Смерть эта, пожалуй, глубоко затронула и Славу. Перед смертью отчим назвал его сыном. «Не хочу, чтобы мои дети плохо думали обо мне», — сказал он. Слава будет гордиться отчимом так же, как и отцом. 46 Славушка часто пенял на скуку в избах-читальнях. Избы существовали обычно при школах, иногда снимали помещения у солдаток, у вдов. Средств не было, платили хозяйке мукой, утаиваемой для местных нужд из гарнцевого сбора: пуд, полпуда, а то и меньше. Скучновато в этих избах: ну книги, ну чтения вслух… Вот достать бы в каждую читальню по волшебному фонарю! Но фонари — мечта… И тогда Быстров издал декрет, закон для Успенской волости: постановление исполкома о конфискации всех граммофонов, находящихся в частном владении. Постановление приняли поздно ночью на затянувшемся заседании. Утром Степан Кузьмич торжественно вручил Славушке четвертушку бумаги: — Действуй! Во всей волости четыре граммофона: у Заузольниковых, у критовского попа, в Кукуевке и в Журавце. Мигом понеслись указания по комсомольским ячейкам, закон есть закон, и вслед за указанием загремели из красно-синих труб романсы и вальсы, Варя Панина и оркестр лейб-гвардии Кексгольмского полка… Но еще решительнее поступил Быстров, когда кто-то вымазал дегтем ворота у Волковых. По селу ходила сплетня, что одна из молодаек у Волковых не соблюла себя, когда муж ее скрывался от мобилизации в Новосиле. Мужики шли мимо и посмеивались, а волковские бабы выли, как по покойнику. Крики донеслись до исполкома, благо хата Волковых чуть не напротив, и председатель волисполкома вышел на шум. Сперва он не понял, в чем дело: — Подрались? Но едва подошел к избе и увидел баб, соскребывающих с ворот деготь, закричал: — Сход! Собрать сход! Сейчас же позвать Устинова! Он не отошел от избы, пока не появился перепуганный Устинов. — Что это, Филипп Макарович? — Баловались ребята… — Немедленно сход! — Да по какому поводу, Степан Кузьмич? — Слышал?… Он заставил мужиков собраться в школу посередь дня, ни с кем и ни с чем не считаясь, сами волковские бабы хотели замять скандал, но Быстрова уже не унять. Мужики пришли, недоумевая, не веря, что их собрали потому, что кто-то из ребят посмеялся и вымазал бабе ворота, и притом не без основания: кто же станет мазать ворота зря? Спасать положение кинулся Дмитрий Фомич, принес подворные списки. — Вы уж заодно о весеннем севе, о вспашке, — подсказывал он вполголоса, — о тягле, о вдовах, о семенах… Но Быстров, оказывается, не сгоряча собрался беседовать с мужиками. — Уберите, — приказал он секретарю. — О тягле и вдовах они сами решат, а я об уважении к женщинам. И сказал речь! — Большевистская, советская революция подрезывает корни угнетения и неравенства женщин, от неравенства женщины с мужчиной по закону у нас, в Советской России, не осталось и следа, дело идет здесь о переделке наиболее укоренившихся, привычных, заскорузлых, окостенелых порядках, по правде сказать, безобразий и дикостей, а не порядков. Кроме Советской России, нет ни одной страны в мире, где бы было полное равноправие женщин и где бы женщина не была поставлена в унизительное положение, которое особенно чувствительно в повседневной семейной жизни. Мы счастливо кончаем гражданскую войну, Советская Республика может и должна сосредоточить отныне свои силы на более важной, более близкой и родственной нам, всем трудящимся, задаче: на войне бескровной, на войне за победу над голодом, холодом, разрухой, и в этой бескровной войне работницы и крестьянки призваны сыграть особенно крупную роль… Вы согласны со мной? — спросил он неожиданно. Спорить с ним не осмеливались, да и возразить нечего! — Так какая же сволочь позволила себе вымазать ворота? Предупреждаю: если кто еще сотворит подобное, собственными руками расстреляю. И все поторопились разойтись, потому что чувствовали себя в присутствии Быстрова очень и очень несвободно. Слава пошел в Нардом. Андриевский по-прежнему ставил спектакли, привел в порядок библиотеку, устраивал вечера… Он посмеивался, когда Славушка искал политическую литературу, она не пользовалась спросом, и Славушка нарушал порядок, лазая за ней по верхним полкам, куда запихивал ее Андриевский. — Надо быть не таким, как другие. Независимость — удел немногих, это преимущество сильных… Он дал мальчику «По ту сторону добра и зла». — Поверьте мне, это философия будущего. Дома у конопляной коптилки Славушка пытался читать книжку, но не мог, его пугали презрение и ненависть Ницше к людям. — С кем это ты борешься? — спросила Вера Васильевна, взяла книжку и тут же положила обратно. — А!… Ты знаешь этого писателя? — Этим философом увлекались адвокаты и литераторы. — А ты читала? — Я мало его читала, мне он несимпатичен. — А папе? — Мне кажется, тебе должно быть ясно, что твой отец не мог быть поклонником такой философии, оставь Ницше в покое, давай лучше чай пить… Теперь они пили чай у себя в комнате, а не на кухне, после смерти брата Павел Федорович все чаще давал понять Вере Васильевне, что положение изменилось, они уже не Астаховы, а опять Ознобишины, — должно быть, боялся, что Вера Васильевна потребует дележа имущества. После известия о гибели Федора Федоровича он попросил Веру Васильевну поменяться комнатами, свою, узкую и меньшую, отдал ей, а залу занял сам. «Ждем сына, сами понимаете». К концу марта Марья Софроновна родила сына. Ребенок болел, пищал и не давал по ночам спать, но Павел Федорович был горд необыкновенно. Петя пил чай по-мужицки, сопел, макал хлеб в сахар и сосредоточенно прихлебывал с блюдечка. Славушка пил вприкуску с корочкой. — Возьми сахар, — сказала Вера Васильевна. — Не надо было делиться… Славушка помялся, помялся и взял ложечку. Ницше отложен, чай выпит, можно и на боковую. Марья Софроновна тянула за стеной колыбельную. Качь, качь, качь, качь, Ты, мой маленький, не плачь, Ты, мой маленький, не плачь, Я куплю тебе калач, Я калач тебе куплю, Свово сыночку люблю… Калача нет, ребенок не спит, плачет, надрывается… Морковный чай с сахаром. Морковный чай без сахара. Сахар он роздал и ничуть о том не жалеет. Завтра Славушка обещал пораньше прийти в Журавец, назначил на завтра собрание, комсомольцы собираются своими силами вспахать яровой клин солдаткам и вдовам. Утром вскакивает не выспавшись. — Ты куда? — В Журавец. — Очень ты там нужен… Мама достает чайник, завернутый в тряпки, тепло в нем сбережено еще с вечера, Славушка пьет опять с маминым сахаром, наспех одевается, и пошел, пошел… Поднялся на бугор, вышел на дорогу, чуть подался вправо. Поле окатистым увалом падало в овраг, к реке. Влево расстилалась такая ширь, что не на чем остановить взгляд. Поле, и поле, и поле, и просинью по полю мягкие иголочки озимой ржи, и серое небо, и так день за днем, покамест не рассыплется небо снегом. Ветер бьет в лицо, и мальчик ощущает надвигающийся снег, бьют в лицо запахи горячего хлеба, теплого навоза и холодной антоновки… Дорога вся в мокром тумане. Близка весна, вот-вот побегут ручьи по дорогам, и, увязая в грязи, люди устремятся в поля. 47 Вера Васильевна еще утром сказала сыну: — Ты сможешь сегодня вечером проводить меня в Козловку? Хочу навестить Франков и вернуть книги. Они уехали сразу после обеда. Павел Федорович согласился дать лошадь. Дал, конечно, Орленка, мерин ни на что уже не годен. Петя запряг Орленка в дрожки, Павел Федорович ходил по двору, с опаской посматривал, как бы невестка не позвала Петю с собой, для Пети всегда есть работа, но Петя не хотел ехать с матерью, не по нем целый вечер томиться и слушать, как разговаривают разговоры, пусть за кучера едет Славушка, он любит поговорить, особенно со взрослыми. «Кнут не забудь, — напомнил Петя брату, — только не очень гони». Славушка подкатил к галерейке. Вера Васильевна вышла с саквояжем, в нем книги, и с корзиночкой, в ней десятка два яиц, гонорар за медицинские советы, с которыми обращались иногда к Вере Васильевне бабы. Славушка аккуратно спустился к реке. Придерживая Орленка, слегка расхомутил, въехал в воду, дал мерину напиться. Осторожно дернул вожжами, чтоб Орленок не рванул, чтоб не обрызгать мать. Затянул хомут. Не так-то уж хорошо, не так, как Петя. Поднялся в гору, шевельнул вожжами. Орленок, напившись, затрусил, как в добрые старые времена. Миновали Кукуевку. Далеко в поле кто-то пахал, пахать поздно уже, перепахивал, должно быть, потравленную озимь, кто-нибудь из работников, сами Пенечкины работали всегда у дороги, чтобы все видели, как Пенечкины трудятся наравне со всеми. Орленок бодро трюхал. Слава обдумывал вопросы классовой политики в Козловке, там недавно организовалась комсомольская ячейка, но не находилось подходящего секретаря. Больше всех для этой роли подходила Катя Журавлева, умная, серьезная и уже взрослая девушка, но у ее отца сад с двадцатью яблонями и две коровы, что несовместимо с постом секретаря. Проехали Черногрязку, где никак не удавалось создать ячейку, очень уж здесь все были маловозрастные, все бы играть в бабки да в лапту. Сколько букварей отправили в Черногрязку, все равно полно неграмотных, а в Козловке не только Катя, но и ее мать знала Гюго, — Катя вслух прочла ей «Собор Парижской богоматери». Дом Франков стоял на отлете. Слава свернул к дому, на двери замок, объехал дом, и там на двери замок, «анютины глазки» синеют на всех клумбах. Славушка поехал к школе, вымытые окна блестели. Вера Васильевна поднялась на крыльцо. Славушка распряг Орленка, навязал путы, хотя мерин и так никуда не уйдет, пустил на лужок, сам тоже пошел в школу. Варвара Павловна говорила Вере Васильевне: — В нашем доме сельсовет собираются поместить, хотели школу в дом перевести, Ольга Павловна не позволила. Теперь живем при школе, в одной комнате… Комната у сестер заставлена мебелью, одна полка в книжном шкафу занята посудой. Одна чашка — высокая, синяя, с розами, с позолотой. Варвара Павловна перехватила взгляд мальчика. — Алексея Павловича чашка, его любимая, севр, кто-то из прадедов лет сто назад привез из Парижа… Поставлю сейчас самовар, а пока пройдем к Ольге Павловне, она в саду, будет рада… Ольга Павловна садовыми ножницами подрезала кусты… — Привезла ваши книги, Ольга Павловна. — Могли не торопиться. — И представь, Оленька, Вера Васильевна привезла еще яиц. — Каких яиц, Варенька? — Понимаешь, подарок, это так трогательно и так щедро… Ольга Павловна проводит рукой по стволу яблони точно поглаживает ее. — Золотой ранет, прелестные яблоки, осенью я вас угощу, так хочется сохранить… Оказывается, Ольга и Варвара Павловны нанялись в сад сторожами, сад перешел в собственность крестьян, и сельский сход нанял бывших владелиц, пока еще сторожить нечего, но сад нуждается в постоянном уходе. — Даже зимой, чтобы снег не обломал веток, чтоб зайцы не обгрызли стволов… — Оленька, я пойду накрою… Вера Васильевна идет с Варварой Павловной. — А я пройдусь со Славой по саду… Вот у кого Славушка хотел бы учиться, Ольга Павловна все знает, но ничему не учит, припомнит кстати, расскажет исподволь — и точно разбогател! Рассказывает о яблонях, о скрещивании сортов, о перекрестном опылении… — Помните Алексея Павловича? Этот сад выращен его руками. — Мама не рискнула выразить Варваре Павловне… — И не надо… — Но как это произошло? — осмеливается спросить Славушка. — Вечером в деревню пришла какая-то воинская часть, на ночевку солдаты расположились и в избах, и в школе, и в помещичьем доме, порядка ради заглянули в подвал, забрали, естественно, оставшиеся яблоки, похвалили нас: «Правильно поступаете, обучаете народ». Расспрашивали Алексея Павловича, почему школа называется «Светлана», рассматривали книги: «Молодец, папаш, сколько перечитал». Утром собрались выступать, но кто-то в деревне назвал Алексея Павловича бароном, привыкли ведь, всегда звали бароном, а тут кто-то: «Как барон?» — «Барон!» — «Настоящий барон?!» Вернулись обратно в дом. «Папаш, ты барон?» — «Барон». — «Что ж ты молчишь, в таком разе, извини, должны мы тебя взять, мы баронов истребляем по всей планете, собирайся, папаш, совесть не позволяет тебя оставить». Алексей Павлович надел бекешу: «Что поделаешь, Варенька…» Солдаты спешили, вывели за околицу и расстреляли, утром кто-то пошел искать корову, а он тут же, за деревней, в логу… Ольга Павловна помолчала. — Кто остался жив, будет в этом году с яблоками. Спросила Славу, кем он собирается стать, и он неожиданно для себя признался, что мечтает о политической деятельности. Ольга Павловна с состраданием посмотрела на мальчика: — Как вы будете раскаиваться… Слава сразу вспомнил, что у него в Козловке дела, неловко извинился, перемахнул через канаву, сад не огорожен, козловские помещики не слишком охраняли свои яблоки, и побежал в деревню. Катю он застал за шитьем. — Готовишь приданое? — пошутил Славушка. — Замуж собираешься? — Нет, я не скоро выйду, — ответила Катя. — У меня другой план. — А в секретари ячейки пойдешь? — На лето, а осенью учиться. — Так учти, Катя, — сказал Славушка. — Волкомол считает, что именно тебе быть в Козловке секретарем. Он еще поболтал с Катей и побежал обратно. Варвара Павловна и Вера Васильевна пили чай… Незаметно стемнело, баронессы заахали: «Как же вы поедете?» — "Какие-то пять верст, — сказал Славушка, — Орленок домчит… — хотел сказать «за полчаса», но не решился, «за час» тоже не решился. — Часа за полтора, — сказал и пошел запрягать мерина. Ольга Павловна вынесла обвязанный бечевкою пакет. — Это из книг, что особенно любил Алексей Павлович… Славушка небрежно сунул пакет в саквояж, лишь много позже оценит он этот дар, «Опыты» Монтеня, первое русское издание 1762 года. Старухи расцеловались с гостьей, Славушка тряхнул вожжами, Орленок даже припустился рысцой. Но едва выехали на дорогу, как очутились в кромешной тьме, ночь как осенью в октябре, небо затянуло облаками, ни звездочки, ни просвета. Дорога шла под уклон, Орленок шагал, как в дни молодости, даже вдруг заржал, точно подбадривал себя, дрожки покатились быстрее. — Ты не очень спеши, — сказала Вера Васильевна сыну, — в такой тьме лучше не торопиться. Колеса совсем утонули в пыли. В лицо повеяло полевой свежестью, потянуло ночным холодком. Славушка снял курточку: — Накинь, мама. Орленок пошел что-то слишком осторожно и вдруг стал. — Ну чего ты?… Пошел, пошел! — Стоит как вкопанный. — Что тебе там попритчилось? — Славушка отдал вожжи матери, соскочил с дрожек, наклонился, — не по дороге ехали, по траве, вправо — трава, влево — трава, где-то мерин свернул с дороги. Поехали обратно. Стало совсем холодно. — Да иди ты, черт! — Слава, не ругайся… Он не ругался бы, если бы не так холодно. Оглянулся, мать сжалась в комочек. Ужасно жалко маму. Если бы этот росинант не сбился с дороги, сейчас подъезжали бы к Успенскому. Колеса как-то необычно зашуршали. Славушка соскочил, пошарил рукой, чуть не обрезался. Осока. Хоть бы луна выглянула, надо ж таким облакам… Откуда здесь взяться осоке? Не растет по дороге в Козловку осока. Сбились где-то с дороги. Перед Славушкой крутой склон, поросший травой, не столько видит глазами, сколько ощущает ногами, понимает, забились в какую-то лощину. Орленок стоит, точно уперся во что-то. — Что делать? — дрожащим голосом спросил Славушка. — Дождемся утра… Славушка ослабил подпругу, хотел распустить хомут, тот и сам расхомутился, развязался ремень, пусть пока щиплет траву, сел обратно на дрожки, придвинулся к матери. До чего все-таки с ней спокойней! Прижался. — Ты положи мне голову на колени… — Ну зачем? — И тут же положил. До чего тепло, пахнет маминым теплом, которого потом так не будет хватать в жизни, и ничего не надо: ни Козловки, ни Успенского. Тихо, одни, снова он на руках у мамы… Славушка проснулся от холода. Все было серо-жемчужного цвета: и небо, и трава, и мамино лицо, и туман, уползающий в глубь лощины. Наступало утро, но страшно было оторваться от мамы. Он преодолел этот страх, самый сладкий страх в жизни, страх утраты любимого существа. Они оказались в узкой лощине, сплошь поросшей травой. Лощина сворачивала под углом, у поворота рос камыш. Там, должно быть, начиналось болото. Всходило солнце, и трава сразу сделалась почти черной, а облака в небе зелеными, точно вобрали в себя все оттенки травы, лишь по самому краю лощины брезжил нежный розовый свет, и неожиданно, — Славушка так и не понял, стояла она там или только что появилась, — в камышах показалась птица, тонкошеяя, с длинным острым клювом, жемчужно-серая. Славушка никогда еще не видал живых цапель, может быть, и видел в зоопарке, но не помнил. Цапля была так необыкновенна, что Славушка забыл и холодную ночь, и страх. Цапля повернулась к мальчику, вытянула голову, встала на одну ногу. Всем существом мальчик вобрал в себя это чудо: зеленые облака, розовое сияние и жемчужно-серую птицу; может быть, он и на свет появился только ради того, чтобы пережить это мгновение. 48 С самого утра все в хлопотах — и Елфимов, и Кобзев, и Слава, и Терешкин. Все сбились с ног, все делали сами: подмели зал, убрали ветками берез, как на троицу, расставили скамейки, на сцене повесили самый красивый задник с изображением летнего леса, взгромоздили самый большой стол, накрыли плюшевой алой портьерой. …Но придет ли кто? Не повторится ли то, что уже случилось? Я да ты, да мы с тобой… — Ну, кажется, все… Английские кабинетные часы в библиотеке отзвонили десять часов: конференция молодежи Успенской волости должна открыться в полдень. Откроется ли? Слава постоял на сцене, осмотрел зал, спрыгнул вниз… Все в порядке! Подозвали Колю Угримова. — Ну как? Угримов усмехнулся. — Сюда бы четверти две самогона! — Я серьезно. — Чего ж еще, — отозвался Коля. — Все на месте. Нет, чего-то не хватает. Но чего — Слава не знает. Опустился на скамейку, втянул голову в плечи, задумался. Ребята часто недоумевают: Славке всегда чего-то не хватает! — Как на свадьбе, — сказал Угримов. — Только б пришли! Нет, нет, все-таки чего-то не хватало! — Славка, Славка! — зовет Васька Носиков, пацан из самых маленьких, учится в третьем классе, но всегда околачивается возле взрослых, шмыгая носом и приплясывая босиком у двери. — Тебя Митька кличет, скорей! — Какой еще Митька? — Комиссар! У крыльца на поджаром мухортом жеребце гарцует бесшабашный Митька Еремеев, волостной военный комиссар, член волостной директории, один из любимцев Быстрова. — Собираете такой митинг, а главное не предусмотрели… Он великолепен — в зеленой фуражке с высоким околышем, в синем доломане с медными пуговицами, в узких малиновых чикчирах… Будто из оперетты. Но он далеко не опереточный персонаж. Его не взяли в армию потому, что он хром, у него нет ступни, об этом мало кто знает, но в семнадцатом году он вышел один навстречу отряду стражников, присланных комиссаром Временного правительства из Орла для усмирения мужиков, затеявшах дележ помещичьих земель, и угрозами и уговорами заставил отряд повернуть обратно в город. Еремеев склоняется с седла, протягивает Славе руку. — Здравствуй. Расстегивает свою гусарскую куртку и вытягивает из-за пазухи полотнище кумача. — Возьми. Лозунг текущего момента. Круто заворачивает жеребца и скачет по аллее среди кустов цветущей сирени. — Чего он? — кричит Терешкин из зала. Славушка разворачивает полотнище. «Все силы на разгром Врангеля!» — Да, не предусмотрели, — сознается он. — Это надо над самой сценой… Теперь все в порядке! Славушка еще раз спрыгивает вниз, еще раз придирчиво осматривает сцену, еще раз перечитывает лозунг и… И все-таки чего-то не хватает! — Чего ты такой сумной? — спрашивает Угримов. — Давай по куску гуся? — Ты что? — возмущается Славушка. — Это же общее! Лозунг очень кстати, но… Товарищи с неудовольствием смотрят на Славушку. И тут появляется Быстров! Крутя веточку сирени, на мгновение задерживается в дверях, окидывает зал внимательным взглядом и подходит к сцене. — Готовитесь? — А вдруг… — Слава недоговаривает. — Придут, — уверенно отвечает Быстров. — Не могут не прийти. Закономерность времени. Молодежь не может быть в стороне. Но вот и Быстров задумывается. — Что, Степан Кузьмич? — Чего-то… не хватает, чего-то здесь не хватает. — Чего? — спрашивает Слава. — Ленина! Быстро, бегом, скажете: я велел. Снимете, и прямо сюда! Бегут все, даже Угримов. Бегут так, точно от этого зависит успех всего дела. Врываются в исполком. — Вы что, очумели? — Степан Кузьмич велел! Осторожно снимают со стены портрет Ленина и торжественно несут… Скорее, скорее! Только бы не поломать раму, не разбить стекло… Моисеев ставит табуретку, Угримов держит портрет, Слава подает проволоку, и Коля укрепляет портрет посреди цветущего леса. Ленин чуть улыбается, портрет колышется, и кажется, что Ленин дышит. — Вот теперь все на месте! — А как же без Ленина? — подтверждает Быстров. — Все вместе, а он впереди! Да, теперь все на месте, и Славушка выходит на крыльцо. Где же делегаты? Указано всем сельсоветам от каждых десяти человек в возрасте от четырнадцати до двадцати прислать своего представителя. Так где же они? Идут! Саплин? Да, Саплин. Но кто еще с ним?… И сколько! Целая ватага… Пять, шесть… десять, пятнадцать… Человек тридцать!… И подальше еще… И еще… Полдень. Народ аккуратный. Молодая Советская власть. Зал полон. Заняты все скамейки. Со стороны поглядеть — смешная аудитория. Двадцатилетние взрослые парни и четырнадцатилетние подростки. Девушек наперечет, только из Успенского да из Корсунского несколько школьниц. Парни в заношенных солдатских гимнастерках, в холстинных рубахах, в чунях, в сапогах никого, подростки одеты получше, есть даже в сапожках, принаряжены мамками и папками. Моисеев записывает делегатов, их уже больше двухсот. Славушка с надеждой поглядывает на Быстрова: — Степан Кузьмич… Но тот бросает их, нескольких ребят, которых приметил и приветил еще с прошлой осени, бросает в глубокую воду. — Я пойду, — говорит он. — Сами справитесь, приду попозже… — Степан Кузьмич!… — Привыкайте к самостоятельности. — И уходит… Славушка чувствует себя капитаном на тонущем корабле среди бурного моря… Делегаты все подходят и подходят. Моисеев регистрирует. — Товарищи, конференцию молодежи Успенской волости… «Интернационал». Вчера Славушка целый день зубрил текст, до сих пор знает нетвердо: «Вставай, проклятьем заклейменный…» Потом — «Молодая гвардия». Выборы президиума. «Называйте, товарищи, кандидатов…» Как бы не так. Тут он едва не совершил крупную политическую ошибку. «Кто намечен в президиум?» — спросил вчера Быстров. «Кого назовут…» — «Ты что, в уме? Пустить на самотек? Да еще перед беспартийными? Нет, так не делается. Заранее наметьте кандидатов, и пусть кто-нибудь с места предложит список…» Вчера же вечером наметили президиум. Список у Моисеева. «Какие у кого предложения?» — «Ваша фамилия? Моисеев?… Слово товарищу Моисееву». Повестка дня — «Текущий момент и задачи РКСМ, докладчик товарищ Ознобишин. Экономические задачи РКСМ, докладчик товарищ Саплин. Культпросветработа, докладчик товарищ Сосняков»… Ох, не хотелось выпускать Соснякова в качестве докладчика, он и без того норовит забежать вперед, но невозможно — корсунская ячейка вторая по значению в волости. Затем — текущие дела и выборы. Состав волкомола опять же намечен еще вчера, но Степан Кузьмич оставил список у себя: «Оставь у меня, мы еще тут, в волкоме, подумаем». И в заключение спектакль. Перед спектаклем, перед выборами — самая важная часть всей конференции. «Кто хочет вступить в комсомол, может записаться… Всех примем тут же, на конференции». Еще выступление Степана Кузьмича. Хорошо, если бы он выступил до перерыва, он умеет зажечь. После его речи запишется гораздо больше народа. И — гуси! В Журавце собрали в счет продразверстки гусей, и волисполком вынес постановление передать гусей волкомолу на питание делегатов. Дядя Гриша с помощью двух баб с утра жарят этих гусей на кухне. Даже сюда, в зал, доносится привлекательный запах жареной гусятины. Когда кормить делегатов? В перерыве или перед спектаклем? Впрочем, там будет видно… Пора, зал полон! Вчера еще послушные дети, сегодня — готовы к борьбе. Слава оглядывает собрание. Ничего-то они не понимают. Да и сам он немного понимает. А ведь они вступают в революцию, чтобы идти победным маршем к сияющим высотам социализма, через смерти, лишения и невзгоды… — Товарищи, конференцию молодежи Успенской волости… Все идет как по маслу. — Слово для доклада предоставляется товарищу Ознобишину. Тут он выдает! И Вилли Мюнценберга, и Лазаря Шацкина! «Коммунистический манифест» и книгу Чичерина по истории юношеского движения. Своими словами пересказывает последнюю речь Ленина, которую недавно прочел в газете, — газету так и не удалось ни выпросить, ни украсть, — Ленин выступал перед рабочими фарфоровых заводов, — поляки начали новое наступление, крымские белогвардейцы усилили сопротивление, бакинский пролетариат взял власть в свои руки, на Кубани обнаружены громадные запасы хлеба, бакинская нефть и кубанский хлеб приближают нашу победу… Слова сразу становятся весомыми, стоит лишь наполнить их реальным содержанием! Слава заканчивает доклад под аплодисменты. Аплодируют всем, кто не говорит об изъятии хлеба. Саплин перегибается через стол: — Вопросы есть? — Гусятину скоро раздавать будут? Вопрос не четырнадцатилетнего школьника, а парня, которому пора в армию. — А тебе что, закусить нечем? — бросает в ответ Сосняков. Все смеются, и Саплин приступает к докладу. Об экономической политике говорит мало, но он наперечет знает всех батраков в волости, их судьбу и все случаи нарушения их прав. Сосняков, наоборот, обрушивает на слушателей ворох прописных истин… Во время выступления Соснякова появляется Быстров, все ждут от него речи, и он ее произносит, но, увы, не обычную громокипящую речь, а какое-то школьное поучение: надо учиться, прислушиваться к старшим товарищам, помогать Советской власти, выявлять продовольственные излишки, пополнять ряды армии… Все верно, но не такой речи ждал от него Слава, — не Робеспьер в Конвенте, а добрый дед на завалинке! В самом зале охотников выступать не находится — и непривычно и боязно, кто постарше посмеиваются, помладше робеют. Быстров посоветовал объявить перерыв: — Дайте обтерпеться, покормите, на сытый желудок люди смелее… Дядя Гриша в дверях кухни каждому участнику конференции выдает кусок гуся и ломоть хлеба. Не обошлось без накладочки, на лужайке запели: Ах, яблочко, Да на тарелочке… Ах, маменька… Парни из Коровенки прихватили самогонки и даже угостили Саплина. Сосняков кинулся к Быстрову. Но не успел тот выйти на крыльцо, ребят как ветром сдуло. Моисеев зарегистрировал свыше трехсот делегатов, и большая часть из них вступила в комсомол, подходили в перерыве к Моисееву, брали листок бумаги и тут же писали заявление. Волкомол собрался в библиотеке. Всех, подавших заявления, решено принять в комсомол, поэтому после перерыва объявили, что конференция молодежи окончилась и начинается комсомольская конференция, на которой, впрочем, разрешается присутствовать и беспартийным товарищам. Волостной комитет выбрали так же, как и президиум, по списку, полученному Моисеевым от Быстрова. «Кто за список?» «Кто против?» — после чего Кира Филипповна стала играть танцы, а Виктор Владимирович гримировать артистов. 49 Мельница являлась как бы вершиной астаховского благополучия, мельница превращала Астаховых из сельских хозяев в промышленников, и, хотя она бездействует, хотя она сейчас лишь памятник минувшему благоденствию, до сих пор она венец всех надежд. Быстров вознамерился пустить мельницу сразу после установления в Успенском Советской власти. Если будет пущена, Успенское превратится в притягательный центр не только для крестьян ближних деревень, но и соседних волостей, и насколько исполком заинтересован в ее работе, настолько Павел Федорович заинтересован в ее бездействии. Для пуска требовалась нефть, в губернии нефти мало, но Степан Кузьмич соображал так: как только мельница станет действующим предприятием, начнут снабжать горючим. Лиха беда — начало! Волисполком принял решение пустить мельницу; нефти нет, но должна быть, какое-то количество нефти было завезено, не вылили же ее на землю, собственники не расстаются со своим добром, нефть где-то спрятана, ее надо найти… Создали комиссию в составе неподкупного и решительного Еремеева, умного и осторожного Данилочкина и законника и хитреца Никитина. Эти должны найти нефть, не могли они не перехитрить Астахова. Дмитрий Фомич и сказал Славушке о комиссии: — Поди предупреди своего, кем он тебе доводится? Не хотелось Славушке вмешиваться в эти дела, он нейтральная сторона, хлеб-то он ест все-таки астаховский, и хоть Павел Федорович особенно не балует своих родственников, но и не отказывает в самом необходимом. Но когда пришел домой, там все уже знали о решении, Веры Васильевны оно мало касалось, зато Павел Федорович с женой метались по двору, будь их власть, они встретили бы комиссию баррикадами. Только что же это за комиссия?! Митька Еремеев, Никитин Дмитрий Фомич и Данилочкин. Военком Митька, секретарь исполкома и представитель земотдела. Все такие обычные и хорошо знакомые… Они постояли в галерейке, посовещались. Павел Федорович вышел к ним из сеней. Пергаментное его лицо стало еще пергаментней, голову обтягивал пергамент особой выделки, терракотовый и блестящий. — Почтение, кого не видал… — Вот что, гражданин Астахов, — сурово произнес Митька, напуская на себя строгость. — Волисполком постановил пустить вашу мельницу… — Мельница-то моя? — Была, да сплыла. Реквизирована еще в позапрошлом году. — Национализирована, — поправил Дмитрий Фомич. — Какая разница? — возразил Митька. — Все одно. — Пускайте, — любезно ответил Павел Федорович. — Только ведь там двигатель, в нем разобраться надо. — А мы механика вызвали, — ответил Митька. — Из Дросковской области, он разберется. — Ну и действуйте, бог в помощь, — негромко сказал Павел Федорович. — Я-то при чем? — А при том. На собственном газу его не запустишь! Нефть нужна, гражданин Астахов. Нефть! — У Нобеля в Баку ее достаточно… — А вы не издевайтесь, нам нужна ваша нефть. — А у меня ее нет. — А ежели есть? — А ежели нет? Так они, Павел Федорович и Митька, препирались минуты две или три, и Митька начал выходить из себя, вот-вот запустит какое-нибудь витиеватое и богопротивное ругательство. — Однако вы тоже войдите в наше положение, — пришел на помощь Митьке Дмитрий Фомич. — С волости требуют муку и будут требовать, да и самим мужичкам требуется, одними ветряками не обойтись, тем более что контроль там почти невозможен… — А я сочувствую, — сказал Павел Федорович. — Но ведь нефти из себя я не выдавлю? Петька и Данилочкин переглянулись. — В таком разе… Данилочкин подал Павлу Федоровичу бумагу. Вот оно! — "Мандат, — прочел Павел Федорович. — Комиссии в составе… поручается полный обыск во всем хозяйстве, как во всех надворных постройках, так и на земельном участке, на предмет выявления сокрытия нефти…" — Павел Федорович вскинул на Митьку глаза: — Вы что, бурить будете или как? — Чего бурить? — Да ведь нефть буреньем, если не ошибаюсь, добывают? Руки Павла Федоровича все-таки задрожали, когда он возвращал бумагу. — Вы что, гражданин Астахов, кур, что ли, ночью воровали? — не преминул съязвить Митька. — Нам досконально известно, что укрыты две цистерны! Митька считал, что слово «досконально» имеет примерно тот же смысл, что и сквозь землю, мол, видим все и сквозь доски. — Ищите, — сказал Павел Федорович. — Вот вам ключи. Он извлек из кармана и подал Митьке связку ключей от амбаров и сараев. — Разрешите начать с вашей спальни… Это уж было нахальство, но Митька вошел в раж, издевательство тоже входило в систему подавления буржуазии. — В задней комнате моя невестка… — Невестка нам ни к чему, — оборвал Митька. — Кажите свою спальню… Вошли в спальню. — Давайте топор, — распорядился Митька. — Топор-то зачем? — Доски отдирать! — Митька указал на пол. — Не хотят по-хорошему, и мы будем по-нехорошему. — А я так думаю начать с мельницы, — примирительно посоветовал Дмитрий Фомич. — Где ж искать масло, как не в погребе? Комиссия отправилась на мельницу. Павел Федорович попытался уклониться от участия в обыске, но его попросили сопутствовать. Позвали и Федосея с лопатой. Обошли все хозяйство, заглянули во все сараи, хотя отлично понимали, что железные бочки с нефтью ни в какой сарай не взволочь, копнули бугры возле мельницы… Тщетно! Митька встал в позу и простер руку перед собой: — Гражданин Астахов, вы понимаете, что рабочему классу нечего есть? Павел Федорович не спорил. — Помогите же Советской власти пустить мельницу. — Со всем удовольствием, найдись у вас нефть… Так и ушла комиссия, не солоно хлебавши, не бурить же в самом деле на астаховском огороде скважину к центру земли. Павел Федорович сидел на кухне и покуривал. Там и нашел его Славушка. Надежда занималась обычным делом — готовила харч для свиней, на этот раз в мятую картошку добавляла пареную крапиву. — Мне надо с вами поговорить, — сказал Славушка. — Говори… Павел Федорович пыхнул козьей ножкой. — Как вы относитесь к тому, что волисполком собирается пустить мельницу? — А как я могу к этому относиться? — ответил Павел Федорович. — Плохо. — Все равно мельница уже никогда не будет вашей. — Это еще… Впрочем, на эту тему Павел Федорович говорить не хотел. Хотя вопрос не считал решенным. Он неглупый человек, его поведение во время прихода деникинцев свидетельствовало об этом, он не делал на них ставки, но против исчезновения Советской власти не возражал бы. — В ваших интересах пойти навстречу… — Ты так думаешь? — Павел Федорович саркастически усмехнулся. — А я нет. — Во всяком случае, нефть следует отдать. — Что? — Нефть. — У меня ее нет. — Есть. — Глубокая ошибка. — Я знаю. — Много будешь знать, скоро состаришься. — Все равно ее отберут. — Если найдут. — А если я покажу? Павел Федорович сорвался с места: — Покажи! — Что покажи? — Нефть. Где ты ее нашел? Он схватил Славу за руку, отпустил, побежал на огород, инстинктивно побежал туда, где спрятана нефть! Слава не мог не пойти за ним, он ведь и затеял разговор, чтобы переубедить Павла Федоровича. Тот добежал до мельницы, остановился, обвел рукой пространство. — Где? — Что где! — Где нефть, показывай! Но Слава не смел показать, знал и не посмел. Где спрятана нефть, знали только два человека: Павел Федорович и Федосей. Обнаружь Слава, что ему известна тайна, Федосею несдобровать. Сразу лишится крова и хлеба. Павел Федорович прогонит его, в этом случае он будет беспощаден… Не может, не смеет он выдать Федосея, по простоте душевной доверившегося Славушке… — Где, показывай! Славушка неопределенно повел рукой. — Ну где, где? Все-таки он проговорился, просто так от Павла Федоровича не отделаешься. — Вот! — Слава уверенно показал на бугор, накиданный для отвода глаз возле мельницы. — Вот где ваши бочки! — Ты знаешь… — У Павла Федоровича удовлетворенно блеснули глаза. — Во всяком случае, я посоветую волисполкому хорошенько перекопать здесь землю, — вырвалось вдруг у Славушки. — Может, нефтяной фонтан и забьет! И вдруг Павел Федорович испугался, опять испугался, игра с огнем, чем черт не шутит… — Лучше держи язык за зубами, — мрачно проговорил он. — Не поступай, как язычники, — где едят, там и мерзят… И Слава тоже испугался, не решился высказаться до конца, и не только потому, что пожалел Федосея: почему-то ему казалось, что из-за мельницы Павел Федорович может пойти на все. Постояли, посмотрели друг на друга. — Ну… мир? — выжидательно спросил Павел Федорович. Слава неуверенно переступил с ноги на ногу. — А мы и не ссорились, — сказал он и не спеша пошел с огорода. — В конце концов мое дело сторона. 50 Славушке часто приходят в голову всякие фантазии. Особенно, когда остается один. Вот как сегодня. Петя ночует на хуторе, с наступлением лета он часто остается ночевать на хуторе, то лошадей пасти, то сад сторожить, хотя в начале лета в сады лазают только мальчишки, ломают сучья и сбивают завязи. Веру Васильевну вызвали к кому-то в Семичастную вместо повивальной бабки, за акушеркой ехать далеко, ближайшая больница в Покровском, верстах в двенадцати. Поужинали рано, Марья Софроновна не ела, жаловалась, что сын плохо себя чувствует, ребенок часто закатывался за стеной в неистовом плаче, ушла из-за стола, зато Павел Федорович не спешил, по-дружески обращался к Славушке, как бы подчеркивая примирение… Славушка мысленно переплывал из прошлого в будущее и обратно, лежал без сна, не мог заснуть. Со времени приезда в Успенское прошло немногим более полутора лет, а событий произошло множество: возникновение Союза молодежи, война, поиски своего места в жизни, все это происходило и происходит, а подумать обо всем этом не находится времени. Он выглянул в окно. Темная ночь начинающегося лета. Из соседнего окна — свет, Павел Федорович принудил Веру Васильевну поменяться комнатами, из окна залы слегка подсвечивает лампа, и шиповник под окном сказочно пышен и красив. Славушке хотелось нырнуть в эту зеленую кипень, но вернется мама, всполошится, начнет его искать… Славушка сбил комком простыню, положил в головах думку, укутал сверху одеялом, лежит, как настоящий Славушка. Мама обязательно обознается, спи, миленький, а сам шасть из окна. Мир не так уж темен, как кажется, омут не черно-зеленый, а зелено-черный, каждый лист виден в отдельности, цветы шиповника едва белеют. А за окном все как в театре. Марья Софроновна ходит по комнате, то туда, то сюда. Ребенок лежит в качке. Не слышно, орет или не орет. Отсюда ничего не слышно. Зато все видно. Чего это Марья Софроновна все время ходит? Села. Спускает кофту, выволакивает белую грудь, громадную, как коровье вымя, подставляет стакан и сама доит себя. Подходит к окну, выплескивает молоко в сад. На куст шиповника. Оно повисает на листьях, как роса… Вот когда Славушке открывается иной мир. Она не любит Павла Федоровича. Не любит ребенка. Она никого не любит. Славушка не хочет на нее смотреть. Лучше посмотреть на самого себя. Каков ты сам? Ты тоже обманываешь свою мать, лежишь себе тихонечко в постели, прикорнув к стене, и притворяешься, что спишь. Луна льет свой свет в комнату. Славушка отчетливо видит себя… Но что это? Дверь приоткрывается и тут же закрывается. Нет, это не мама. Это Павел Федорович осторожно приближается к его постели. Стоит. Славушка чувствует, что он колеблется… Заносит какой-то предмет над подушкой и… Славушка видит собственную смерть. Ему уже приходилось глядеть в глаза опасности. Но видеть вот так, в десяти шагах от окна, как тебя убивают… Павел Федорович торопливо выходит из комнаты. Это, конечно, из-за мельницы. Значит, мельница стоит того, чтобы убить из-за нее человека… Не надо только, чтобы напугалась мама. Слава влезает на подоконник и падает на кровать. Одеяло помято, но думка лежит как ни в чем не бывало. Трусливый убийца. Перепугался и поторопился удрать. Лежи, лежи, миленький, больше он сюда не придет! Мама входит тихо-тихо, чтобы не разбудить Славушку. — Как ты долго! — А почему ты не спишь? Видишь? — Она подходит к кровати и показывает сыну махотку. — Сливочное масло! Сливочное масло у Астаховых не подается, да и топленое кладут в кашу только по праздникам. Славушка берет махотку из рук матери и ставит на подоконник. Ему до безумия хочется есть. — У тебя нет хлебца? — Сейчас принесу… Мама уходит и быстро возвращается. — Весь дом почему-то не спит. Надежда на кухне, Павел Федорович болтается в сенях… Славушка намазывает на хлеб масло, ест и вскоре засыпает. Его будит детский плач. За окном солнышко, светит даже сквозь ветки деревьев. Славушка в сенях наталкивается на хозяина дома. — Доброе утро! — Здравствуй. Славушку так и подмывает спросить что-нибудь о нефти, но он проявляет благоразумие, воздерживается, не стоит сердить Павла Федоровича, особенно после плохо проведенной ночи. — Ты куда? — На работу. — Поел бы сначала… Славушка отправился в волкомпарт, Семин там почти не бывает, и комсомольцы оккупировали помещение партийного комитета. По дороге заглянул в исполком. Степан Кузьмич сидел злой как черт. Нужно пустить мельницу. Пуск мельницы менял экономику волости. Отобрать ее несложно, сбить замки, навесить свои, посадить сторожа… Но кому нужна неподвижная мельница? А тут еще злые шуточки Дмитрия Фомича о горючем. — У нас своего газу в избытке, только натужиться… Быстров не обратил внимания на появление мальчика, тот сделал круг по комнате, и тогда он наконец увидел: — Тебе чего? Слава оглянулся на Дмитрия Фомича, тот не одобряет ничего, что нарушает сложившийся уклад жизни. — Мне вас по одному делу… Быстров с шумом вылез из-за стола, вышел на площадь и принялся ногой сбивать репьи у коновязи. — Ну что там у тебя? — Я знаю, где нефть. — Где? — Степан Кузьмич ухватил мальчика за плечи. — Где? — Только у меня просьба… Слава рассказал все, что знал. Как подружился с Федосеем. Сразу по приезде в Успенское. И тот показал, где спрятана нефть. Никто не должен знать, что Федосей проболтался. Павел Федорович прогонит его, а Федосею с Надеждой идти некуда. Нефть надо найти, именно найти… — Отлично. Все предоставь мне. Вновь комиссия появилась у Астаховых после обеда. — Идите и забирайте мельницу, — категорично приказал Быстров. — А нефть? Данилочкин чаще других перечил Быстрову. — Ищите! — Чего ж искать, коли нет… Но Еремеев уловил в тоне Быстрова нечто значительное, понял его с полуслова. — А где искать-то? — Не в доме, конечно, — иронически отозвался Быстров. — В сараях, около мельницы. — Пустое дело, — неодобрительно буркнул Дмитрий Фомич. — Одна комедия… Но Быстров любил устраивать комедии. Вторично комиссию Павел Федорович не ждал. — Ключики, — попросил Дмитрий Фомич. — От чего? — От мельницы. Испуг прошел. От непрошеных гостей хотелось отвязаться. — Мышей ловить хотите? — Хоть и мышей!… — Данилочкин злился не на Астахова — на Быстрова. — Мельница государственная, что захотим, то и сделаем. Пошли к мельнице, поснимали замки. Дмитрий Фомич, пристроившись на подоконнике, принялся составлять акт. Все оказалось лишь интермедией. Не прошло получаса, как у мельницы появился Устинов и с ним с десяток призывников, шли попарно, как на занятие Всевобуча, вооруженные вместо винтовок лопатами. — Вы чего? — удивился Павел Федорович. — Копать… — Филипп Макарович виновато развел руками. — Степан Кузьмич приказал хоть из-под земли, а достать нефть. — А где же копать? — Степан Кузьмич велел срыть курганы. С Устиновым у Павла Федоровича отличные отношения, но не мог не съязвить. — Не знал, что ты археолог! — Кто-о? — Ученые, которые могильники раскапывают. Копай, копай, может, найдешь что… Ребята работали на совесть. Копать так копать, тем более земля рыхлая, не так уж трудно. Еремеев надеялся, что Быстрову что-то известно, не зря же приказал раскапывать бугры, может, в самом деле в этих курганах нефть. Тут и появилось главное действующее лицо спектакля. Быстров как-то незаметно возник среди комиссии. — Копни, копни еще! — раздался вдруг голос Быстрова. Ухмылка сползла с лица Павла Федоровича, он предпочел бы иметь дело с двумя комиссиями, чем с одним Быстровым, придет в раж, не угомонить, но внутренне Павел Федорович торжествовал: копайте хоть до центра земли! Быстров, отличный актер, подзадоривает ребят, сам хватается за лопату, носовым платком вытирает лоб, ищет… Раздражается все больше. И вдруг: — Стой! К Павлу Федоровичу: — Где ваш работник? Федосей почтительно выступает вперед. — Тащи сюда плуг! — Это зачем же? — осведомляется Павел Федорович. — При заговорах, конечно, помогает, когда ищут клад, обязательно надо опахать место, где копают, — опахивать будете? Но Быстров, к удивлению Митьки, не спорит: — Вот именно! Федосей приволок плуг. — Лошадей! — Лошадей, извините, нет на хуторе… Хотел добавить: «Может, сами впряжетесь?» — но побоялся. Но Быстров даже не взглянул на Астахова. — Филипп Макарович, двух лошадей немедленно! Впрягли лошадей… Быстров подумал, подумал, и вдруг его осенило… — А ну вспахивай огород, весь участок, громи буржуазию, да поглубже, поглубже лемехом… Павел Федорович кинулся к Робеспьеру: — Ведь конопель! — Паши! — За что губить конопляник? — Губи! Павел Федорович побелел, в лице ни кровинки. — Ну, господа-товарищи… — Он поворотился к Никитину: — Дмитрий Фомич, да что же это? — Неразумно, — поддержал Дмитрий Фомич. — Степан Кузьмич! Тот только отмахнулся. — Я знаю, что делаю. Федосей повел плуг. Быстров позволил ему провести первую борозду, потом, как бы в запале, кинулся, оттолкнул, сам повел плуг, гикнул на лошадей, навалился на раму… — Самоуправство! — закричал Павел Федорович. — За что оставляете без масла?! Подрезанная лемехом конопля падала… Никто не одобрял Быстрова. Все, кто здесь находился, знали цену конопле. Самоуправство, однако, продолжалось недолго, лемех скрежетнул, напоролся на что-то. — Лопату! Без особого труда Степан Кузьмич откопал бочку. — Получайте! Взглянул было на Павла Федоровича, но тот уже по тропке шел к дому. — Вот вам и нефть! — весело сказал Степан Кузьмич. — Я думаю, они тут рядком лежат, не будут же Астаховы весь огород уродовать… Бочка нашлась, энтузиазма прибавилось… А к вечеру в исполкоме снаряжали подводу в Дросково за механиком. 51 Как-то Быстров остановил Славу — впоследствии тот не мог вспомнить, когда это произошло, утром или вечером, помнил только, что произошло где-то возле исполкома — остановил и спросил: — А не пора ли тебе вступить в партию? Мальчик растерялся, он не осмеливался об этом думать. — Собственно, ты прошел испытательный срок, — задумчиво проговорил Быстров, — а, кроме того, нам удобнее руководить комсомолом, если ты будешь коммунистом… Произошло это в начале июня, это-то он запомнил, судьба его решена. — Я не знаю… — ответил он. На самом деле он знал, что так оно и должно быть. Чувства чувствами, но дисциплина книг во многом определяла поведение мальчика. — Я хочу, чтобы ты отнесся к этому делу со всей серьезностью, — сказал Быстров. — Отвлекись немного от суеты, прочти-ка вот эти две книжечки, по-настоящему прочти… — Он небрежно вытянул из кармана брюк помятые брошюрки и подал Славе. — И черкани потом несколько слов… Внешне книжечки выглядели невзрачно, но это были: «Программа РКП (большевиков)» и «Коммунистический манифест». Славушка погрузился в их изучение. Многого он не понимал, многое не открывалось ему еще во всей своей сложности, но он изучал эти книжки так, как юный музыкант впервые постигает тайны контрапункта. Внутренним чутьем постигал он поэзию «Манифеста». Несколько дней не расставался с брошюрками, пил с ними чай, обедал, ложился спать. Вера Васильевна заглянула как-то через плечо сына — опять какие-то политические брошюры, он теперь постоянно занимался политикой. Наконец он решил, что готов. Подстерег Степана Кузьмича возле исполкома. — Вот! — Что? Славушка подал листок из тетради. «Прошу принять меня…» Быстров небрежно сунул заявление в карман, чем-то он был занят, в этот момент ему было не до мальчика. Славушка разочарованно поплелся домой. У Веры Васильевны сидела гостья. Ольга Павловна Шеина приезжала к Зернову хлопотать о новых партах, зашла к Ознобишиным. Вера Васильевна поила гостью чаем. Ей хотелось ее угостить, даже подала остатки варенья, сваренные на меду вишни, которое подавалось только по самым торжественным поводам. Вера Васильевна мельком взглянула на сына: — Тебе налить? — Пожалуйста… Он и за чаем не отрывал глаз от «Манифеста». — Что ты какой-то странный? — спросила Вера Васильевна, обратив на него внимание. Он поднял голову. — Я вступаю в партию, — сказал он. — Что-о?! Дрогнувшая рука Веры Васильевны расплескала чай. — Слава, это же невозможно… — Она не могла скрыть волнения. — Вы извините меня, — извинилась она перед Ольгой Павловной. — Но это слишком серьезно… Некоторое время все трое молчали. Ольга Павловна помешивала ложечкой варенье, Слава смотрел в книгу, а Вера Васильевна на сына… И все-таки она не выдержала: — Нет, нет, — быстро заговорила она. — Я не хочу, чтобы ты занимался политикой, это не профессия для интеллигентного человека… — В той среде, в которой она выросла, ей приходилось встречать политиков, среди них были такие, которые достигли чуть ли не министерских постов, и такие, которых посылали на каторгу. Ей не нравились ни те, ни другие. Своему сыну она не хотела такой судьбы. Она достаточно повидала людей, ушедших в политику, бесчестные становились подлыми, честные — несчастными… — Я запрещаю тебе вступать в партию. Я поговорю со Степаном Кузьмичом, это он тебя совращает. Честность и политика несовместимы… Она не смотрела на сына. Смотрела куда-то в глубь себя. — Что же ты мне скажешь? — боязливо спросила Вера Васильевна. — Ну что, что? — А вот что! — Он вдруг поднялся и побежал прочь из комнаты. Вера Васильевна растерянно обернулась к гостье: — Ольга Павловна, извините… — Ничего, ничего, — негромко и задорно ответила та, поднося к губам чашку. — Мужчина! Когда корабль моего брата шел ко дну, не было силы, которая бы заставила его сойти с капитанского мостика. — Нет силы… Разве легко, когда кто-нибудь из твоих близких идет ко дну? Судьба старшего сына вызывает у Веры Васильевны вечные опасения. Не то что она меньше любит Петю, но Петя яснее, проще. Гораздо положительнее Славушки. Он всегда держался и будет держаться дома. А Славушка все куда-то рвется, к чему-то стремится… Она посмотрела в окно. Позвать? Нет, не догнать, не воротить… За окном пылил летний дождичек, он не омрачал день, даже веселил, даже поднимал настроение. «Вот бы сейчас по грибы», — подумал Славушка… Но это не Подмосковье — поля, поля, начало бесконечных степных пространств, никаких здесь ни грибов, ни лесов… И вообще ему не до грибов. Надо быть посерьезнее, он идет на партийное собрание, партийное… Необычное оставляет нас равнодушными, а заурядное изумляет! Произойди посреди Успенского извержение вулкана, Славушка меньше удивился бы… Славушку остановил в сенях Павел Федорович: — Слыхал, собираешься в партию? И этот туда же. Ему-то какое дело? Он мне никто, никто и пусть не учит предусмотрительности, все равно ничего не повернуть… — Да, — сказал Славушка. — Что дальше? — Молодец! — неожиданно произнес Павел Федорович. — Так и надо, парень ты дальновидный, оказывается… Оказывается, он одобряет! — Иди, иди, не задерживаю, — продолжал Павел Федорович. — Наперед извиняюсь, не понимал тебя, смотришь в корень… Точно оплевал. Слава богу, посыпал дождь, веселый, легкий, солнечный, как бы обмыл после этих слов. И вот он сидит в волкомоле и слушает отчет Данилочкина о работе волземотдела. Но все это мимо, мимо, о сельхозинвентаре, о выпасах, о предупреждении эпизоотии, стыдно, но мимо, сейчас будут спрашивать его, что он скажет? Степан Кузьмич обычен, неужели не понимает, не чувствует… — В текущих делах два заявления: Перьковой Анны Ивановны, критовской учительницы, и Славушки… Ознобишина Вячеслава… — Быстров улыбается… — Николаевича… — Сует руку за пазуху. — Да где же они? — Ищет и не находит. — Куда же запропастились? Ну, вы мне поверите, заявления были… — Без заявлений нельзя, — твердо говорит Семин. — Но ведь были… Да и Ознобишин здесь лично присутствует! Семин нехотя соглашается: — Его еще можно обсудить… — А кто рекомендует? — Еремеев и я… Данилочкин почесывает затылок. Чудной мужик, с большой хитрецой и в то же время правдолюбец. С ним было так: напился как-то в Журавце на чьей-то свадьбе, а потом явился на заседание волкома и говорит: «Прошу вынести партийное взыскание, недостойно вел…» — Надо докладывать? — спрашивает Быстров. — Чего там! — Данилочкин машет рукой. — Знаем как облупленного. Впрочем, у меня вопрос. Товарищ Ознобишин, ответьте: живете вы в буржуазном окружении, Астаховы нам не друзья, как надо с ними поступить? — Заставить строить коммунистическое общество. — Врагов? — ужасается Еремин. — Тебе, парень, еще воспитываться… — А он прав, — отвечает Быстров вместо Ознобишина. — Одними чистыми ручками ничего не построишь… — Подождите, Степан Кузьмич, — останавливает Быстрова Данилочкин. — Пусть товарищ Ознобишин сам пояснит, как он это понимает в отношении гражданина Астахова? — А так, — говорит Слава. — Дросковский механик не захотел в Успенском остаться. Вот и заставить самого Павла Федоровича работать на мельнице… — Идея! — вскрикивает Данилочкин. — Об этом подумаем… Степан Кузьмич задает неожиданный вопрос: — А как мама, одобряет тебя? — Нет, — честно признается Славушка, — говорит, что политикой… заниматься… опасно… — Еще бы не опасно! — восклицает Данилочкин. — Но вы-то сами готовы к опасностям? — спрашивает Семин. — Коммунист должен быть готов… — А он готов! — вмешивается Еремеев. — Пошел против деникинцев?! — Об этом можно не говорить, это доказано, — подтверждает Быстров. — Меня что смущает, не будет ли у него дома неприятностей. Слава гордо вскидывает голову: — Кажется, я самостоятельный человек… — Подойдем к вопросу с другой стороны, — говорит Данилочкин. — Не грозят ли вам неприятности со стороны гражданина Астахова, открыто бросаете ему перчатку, не ровен час, он может вас и того… — А он наоборот, — простодушно успокаивает его Слава, — он даже одобряет. — Что одобряет? — То, что я в партию… — Постой, постой… Как одобряет? Ему-то какая корысть? — Свой коммунист в доме, — объясняет Данилочкин. — Может, воздержимся? — предлагает Семин. — Воздержимся? — переспрашивает Быстров. — Вот если бы он нам этого не сказал, следовало бы воздержаться, а он перед нами как на духу. Расчет Астахова понятен — коммунист в доме, замолвит при случае словечко, и опасения Василия Тихоновича понятны. Но… — Быстров приглушает голос, — хочу вам доверить один секрет, только прошу, чтобы никому! Нефть-то мы нашли с помощью Ознобишина. Свой коммунист и помог. Против Славушки не голосует никто, но происходят две удивительные вещи — его принимают без кандидатского стажа и сразу же выбирают делегатом на уездную партийную конференцию. Предложение принять без кандидатского стажа не вызывает возражений, он оправдал доверие партийной организации, но по поводу избрания на уездную конференцию Семин возражает решительно: — Только приняли — и представлять организацию? — А когда его в политотдел посылали, ты не возражал, что он будет нас представлять? Уездная конференция — школа. Он возглавляет у нас комсомол… На конференцию Быстров проталкивает Славушку с трудом, но очень уж хочется привезти в Малоархангельск самого молодого коммуниста во всем уезде, вот, мол, смотрите, какие орлята растут у нас в волости! 52 Предрассветный холодок забрался за ворот. Славушка поежился и шагнул к бедарке. Быстров не отпустил вожжей, Маруська тотчас бы помчалась без следа, без пути, куда глаза глядят, лишь бы вперед, все вперед, подобно своему хозяину… Славушка забрался в бедарку, Быстров сунул ему вожжи: — Подержи минуточку. Маруська стояла как вкопанная, как чугунная лошадка каслинского литья, но чуть вожжи натянул Славушка, заперебирала, заперебирала ногами, принялась рыть землю передними ногами, какая-то жилка заиграла на крупе, задрожала под кожей. Быстров спрыгнул на землю, потрепал Марусю по крупу. — Ах ты, чертушка… Вера Васильевна выбежала на галерею, протянула узелок. — Тут хлеб, яйца… Протянула узелок сыну, а ему неудобно. — Степан Кузьмич, я вас очень прошу… — Не беспокойтесь… Опустился рядом с мальчиком, перехватил вожжи, прищелкнул языком, Маруська круто повернулась и понеслась. Мимо сонных изб, за околицу, через Поповку… Вся поездка как струна, точно протянули прямую линию от Успенского до Малоархангельска: пыль на дороге, придорожные ветлы, поля в тени, спуски, подъемы, и опять подъемы и спуски, а Маруся как вихрь, и Быстров как вихрь, и все сильней и сильней голубеет небо. Дорогу промчались часа за три, Маруся — орловских кровей, лишь под самым Малоархангельском легкая изморось выступила на ее вороных боках, в Малоархангельск внеслась как птица и замерла перед знакомым домом, где всегда гостевал Быстров. Утро вступило в свои права, молчали псы в подворотнях, лениво тянулись к выгону коровы, то тут, то там шли от колодцев женщины с ведрами, и все вокруг обволакивал запах горящего торфа, до того сладкий и пряный, что у Славушки закружилась голова. — Входи, — отрывисто бросил Быстров. Хозяйка выбежала навстречу, дебелая, грудастая, пшеничная, торопливо схватила Марусю под уздцы. — Идите, идите, — роняла она, — выхажу, напаю… — Быстров доверял ей Марусю. Вошли в дом, очутились в зарослях фикусов. Низкий потолок, тусклые оконца, блеклые снимки по стенам. — Не теряй времени, ранехонько еще, часочка три соснуть в самый раз! Быстров бросил на кушеточку, на засаленный ситчик одеяло в букетиках. — Спи! Сел на венскую никелированную кровать, маузер под подушку, утонул в пуховике, тут же уснул. Лег и Славушка… На засаленный ситчик в букетиках. Но разве мог он заснуть? Множество вопросов мешалось в его голове: передел земли, томительно терзающий мужицкие души, судьба батрачат, батраков повзрослее поубивали на войне, проклятые дезертиры, прячущиеся у богатых отцов, помещичьи библиотеки, сваленные в общественных амбарах, школы, церкви, бог еще знает что, и проблема света — керосин, потому что без керосина ни туда и ни сюда… Боролся с дремотой, на все ждал ответа, наступал день… Нет, он не мог заснуть! Ленин тоже, возможно, не спал в эту ночь. У него забот побольше. Война с Польшей. Нашей конницей взят Житомир. Война с Врангелем. Чуть успокоились, а враг высаживает десант и берет Мелитополь. Голод. Рабочие приносят неслыханные жертвы. А на Украине кормят пшеницей свиней. Тут не до сентиментальности, нужно выдержать и устоять… Что делает он там сейчас, в Кремле? Спит? Спит на невзрачной походной коечке? Нет, не может быть… Думает? Пишет? Или идет по кремлевской мостовой в лучах восходящего солнца? Невысокий, ладно сбитый, с рыжеватой мужицкой бородкой, с задорно закинутой назад головой, посматривая на мир всевидящими глазами. Нет, не может он спать в такое утро, когда тысячи мальчиков по всей стране добывают керосин для читален, конвоируют дезертиров и реквизируют спрятанный хлеб! Славушка взглянул на Быстрова. Тот все спал… Как можно! Он стал мысленно внушать: «Проснись, проснись, опоздаем…» И Быстров проснулся. Но затем не было уже места никаким мыслям. Степан Кузьмич сам заторопился. В укоме Слава ожидал встретить множество людей, оживление, суету, горячку, а вместо этого тишина, пустота, лишь один-единственный человек в черном ватнике дремлет на деревянном диване в пустынном коридоре. — Ты пока регистрируйся, а я поищу Шабунина… — И Степан Кузьмич исчез, бросив Славу на произвол судьбы. На облупленной двери, крашенной в рыжий цвет, косо приколот кнопкой листок, и по нему синим карандашом: «Мандатная комиссия». — Можно? В тесной каморке, за громадным, занимавшим всю комнату ветхим письменным столом мрачный дяденька, обросший седой щетиной. Он смотрел на мальчика так, словно давно его ждал. Слава подал мандат. Тот быстро написал на большом листе фамилию, имя и отчество. У него громадные заскорузлые рабочие руки и вокруг ногтей ободок несмываемой грязи. Затем задал несколько вопросов — о родителях, о происхождении, о пребывании в стане инакомыслящих… Должно быть, ему нравились детские ответы Славы, потому, что он все чаще и чаще улыбался. — Стаж? — спросил он. Стажа не было. — Один день… — Он запнулся. — Меня только вчера приняли в партию. Регистратор вскинул на мальчика глаза. — Один день? — переспросил он и задумался. — Как же быть?… Один месяц, — решил он. — Напишем один месяц. И вручил Славе розовую карточку. Ни люстр, ни колонн, даже никакой торжественности: в деревянном доме какого-то не шибко богатого купца, потому что шибко богатые купцы в Малоархангельске не проживали, устроен партийный клуб, пользовались им для собраний, вырубили на втором этаже перегородки, соединили четыре или пять комнат в узкую длинную залу, тут-то и заседает конференция. Быстров из президиума подавал Славе знаки — кивком, глазами, рукой. Славушка срывался с места и шел выступать. В ту пору «повестки дня» включали множество вопросов: международное положение, текущий момент, продовольственный, военный, земельный, работа с женщинами, с молодежью, профсоюзы, и мало ли что приходило на ум тысячам партийных деятелей во всех уголках России. И Слава выступал. Взбегал на эстраду, становился у кафедры — с кафедры не виден — и начинал без особых раздумий обо всем, что приходило на ум… Выступал не слишком-то умно, опыта нет, неоткуда взяться уму, но слушать его слушали, одобрительно, даже любовно, говорил правду, искренне говорил, взволнованно, одну только правду, дезертиров называл по именам, рассказывал, кого где обнаружили, о спрятанном хлебе, где, у кого и сколько нашли, о школах, о школе в Обалдуевке — на то и Обалдуевка! — где до сих пор преподают закон божий, о пьесах для народных домов… Старики хлопали оратору, не жалели ладоней, вдвое были те старики старше Славушки, было старикам лет по тридцати, по тридцати пяти, и Славушка дивился: откуда горячность, как не растеряли они свой темперамент?! В Малоархангельске у Быстрова множество дел, всюду надо поспеть, а Славушке делать нечего, вот он тенью и ходит за Быстровым. В укоме партии оживленней обычного, делегаты еще не разъехались, всех еще что-то связывает… Так бывает при смене квартиры: новые жильцы жмутся, пока старые не уехали. Карасев чувствовал себя уже гостем, а Шабунин, хоть и взял удила в руки, не решался их натянуть. Карасев уезжал в Орел, губком наметил его на пост председателя губисполкома. Карасева хорошо знали в губернии. В том, что его кандидатура не встретит возражений на съезде Советов, сомнений не было. Секретарем укома, как и предсказывал Быстров, выбрали Шабунина. Любили его меньше Карасева, достоинства Шабунина очевидны, однако утрата Карасева огорчала, Шабунин строг, а Карасев обходительнее, мягче. Быстрова нашли в земельном отделе. Он все мечтал основать у себя в волости, в селе Моховом, в бывшем имении коннозаводчика Давыдова, племенной совхоз. Степан Кузьмич обмирал при виде породистых лошадей. Беседу о лошадях прервал телефонный звонок. — Вас ищет Афанасий Петрович… Шабунин с утра ждал Быстрова. — Наконец-то! Позади Шабунина какой-то юноша рассматривал карту уезда. — Вот что, Степан Кузьмич, расскажи поподробнее, что за паренька ты привез, каков, чем дышит? — Да вы его знаете! Помните, перед приходом Деникина приезжали к нам… — Так разве это тот? — удивился Шабунин, должно быть, он не запомнил мальчика. — А где он? — За дверью. — Давай его сюда! Слава стоял перед Шабуниным маленький, несчастненький, точно только что вытащенный из воды котенок. — Хотим ввести твоего парня в оргбюро уездной комсомольской организации. — Шабунин вопросительно посмотрел на Быстрова. — Подойдет? Но судьба Славы, видимо, решена была еще до прихода Быстрова. Шабунин обратился к юноше, стоявшему перед картой. — А твое мнение? — Заберем, — коротко сказал тот. И Слава понял, что судьбу его решил не Шабунин, а этот высокий молчаливый юноша, который подходит к нему с таким видом, точно он возьмет его сейчас и куда-то унесет. — Знакомьтесь, — сказал Шабунин. — Андреев. Предоргбюро. — Сергей, — добавил предоргбюро. — Меня зовут Сергей. — Протянул Славе руку. — Какое ж мое мнение, Афанасий Петрович? Я уже говорил, заберем… — Как сказать! — резко возразил Быстров. — Не для того мы его… Шабунин насупился: — Что не для того? — Мы растили, пусть у нас и дальше растет. Андреев укоризненно покачал головой. — Зачем он вам? — Руководить, — уверенно объявил Быстров. — Кем? — Молодежью! — Он у вас дичок… — Андреев снисходительно усмехнулся. — Всякое деревцо, от которого хотят плодов, нуждается в прививке… — Не спорьте, — остановил спорщиков Шабунин. — Спросите его самого. — Есть партийная дисциплина, — решительно высказался Андреев. — Правильно, — согласился Быстров. — И все-таки спросите самого, — повторил Шабунин. — Сергей, возьми его с собой, познакомь с другими ребятами… — И затем Быстрову в ответ на протестующий жест: — Пусть парень осмотрится, а мы с тобой, Степан Кузьмич, сейчас все обговорим. Андреев взял Славу за плечо и не спеша повел перед собой. Они поднялись на антресоли. В прошлом там обитали купеческие приживалки, а теперь помещалось оргбюро РКСМ. Оргбюро тоже успело обзавестись своей канцелярией. Перед входом в кабинет Андреева, под табличкой «заведующий общим отделом», сидела миловидная розовощекая девушка с льняными кудрями. Кабинетик у Андреева крохотный. Стол, стул, и вместо дивана сундук, оставшийся от прежних владельцев. — Хочешь в Орел? — с ходу спросил Андреев. — Зачем? — Еду на пленум губкомола, просили привезти представителя какой-нибудь деревенской организации. Слава еще не ответил, а вот Андреев говорил о поездке в Орел, как о деле решенном. — Предупреди Быстрова, что задержишься на несколько дней, а там видно будет… Андреев повел его знакомиться с работниками оргбюро, с Малоархангельском, и с каждым часом Успенское все больше отдалялось от Славушки. 53 Славушка остался один в жарком сонном городке, пыльные, заросшие травой улицы, приземистые дома и деревенская тишина. Даже стадо коров шествует из улицы в улицу, как в деревне, да и чем не деревня, даже березы на углах… Странный человек Сережа Андреев, самый обыкновенный и чем-то не от мира сего. Какой же он? Длинный. И худой. И бледный. Должно быть, плохо питается. Оттого, что нечего есть, или оттого, что некогда? Оттого что добрый. Есть что есть, да все раздает! Вечером он повел Славушку из укомола в такой же дом на фундаменте, как и здание укомпарта, только серый, а не зеленый, деревянный, некрашеный, посеревший от непогод, прошли два квартала, а сколько Андреев насказал за пять минут! — На внешность не обращай внимания, проникай в суть вещей. Внешность хороша у девушек, да и то не всегда, придет срок любви — влюбишься в некрасивую, да так, что на всю жизнь. Мне, например, буденовки не нравятся, по-моему, береты красивее, надеть на красноармейцев береты, думаешь, изменится их революционная сущность? Напяль хоть фрак, хоть галстук, принципиальности в тебе не убавится, а натяни новый Бонапарт сапоги и гимнастерку, он от этого не перестанет быть Бонапартом! Побольше читай, книги проясняют мозги, можно не поужинать, но прочесть несколько страниц перед сном надо обязательно! Сам он далеко не красавчик, в потрепанной кавалерийской шинели и, увы, в буденовке! Он привел Славушку в узкую комнату с одним окном, оклеенную обоями, серебряные цветы по зеленому полю, отставшими кое-где от стен, у окна железная кровать с продавленным матрасом, украшенная никелированными бомбошками, напротив черный стол с выточенными витыми ножками и два стула. — Мое обиталище… Они не знали, что эта комната надолго станет обиталищем Славушки. — Дом купца Офросимова, торговец хлебом, вполне невежественный самоварник, отступил вместе с Деникиным, пора перебраться в Париж, сказал, уходя из дома… На столе лежали три книжки: «История одного города», «Пролетарская революция и ренегат Каутский» и «Записки охотника». — Читал? — спросил Андреев. — Одну только-только достал, а две самые любимые. Славушка разочарованно покачал головой: — Я бы выбрал другие. — Люблю полезную литературу, — сказал Андреев и вернулся к Офросимову. — Мебель вывезли, а комнаты отвели под общежитие партработников. Неженатых… Он переложил с подоконника на стол полкаравая черного хлеба. Принес откуда-то кружку молока. — Пей. — Нарезал хлеба, с аппетитом принялся есть. — Пей, пей! — А ты? — Не люблю молоко… Спать Славу Андреев уложил на свою кровать: «Коротковато мне на этой коечке, не могу вытянуться, частенько перебираюсь на пол», постелил себе на полу, накрылся шинелью. Когда проснулись, солнце стояло уже высоко. — Проспали? — испугался Славушка. — Сегодня воскресенье, — успокоил Андреев. — А впереди ночь в поезде, спать, вероятно, не придется. Поезд из Курска, на котором Андреев рассчитывал добраться до Орла, проходил поздно вечером, от города до станции двенадцать верст, в запасе еще целый день. — Не возражаешь погулять? Славушка не возражал, но и не понимал, какие прогулки могут позволить себе комсомольские работники, когда надо готовить мировую революцию. — И, может, не будешь возражать, если захватим Франю, Вержбловскую? — А кто это? Еще не слыша ответа, Славушка сообразил, что это и есть заведующая общим отделом. — Хорошая девушка, — сосредоточенно говорит Андреев, — может быть, я когда-нибудь на ней и женюсь. — А… Больше Слава ничего не произносит, но Андреев понимает его восклицание. — Еще не время, — строго говорит он. — Недостаточно мы знаем друг друга, и, кроме того, не кончилась война, мало ли что может… — А откуда она? — Из Польши. Ее мать попала в Орел в потоке беженцев, устремившихся в четырнадцатом году в Россию. Судьба забросила в Малоархангельск. Работала здесь портнихой, а потом нашла одного, в деревне сейчас, есть дом, огород… — А Франя? — Мобилизовали. Она комсомолка, — твердо произносит Андреев, — у нее красивый почерк. Идут по заросшим травой улицам. Коммунистки, работающие в укомпарте, их трое, да еще Франя, живут в крохотном сером домишке. Андреев стучит в окно. Франя сразу появляется, точно давно уже стоит за калиткой и ждет появления Андреева. — Ох!… Она смущается при виде Славы, щеки розовеют еще больше, удивительно хороша. Славушка сам рад влюбиться, но разве он может это себе позволить, если Андреев в сто раз лучше. — Куда? — спрашивает Андреев. — В поле, — говорит Франя. Славушке все равно куда, просто ему хорошо с ними, с Андреевым, с Франей, и долго будет еще хорошо. Заросшая травой улица незаметно вливается в раскинутые перед ними луга. Сказочно, свободно и хорошо все окрест! — Показать чудо? — спрашивает Андреев. Франя смотрит на него во все глаза. — Какое? — Показать? Петляет полевая дорога, уходят за горизонт волны желтеющей ржи. Втроем рвут васильки. Франя идет в венке еще красивее. — Куда ты нас ведешь? — спрашивает Слава. — Сейчас покажу вам чудо, — говорит Андреев. — Покажу, где начинается Россия. Сухой лог, поросший травой. Дубовая рощица. Кривоватые крепкие дубки. Ничто им не страшно, не вырвать их из земли. Дубки, дубки… Пониже, в логу, березы, зеленая травка. Андреев подходит к березке. К самой густой и самой старой. Из-под ее корней, не поймешь даже откуда, бьется ключ, тоненький-тоненький ручеек, и чуть подальше прудок, сказочный какой-то прудок, и из него ручеек… — Пейте, — говорит Андреев. Наклоняется, зачерпывает горстью воду, пьет. 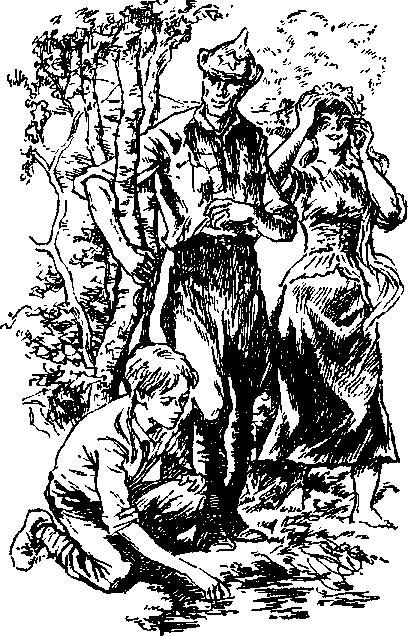 — Россия! — Почему Россия? — Да это ж Ока, Ока, это начинается Ока, — шепотом говорит Андреев. — Мы начинаемся… Под березкой, в травянистом логу, льется самая русская река России. 54 По мнению заведующего конным двором, Андреев в небольшом чине, «что-то там по молодежи», но обслуживающий персонал побаивается Андреева, он ничего не требовал зря, но уж, если требует, лучше не перечить, вызовет в укомпарт к Карасеву, к самому Карасеву, рта не даст открыть, отчитает в присутствии Карасева, да так, что ни оправдаться, ни отбрехаться… Поэтому для поездки на станцию Андрееву дали не пролетку, не ахти какое начальство, и не дроги, все-таки начальство, а глубокий трясучий тарантас, в котором уместилось бы все оргбюро. Но оргбюро только провожало Андреева: — Вы, ребята, не задерживайтесь в Орле, печать привезите, невозможно без печати… И литературы! По юношескому движению… — Всем наказывали привезти литературы. — Поддайте им жару, пора губкомолу повернуться лицом к деревне… Делегация погрузилась в тарантас. Кучер — ровесник Андрееву. — Ты почему не в комсомоле? Андреев знал всех членов городской организации. — А умирать никому неохота, — вразумительно ответствовал кучер. — Не на фронте, так здесь от кулаков, а то так и сами себя порешите. — Ну, мне тоже умирать неохота! Андреев засмеялся, но разговора не получилось. Приехали на станцию, чуть стемнело. Билетов не продавали, в вагоны садились по мандатам, а чаще просто захватывали места. Против ожидания сели необыкновенно легко, их пустили в штабной вагон, лучший вагон в составе всегда называли штабным, и пассажиров оказалось немного. Андреев устроил Славу на верхней полке, постелил ему свою шинель, сам сел у окна: «Мне нужно подготовиться». Слава тоже хотел подготовиться — к чему? — и тут же заснул. Проснулся оттого, что Андреев дергал его за ногу, было уже светло. — Приехали? — Нет. Становой Колодезь. До Орла еще двадцать верст. Я сейчас приду… На Становом Колодезе набирали дров и воды. Из вагона все бегали за кипятком. Он принес в чужом котелке молока, купил у какой-то бабы за махорку. — Завтракай. — А ты? — И мне хватит. На этот раз тоже пил молоко. Слава смотрел на него с упреком, Андреев ответил с улыбкой: — Ничего, брат, иногда и ложь во спасение. А в Орле уже некогда прохлаждаться — опаздывали, по улицам бежали. Губкомол! Навстречу по лестнице спускался парень в новенькой кожаной куртке, в руках у него штук двадцать селедок, прижимает их прямо к куртке. — Вы куда? — На пленум! Парень с селедками проследовал мимо, ступеньки через три остановился, секунду размышлял и опять окликнул малоархангельцев: — Постойте, ребята! Андреев обернулся: — Чего? — Можете взять по селедке. Селедка соблазнительна, но… Они даже не ответили, ворвались в просторную комнату, в комнате ни одного стула, пять или шесть парней сидели на столах. — Где пленум? Один из парней молча указал пальцем. Андреев приоткрыл дверь. Комната поменьше, а народа побольше, у окна высокий парень с белесыми волосами и черными бровями произносил речь. Он тотчас обратился к Андрееву: — Откуда? — Из Малоархангельска. — Заходи, — покровительственно сказал парень и посмотрел на Славу. — А это что за ребенок? — Секретарь Успенского волкомола, — сказал Андреев. — Самой крупной нашей организации. — Товарищи, я предлагаю приветствовать представителя успенской организации, — сказал оратор без всякого перехода. — Если даже дети сплачиваются вокруг нашего союза, это говорит само за себя… Да здравствует революционная деревня! Два или три человека похлопали в ладоши. — Проходи сюда, садись рядом со мной. — Оратор указал на пол возле себя. — А теперь возвращаюсь к задачам союза… Сидеть не на чем. Сюда, вероятно, собраны стулья со всего губкомола, кое-кто расположился прямо на полу. Слава сел на подоконник. В комнате человек сорок, все старше его. Оратор, круглолицый, розовощекий, с толстыми губами, неутомимо сыпал загадочные слова: экправ, соцобр, профобр, партпрос, физкульт, военепорт… Не все понимали этот язык. Оратора, как вскоре понял Слава, звали Кобяшов. Тот самый Кобяшов, который считался лучшим теоретиком в губкомоле. Председательствовал на заседании жиденький паренек с черными волосами, вьющимися, как у барашка, насупленные брови, морщины в углах рта, ему это, видимо, нравилось, нарочно кривил губы да еще пенсне на носу, металлическое, стариковское, на черном шнурке. К нему часто обращались: «Эй, Шульман!… Товарищ Шульман!… Зямка, Зямка!…», на что он отвечал металлическим голосом: «Товарищи, призываю к порядку!» — ему удавалось урезонить ребят, и они вновь начинали внимать Кобяшову. — Мы должны прочно связать наши руководящие органы с низовыми ячейками и создать в своей среде атмосферу идейной сплоченности и острой ненависти ко всему мелкобуржуазному, — закончил Кобяшов и, помедлив, добавил: — И попрошу не аплодировать, у нас деловое обсуждение… Но никто и не собирался аплодировать, наоборот, из угла, откуда во время доклада то и дело неслись задиристые реплики, вихрастый паренек прокричал: — Мы сейчас вам скажем насчет экправа! Но тут Кобяшов наклонился к Шульману, что-то тихо сказал, и тот тотчас же проскрипел на всю комнату: — Было бы интересно послушать представителя успенской организации… — Он поманил Андреева, они пошептались, и Шульман объявил: — Слово предоставляется товарищу Ознобишину! Слава любил выступать. Он сразу же заговорил. О последствиях деникинщины. О школах, которые приходится открывать в неприспособленных помещениях. О расхищенных библиотеках, которые нужно во что бы то ни стало собрать. О дезертирах, их надо привлечь к ответственности, а нам самим идти добивать Врангеля, сбросить барона в Черное море… Интересно, что скажет на это товарищ Шульман? — Сейчас мы объявим обеденный перерыв, — сказал Шульман, — а после обеда заслушаем доклады с мест. Представители Малоархангельска все же получили свою селедку, парень в кожаной куртке оказался завхозом губкомола Каплуновским, селедки выдал, но тоже произнес при этом речь о своем великодушии, селедка выдавалась утром, он мог бы распорядиться остатком по своему усмотрению. Тут к Славе подошел парень. — Здорово! — Здравствуй! — Не узнаешь? Батюшки, да это Шифрин, с которым ездили в политотдел. Почему-то в памяти он запечатлелся крупным и плотным, а он такой же, как и Слава. Тонкие губы, пронзительные серые глаза… — Ты где теперь? — Теперь я редактор, каждую неделю печатаем молодежную страничку в «Орловской правде». Андреев удивился: — Вы разве встречались? — Прошлой осенью, вместе ехали в политотдел Тринадцатой армии. — Довез ты тогда свою литературу? — интересуется Шифрин. — А почему не довезти? — Отличные книжки дали в политотделе, — говорит Шифрин. — Больше всего мне понравился «Овод». Я даже оставил эту книжку у себя. Даю, конечно, другим… — А мне «Овод» что-то не очень… — Как ты можешь так говорить! — возмущается Шифрин. — Образец принципиальности! — Есть получше образцы. — Это кто же? — Базаров. — Кто, кто? — Базаров. — Кто это? — "Отцы и дети" читал? — Тургенев? — Шифрин пренебрежительно машет рукой. — Вчерашний день! Славушке не хотелось с ним спорить. — Заходи в редакцию, — великодушно пригласил Шифрин Ознобишина. — Может, напишешь что… После обеда первым выступил Андреев. Его, оказывается, знали. Он докладывал о положении в уезде. Без лишних слов, без хвастовства… Вечером местные ребята разошлись по домам, приезжие устраивались на ночевку в губкомоле. Малоархангельцам достался один из столов в канцелярии, Андреев предложил спать под столом: «Спокойнее, не свалимся». Лежа под столом, Андреев принялся рассказывать о своих поездках по уезду, особо говорил о Колпне, о Дроскове, в этих селах, говорил Андреев, классовая борьба скоро достигнет большого накала. — А в общем давай спать, — закончил он, — двигайся поближе, под шинель… Но сон не шел к Славе. — Ты читал «Овода»? — Угу, — ответил Андреев, засыпая. — Понравился? — Ничего… — А кто принципиальнее, — спросил Славушка, — Овод или Базаров? — Сравнил бога с яичницей, — пробормотал Андреев. — Слезливые сантименты и целое мировоззрение… — А вот некоторые считают Тургенева вчерашним днем… Андреев неожиданно сел. — И правильно считают, — сказал он. — Сейчас не до литературы, сейчас надо добить Врангеля, а к Тургеневу вернемся лет через двадцать. — Что ж, отказаться от книг? — Не отказаться, а выбирать что читать. — Андреев вытащил из кармана записную книжку. — Вот я сейчас тебе прочту. Я говорил тебе о Колпне? «Мы стояли, стоим и будем стоять в гражданской войне с кулаками». Запомни. «Прекрасная вещь революционное насилие и диктатура, если они применяются когда следует и против кого следует». Будь таким же принципиальным, как Базаров, читай не романы, а политическую литературу… Утро началось бестолково, и на столах, и под столами спалось плохо, умывались во дворе, завтракали опять селедкой и хлебом. Чай, правильнее — горячую воду, принесли в ведрах, но зачем-то перелили в бачок для питьевой воды. Каплуновский стоял у бачка и отпускал приезжим по кружке кипятка и по пять паточных карамелек. После завтрака Каплуновский на всех кричал, требовал, чтобы расписались в ведомостях, отдельно за хлеб, за селедку и за конфеты, кричал до тех пор, пока не появился Шульман, и Каплуновский тут же испарился. Зато члены губкома, все они были жителями Орла, выспались и, чистенькие, приглаженные, довольные собой, покровительственно посматривали на растрепанных, всклокоченных провинциалов. Мирное течение пленума нарушилось с самого утра. Вбежал Кобяшов, бледный, взволнованный. — Товарищи! Я только что из губкомпарта! Получена телеграмма — Крымскому фронту требуется пополнение коммунистами. В том числе коммунистами-комсомольцами. Губкомолу надо выделить десять человек. Решено не объявлять мобилизации, предложить товарищам записываться добровольно. Поэтому я обращаюсь, кто хочет… — А когда ехать? — спросил кто-то из угла. — Сегодня, — сказал Кобяшов. — Вечером пойдет специальный вагон с орловскими коммунистами. Слава ожидал, что сейчас же все начнут оспаривать друг перед другом честь поехать на фронт. Но вместо этого наступило тягостное молчание. Слава переводил взгляд с одного оратора на другого. Вчера выступали горячо, а сейчас… Он не хотел плохо думать о всех, кто-то испугался, и это настроение передалось всем… — Запишите меня, — нарушил молчание Андреев, — я еду. — И я, — тут же сказал Слава, — и я! — А кто останется вместо тебя в Малоархангельске? — спросил Кобяшов. — А хоть бы он, — сказал Андреев, указывая на Славу. — Ознобишин. — Но я тоже еду, — возразил Слава. — Нет, ты не можешь, мы не имеем права отправить тебя, — сказал Кобяшов. — Тебе нет шестнадцати. Слава пытался возражать: — Какое это имеет значение? — Потому что война — это не игрушки, — сердито, даже зло, прикрикнул Андреев. — Не спорь, пожалуйста. — Так кто ж еще? — спросил Шульман. Поднял руку делегат из Болхова, потом из Дмитрова, записались два паренька из Железнодорожного района. — А почему бы не записаться самому товарищу Кобяшову? — неожиданно спросил кто-то из железнодорожников. — Я хотел, но не разрешает губкомпарт, — без запинки отозвался Кобяшов. — Можете справиться! — Зачем, мы верим… Записались еще трое, все работники уездных комитетов, из самого Орла не записался никто, городские комсомольцы сидели бледные. Шульман понимал, что из города тоже должен кто-то поехать, он тревожно вглядывался в местных активистов, наконец решился принести одного из них в жертву. — Вот, например, ты, Мазин, ты ведь занимался в райкоме военспортом, сам спортсмен… У Мазина такой вид, точно его сейчас стошнит. — Я не могу, у меня аппендицит, — отвечал он. — Всего только три месяца, как меня хотели оперировать… — Товарищи, еще два человека! — воззвал Кобяшов. — Вернемся и не позже как через день направим двух товарищей, — сказал Хватов, секретарь ливенского укома. — А почему бы тебе самому не пойти? — вкрадчиво вмешался Шульман. — Ты же слышал, вагон уходит сегодня? — Что ж, могу и сам. Но комсомольские работники, обитавшие в самом Орле, упорно уклонялись от записи. — Неужели боятся? — спросил Славушка, наклоняясь к самому уху Андреева. — Н-нет… — протянул тот. — Думаю, дело в другом. Неизвестно, куда еще пошлют пополнение, вероятнее всего, просто рядовыми бойцами, а они уже привыкли руководить. Вот если бы проводился набор в комиссары… — Нет, товарищи, это из рук вон! — вдруг сказал Шульман. — Надо же и из городского района. Так и пометим: городской район, а к вечеру подберем персонально… Работа пленума скомкалась, уезжающим надо собраться, надо их обеспечить документами, продуктами, Кобяшов заторопился с докладом в губкомпарт. Андреев и Славушка вышли на Болховскую, в городе давно уже не чувствовалось войны, по улицам бежали принаряженные барышни, иногда проезжал в пролетке ответственный работник. — Все нормально, — сказал Андреев. — Скоро везде будет так. Пойдем посидим где-нибудь, я напишу ребятам письмо… Они провели вместе весь день, и с каждым часом все ощутимей и ощутимей становилось для Славушки приближающееся расставание. Андреев получил документы, хлеб, сахар, по обыкновению собрался поделить все с Ознобишиным, но на этот раз Слава запротестовал: — Ни крошки, ты едешь на фронт. Пришли они на вокзал засветло, вагон для отъезжающих стоял где-то за водокачкой, начальство еще не приехало, должен был состояться митинг, один Каплуновский метался по платформе, в руке у него сумка, похожая на дамский ридикюль, он издали завидел малоархангельцев, подскочил к Андрееву, протянул листок, карандаш: — Распишись. — Достал из ридикюля бумажный фунтик, торжественно подал Андрееву. — Специально для отъезжающих, выпросил в губпродкоме ландрина, по полфунта на брата… — Ты не жди нашего поезда, — сказал Андреев Славе. — Митинг может затянуться, я тебя сейчас посажу, и езжай-ка домой… Славу, как и в прошлый раз, когда он возвращался из политотдела, посадили в поезд, шедший на Елец, в штабной вагон, заполненный командированными. Андреев нашел какого-то мрачного типа в заношенной шинели, лацкан которой украшал алый бант — он на нем почему-то остановил свой выбор, — и попросил его приглядеть за Славой. — Вот и все, — сказал Андреев. — И еще два слова по секрету. Они вышли в тамбур. — Возьми… Он протянул Славушке фунтик с конфетами. Славушка возмутился: — Да ты что?! — Нет, это не тебе… — Андреев смутился. — Передашь Фране. И записку. Когда будешь в Малоархангельске. Я написал ребятам, чтобы тебя забрали в укомол. Вагон тряхнуло. Подали паровоз. — Ну, бывай! — сказал Андреев. — Пора. Кобяшов, должно быть, уже приехал произносить речь. — Он притянул к себе мальчика, прижал его голову к своей шинели, растрепал волосы. — И в случае чего этот дядька с бантом не даст тебя в обиду… Выпрыгнул из тамбура, а Славушка пошел занимать свое место. 55 Безмерность своей потери Славушка ощутил, лишь когда тронулся поезд. Не то что разговаривать, смотреть ни на кого не хотелось. Дядька с бантом сидел напротив. Он поглядывал время от времени на оставленного под его присмотр мальчика. Паровоз набрал скорость, вагон покачивало, постукивали колеса на стыках, стало жарко и душно, пассажиров клонило в сон. До того горько стало на душе у Славушки, будто он проглотил хину, точно умер самый близкий ему человек. Славушка попытался отогнать мысль о смерти. При чем тут смерть? Разве он больше не увидится с Андреевым? Деникин почти разгромлен, а Врангеля и подавно разгромят. Вокруг говорили о каких-то пустяках. Славушке стало еще горше. Просто необходимо было истребить в себе эту горечь. Он полез в свой мешок, нащупал фунтик с леденцами, зажал в пальцах карамельку, всего одну карамельку, и незаметно положил в рот, Франя все равно угостит, ничего от Франи не убудет, если она получит одной конфеткой меньше. Но конфета не показалась сладкой, привкус горечи не исчезал. Дядька с бантом все-таки собрался познакомиться со своим подопечным. — Ты откуда, хлопчик? — Из Орла. — Понимаю, что не из Берлина. А что делал в Орле? — На пленуме был. — Это на каком же? — На комсомольском. — Значит, ты комсомолец? — с одобрением спросил человек с бантом. — Я уже коммунист, — гордо ответил Славушка. — Как так? — удивился его собеседник. — Не рано ли? — Смотрите! — Славушка достал из-за пазухи и показал партийный билет. — Я — секретарь волкомола! — Ах ты, ядрить тебя! — с восхищением сказал человек с бантом. — Выходит, мы с тобой на одном положении. — А вы кто? — поинтересовался, в свою очередь, Славушка. — Да никто, — отозвался тот. — Коммунист. Ни чинов, ни званий. На фронте мне весь живот разворотило, возвращаюсь теперь в село… — Вздохнул и замолчал. — Рады? — спросил Славушка, хотя было очевидно, что радоваться нечему, но он представил себе, как обрадуется семья этого человека, когда увидит его живым и целым. — Радоваться особенно нечему… — Попутчик Славушки еще раз вздохнул. — Жена у меня ушла к другому, дочка замуж вышла… — А что ж будете делать вы? — Работать… Советскую власть защищать, ей еще достанется… Он опять погрузился в размышления. В соседнем отделении пожилая сухонькая особа, чем-то напоминавшая Славе начальницу политотдела, вслух читала газету, читала все подряд, статью о положении на фронте, о ноте Керзона и конгрессе Коминтерна, заметку о заготовке капусты, рецензию на концерт из произведений Гайдна, читала и комментировала, поясняла слушателям, чем и как созвучен Гайдн революции. Верстах в пятнадцати от Орла, на станции Домнина, все побежали за кипятком. Ни у Славушки, ни у человека с бантом посуды не было, он вступил в переговоры с сухонькой особой. Договорились, что она даст бидон, а он принесет кипяток. Бидон она дала, но когда кипяток был принесен, выдала компаньонам лишь по кружке. — Ты пей, — сказал человек с бантом. — Сначала вы, — сказал Славушка. — Чего-нибудь сладенького у тебя нет? — спросил человек с бантом. — Давно я не баловался чайком. Просто так спросил, наудачу, или видел, как Славушка доставал конфету? Леденцы принадлежали Фране, но неудобно стало, что его заподозрят в скупости, он поколебался, отсыпал полгорсти попутчику. — Красота! Коммунист всем должен делиться, — сказал тот. — Это мне надолго… Сложил леденцы в бумажку и запрятал в карман шинели. Отхлебнул кипятка, пососал леденчик, еще отхлебнул… — Красота! Однако одной кружкой не напьешься, теплая вода не утоляла жажды, хотелось холодненько-расхолодненькой… Сухонькая особа смотрела на свою кружку так, точно это драгоценный фарфор. Принялась пить сама. Насыпала на бумажку каких-то бурых катышков. — Кашка с патокой, — объяснила она, заметив взгляд мальчика, и даже протянула ему один катышек: — Попробуй. Слава отрицательно замотал головой: — Я не люблю сладкого. Наступил вечер, в вагоне делалось все более душно, просто невозможно дышать, сухонькая особа даже читать перестала, до чего, кажется, неутомима, а перестала. Душно, как в африканской пустыне… Хотелось пить, всем хотелось, даже лень говорить. И вдруг звякнула кружка о бидон — поезд остановился. — Стоим? — Стоим. — В чем дело?… Пошли выяснять. «Машинист отцепил паровоз и уехал». — «Зачем?» — «Сказал, скоро вернется». — «А где мы?» — «Где-то, говорят, возле Мохова». — «Зачем уехал?» — «Разве они объясняют?…» — «Воды, говорят, набрать». — «Наберет и вернется». — «Не мог набрать в Орле?» — «Значит, не мог». — «А здесь воды нет?» — «Есть колодец…» Машинист увел паровоз в сторону Мохова. Поезд стоял посреди степи. Кто-то обнаружил колодец. Тут же возле линии, за насыпью. Потянулись к воде. Славушка подошел к сухонькой особе. — Разрешите сходить по воду? — Только не давайте пить из бидона, — предупредила она, — столько нехороших болезней… Она бы не дала бидона, да самой, видно, хотелось пить. Человек с бантом и мальчик заторопились. Впрочем, шинель с бантом спутник Славы оставил в вагоне, был он в суконной гимнастерке, таких же штанах, в брезентовых сапогах и без банта. Возле колодца толклось немало пассажиров, всем хотелось пить, но посуды ни у кого. Спутник Славы заглянул в колодец. Далеко до воды! Над колодцем ворот с накрученной цепью, ведра нет, как ее достать? Еще кто-то заглянул, чиркнул спичкой, бросил вниз, спичка тут же погасла. — Метров тридцать, — определил кто-то. — Уж и тридцать, — возразил кто-то еще. — И двадцати нет. Люди похлопывали ладонями по круглой стенке, точно колодец живое существо. Как достать воды? Кто-то протянул руку с большой стеклянной бутылью. — Тебе чего? Бутыль хорошая, вместительная, в нее много воды войдет. — Привязать. Вокруг засмеялись. — Дурной, бутылку разве цепью обвяжешь? Засмеялись еще громче. — Ничего, ребята! Сейчас напьемся, — сказал спутник Славушки. — У нас бидон. — Вытащил из кармана шпагат, привязал бидон к цепи, проверил, хорошо ли держится, скомандовал: — Крути! Кто-то схватился за ручку ворота. — Раскручивай, раскручивай… Цепь звякнула, пошла, до воды неблизко, разматывалась, разматывалась. Люди заглядывали в колодец: скоро ли? Всплеск! — Дошел! — Набирай, набирай. — Тяни. — Что-то больно легко. — Да он отвязался! Поболтали цепью в воде. Брякает о бидон. Славушка обмер. Впрочем, спутник его тоже, кажется, обмер. Как вернуться к владелице бидона?! Она Керзону не давала спуску, а что же сделает с ними? — Вот это да!… — озабоченно пробормотал спутник Славушки. — Что да? — Белых генералов не боялся, а ее боюсь, она у меня последние кишки выгрызет… Славу осенило, он схватился за цепь. — Я спущусь… — Очумел? — сказал кто-то. — Не удержишься! — Погоди, погоди, — задумчиво сказал Славе его спутник. — Сейчас обмозгуем. Ты человек легкий, ничего… Нашел возле колодца палку, обломал, обвязал цепью. — Садись верхом, держись за цепь, а мы потихоньку… Слава ухватился за цепь. Как на качелях. Повис над водой, ворот крутится. Медленно, осторожно. Только бы достать этот ведьмин бидон! Теперь он называл про себя владелицу бидона не иначе как ведьмой. Пропажу бидона она не простит. Конечно, сделать ничего не сделает, но как-то совестно вернуться без бидона. Цепь раскручивается. Вверху небо. Серо-сизый туманный клочок. Славушка отталкивается от стенки. Круглая, мокрая… — Ну что? — гудит откуда-то сверху чей-то голос. — Спускай, спускай! Коснулся ногами воды. Цепь вздрогнула, замерла. — Стой! Наклонился, пошарил рукой… Вот! Он даже видит бидон. Нащупал ручку. Не забыл, что надо принести воды. Зачерпнул. — Тяни! Все произошло в одно мгновение. Прозвучал гудок паровоза и оборвал мерный скрип ворота. Цепь скользнула вниз, и Славушка погрузился в воду. Сперва он ничего не понял, ушел по пояс в воду, ухватился обеими руками за цепь и закричал что есть сил: — Да тяните же! Но никто уже не тянул, тишина вверху, и снова загудел паровоз. Его бросили! Все кинулись к поезду, побоялись остаться… Надо вылезать самому. Он протянул руку вверх, и цепь еще на два звена ушла в воду. Держись… Брошен! Один! Ноги в воде. Он утонет… В одно мгновение перед ним пронеслась вся его жизнь. Так говорится. Гм… Пронеслась… Перед его глазами… Но его глаза могли созерцать только стенки колодца, да и не стенки, а одну бесконечную стенку. Впрочем, он и эту одну-единственную стенку видеть не мог, потому что висел в смутном ночном сумраке. Жизнь пронеслась перед его духовным взором… Глазом? Оком? Взором?… Перед духовным взором. А что есть духовный взор? И какой такой духовный взор может рассмотреть жизнь, даже свою собственную? Да и есть ли надобность ее рассматривать? Его жизнь оборвется, как цепь, на конце которой он висит. Все-таки он попытается выбраться, хотя заранее знает, что сорвется. Столько раз рисковать жизнью, чтобы погибнуть в этом дурацком колодце! Черт бы ее забрал, эту ведьму вместе с ее бидоном… Самое удивительное, что он больше не хочет пить. Не пил и не хочет. Единственно, кто будет обо мне жалеть, так это мама. Не пил и не хочу. Высота — понятие абстрактное, а вот глубина подо мной вполне реальна. В ней я и погибну. Мама бы меня раздела, растерла водкой, дала бы чая с малиной… Сойдет архангел с неба и вострубит божий глас… Черт побери, он и в самом деле трубит! Поезд уходит, а он остается неподалеку от полустанка Мохово. Погиб под Моховом, и никто о том не узнает. Пропал без вести по дороге из Орла… Куда? В вышину и в глубину! «Вперед, заре навстречу, товарищи!…» Вот тебе и напились! Дожидаться до утра или сейчас выкарабкиваться? Клочок бы неба сейчас, хоть какой-то ориентир… И тут раздался глас архангела… Сколько времени болтался он здесь на цепи? Пять минут? Час? Три? Вечность?… — Эй ты, парень?! Не утонул?… Цел?… — Цел… — Голос Славы осип от волнения. — Тяни… — Держись, парень… — Цепь натянулась, задрожала. — Да бидон не забудь… Ах еще и бидон!… Он нашел этот чертов бидон, схватил за ручку, зачерпнул воды. — Да тяни ты… Цепь напряглась, качнулась, и Слава поплыл вверх. — Держись, держись… Ночь. Не так чтоб очень темно, даже светло после колодца. Его спутник по вагону хватает его, прижимает к себе, помогает стать на землю. — Напужался? Он правильно говорит, этот человек, только «напужался» страшнее, чем «напугался». Вокруг пусто. Только один этот человек и Славушка. Серый полумрак, кусты. Поле. Насыпь. — А поезд? — Ушел. Вот тебе и дядька с бантом! Он спохватывается, этот дядька: — Разувайся, разувайся скорей! Портки снимай… И начинает раздевать мальчика. — Я сам… Расшнуровывает ботинки, намокшие шнурки плохо поддаются его усилиям, разматывает обмотки, снимает штаны… — Понимаешь, пришел паровоз, все кинулись. Шут его знает, что тмит мозги человеку. Все бегут, и я бегу. Добежал до вагона и вдруг — ты. А поезд трогается. Бежать до паровоза уговаривать машиниста? Не добежишь и не уговоришь. Слышу крик: «Бидон, бидон! Где мой бидон?» Поезд уходит. Бегу обратно… Не в таких переделках бывали… Степная летняя ночь, от ветерка познабливает, но как-то не так одиноко, не пропал, выкарабкался… — Посидим или пойдем? — спрашивает солдат. — Пойдем. — Обмотки я через плечо перекину, обвянут пока, утром высохнут, ботинки в руки, бидон… — Он поднял с земли бидон, покачал в руке. — Водичка, она нам еще пригодится. И портки не надевай, здесь только мышей стесняться… Пошли вдоль железнодорожного полотна. Сейчас бы чаю с медом, но можно прожить и без чая. Андреев, оказывается, знал, кого выбрать в попутчики. Шли не спеша, острые камешки больно вдавливались в ступни, пахло полем, по другую сторону насыпи свиристела какая-то птица. — Вы добрый, — сказал Славушка. — Нет, я не добрый, — возразил солдат. — Я злой. — Какой же вы злой, — не согласился Славушка, — отстали из-за меня… — А ты знаешь, как я людей убивал? — сказал солдат. — Ужас! — А почему ж вы тогда остались? — Партийное правило: разве может коммунист оставить человека в беде? — Он замолчал, и Славушка молчал. Некоторое время шли молча. — Будь я в правительстве, я бы закон такой установил: если коммунист оставил кого без помощи, — расстрелять… — Он опять помолчал, прищелкнул языком и сказал уже мужицким рассудительным тоном: — Впрочем, все это пустяки. А вот шинель моя уехала и твой мешок. Это, брат, хуже… Тут только Славушка вспомнил о мешке, но ему не было жаль ни мешка, ни жалких своих вещичек, лишь фунтик с конфетами жаль, которые не сумеет он передать Фране. В Мохово пришли за полночь, на полустанке царила тишина, не подавали голоса ни собаки, ни петухи, собаки только разоспались, а петухи еще не проснулись. Полустанок решили миновать, топать до Архангельской, там отдохнуть и обсушиться, но не успели они войти в зал, как их увидела не то уборщица, не то стрелочница: солдат и мальчик… — Вы от поезда не отстали? — Догоняем, — усмехнулся солдат. — К дежурному иди, — сердито сказала женщина. Дежурный, к их удивлению, выдал им и шинель и мешок, попутчики по вагону сдали в Архангельской вещи отставших пассажиров дежурному по станции. — А ты говорил! — сказал солдат, хотя Славушка ничего не говорил. — Люди теперь на чужое зарятся меньше. Оба повеселели, и, поскольку поезда до вечера не предполагалось, решили идти до Залегощи пешком. Мальчик сменил носки, надел на плечи мешок. Его спутник расправил шинель, бант с нее где-то свалился, однако конфеты в кармане лежали нетронутыми, перекинул ее через руку, и они зашагали дальше. Слава спросил, что будет делать солдат дома, впрочем, дома, как явствовало из его слов, у него уже не было. — Хочу дожить до мировой революции, — сказал тот. — Хочу, самолично покарать хоть одного миллиардера. А пока дело до мировой революции не дошло, он намеревался помириться с женой и организовать в селе сельскохозяйственную коммуну. Так, за разговором, дошли до Залегощи. Пешим ходом солдат порастряс свой живот, скрутило его, покряхтывает, лицо землистое, осунулся. — Отдохнем? — предложил он. — Нет, пойду, — отказался мальчик, — а то не успею домой до вечера. Оба поглядели на бидон. — Возьми, — сказал Слава. — Пригодится. — Спасибо, — обрадовался солдат. — Мало ли что в дороге… Они постояли, поглядели друг на друга. — Дождусь поезда, — виновато сказал солдат. — Мне за Верховье. Не выдёжу… — Счастливо тебе. — И солдат пошел с платформы в зал, банта на шинели не было, но все-таки это был человек с красным бантом. А Слава зашагал, один уже, на Верхнее Скворечье, делать мировую революцию в Успенской волости. 56 Какая одинаковая страна! Поля, поля, лески, перелески, рощицы, ложбинки, холмики, серые дороги, приземистые ветлы по обочинам, все одинаковое, все одно и то же, и какая неповторимая в каждой своей подробности, справа поле, и слева поле, слева в поле рожь стеной, желтеют тяжелые колосья, поле добрых рук, а справа сурепка, васильки, просвет за просветом, и рожь белесая, хилая… Одна ложбинка, как могила, грустна, а в другой — жизнь: гвоздички, кашка, стрекот, кузнечики, ветла распушила свои ветви и сладкая тень нависла над шелковистой травой! Так, помаленьку, шел и шел себе комсомольский работник 20-х годов — Слава Ознобишин по пыльной и мягкой дороге, от Залегощи через Скворечье на Туровец, от ложбинки к ложбинке, от ветлы к ветле, и так-то ему легко шлось, как, может быть, никогда в жизни. Он шел и думал, что не поедет в Малоархангельск, не поедет туда на работу, вот и все. Да и зачем ему туда ехать? Андреева нет, Андреев едет на фронт, а может быть, и доехал. А что ему делать в Малоархангельске без Андреева? Кто поддержит, кто поможет, с кем пойдешь искать истоки Оки? Он хоть в этом себе не признавался, а без поддержки, без крепкого рядом плеча ему еще трудно. А тут рядом Быстров и отругает иной раз, а в обиду не даст… Эх, Степан Кузьмич, Степан Кузьмич, крестный ты мой отец! Славушка все более чувствовал себя виноватым перед Быстровым, не так надо было говорить в укоме с Шабуниным, надо было сказать — в Успенском я родился, в Успенском я и помру. Недалеко от Скворечьего Славушку нагнал хилый мужичонка с всклокоченной рыжей бороденкой в разболтанной телеге, запряженной таким же рыжим одром, как и его хозяин. — Садись, вьюнош, — предложил мужичонка. — Подвезу. Славушка с опаской покосился на рыжего пегаса. — Ничего! — воскликнул мужичонка, поняв опасения мальчика. — Как-нибудь дотрясу. Он постучал кнутовищем по грядке, приглашая садиться, и Славушка сел: все лучше, чем топать пешком. Но мужичонка, видимо, решил показать стать своего коня, все подгонял, подгонял и, к удивлению Славушки, довольно скоро дотрясся до самого Туровца. Однако кроны лип над Кукуевкой завиднелись только к обеду. Здесь Славушка познакомился с Быстровым. Здесь впервые увидел Александру Семеновну. Как много они для него значат! В воздухе стоял немолчный гул. Липы цвели, и пчелы не прекращали работы. Вот бы людям организоваться в такие же коммуны, как у пчел… Миновал успенские огороды. Направо огороды, и налево огороды, а подальше школа. Иван Фомич со своим восемнадцатым веком внизу. Озерна, она уже присмирела, тихо катит свою воду по белым камням, и кирпичное здание волисполкома над ней — храм справедливости и свободы. Славушка свернул в исполком. Не терпелось рассказать о поездке в Орел. Первое знакомство с губкомолом! Один Кобяшов чего стоит! Хотелось поскорее сказать Быстрову о своем решении… Но исполком сегодня какой-то странный, мертвый какой-то исполком. Не то что в нем нет народа, но странный какой-то народ. Смутный и молчаливый. Как будто какое-то смятение в исполкоме, похуже того, что происходило во время эвакуации. Славушка вбежал в коридор. Из-за двери несется глухой гул… Что там у них происходит? Дмитрий Фомич, как всегда, за своим дамским столиком. На месте Быстрова неподвижно сидит Еремеев. У окна Семин. А наискось, у стены, Степан Кузьмич. Стоит и, ничего не видя, колотится о стену головой. И мычит. Так мычат заблудившиеся коровы. Все молчат. Точно так и должно быть. Славушка не знает — уйти или не уйти. Быстров отходит от стены, стоит, пошатываясь, посреди комнаты. Глаза у него сухие, стеклянные. Славушка делает несколько шагов к нему. Быстров идет к Славушке, проходит мимо и выходит из комнаты. Он даже не заметил его. Прошел, как сквозь Славушку, и ушел. За окном какой-то шум. Точно пронеслась за окном черная птица. Минуту спустя Славушка догадывается, что это пронесся на своей бедарке Степан Кузьмич. Дмитрий Фомич осторожно выбирается из-за стола, грузно ступает по комнате, берет Славушку за руку и ведет прочь. — Иди, — сипло говорит он в коридоре. — Жену, понимаешь ли, убили у Степана Кузьмича… В дверях Славу встречает мама. Слава богу, мама цела! — Славушка!… Он замирает в ее объятии. — Как я переволновалась! Я уже Степану Кузьмичу говорила: разве можно было тебя отпускать? Неизвестно с кем… Он у мамы, как под крылом. Он еще совсем маленький, и ему становится страшно, как бы это он утонул в колодце, так и не ощутив еще хоть раз это тепло. — Ну вот, наконец-то… — Мама знает уже об убийстве. — Ты знаешь, это такой ужас. Я об Александре Семеновне. Говорят, у Степана Кузьмича убили жену. Еще ничего не известно. Ты не ходи к нему. Не мешай… Она гладит Славушку по голове, точно это его едва не убили. Откуда-то со двора появляется Петя. — Приехал? — Он в пылу хозяйственных забот. — Мам, я на хутор! Слав, я тебе сегодня яблок привезу! Скороспелочка. В-во! И, не дождавшись ответа, так же стремительно исчезает. — Это ужасно, — говорит мама. — Ты знаешь, Петя, оказывается, курит… Но Славушке сейчас не до Пети. Боже мой, давно ли он жил у Александры Семеновны… — Ты будешь есть, спать? — Поем… — Я сейчас приготовлю. Он идет в свою комнату, присаживается на мамину кровать, она опять перебралась с дивана на кровать, прижимается лицом к маминой подушке, вдыхает мамино тепло и мгновенно, ничего не слыша, не замечая, засыпает. Просыпается под вечер и идет в исполком. В исполкоме все уже более или менее нормально. Но ни с кем здесь не хочется говорить. Он идет к дяде Грише. Тот сидит у себя в сторожке и курит самосад. Дядя Гриша — местное информационное агентство. С утра все было спокойно. К обеду на рыжем мерине, подпрыгивая на рваной попонке, примчался заполошный подросток. «Я от Игната Лукича!…» Игнат Лукич Лавриков — председатель Ивановского сельсовета. «Мне бы этого… Быстряка!» Поздно утром девчонка Чухляевых понесла учительнице молоко. Александры Семеновны не было видно. Девчонка поднялась на крыльцо, прошла через прихожую к знакомой двери, открыла… Александра Семеновна лежала на полу. Девчонка ахнула, выронила крынку и опрометью кинулась в деревню. Через несколько минут в школе собралась вся Ивановка. Лавриков тут же снарядил подводу в Покровское. За врачом. Хотя во враче Александра Семеновна уже не нуждалась. Ее зверски зарубили топором. Должно быть, ночью. Все в комнате было перевернуто, шкаф раскрыт, платья сорваны, одеяло на кровати в крови. Даже клетка валялась на полу, разбитая чьими-то сапогами. Но ехать в волость отказывались все, никто не брался сообщить Быстрову страшное известие. Лавриков отправил одного из подростков. Это было все, что знал дядя Гриша. Мало что прояснилось и через несколько дней. Прибывший из Малоархангельска следователь два дня допрашивал всю Ивановку и ничего не установил. Александру Семеновну убили ночью, это подтвердилось. Но кто и почему… С целью грабежа? Во всяком случае, к такому выводу пришел следователь. Похищены носильные вещи, белье, какие-то мелочи. Рассчитывали, что она богаче. Жена председателя волисполкома. Сколько конфискаций и реквизиций провел! Думали, что-нибудь да прилипло к рукам. На том и покончили. Какие-нибудь проезжие бандиты. Ищи ветра в поле! Хоронить Александру Семеновну в Успенском Быстров не захотел. Повез в Орел. Из Мохова вызвали Фрола Егоровича Евстигнеева, работавшего до революции в Орле краснодеревщиком. Приказали сделать гроб из лучших дубовых досок. Сам Быстров слетал в Малоархангельск за кумачом. На сутки Александру Семеновну поставили в школе, а ночью, чтобы без лишнего воя, Быстров сам повез жену в последний путь. Похоронил ее рядом с ее отцом. Александра Семеновна не пережила отца даже на год. Славушка боялся встречи с Быстровым. Что сказать? Как выразить свое сочувствие? Дня через два по возвращении из Орла Степан Кузьмич сам вызвал Славушку. — Чего не показываешься? Как съездил в Орел? Надумал в Малоархангельск или будешь держаться Успенского? Спокоен, только лицо посерело и глаза остались стеклянными. Слава стал докладывать. Степан Кузьмич не перебивал, слушал. Когда Слава сказал, что Андреев уехал на фронт, заметил: «Настоящий человек», — и снова стал слушать. Потом вдруг спросил: — В Ивановку со мной не проедешься? Слава замер. — Зачем? — За вещами, — произнес Быстров равнодушным голосом. — Там от Александры Семеновны кое-какие вещички остались. Горько ехать в Ивановскую школу, но и отказаться нельзя. Забрались в бедарку, запряженную неизменной Маруськой, понеслись знакомой дорогой туда, где уже никто их не ждал. Вот она, эта страшная комната. Те же на этажерке книжки. Тот же чайник на столе. Кровать застелена чистой простыней. На табуретке узел, завернутый скатертью со стола. Вероятно, это и есть вещи Александры Семеновны. У стены чемодан с бумагами Корсунских. Все как было. Но пустынно и одиноко. Степан Кузьмич сел на табуретку возле стола, постучал ручкой чайника по чайнику. — Да. Вот и нет с нами Александры Семеновны… Голос его обычнее обычного, удивительная в нем монотонность, несвойственная Быстрову. — Жалко Александру Семеновну! Слава молчит. Что он может сказать? — Ну а что ты обо всем этом думаешь! Что может он думать! — А ведь это не ее убивали, — говорит вдруг скрипучим голосом Быстров. — Это меня убивали. — Как?! — А так… Больше Быстров не говорит ничего. Встает, берет в руку узел, кивает на чемодан: — Бери… И вдруг о стекло окна начинает биться птица. Канарейка! Должно быть, резкое движение Быстрова, когда поднимал узел, спугнуло ее откуда-то со шкафа. Птица бьется, трепещет. — Хм, — задумчиво говорит Быстров. — Значит, ты уцелела? Клетку разбили, а ты ускользнула из-под сапог? Подходит к окну и распахивает раму. Канарейка исчезает в сиянии голубого дня. — Поехали! Слава с трудом выволакивает чемодан. Останавливается на крыльце. Прощай, Ивановская школа! Больше он сюда не поедет. Все здесь пойдет своим путем. Приедет новая учительница. Поселится в комнате Александры Семеновны. Будет учить детей. Будут учиться дети. Решать задачки. Заучивать стихи. О весне. О природе. О птичках. Вчера я растворил темницу Воздушной пленницы моей, Я рощам возвратил певицу, Я возвратил свободу ей. О канарейке, которая околеет завтра в наших русских лесах! 57 Умилительно открыта Поповка: если встать лицом к селу, слева от дороги — домики в заросших палисадниках, обиталище местного духовенства, справа — храм и косо, точно мост между церковью и деревней, здание церковноприходской школы, школы первой ступени, как называют ее теперь, — первая ступень от прошлого к будущему. И нет места уютнее крыльца школы, — шесть ступенек, шесть ступеней, хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, шестью три восемнадцать, аудитория на восемнадцать человек, но никаких тебе ни столов, ни стульев. Вот это-то крыльцо и облюбовали Ознобишин, Саплин, Сосняков, Орехов со товарищи. Солнышко на исходе, но еще в рабочем состоянии, еще светло, тепло, хотя пятый час пополудни, а ведь кое-кому добираться до Критова, до Рагозина, до Козловки. В Успенском ночевать не с руки, до Рагозина ни за что дотемна не добраться, один Саплин так себя поставил в Критове, что ему всегда занаряжают лошадь, когда собирается в волость. Председатель сельсовета Иван Васильевич Тихменев вообще-то прижимистый и не такой уж пугливый мужик, страсть как боится — не Саплина, конечно, не Ознобишина, хотя тот подальше и, значит, пострашнее, а Быстрова, — чем черт не шутит, придет Быстров к молокососам на собрание — в чем дело, почему нет сочувствия молодому поколению. Товарищ Саплин, как же это вы домой топать будете? Вызвать ко мне критовского председателя, подать сюда Тихменева, что ж это вы, Иван Васильевич, наше будущее, нашу надежду заставляете пешком бегать на собрания, где обсуждается, между прочим, и вопрос о строительстве коммунизма?! Мягкий свет окутывал и церковь, и палисадники, и крыльцо школы, и зеленый вырезной лист по-над школой на молодых липках. Слава на перильце, Саплин на верхней ступеньке, Сосняков пониже, рядом Карпов, еще пониже Орехов. Слава сегодня наряден, в шелковой зелено-желтой — блеск, изумруд! — косоворотке, сшитой из подкладки, выпоротой из офицерского Федора Федоровича кителя. Большинство ребят босиком, Саплин и Сосняков в чунях, а на Славе ботинки, наимоднейшая сейчас обувь в Успенском, с холщовым верхом, на деревянной подошве, тщательно выбеленные утром зубным порошком и даже под вечер пахнущие мятой. — Заседание считаю открытым. На повестке дня один вопрос: распределение остатков керосина. Сложнейший вопрос по тем временам! Два народных дома, шесть изб-читален, двенадцать ячеек, пятнадцать школ… — Осталось-то много? — Восемь с половиной фунтов. — Оставалось одиннадцать с половиной? — Три фунта взял Степан Кузьмич для волисполкома. Ни протокола не ведется, ни ведомости на керосин. Все в уме, все в памяти, все на честном слове. Керосин под замком, ключ у Славы, кому же хранить золотой запас, как не председателю волкомола, никто не подумает, что Слава может взять себе хоть каплю: общественная собственность свята и неприкосновенна. Как же распределить оставшиеся восемь с половиной фунтов? Керосин нужен всем. По фунту на избу-читальню, по полфунта на школу или на ячейку. Все равно что ничего. По три фунта на каждый Народный дом. Обойдутся. И еще два фунта Успенскому народному дому. На волостные собрания и съезды. Из этих двух фунтов один фунт на волостной съезд молодежи. Итого шесть фунтов. Избам-читальням не давать. Читать газеты и книги при дневном свете, а вечером по возможности на завалинке. Полфунта волкомолу. Фунт в резерв. Остается еще фунт. По полфунта тем ячейкам, где особенно активничает кулачье. Обсуждается ход классовой борьбы в волости. В Черногрязке кулаки сильны, но там они боятся Пахочкина. В Критове сильны, но там коммунисты не дают себя перекрикивать. В Рагозине кулаки дружны и чуть что скопом наваливаются на бедноту. Рагозинским комсомольцам полфунта! В Дуровке кулаки есть, но проявляют себя слабо. А в Козловке тишина, но очень уж подозрительная, и подпрапорщик Выжлецов наверняка вернулся с оружием, купил ветряк и никого из комбеда не допустил на мельницу. Козловская ячейка слаба, тем более дать ей полфунта. Придется ехать туда… — Товарищи! Два и два плюс два, и полфунта, и фунт, и по полфунта… Голосуем решение в окончательном виде. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Ты почему, Сосняков, воздержался? — Потому что нечего резерв оставлять, да и волкомол обойдется без керосина. — Значит, против? — Не против, но лучше еще двум ячейкам по полфунта, и нам в Рагозино полфунта, не учитываете обстановку. — Кто за предложение Соснякова? — Я не предлагаю, а объясняю. — А когда, ребята, будет у нас керосина, как молока? Карпов высказал общую мечту. — Лет через десять, думаю, — предположил Саплин не очень уверенно. — Через десять! — Слава не выносит пессимистических прогнозов. — Сказал! Через десять лет мировая революция произойдет, а ты только о керосине мечтаешь! — А когда? Вопрос конкретный, точно речь о поездке в соседнюю деревню, это Елфимов, спокойный, обстоятельный парень, не бросает на ветер слов. — Прогонят буржуазию из Баку, наведут порядок и повезут керосин по всей России… Солнце еще высоко, в самый раз расходиться, чтобы засветло добраться по домам, но тут возникает вопрос поважней керосина. — Так ты думаешь, что раньше чем через десять лет, мировая революция не произойдет? — Почему ж? Не считай меня пессимистом. Может, и раньше. — А через двадцать? — Что будет через двадцать лет? — Через двадцать… Полный социализм. — Где? — Во всем мире. — Не в одной же нашей волости! — Братцы, а ведь это плохо… — Что, коммунизм? — Да не коммунизм, а то, что через тридцать лет мы будем уже стариками. — Ты что ж, вечно молодым хочешь быть? — Честное слово, ребята, не представляю себя стариком! — А представляешь, что у тебя будут дети? — Ты скажешь… У Славы розовеют мочки ушей, а у Орехова так и вовсе лицо залилось краской. Не то что эти подростки очень стеснительны, они живут в деревне, ничто для них не тайна, все естественно, дурные мысли редко закрадываются в детские головы, но всему свое время. — А почему ты считаешь, что мировая революция не задолжится? — А кого больше: рабочих или капиталистов? — Ну и что из того? — Что ж, люди не понимают своей выгоды? Один из них заговорил о выгоде, один из тех, кто за всю свою жизнь никогда и ничем не поступится ради выгоды. — Коммунизм… — задумчиво произносит Саплин. — Все мы за коммунизм… — Что ты хочешь этим сказать? — Хочу понять… — Что? — Слава напряжен, насторожен, никому не даст уйти от ответа. — Договаривай. — Хочется знать: за какое такое будущее идет бой? Ты вот много читаешь. Рассказал бы нам… — Поправляется: — Доложил бы ты нам, какая-растакая… — Тут он проглатывает три слова, излюбленную свою присказку -…будет у нас жизнь при коммунизме? Слава не прочь помечтать о будущем. — Не будет эксплуатации человека человеком. Все орудия производства будут принадлежать не каким-то там отдельным личностям, а всему обществу. Отношения между людьми будут основаны на полном доверии друг к другу… Он как бы вьет-завивает веревочку, ввысь, вдоль колокольни, обвивает вокруг купола, закидывает в небо, и веревка висит, не падает, теряется в бесконечной вышине, и вот сойдут по ее изгибам архангелы, принесут на землю рай самого отличного изготовления! Подростки, что собрались на крыльце, выгибают головы как гусята, — то ли брат гусенок нашел червяка, тогда броситься и отнять, то ли просто теребит сухую веточку, тогда не стоит бросаться. — Ты нам попроще, — просит Саплин, — как все будет практически: кто будет нами управлять… — Он произносил не «практически», а «прахтичецки», он недавно узнал значение этого слова. — Ты нам прахтичецки… Солнце потускнело, повисло обок колокольни, зато колокольня неслась ввысь, купол синел неистово, и гусята тянули шеи, смотрели на купол, точно он впервые открылся им во всей красоте изогнутых линий, будущее висело перед ними в голубом небе более синее, чем небо, тянущееся ввысь, бирюзовая луковица совершенных пропорций. — Не будет на земле ни границ, ни застав, вот как у нас между волостями или губерниями. Иди куда тебе угодно! Хочешь, в Россию. Хочешь, в Китай. Везде выдают хлеб. Бесплатно. Сколько требуется. — Ну да? — усомнился Карпов. — Этак наберу я себе на год и ну лежать на печи? — И набирай. Только незачем. Хлеб в булочных каждый день свежий, а у тебя высохнет. Сам не захочешь грызть сухари. Доверие. Понятно? Бери сколько хочешь, и возьмешь сколько нужно, и никто не будет проверять, работаешь ты или не работаешь. Сам не захочешь обманывать людей, не захочешь сидеть без работы, просто не сможешь даже сидеть без работы, без работы с тоски умрешь. Все будут о тебе заботиться, и тебе захочется заботиться о всех, и никаких границ, иди куда хочешь и делай что хочешь, и будешь делать самое для себя интересное, самое приятное, к чему только лежит у тебя душа. И никаких паспортов, полная воля. Все умные и честные, никто и ни в чем не допустит никакого обмана. Люди будут понимать друг друга, образуется один всеобщий язык. Один язык, одна земля. Для всех… — Но ведь будет же кто-то лучше всех? — Как это понимать? — Будет же кто-то стоять во главе людей, во главе общества? — Нет! Каждый человек чем-то особенно хорош. Люди будут не выбирать, а управлять собою по очереди. Даже не управлять, а налаживать взаимоотношения людей в государстве. Впрочем, что я! Государств вообще не будет. Ни армии, ни милиции. Управление людьми будет происходить на добровольных началах. Некоторые, может, даже откажутся управлять другими. Какие-нибудь особые индивидуалисты. А другим, наоборот, будет нравиться обеспечивать порядок. Но все на общественных началах. Сегодня ты. Завтра я. А послезавтра он… Набежал ветер, не так чтоб очень сильный, шелестел листьями, точно перебирал старые письма… Наивные мечты. Наивные мечтатели. Но ведь все они почти дети. Подростки. Старшим исполнилось едва по семнадцати, а младшему не сравнялось и тринадцати лет. Поколение людей, родившихся в первые годы XX века. Вот они сидят, будущие отцы, отцы детей, родившихся в 20-е годы, сидят на школьных приступочках и мечтают, как будут жить при коммунизме… А ведь они еще только в приготовительном классе! Они еще ничего-ничего не знают, даже не предчувствуют, что им предстоит пережить… — А все-таки какой он такой, коммунизм? — не то спрашивает, не то просто думает вслух Карпов. Все они размышляют об этом, какой же он будет, этот самый коммунизм… Вот они берутся, да какой там берутся, уже взялись создавать будущее общество, в котором должны быть только работники, общество, в котором не должно быть никаких различий, а какое оно будет, этого они сказать не могут. Они знают лишь, что им суждена непрерывная борьба за его созидание, хотя вряд ли предчувствуют, какие небывалые подвиги им предстоит совершить и какие небывалые придется им пережить страдания. Это именно они воздвигнут Днепрострой и Магнитогорск. Будут голодать и холодать, но воздвигнут. Будут спать в морозы в неутепленных палатках и затыкать своими телами прорвавшиеся плотины. Это они преобразуют тысячи деревень, заставят своих отцов вступить в колхозы и тракторами взрыхлят межи своих земельных наделов. Будут над ними насмехаться, и стрелять будут в них из кулацких обрезов. Но сельское хозяйство они переделают начисто. И наконец, на их долю выпадет самая страшная и опустошительная война за всю историю человечества. Они вынесут все ее тяготы. Вынесут все. Отступление и поражение. Бесчеловечность противника. Пытки и плен. И победят! Им предстоят великие свершения и временные поражения. Они познают радость побед и горечь утрат. Но ничто не остановит их движения. Они не знают, что их ждет впереди, не знают, какие предстоят испытания, но строить социализм хотят немедленно, вместе со всеми людьми, населяющими этот тревожный и грабительский мир, не ожидая появления добродетельных личностей, выращенных в социалистических парниках, они хотят строить новое общество из того материала, который оставил им капитализм. Они сидят на школьных приступочках и мечтают все-все переделать в деревне, нет, они не ждут, что от написания сотен декретов сразу изменится вся деревенская жизнь, они не столь уж наивны, но, если бы они отказались от того, чтобы в декретах намечать свой революционный путь, они посчитали бы себя изменниками социализма. Эти подростки уверены в себе, даже больше чем уверены, они верят в свою миссию и убеждены в том, что сами лишены недостатков и слабостей капиталистического общества, они и не подозревают, что кто-то из них не дойдет до цели, что кто-то оступится, а кто-то и отступит, до их сознания не доходит, что, борясь за социализм, они вместе с тем будут бороться против своих собственных недостатков, они не предполагают, что кто-то из них даже сломается в этой борьбе, все это им еще недоступно, они лишь сидят сейчас на пороге своей школы и думают одну нерушимую думу: «Нас не испугают гигантские трудности и неизбежные в начале труднейшего дела ошибки, ибо дело переработки всех трудовых навыков и нравов — дело десятилетий. И мы даем друг другу торжественное и твердое обещание, что мы готовы на всякие жертвы, что мы устоим и выдержим в этой самой трудной борьбе — борьбе с силой привычки, что мы будем работать годы и десятилетия не покладая рук. Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: „Каждый за себя, один бог за всех“, чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью…» Сидя на ступеньках своей школы, они думали так или примерно так и рассуждали о том, как будут жить люди при коммунизме, и в глубине души каждый представлял себе будущее по-своему. Ознобишину хотелось мировой революции, Соснякову — изгнать из деревни кулаков, а бедняков наделить хорошим инвентарем и живностью, а Саплину хотелось побольше всего для себя самого — просторной избы, полного закрома и хорошей бабы, красивой, ладной, ядреной… Этого батрачонка не очень-то обижали, даже когда он был батрачонком, а теперь, в ранге инспектора по охране труда подростков, он и вовсе стал грозой зажиточных мужиков, как-то исподволь прибрал он к рукам все Критово. — Однако ж конь у меня не кормлен, в другой раз не дадут, — рассудительно произнес Саплин, и даже шутит: — На голодном коне в рай не въедешь. Сам засмеялся своей шутке и пошел ловить лошадь, она паслась тут же за церковью меж могилок, всю траву общипала возле замшелых чугунных плит. — Кось-кось-кось… Кобыла не шла, Саплин обругал ее нехорошим словом. — А слабо! — сказал он, насмешливо глядя на Орехова. — Что слабо? — невинно спросил Колька. — А поймать! Колька тут же поймал, Саплин небрежно потянул поводья, подвел кобылу к безымянному кресту, поправил на спине попонку, стал ногою на нижний брус и тяжело взгромоздился. — Ну, бывайте! Тронул поводья, кобыла нехотя затрусила с кладбища. — Акты! Акты о батраках не забудь! — крикнул вслед Слава и виновато посмотрел на Соснякова. Тот тоже глядел на Славу, мрачен и строг, и, хотя солнце продолжало озарять землю янтарным благостным светом, на лице Соснякова лежала тень, тень тревоги за прямизну пути, за чистоту рядов, за незыблемость идеалов. — Все это фантазии, — холодно сказал он, предупреждая вопрос Славы. — Чем гадать, что будет через тридцать лет, лучше бы подумали о Корсунском, одной нашей ячейке с кулаками не совладать. Хлеба страсть, а запрятан так, что нипочем не найти, да и страшно, убьют. Приехали бы со стороны… — Значит, не искать? — упрекнул его Слава. — Зачем не искать? Сторонние найдут, а мы б подсказали… Сосняков никогда не охотился за журавлями, но синиц ловил без промаха: раз — яма с хлебом, еще раз — дезертир, еще раз — дрова, не для себя, для школы, для себя ни зернышка, ни полешка. Слава смотрел ему в глаза — неприятные глаза, в них злость и презрение, Слава понимает — он и его Презирает, хотя всегда голосует за Ознобишина. Понимают они друг друга с полуслова. — Приедем. — Ждем. Саплин на лошади домой через час притрухает, а Соснякову идти да идти. Саплин дома наестся досыта, а у Соснякова картошка небось есть и соль, может быть, даже есть, но уж простокиши забелить ее не найдется. — Пойдем, Иван, поужинаем у меня? Сказать это Славе нелегко, если он приведет Соснякова, накормить его накормят, но зато потом от колкостей Павла Федоровича не спастись. Однако Сосняков верен себе. — Кулацким хлебом не нуждаемся. — Прямо, без обиняков. Он терпит пока что Ознобишина, но помещает его за одну скобку с Астаховыми, эта алгебра еще даст себя знать. — Ну я пошел. — А керосин? — Однова не понесу, пришлю кого за керосином. Сосняков не доверяет даже самому себе, керосин получат, привезут, и выдавать его будет на глазах у всех, чтобы чего доброго не сказали, что он хоть каплю израсходовал не по назначению. Сосняков уходит неторопливым, размеренным шагом. Так вот и прошагает все четырнадцать верст до Корсунского. Карпов не прочь получить свою бутылку сейчас, но у Славы нет настроения пачкаться, он точно не замечает, как Карпов переминается с ноги на ногу. Уходит и Карпов. Все уходят. Слава остается в одиночестве. Он не прочь заглянуть к Тарховым. Соня или Нина сядут за фортепиано, и тогда прости-прощай классовая борьба! Солнце припало к горизонту. Вот-вот побегут розовые предзакатные тени. Резко пахнет сырой землей. У Тарховых уже играют на фортепиано. Славушка давно сошел с крыльца и бродит меж могил, где покоятся вечным сном попы, помещики и церковные старосты. Он размышляет о Соснякове. Тот не любит его, и Славушка его не любит. Но лучшего секретаря для Корсунского не найти, да и Сосняков, должно быть, понимает, что Ознобишин сейчас больше других подходит для волкомола. Ботинки Славушки намокают в траве, мел легко впитывает влагу, вечером снова придется чистить и зубы и башмаки. Но кто это трусит по дороге? Со стороны общедоступного демократического кладбища? Можно сказать, даже мчится, если судить по энергии, с какой всадник нахлестывает лошаденку? Кому это так невтерпеж? Саплин! — Я так и думал, что ты еще не ушел. С чего это он решил, что Слава не ушел? Ему ведь ничего не известно о чарах старинного фортепиано. Саплин сваливается с коня, как тюк с добром. — Чего тебе? — Мы ведь как братья… Что он там бормочет о братстве? Неужели совершил какой-нибудь проступок, в котором не осмелился признаться при всех? Он неистов в своей революционности, но революция для него не столько цель, сколько средство. — Понимаешь? Завтра воскресенье. Для авторитета. Я верну, по-братски… Саплин просит на воскресенье рубашку, желто-зеленую шелковую рубашку, которая очень возвысит его в Критове. — Среди хрестьян, — говорит Саплин. «Среди девок», — думает Слава, однако стаскивает с себя рубашку, Саплину рубашка нужнее — братство, так уж пусть действительно братство. Взамен Саплин снимает куртку из грубого домотканого сукна, хотя вечерний ветерок дает себя знать. — Не надо, дойду, а тебе ехать, даже удивительно, как холодно. Саплин скачет прочь, а Славушке остаются лишь мечты о фортепиано, в нижней рубашке к Тарховым не пойдешь. 58 Славушка бежал из нардома, сделав, правда, изрядного кругаля, заскочил на минуту к Тарховым, он все чаще обращал внимание на Симочку, от Тарховых славировал на огороды и тут встретил Федосея, несшего под мышкою детский гробик с таким видом, точно где-то его украл. — Хороним, — просипел Федосей, не замедляя шага. — А где ж папа с мамой? — удивился Славушка. — Папа мельницу налаживает, заставляют пущать, — пояснил Федосей. — А Машка подолом мусор метет! Вот и кончилась жизнь, не успев даже начаться… Возле дома Славушка встретил родителей усопшего, взявшись за руки, они шествовали, видимо, в церковь. Павел Федорович в новой суконной тужурке, а Машка в шелковой красной кофте и зеленой шерстяной юбке, наряжаться, кроме как в церковь, некуда. Впрочем, Славушке не до соболезнований. Быстров мало говорил после смерти жены, но все ж как-то на ходу заметил: — Подготовили бы новый спектакль, мельницу запустим со дня на день, хорошо бы день этот застолбить у мужиков в памяти. Пуск астаховской мельницы для Успенской волости то же, что для всей страны Волховстрой. Первое промышленное предприятие. Степан Кузьмич не переоценивал события. Павел Федорович возился на мельнице с утра до ночи, Быстров то и дело его поторапливал: — Не ссорьтесь с Советской властью, гражданин Астахов, от души советую, не замышляйте саботаж, может, и сохранитесь, врастете в социализм. «Пожалуй, и вправду сохранюсь», — думал Павел Федорович и ковырялся в двигателе. Механик из Дроскова отказался ехать в Успенское, не подошли условия, но Быстров правильно рассудил, что Павел Федорович справится с мельницей не хуже того механика, мельницу построил, а механика не искал, сам собирался вести дело. Еремеев и Данилочкин напали на Быстрова. — Начнет с мельницы, всех мужиков приберет к рукам, — ворчал Данилочкин. — Самоубийство! — решительнее кричал Еремеев. — Взорвет изнутри! — Так иди на мельницу сам, если соображаешь в машинах, — саркастически возражал Быстров. — В том и фокус, что нам приходится строить социализм из элементов, насквозь испорченных капитализмом. Свою позицию Быстров определял так: — Многие убеждены в том, что хлебом и зрелищами можно преодолеть опасности теперешнего периода. Хлебом — конечно! Что касается зрелищ… Зрелищами руководил Ознобишин. Спектакли ставил, разумеется, Андриевский, но надзор осуществлял Славушка. Он и мчался сейчас домой, чтобы обдумать предложение Андриевского, тот предлагал инсценировать «Овода», сам брался изобразить кардинала Монтанелли, а Славушке предлагал соблазнительную роль Артура. Вера Васильевна сидела за столом и кроила какие-то тряпки. Славушка схватил книжку и устроился у окна. За окном шелестела отцветшая липа, и лишь шиповник под окном никак не хотел отцветать. Пощелкивали ножницы, шелестели страницы. — Знаешь, мам, возможно, мы скоро расстанемся, — оторвался от книжки Славушка. — Скоро конференция. — Какая конференция? — Уездная. Комсомольская. — Съездишь и вернешься. — Меня могут выбрать в уездный комитет, тогда придется остаться в Малоархангельске. — Жениться ты еще не собрался? Славушка сделал вид, что не понял иронии. — Не путай, пожалуйста, общественную и личную жизнь. — А по-моему, жизнь нельзя разделять… — Может быть, придется поехать даже в Москву. — А это еще зачем? — Если выберут на съезд. — Вот этого я бы даже хотела, — мечтательно сказала Вера Васильевна. — С Москвой не надо терять связь. Надеюсь, ты зайдешь к дедушке? Дед всегда импонировал ему начитанностью, памятью, снисходительностью… — И к Арсеньевым надо зайти… Мама великодушна, не помнит обид: настороженность тети Лиды и ее мужа были оправданны. — И к дяде Мите… А вот к этому не зайдет. Собственно, это не дядя, а дядя отца, двоюродный дедушка. Профессор! Но из тех профессоров, которые презирают Россию… — Нет, мамочка, к дяде Мите я не пойду, — твердо заявляет Славушка. — Принципиально не пойду. — Это ты книжек начитался? — Нет, мамочка, принципы мне прививали не книжки, а папа. Лучшего он не мог сказать матери, дольше она не хочет скрывать от сына свой сюрприз. — Видишь, что я шью? Тебе давно этого хотелось… Как он ненаблюдателен! Ведь это же мамина юбка! Юбка от синего шерстяного костюма. Но это уже и не юбка, это галифе, о которых давно мечтает Славушка. Милая мама! Не пожалела юбку! — Мамочка!… — Тебе ведь хотелось… Это больше, чем желанная обновка, это значит, что мама признала его как политического деятеля. Есть в чем показаться в Малоархангельске! Еще револьвер, и он будет выглядеть не хуже Еремеева. Что бы сделать для мамы?… На этажерке, за книгами, у стенки, кулечек с конфетами. Конфеты Франи Вержбловской. Записку Андреева Слава отправил в Малоархангельск с Еремеевым. Тот ехал в уездный исполком и обещал занести письмо в укомол. Но послать с ним конфеты не решился. Еремеев способен отдать конфеты первой приглянувшейся ему девке… Кроме этих конфет, ему нечего предложить маме… Славушка вытаскивает кулек из-за книг, отсыпает немного леденцов и прячет кулек обратно. Подходит к матери, высыпает перед ней леденцы. Мама удивлена. — Это нам выдавали в Орле, привез и забыл… — Ну и ешь сам! — Мамочка!… — Ну хорошо, хорошо… Вера Васильевна собирает конфеты со стола, будет ждать возвращения Пети, разве может она съесть хоть что-нибудь без своих детей? Теперь сбегать к Быстрову, сказать о спектакле… Славушка стремглав мчится к волисполкому. Дорогу ему преграждает Дмитрий Фомич, против обыкновения он не на обычном месте, а со скучающим видом толчется в коридоре. Однако он не успевает задержать Славушку, и тот влетает в комнату президиума. Степан Кузьмич на диване. Прямо против него стоит женщина, длинная, худая, у нее миловидное лицо невероятной белизны, осыпанное, несмотря на август, крупными рыжими веснушками, и в голубом платочке, из-под которого смотрят большие голубые глаза, ей лет тридцать. Позади женщины двое детей, девочка и мальчик, погодки, лет восьми-девяти, тоже очень беленькие, с льняными шелковистыми волосами. Степан Кузьмич не обращает внимания на Славу. — Ну чего, чего тебе от меня? — неуверенно обращается он к женщине. Женщина молчит. — Пойми, ты требуешь от меня невозможного, — продолжает Степан Кузьмич. Женщина молчит, и Славушка понимает, что ему нельзя здесь находиться. — Извините, — шепотом произносит он, выходит… И сразу натыкается на Дмитрия Фомича. — Куда ты?! — запоздало говорит тот. — Туда нельзя… Славушка растерянно смотрит на Дмитрия Фомича. — Занят Степан Кузьмич, — бурчит Дмитрий Фомич. — С женой объясняется. Славушка изумляется еще больше: — С какой женой? Дмитрий Фомич приглаживает ладонью усы. — С какой, с какой… С самой обыкновенной. — Но ведь Александра Семеновна… — Со старой женой, с рагозинской!… — Дмитрий Фомич с сожалением смотрит на мальчика. — От Александры Семеновны, брат, только туман остался, а эта живой человек, мириться пришла. — Но это же невозможно, Дмитрий Фомич… — Славушка кинул взгляд на закрытую дверь, из-за которой несся тихий говор. — После Александры Семеновны… — Все, брат, возможно, — снисходительно произносит Дмитрий Фомич. — Не знаешь ты еще, парень, жизни. — Нет, он не помирится, — уверенно говорит Славушка, поворачивается и медленно идет прочь. — Еще как помирится! — слышит он за своей спиной… «Нет, нет, — думает Славушка, — это невозможно, Степан Кузьмич верен памяти Александры Семеновны…» Но все будет не так, как думается Славушке, а так, как говорит Дмитрий Фомич. 59 Каждый занят своим делом: Павел Федорович с Надеждой режут для коров резку, Федосей с помощью Пети налаживает плуг, Марья Софроновна варит вишни на меду, запасается на зиму вареньем, Вера Васильевна пишет письмо полузабытой московской знакомой… А Славушка — Славушка за книжкой по истории юношеского движения. Тут в комнату врывается Петя. — Тебя Мишка спрашивает! — Какой еще Мишка? — Карпов, из Козловки. Говорит, поскорей… — Пусть сюда идет. — Да он не идет! Говорит, пусть Славка выйдет… Не успел Слава сойти с крыльца, как к нему кинулся Мишка. — Ой, Славка, идем скорее! Он сегодня какой-то чудной, Мишка, всегда такой аккуратный, а тут неподпоясанный, в посконных портах, босой. — Идем в дом… — Нельзя, нельзя! Мишка торопится, увлекает Славу за собой, опускается на корточки, вынуждая Славу поступить так же, скороговоркой роняет торопливые слова: — Бегом я, через овраг, межами… Степана Кузьмича надо бы! Выжлецов, что мельницу купил… Маменька моя пошла овцу искать, встрелась с выжлецовской Донькой, молодайка его, та, грит, слав те господи, приехали сегодня к мому из Куракина, хоть вздохнем, увезут седни ночью нашу оружию, тогда пускай хоть сам черт приходит на мельницу, думают, он против власти, а там оружия… — Откуда приехали? — Да из Куракина, из Куракина, я ж объясняю… — А за каким оружием? — Ну, спрятано, значит, у Выжлецова… Мальчики перебегают площадь, волисполком стоит во тьме черной громадиной, за окном тусклый свет. Быстров за столом, перед ним лампа, склонился над бумагами. Шепотом: — Степан Кузьмич… После смерти Александры Семеновны Быстров даже злее стал на работу, до поздней ночи на ногах, а вот, чтобы поговорить, пошутить, этого теперь с ним не случается. — Что у тебя? Я тут декреты для сельсоветов сочиняю… — Степан Кузьмич, тут Карпов к вам… — А что у него? — Оружие увозят… — Какое оружие? — Быстров встрепенулся. — Зови-ка его сюда. Он расспросил Карпова за несколько минут, сразу все понял и все объяснил ребятам: Выжлецов — неясная фигура, пришел с фронта, льнет к кулакам, а Куракино, вся Куракинская волость, эсеровская цитадель, и там, вероятно, собирают оружие, чтоб было с чем выступить против Советской власти. Погладил Карпова по волосам. — Посидите здесь… Оставил ребят в исполкоме, отсутствовал с четверть часа, позвал мальчиков на улицу, у крыльца Григорий с двумя оседланными лошадьми. — Садись! — Быстров, указал Карпову на Маруську, на которой не разрешалось ездить никому, кроме ее владельца. — За пятнадцать минут домчит тебя до твоей Козловки. На огородах слезешь и пойдешь домой, а коня отпусти, только повод оберни вокруг шеи. Сама придет обратно. И чтоб все тебя видели, чтоб ни у кого мысли, что ты здесь был. Узнают — могут убить. Понятно? — Спасибо, Степан Кузьмич. — Дура, — с невыразимой лаской промолвил тот. — Это тебе спасибо. Нам тебя сохранить важно. Подсадил Мишку на Маруську, шлепнул лошадь по боку, и она тут же пропала в темноте. Подошел к другой лошади, проверил подпругу. — А теперь следом и я… — Степан Кузьмич… — У Славушки задрожал голос. — Можно и мне… Быстров резко обернулся: — Не боишься? — А вы? — У меня должность такая… — Славушка не увидел, услышал, как Быстров усмехнулся. — А впрочем… садись за спину, коли удержишься! Он вскочил в седло, подождал, пока сзади взгромоздился Славушка, и тронул поводья. — Вернусь завтра, — на ходу бросил он Григорию и осторожно направил коня вниз, к реке. Над водой стлался туман, никто не попался им по пути, только где-то на дальнем конце села повизгивала гармонь да лениво брехала собака. Они пересекли Озерну и стали не спеша подниматься в гору. — Карпов нас минут на двадцать опередит, — как бы про себя заметил Быстров. — А тут и мы подоспеем… — Он на мгновение обернулся. — Однако держись. Подогнал коня, и Славушка крепче обхватил Быстрова. Ехали молча. Было тихо. Лишь слышно, как дышит лошадь, размеренно и тяжело, совсем непохоже на нервное и частое дыхание Маруськи. — Это даже неплохо, что явимся вдвоем, — внезапно произнес Быстров, отвечая себе на какую-то мысль. И опять замолчал, свернул на проселок, еле видимый в темноте, и сказал уже специально для Славушки: — Урок классовой борьбы… — Помедлил и добавил: — Для тебя. Они подъезжали к Козловке. Еще не поздно, а темно, над головами ни звездочки, все небо застлали черные облака, в домах еще ужинали, и девки только еще собирались в хоровод. Быстров придержал коня посередь деревни, припоминая, где живет Выжлецов, и затем уверенно направил к большой, просторной избе на кирпичном фундаменте с раздавшимся крыльцом. Они одновременно соскочили наземь. Быстров прикрутил повод к перилам, взбежал на крыльцо и без стука дернул на себя дверь. За столом чаевничали сам Выжлецов, его молодая жена, его мать и двое мрачных, незнакомых Быстрову мужиков. Быстров прямиком направился к хозяину с протянутой рукой: — Семену Прокофьичу… Слава видел Выжлецова впервые, он представлял его себе пожилым, рослым, неприветливым, а перед ним был сравнительно молодой, никак не старше тридцати лет, маленький, вертлявенький, плюгавенький человечек с рыжими усиками и крохотными голубыми глазками, моргающий, как вспугнутый зверек, внезапно ослепленный ярким светом. От неожиданности Выжлецов растерялся, вскочил, выбежал из-за стола, засуетился, полез в шкаф за чистой посудой. — Чайку с нами, Степан Кузьмич… На столе кипел медный самовар, в вазочке алело варенье, на тарелке ржаные коржики. Жена Выжлецова, миловидная молодая бабенка, и мать, сморщенная старушка, тоже поднялись из-за стола, но двое незнакомых мужиков даже не шевельнулись и только вопросительно поглядывали на хозяина. — Милости просим, милости просим, — продолжал Выжлецов, сглатывая слоги и расставляя чашки для новых гостей. — Рады, рады вам… — Ну, радоваться-то особенно нечему, — спокойно возразил Быстров, усаживаясь, однако, за стол, точно он и впрямь прибыл в гости. — И вы, и вы… — пригласил Выжлецов Славу. Слава, однако, не последовал приглашению, он чувствовал, как напряжен Степан Кузьмич, и понимал, что держаться надо настороже, ему была недоступна непосредственность, с какой вел себя Быстров, и на всякий случай остался у двери, и Выжлецов тут же утратил к нему интерес, дело было не в Славе. Незнакомые мужики вновь вскинули глаза на Быстрова. Оба были немолоды, видать, умны, серьезны. Один, с сивой бородой, отнесся к появлению гостей как будто безучастно, зато другой, бритый, чернявый, с резкими чертами лица, казалось, с трудом скрывает свое волнение, он то и дело постукивал пальцами по расстеленному на столе рушнику. — Председатель наш, товарищ Быстров, — ответил наконец на их немой вопрос Выжлецов и пододвинул к Быстрову вазочку с вареньем. — Да не суетись ты, — заметил ему Быстров и, увидев, как чернявый сунул было руку под стол, повторил эти слова уже для чернявого мужика: — И ты не суетись понапрасну. И сразу после этих слов за столом воцарилось молчание. Позже, перебирая в памяти подробности этого вечера, Славушка говорил себе, что именно в этот момент Быстрова должны были убить, во всяком случае, логика событий подсказывала такой исход, однако Быстров всегда предупреждал события. — Вы из Куракина? — быстро спросил он чернявого. Тот молчал. — Так вот, не будем шутить, — спокойно сказал Быстров, точно речь шла о самых обыкновенных вещах. — Я знаю, зачем вы приехали, и прямо говорю: ничего у вас не получится. Выжлецов раздвинул свои губки в улыбке: — О чем это вы, Степан Кузьмич? Однако мужики из Куракина не ответили, и Славушка догадался, что они прислушиваются к тому, что происходит снаружи. И Быстров, должно быть, догадался, потому что сразу сказал: — Да не слушайте вы, никого там нет, я один. Только само собой, куда я поехал, известно… — Он ласково посмотрел на чернявого. — И кто вы такие, тоже известно. Поэтому давайте по-хорошему. Не будем ссориться, выкладывайте свою пушку. И вновь произошло чудо: чернявый сунул в карман руку и положил на стол небольшой аккуратный пистолет. — Так-то лучше, — сказал Быстров и повернулся к Выжлецову. — На большой риск шел ты, Семен Прокофьич, всего мог лишиться, и мельницы, и семьи. Про твое оружие нам давно известно. Не знали только, где спрятано, но все равно нашли бы… — Он протянул руку, взял пистолет, опустил себе в карман. — Не надо беспокоить ни мамашу, ни супругу, идите-ка втроем, несите сюда оружие. И все трое — Выжлецов и его гости — молча поднялись из-за стола, вышли из избы и… вскоре вернулись, неся в руках и прижимая к груди винтовки. — Куды их? — безучастно спросил мужик с сивой бородой. — А хоть сюда… — Быстров указал на свободное место у окна, и кивнул Славушке: — Считай. — Десять, — сосчитал Славушка. — Отлично, — сказал Быстров и почти весело спросил Выжлецова: — А пулемет? Выжлецов удивленно посмотрел на Быстрова. — Тащи и пулемет! — строго приказал Быстров. — По-честному так по-честному. Выжлецов вновь вышел вместе с чернявым и внес в избу пулемет. — Все? — спросил Быстров. — Все, — подтвердил Выжлецов. Опять наступило молчание. Мужики стояли у двери. Быстров сидел. Он помолчал, поглядел на мужиков и… отпустил их. — Можете ехать, об остальном с вами будет разговор в Куракине. Мужики ретировались, и теперь один Выжлецов ждал распоряжений. — Не возражаешь, переночуем мы у тебя? — спросил Быстров. — Поздно уже с винтовками по оврагам блукать… Быстров так и сделал, как сказал. Лег на скамейку, даже принял от молодайки подушку, проспал в избе короткую летнюю ночь, а утром послал Выжлецова за председателем Козловского сельсовета Коломянкиным. Через час Быстров и Славушка шли за подводой, на которой везли в Успенское отобранное оружие. И снова Степан Кузьмич молчалив и невесел. Идет, почти не пыля, аккуратно отрывая от земли ноги. Поблескивает раннее солнышко, роса еще лежит на кустах и на траве. В небе заливается какая-то птица. — Как это вы не побоялись? Быстров быстро взглянул на мальчика. — Чего? — Остаться на ночь у Выжлецова. — Уйди мы, за деревней нас свободно могли прикончить, И концы в воду, докажи, кто убил. А тут известно, где ночевали… — А этих, куракинских… — Славушка повел головой в сторону, будто там кто стоял. — Почему вы их не арестовали? — Э-эх! — с сожалением протянул Быстров. — Слабый ты еще, брат, политик. Знаешь, как кулак обозлен на Советскую власть? К нему сейчас не с таской, а с лаской нужно. Оружия в деревню целый арсенал натаскали, и за каждую винтовку тащить мужика под замок? Помягче получше будет, скорей одумаются… — Он помолчал и вдруг улыбнулся. — А тех, кто к Выжлецову приезжал, будь уверен, тех возьмут на заметку. 60 — Не поеду… Не поеду! — кричит Тишка Лагутин. — Убей меня бог, не поеду… Он вправду не может ехать, лошадь у него ледащая, и телега не телега, а драндулет на ниточках, все палочки и втулочки скреплены проволочками и веревочками, в таком гробу не только в Малоархангельск, к богу в рай и то не доедешь — рассыплется. У Тишки крохотное морщинистое личико, редкие волосики, и он даже не кричит, а визжит: — Не поеду, и все тут! Баста! На остальных подводах по три человека, мужики выполняют трудгужповинность в «плепорцию», три человека — и все. — Ет-то што ж, пущай четыре, — визжит Тишка. — Ну, пять, куды ни шло, ну, шесть, разрази тя господь, ну, семь… А то во-о-симь! Во-симь! Не поеду… У всех по три, мужики тверды, а к Тишке лезут все, облепили, и ничего Тишке не поделать. Делегаты Успенской волостной комсомольской организации отправляются на уездную конференцию. Сто человек! Сто человек, язви тя душу! В прочих волостных организациях числятся по тридцать, по сорок, в Свердловской волости больше ста комсомольцев, а в Успенской чуть не полтысячи. Что они, белены объелись? Мобилизовано двадцать подвод для ста делегатов, а мужики больше чем по три делегата на подводу не садят, остальные норовят атаковать Тишку. — У меня не чистерна, а ти-и-лега! — визжит Тишка. — Вот хрест, лягу чичас и умру! Слава в отчаянии. И главное — всем делегатам, избранным на конференцию, разослали предписания: «Обязательно прибыть к шести часам вечера в порядке комсомольской дисциплины, обеспечив себя продуктами на три дня, никакие отговорки не будут приняты во внимание». — Иван, что же нам делать? — взывает Ознобишин к Соснякову. — Пусть едут, — невозмутимо отвечает тот, он бы, конечно, все бы организовал получше Ознобишина. — А мы пешочком… — Подразумеваются руководители волкомола, Соснякову не впервой мерить ногами расстояние от Корсунского до Успенского. Впереди крик. Катя Журавлева отняла у возницы кнут, стоит на телеге и лупит парней по головам, отгоняя от своего экипажа. На двух передних подводах девушки, они не пускают к себе парней, а парни пытаются их согнать. — Пешком дотрухаете, прынцес-сы! Неторопливо, вразвалочку, идет Дмитрий Фомич, волоча тросточку и поднимая за собой пыль. — В чем дело, вьюноши? — Не усядемся никак! — И не усядетесь… Вызывает из сторожки Григория. — Беги, дядя Гриша, до Филиппа Макаровича, пусть немедля занарядит еще десять подвод, скажи, все будет оформлено, в следующий раз занарядим из Туровца и Журавца, лишнего мужички не переездят… Через час прибывают еще десять подвод. Всю эту картину наблюдает Андриевский, пришел насладиться зрелищем беспорядка. Поманил к себе Славу: — В крестовый поход? — Точно, в крестовый. — А не погибнете? — Погибнем, если не пойдем. — Он посмотрел в нагловатые сапфировые глаза Андриевского: — И всякого, кто попытается соблазнять… — кивнул в сторону обоза, — будем расстреливать. Андриевский рассмеялся, хоть ему не до смеха. — Грозно! Слава взобрался на подводу, ехал с Ореховым и Саплиным, с Сосняковым ехать не хотел, привстал, нашел глазами Катю Журавлеву, махнул рукой: «Пора, трогайтесь». Стронулись легко, колеса смазаны дегтем, выдали на дорогу, Степан Кузьмич распорядился накануне, пусть наши комсомолята едут как следует быть. Тянет холодком с полей, стелется в низинах туман, плотнее прижимаются друг к другу делегаты, бредут понурые лошади, пахнет пылью и сыростью… Позади деревни, погосты, буераки. За всю дорогу лишь в одной деревушке, в одном оконце теплится огонек. Кто не спит? О чем думает? Недавно по этой дороге мчался Быстров со Славушкой, за три часа проделали они тогда путь, на который сегодня уходит вся ночь. Туман, как дым, стелется вверх, как занавес в театре, потянуло легким сладковатым запахом торфа, близок Малоархангельск… Дымят все трубы, во всех домишках варят картошку, Малоархангельск просыпается. Мужики на весь день располагаются табором на соборной площади, вечером повезут своих делегатов домой. — Ребята, в уком, зарегистрируемся, а потом кто куда… Андреева сменил в укомоле Донцов. Слава видел его мельком перед тем, как уехать с Андреевым в Орел. Слава запомнил только, что его отличала от всех зеленая студенческая фуражка. Донцов и вправду был студентом. Давно, до Октябрьской революции. Сын земского врача, он собирался пойти по стопам отца. Осенью шестнадцатого года поступил в Московский университет, а весной семнадцатого вернулся на родину. Зеленая фуражка мелькнула в окне, Донцов выбежал на улицу. — Что это? — Делегаты Успенской волости. — Сколько же вас? — По норме! Донцов схватился за голову: — Не могли прислать любую половину? Славушка не растерялся: — Так и хотели, только не знали, какую выбрать. Донцов разозлился: — Сообрази, что будет делать партстол? То были времена невероятных словообразований, Славушка сообразил: партстол не что иное, как партийная столовая, а точнее, столовая при укомпарте. В обычные дни в столовой обедало человек двадцать, в дни же конференций и съездов столовой отпускалось пшена и мяса сверх всяких лимитов. — Вы хоть продукты какие-нибудь с собой захватили? — простонал Донцов. — Мы вообще можем обойтись без партстола, — гордо ответствовал Ознобишин. — Наша организация прокормится и без укомола! — Ладно, пусть регистрируются, — закончил перепалку Донцов. — Заходи, есть разговор. Успенские комсомольцы выстроились в очередь, регистрировала делегатов Франя, она-то и требовалась Славе, однако дело было такое, что обратиться к ней при всех он не решился. — Читай, — сказал Донцов, протягивая Ознобишину листок бумаги. — Твои соображения? Но Слава если что и видел на листке, так только свою фамилию. — Что это? — Состав президиума и предполагаемый состав уездного комитета. Что ж, у Славушки возражений не было, червь тщеславия уже точил его душу. 61 Конференция открылась после обеда. Повестка дня состояла из множества вопросов. О международном положении — доклад товарища Шабунина. О задачах Союза молодежи — доклад товарища Донцова. О военной работе — доклад товарища Поликарпова… Короче, докладов хватало. Значился в повестке даже доклад о работе в деревне, точно остальным докладчикам предстояло говорить о работе на Луне! Весь уезд сплошная деревня. И Малоархангельск деревня… Нет только доклада товарища Ознобишина! А он уже привык выступать! Правда, есть в повестке доклады с мест, тут и товарищу Ознобишину найдется место, но в сравнении с программными выступлениями… Все-таки два человека вышли за рамки установленного на конференции распорядка. В эти годы безудержных митингов и собраний сухой, сдержанный Шабунин избегал лишних речей. Высокий, плохо выбритый, в серой гимнастерке, взошел на кафедру, пюпитр ему по пояс, и аккуратно положил перед собой пачку газет. — Мне поручено ознакомить вас с международным положением, — начал он. — Но из газет вы знаете не меньше моего. Поступим поэтому иначе. Только что закончился конгресс Коминтерна, там люди выступали поумнее нас, вот я и прочту вам кое-что… — Развернул газеты и принялся читать отчеты о заседаниях конгресса, сопровождая их немногословными комментариями. Умен Шабунин, а Ленин умнее, Шабунин и уступил слово Ленину, доклад превратился в урок. Зато Ознобишин разливался соловьем, когда пришел черед докладам с мест… Коснулся, конечно, своего Успенского и тут же заговорил обо всем на свете — прогулялся по Европе и Азии, не забыл ни Англию, ни Индию, о военной работе, о положении на фронтах, о борьбе с дезертирами, о продразверстке, о школах, о художественной самодеятельности. Чего он только не коснулся! Шабунина жизнь научила скромности, он старался держаться в тени, а Слава себя за хохолок да на солнышко поволок, мальчишка еще! Но его горячность вызывала одобрение даже со стороны его сверстников. Вволю наговорились, выбрали уездный комитет, делегатов на губернский съезд, с подъемом спели «Интернационал»… Из успенских ребят в городе остались лишь Ознобишин и Сосняков, они ехали в Орел. Славушке нужно было еще выполнить поручение Андреева, — в жизни много будет у него поручений, многое забудется, а вот конфетки, которые отдавал Фране Вержбловской, запомнятся на всю жизнь. Что этому предшествовало? Прогулка вместе с Андреевым и Франей к истокам Оки. Шли полевой зеленой дорогой, Франя плела венок, а Славушка и Андреев помогали ей собирать васильки. Казалось, она любит Андреева. И он был достоин любви. Оба они стояли у хрустального ручья счастья. — Здравствуй, — сказал Слава, подходя к столу Франи. — Здравствуй, Ознобишин, — приветливо отозвалась Франя. — Тебя, кажется, зовут Вячеслав? Это имя часто встречается в Польше. — Мне нужно тебе кое-что передать, — сказал Слава. — Мне? — удивилась Франя. — Пройдемся, — сказал Слава. Они шли по тротуару, если можно назвать тротуаром заросшую травой тропинку, в которую кое-где втоптаны доски. — Помнишь, как мы гуляли втроем? — спросил Слава. Франя улыбнулась. — Помню. — А помнишь Сережу? — Конечно. — Ты знаешь, что он уехал на фронт? — Нам сообщили. Шли мимо громадного яблоневого сада, росшего посреди города. Слава вытащил из кармана и подал ей бумажный кулек. — Что это? — Конфеты. — О, спасибо! — Франя улыбнулась еще лучезарнее. — Спасибо еще раз, я давно не ела конфет, ты очень внимателен. — Это не я, это Сережа, — объяснил Слава. — Когда уезжал на фронт, просил передать тебе… — Ах, от Сережи… — На ее лицо набежала тень, она протянула конфеты обратно. — Возьми, пожалуйста, вероятно, ты любишь сладкое. Слава испугался. Может быть, она не получила записку? Получить конфеты — и ни слова… — Ты получила письмо, я пересылал? — Спасибо, конечно. — Больше у него ничего не было. — Ах, да не в этом дело, — выговорила она с досадой. Небрежным движением она запихнула сверточек обратно в карман Славе, и ему почему-то захотелось ее ударить, он не встречал человека лучше Андреева, и ударил, сам не знал, как это произошло, замахнулся и ударил по руке, запихнувшей в карман сверточек. — Ты что?… Должно быть, он больно ударил, лицо ее искривила гримаса, но тут же рассмеялась, притянула мальчика на мгновение к себе и звучно поцеловала в щеку. — Ты что?! — воскликнул, в свою очередь, Слава. — А то, что я люблю другого, — сказала она. Слава порозовел от смущения. Неужели его? Франя сразу угадала, о чем он подумал. — Не тебя, дурачок, — сказала она. — Ешь спокойно свои конфеты… Дернула плечом и побежала. А он так ничего и не понял, добрел до собора, вошел в ограду, постоял у какой-то могилки, сердито опустил руку в карман, достал сверточек, бросил на могилку… Что же случилось? Славушка побрел обратно к укому, сел под окном на скамейку. Следовало подумать… Они же любили друг друга! И вот Андреев уехал на войну. Послал ей конфеты. Единственное, что у него было. А она не взяла… Что же это такое — любовь?… Славушка сидел под окном до тех пор, пока его не позвал Донцов. Пора было ехать на станцию. 62 В Орле все пошло своим чередом. И там были доклады и о международном положении, и о задачах Союза молодежи… Кобяшова тревожил престиж губернской организации. В соседних губерниях состоялось уже по два и три съезда, а в Орле первый, решено первым съездом считать июльский пленум губкома, тем более что в нем участвовали представители с мест… Слава в прениях вступил с Кобяшовым в пререкания: — Деревне уделяется мало внимания, наша организация самая крупная… — А за счет чего? — бросил реплику Кобяшов. — То есть как за счет чего? — Гусятиной кормите! Шульман засмеялся, засмеялся еще кто-то. Слава смешался, Донцов не поддержал… Этим орловским гимназистам палец в рот не клади, откусят! Больше всего Славе мечталось попасть на III съезд, и по справедливости он должен был попасть в число делегатов, успенская организация по численности составляла третью часть губернской организации, но то, что так хорошо и легко виделось у себя в волости, совсем иначе получилось здесь. Кобяшов поговорил с тем, с другим, сбегал в губернский комитет партии, созвали фракцию, и вот на тебе, готовый список, нельзя не голосовать. От орловской организации полагалось избрать шесть делегатов, и в эту шестерку из уездного никого не включили, все шестеро работники губкомола. Слава голосовал за них, дисциплина для коммуниста превыше всего. Но со слезами на глазах от несправедливости. И вдруг, еще сквозь слезы, он увидел голубые глаза Кобяшова, тот смотрел на Славу и слегка улыбался. — Товарищи, — говорил Кобяшов, — помимо шести делегатов с решающим, мы можем послать еще одного с совещательным, губкомол предлагает послать с правом совещательного голоса товарища Ознобишина, руководителя крупнейшей деревенской организации в губернии… Итак, он едет! Мама почему-то угадала, что он попадет в Москву. Поздно вечером орловские делегаты погрузились в поезд, в классные вагоны их не пустили, и тогда Кобяшов, веселый, деятельный, оживленный, повел делегатов на абордаж. Товарный вагон, двери заперты изнутри, выжидательная тишина. — Там кто есть? Ни звука. — А ну налягнем! Дверь держали изнутри, но… Эх, раз, еще раз, и дверь поддалась! В вагоне одни женщины. — А ну выметайсь! И крик же они подняли: — Ироды! Нигде от вас нет спасенья! Лучше умрем здесь… Обычные мешочницы. Кто с хлебом, кто с солью. Решили не трогать. Может, и вправду нечего есть… Застучали колеса. Сквозь щели набегал осенний холодок. Хотелось есть. Все тогда в России хотели есть. Но есть до Москвы не придется. 63 Съезд откроется завтра во второй половине дня. Впереди масса времени. Получен ордер на койку. Талоны на питание. Делегатов размещают в 3-м Доме Советов. Бывшая духовная семинария. Огромные дортуары. Серые шинели, потертые кожанки, истрепанные гимнастерки. На койках вещевые мешки. Столовая. Пшенный суп с воблой, и на второе тоже вобла! Тихие московские улицы. Нахохлившиеся дома. И плакаты, плакаты: «Что ты сделал для фронта?», «Записался ли ты добровольцем?», «Смерть барону Врангелю!» Славушке казалось, что в Москве он непременно встретится с Андреевым. Он искал его среди делегатов. Он очень хороший, Сережа. С ним бы и дошел до Никитских ворот. Надо навестить деда. Живет он в старинном доме между Поварской и Никитской, в лабиринте Ножовых, Столовых и Скатертных переулков, — двухэтажный деревянный флигель с оббитой штукатуркой. Доктор Зверев теперь мало практиковал, приходили иногда старые пациенты, но и тех отпугивал унылый вид деда. Парадная дверь забаррикадирована наглухо, чтобы, упаси боже, не ворвались бандиты, особенно попрыгунчики, что ходят по ночам на ходулях, зато дверь на черном ходу вовсе не заперта. Славушка постучал, никто не появился, открыл дверь и прошел через кухню в комнаты. Закутанный в старомодное черное пальто, доктор Зверев сидел в старинном массивном кресле, обитом побуревшим зеленым штофом. — Можно? — спросил Славушка. Доктор Зверев посмотрел на внука пустыми глазами. — А, это ты, — сказал он так, точно Славушка жил вместе с ним и лишь на полчаса отлучился из дома. — Приехал, — сказал Славушка. — Хорошо, — сказал дед. — Устраивайся. — Я остановился в другом месте, — сказал Славушка. — Я просто так. — Хорошо, — сказал дед. Он будто покрыт плесенью и непонятлив, — можно бы и не заходить. Затем к тете Лиде. Почему бы и не повидаться? Ведь он с Иваном Михайловичем теперь товарищи по партии. Но товарища по партии не очень-то пускают к дяде, Арсеньевы живут в Кремле, и у каждых ворот по часовому. Славушка с полчаса томится в бюро пропусков, звонит по телефону. — Квартира Арсеньевых? Соединяю. Но никто не соединяется. Вероятно, нет дома. Наконец-то! — Тетя Лида?… Это я! — Кто, кто? — Слава. — Кто-о? — Слава Ознобишин. — Ах, Слава… Откуда ты? — Приехал. — Впрочем, что я… Сейчас скажу. Выдают пропуск. Тетя Лида сама открывает дверь, мила и бесцветна, русая коса закручена пучком на затылке. — Откуда ты? Славушка не знает, надо ли целоваться, и тетя Лида не знает, слегка прижимает к себе племянника и, чуть касаясь, целует в затылок. — Проходи, садись. Очень жаль, что нет Жени и Вовочки. Женя учится во ВХУТЕМАСе, здесь и спит на кушетке, а Вовочка у тети Зины, некогда с ним заниматься, я ведь в ЦК текстильщиков… Женя — пасынок, Вова — сын тети Лиды, Иван Михайлович женат вторым браком, первая жена умерла вскоре после замужества, тетя Лида не любит пасынка, кроме кушетки на проходе, ничего ему здесь не положено, Иван Михайлович тоже не любит сына от первой жены, известно всей родне, а Вовочку должна баловать тетя Зина. — Ты откуда сейчас? — без конца повторяет тетя Лида. — По делам или так? — На съезд комсомола. Славушка коротко рассказывает об Успенском. — Ах, ты, значит, комсомолец? Слава не может не похвастаться: — Я уже член партии. — Ах вот как? Значит, мы с тобою коллеги. А как Верочка? — Привыкла. Преподает. — Не вступила в партию? — Нет. — Впрочем, что я, она всегда была… «Обывательница». Тетя Лида недоговаривает, но Славушка про себя досказывает за нее. — Хочешь есть? — Нет, спасибо, у меня есть талоны, я обедал. — Тогда чаю… Тетя Лида уходит и приносит стакан жидкого чаю и тарелочку разваренной чечевицы. — Извини, мы как все… Славушка ждет, что она расспросит его о деревне, о революционных преобразованиях, о комсомоле, но расспрашивает она только о Вере Васильевне: — Расскажи, расскажи о Верочке! Как же она там преподает? Во что обувается, ведь она так следила всегда за ногами? — Мы делаем туфли из холста. — Кто делает? — Сами! И вот наконец звонок… Сам железный нарком! Он все такой же, в поношенном костюме, при галстучке, с реденькой острой бородкой, с подслеповатыми глазами. — Лидочка, я тороплюсь, через два часа у меня Совнарком. И пенсне при нем, болтается на черном шнурочке, он вскидывает его решительным жестом на переносицу. — А это кто у нас, Лидочка? — Слава Ознобишин. — Слава? — Колин сын! — Ах… Милости просим, прошу! — Указывает на стул, на котором только что сидел Славушка. — Ну где ты, что с тобой, как? — Они уехали в деревню, ты помнишь? — напоминает тетка. — Верочка там преподает, а Слава теперь комсомольский работник. — Отлично, отлично, — одобряет Иван Михайлович. — Значит, из дальних странствий возвратясь… А к нам сюда по какому поводу? — На съезд, — коротко отвечает Славушка. — Очень хорошо, рассказывай, — приглашает Иван Михайлович. — Как в деревне? Как с хлебом? Это ведь первостепенный вопрос… Тетка и наркому приносит тарелочку с чечевицей плюс два ломтика хлеба плюс кусочек масла. — Отлично, — заявляет Иван Михайлович, всматриваясь в чечевицу и затыкая в проем жилета салфетку. — Очень полезная каша. На секунду Иван Михайлович задумывается. Славушка уверен, что угадывает его мысль, Иван Михайлович колеблется — положить масло в кашу или намазать на хлеб, дилемма решается в пользу хлеба. Кого-то он очень напоминает Славушке. — Вот ты… — Ложка каши. — Давно уже комсомолец? — Ложка каши. — Ты работаешь над собой? — Ложка каши. — «Капитал» ты, конечно, еще не штудировал? — Ложка каши. — В стихийности есть своя сила, но вечное древо жизни марксист взращивает посредством теории… Славушка всего раза два встречал Арсеньева до революции. Арсеньев профессиональный революционер, большую часть жизни провел в эмиграции. Марксист, большевик, он вернулся в Россию после Февральской революции, был одним из руководителей вооруженного восстания. И вот сейчас ест перед Славушкой чечевичную кашу и не может задать ни одного путного вопроса. «Ну, спроси, спроси, спроси, — мысленно внушает ему Славушка, — спроси что-нибудь такое, о чем я тебе смогу рассказать со всем волнением…» А он не спрашивает. Он спрашивает тетю Лиду: — Лидочка, а кофе у нас… — Есть, есть… Лидочка приносит ему чашечку кофе. Тоже, вероятно, не настоящий, а желудевый. Но пьет он свой кофе так, точно это лучший «мокко». Нет, решительно он кого-то напоминает! Арсеньев встает. — Одну минуту, — извиняется он перед гостем, выходит и возвращается с коленкоровой папкой. — Надо подготовиться, Владимир Ильич не прощает плохого знакомства с вопросами… Так, между прочим… На самом деле не между прочим. Он сам не замечает своей похвальбы. Мол, он с Владимиром Ильичем запанибрата. Неподалеку друг от друга жили в Париже. Иван Михайлович что-то листает, читает, тетя Лида благоговейно молчит. Наконец он вспоминает, что у них гость. — Лидочка, оставь нас… Тетя Лида неслышно уходит. Чуть ли не на цыпочках. Чтобы не нарушить течения драгоценных мыслей. — Придвигайся, — указывает Иван Михайлович на стул около себя. — Я очень рад, что ты стал коммунистом, надеюсь, ты будешь хорошим коммунистом. — А плохие разве есть? — вырывается все же у Славушки. Но Иван Михайлович понимает вопрос, и вопрос не сердит его. — Если человек действительно коммунист, он не может быть плохим, ты прав, я имею в виду членов партии, мы ведь правящая теперь партия, и не все, кто в ней состоит, коммунисты по убеждению, в партию пробираются и карьеристы, и дельцы, и даже враги, вот я и говорю тебе: будучи в партии, надо постоянно всматриваться в самого себя, держать себя под самоконтролем, бороться за чистоту марксизма… — Спасибо, — говорит Славушка. Искренно говорит. Что ж, совет правильный. — И второе, — назидательно говорит Иван Михайлович. — Никогда ни на кого не надейся, кроме как на самого себя, боже тебя упаси хоть как-то использовать свое положение в личных интересах, независимо от поста и должности, которые ты занимаешь, поэтому, если у тебя есть ко мне какая-нибудь просьба, если думаешь с моей помощью остаться в Москве, наперед говорю: не рассчитывай, нет, не рассчитывай, я перестал бы себя уважать, если бы помог родственнику. Мы товарищи по партии, и я хочу дать тебе совет: никогда не рассчитывать на протекцию… Он все продолжает и продолжает, но Славушка не слышит… Как оскорбительно! Он ни о чем и не собирался просить. Его приняли за бедного родственника. — Спасибо… — Славушка встает. — Извините, мне пора, в шесть часов фракция съезда… — Дисциплина тоже для нас обязательна, — одобрительно говорит Иван Михайлович. — Опоздай я на Совнарком, Владимир Ильич… Он даже смеется снисходительно, ведь теперь они не только дядя и племянник, но и коллеги по партии. — Лидочка, — зовет Арсеньев жену. — Товарищ Ознобишин спешит на фракцию! И тетя и дядя провожают племянника до дверей. Потихонечку идет он от Кремля к общежитию на Божедомке. Славушка вспоминает мамин рассказ, как жил Арсеньев в Париже. Врач по профессии, средства к жизни он зарабатывал тем, что развозил молоко на ручной тележке. Мог работать врачом, но лечить богачей не хотел, а от бедняков не хотел брать гонорара. Настолько принципиален. В Париже развозил молоко, а здесь министр, государственный деятель! А может, потому развозил, что не такой уж хороший врач? Еще скажешь, не такой хороший нарком… Нет, нет! Он бессребреник. Только вряд ли добрый… А должен ли коммунист быть добрым? Почему он стал революционером? Россия нуждалась в революции, и можно не сомневаться, что прежде, чем стать революционером, он проштудировал «Капитал» от строки до строки. Революцию принял не сердцем, а умом. Ох, насколько лучше Быстров! Одного ума коммунисту мало. А сердце иметь опасно. Надо уметь управлять людьми, а жалеть их необязательно… На долю Ивана Михайловича достались и ссылки, и тюрьмы, и нужда, но пульс у него, должно быть, всегда хорошего наполнения. Так на кого же он похож, дядя Ваня? Иван Михайлович… Каренин! Точно. Алексей Александрович Каренин. 64 Славушка добрел до общежития к ночи. Ночью почему-то страшно ходить по Москве. Даже по Оружейному переулку. Но ведь еще не ночь. Холодные сумерки. В семинарском общежитии споры и песни. Больше споров. «Что ты сделал для фронта?» Впереди еще войны, войны! С кулаками, с бюрократами… Мало ли их! Тот не хочет учить, тот не хочет лечить, тот гноит хлеб, а этот плодит бумаги. Споров больше, чем песен. Споры сбивают с ног… Гаснет тусклая лампочка под потолком. — Товарищи! Надо экономить электричество! Холодно под солдатским шерстяным одеялом. Всю ночь ему снится Андреев. То ли Славушка начитался газет, то ли наслушался солдатских рассказов, так ему все отчетливо снится. То ли снится, то ли он сочиняет, то ли потом сочинил, много уже позже. Вообразил себе Андреева. Очень уж он надеялся встретиться с ним на съезде. Накануне своего последнего дня Андреев вспомнил, что в Москве собирается съезд комсомола… Красноармейцы укладывались спать. Потому что даже на фронте, даже в самом отчаянном положении иногда приходится спать. Противник наступает на Мариуполь, участь Мариуполя предрешена. Но каждый час сопротивления выматывает противника. Перед сном Андреева вызвал командир полка. Заурядный прапорщик царской армии, за два года службы в Красной Армии он научился рассуждать, как полковник генерального штаба. Завтра он тоже умрет. История не сохранит его имени. А при удаче мог бы умереть маршалом. — Вот что, Андреев, — говорит он в это последнее их свидание. — Враг теснит, Мариуполь будет завтра оставлен. Наш полк находится в арьергарде. Тактика уличного боя мало изучена, поэтому придется полагаться на собственную инициативу. Вам я поручаю порт. Нельзя допустить захвата запасов нефти. В темноте вы только потеряете время на ориентировку. Дайте бойцам отдохнуть, выступайте перед рассветом. Проникните в порт, а там — глядя по обстановке. С моря вас будут поддерживать канонерки… Никаких канонерок нет и не может быть. Это знали и Андреев, и командир полка. Но так сказано в штабе бригады, и командир полка обязан это повторить. — Действуйте, — говорит командир полка. — Разрешите идти? — спрашивает Андреев. — Да. Идите… Даже руки не пожали друг другу. Больше они не встретятся. Андреев вернулся во взвод, выставил караул. — Спать, спать, ребята. Квартир не искать, не расходиться. Здесь, в сарае… Он бросил шинель у входа в сарай, от земли пахнет сеном, вдалеке лает собака… — Спать, спать, — настойчиво повторил Андреев, лег на бок и мечтательно вдруг сказал: — А в Москве собрались на съезд… — Что? — спросил кто-то. — Собрались, говорю, на съезд. Завтра открывается съезд комсомола. Больше он не стал разговаривать, надо поспать и ему. На мгновение мелькнул в памяти Малоархангельск, чьи-то знакомые лица, среди них Ознобишин… Они стояли на набережной, Андреев и его взвод. По прибытии на фронт Андреева назначили политруком взвода, позавчера командира взвода убили, и теперь Андреев и политрук и командир, теперь это совершенно его взвод. Стояли на набережной и смотрели из-за пакгауза во все стороны, но больше на цистерну, на громадную серо-белую цистерну, наполненную первосортной бакинской нефтью. Врангелевцы наступали на Мариуполь, отходящие части Красной Армии оказывали сопротивление, но врангелевцы уже занимали Мариуполь, уже заполнили город, борьба шла еще только за вокзал, за порт, за телеграф. Отдельные роты и взводы продолжали борьбу, хотя Мариуполь и взят Врангелем. Андрееву приказали не отдавать врагу ни одной цистерны. Ни одной цистерны с нефтью. Пустые — пожалуйста, пустые цистерны пусть берет. Еще до того, как белогвардейцы ступили на набережную, ребята из его взвода пробили в двух цистернах отверстия, и нефть из них жирной струей лениво стекала в море. Но с третьей цистерной справиться не удалось. Врангелевцы вошли в порт и обстреливали красноармейцев из английских карабинов. Андреев со своими людьми укрывался у самого берега за россыпью пустых бочек. Пули постукивали о днища, точно камешки: тук-тук, тук-тук… Андреев все посматривал на цистерну. Последнюю цистерну, которую не отняли у противника. Еще не отняли… Врангелевцы только-только показались. Андреев все посматривал на цистерну. Ему до нее ближе, чем врангелевцам. — Ребята, рванем?! Пули все постукивали. Не так чтобы часто, но постукивали. — Рванем?! Бочки пустые, сухие, просмоленные. Один из бойцов посмотрел на политрука. Вопросительно. И политрук понял, утвердительно кивнул в ответ. Набрали щепок, паклю. Все делалось в считанные секунды. Запалили спичку. Еще. Поддули… Бочки загорались медленно, дымно, но так, что уже не потушить. Андреев побежал к цистерне. — Скорее! Он не смотрел, бежит ли кто за ним. За ним следовал весь взвод. Добежал, оглянулся. Бойцы бегут с винтовками. Только у двух или трех в руках пылающие доски. Сговариваться нет времени. Андреев стал, уперся головой в стенку цистерны. Кто-то вскарабкался ему на плечи. И еще кто-то… Ни дать ни взять — акробаты! — Осторожно! Кладите горящие доски поверх нефти, не утопите! Поверх, поверх кладите, тогда загорится… Поплыли кораблики, закачались… — Бежим! Не уйти от врангелевцев. Уже видно их. Злые серые лица… — К берегу! Побежали… Далеко ли убежишь по песку? Фьюить!… Закачало цистерну! Нет, не взорвалась… Черный столб метнулся вверх и повис в небе. — Ребята, рассыпайся цепью… Взвод уже у самой воды. — Цепью!… Кого-то уже нет… Бойцы хорошо видны на берегу. Позади огонь, впереди Азовское море… Тут каждый обороняется как может, каждый сам по себе. Из-за пакгаузов показались всадники. Казаки. С саблями наголо. На мгновение скрылись — и вот уже на берегу… Скачут! Друг ты мой единственный… Сережа! Сережа Андреев!… Не видать тебе больше белого света! Не услышать тебе ленинскую речь! Не читать тебе больше книг, не произносить речей… Обернулся, припал на одно колено, вскинул винтовку, прицелился… По наступающему врагу! Одного не стало. Но за ним еще… И все. Сабля легко врезалась в плечо. Упал. Запрокинулась голова… Голова ты моя, головушка! Сережа ты наш, Сережа… Все! Отучился, отстрелялся, отмучился… Спешились два казака. — Кажись, дышит? — В море его, пусть напьется… Ты еще дышишь, Сережа, а тебя тащат к самой воде, и вот ты уже в воде, и тебе даже легче становится на мгновение, легкая волна покрывает твою умную, твою добрую голову, играет над тобой волна, убегает и набегает… Вот тебя подтолкнули, вот нечем дышать, вот и все. Только ноги лежат на песке, длинные твои ноги, в нечищеных хромовых сапогах, подаренных тебе губкомом перед отправкой на фронт. — Сапоги снять бы… — Не пропадать же… Сняли с тебя сапоги, Сережа! Вечный тебе покой, вечная тебе память! Слава проснулся с отчетливым ощущением, что встретится сегодня с Андреевым. Искал его все утро. Но так и не встретил. Понял, что никогда уже больше, никогда, никогда не встретит Сережу Андреева. 65 Путь недолог, пробежал за четверть часа, но иной путь длится четверть часа, а проходишь расстояние в тысячи километров, в миллионы часов, — из Духовной семинарии в Коммунистическое далеко. Постоял на углу у газеты. «Правду» не купить, только на стене посмотреть. Серая, шершавая бумага, серые, тусклые буквы… Вот и о нас: "Сегодня, в 7 ч. вечера в помещении Коммунистического университета им. Свердлова (М.Дмитровка, 6) открывается 3-й Всероссийский съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи. Вход по делегатским и гостевым билетам. ЦК РКСМ". Это здорово, что я делегат! И еще, специально о нас, об орловцах, заметка о продовольственной кампании в Орловской губернии: заготовлены и вывезены сотни подвод картофеля. Наш подарок съезду. Это позже будет так называться: «Наш подарок съезду». Пока это никак не называется, просто люди работают, не в подарок, а просто выполняют свой долг. Слава вышел из общежития часа за три. Часов он не имел. Жил не по часам. Никто из его товарищей не имел часов. Но он угадывал, почему надо выйти за три часа… У каждого человека двадцатого столетия происходит своя встреча с Лениным. У Славы Ознобишина она произошла на шестнадцатом году его жизни, 2 октября 1920 года, на Малой Дмитровке, в доме номер шесть, в зале бывшего Купеческого собрания. Сумеречно в Москве, хотя еще день. Дождь, дождь. Беспросветная холодная моросьба. Вот москвич, москвич, а запамятовал, в Оружейном переулке бывать не приходилось, два закоулка от него до Малой Дмитровки, а попробуй разберись, запутаешься. — Скажите, пожалуйста, как пройти на Малую Дмитровку? — А вам что там? — Коммунистический университет имени Свердлова. — Не слыхал. — Бывшее Купеческое собрание. — Так бы и сказали. Вот и Дмитровка. — До Купеческого собрания далеко? — Понятия не имею. — Университет имени Свердлова? — Так бы и сказал! У дверей сумятица, не попасть, измятые серые кепки, солдатские папахи, буденновские шлемы, красные косынки, матросские бескозырки, старые картузы… Водоворот. Как бы втиснуться… Пропуск, пропуск! Вот мандат. Проходи, мандат! Не пролезть делегатам, тут со всей Москвы поднаперло… И в зал. А то не проберешься. Не увидишь. Не услышишь. Торопись! Слава ждал, когда появится Ленин. А Ленин не появлялся. На сцене разговаривали. Тянули время, ждали. Румяный мордастый парень с черной бородой то и дело выходит и входит. Выходит и входит. Он один с бородой. С черной бородой. Зачем ему борода? Входит и говорит что-то другому, чем-то похожему на Пушкина. Тот, другой, встает, смотрит в зал, хлопает ладонью по столу, кричит: — Тишина! На мгновение зал замолкает, и опять начинают петь. Песни как водовороты на реке. — Вперед заре навстречу и дух наш молод вихри враждебные на простор речной волны вздымайся выше вся деревня сергеевна наш тяжкий молот картечью проложим путь… — Тишина! Слава всматривался в сцену. Вправо. Оттуда появлялись люди. Оттуда должен появиться… В зале тускло и беспорядочно. Какой уж там порядок! Все в шинелях, в куртках, в несуразных каких-то пиджаках, только что нет на них пулеметных лент, оставили на фронте, там нужней… Парень в кепочке, прямо сказать, обтереть ботинки и выбросить, — стоит у сцены и чего-то допытывается. Слава не слышит, не понимает: долго ли ждать? Юноша на сцене перегибается через стол. — Товарищи! Владимир Ильич приедет, как только кончится заседание Политбюро… Перерыв… Перерыв бы! Но нельзя. Разбредутся, потом собирай, а время Ленина дорого. В президиуме тоже томятся. Сколько здесь девушек! Все в красных косынках. На самом деле их мало. Но уж очень заметны косынки. Даже при слабом освещении. — Дух наш молод… — Тишина! Ленин появится справа. Оттуда все входят. Славушка встает на подоконник. Все-таки очень интересно — какой он такой? Слава понимает, что такой же человек, как и все. Но и не совсем обычный человек. Он как мысль у человека. Бывает у человека мысль. Ясная и неуклонная. Ленин — это мысль народа. Ясная, определенная мысль. В царство свободы дорогу Грудью проложим себе! Он и вошел, как все. Только очень быстро. На ходу снимая пальто. Невысокий такой. Довольно-таки коренастый. В темном пальто с черным бархатным воротником. В таких пальто ходили многие знакомые Ознобишиных. Как он снял кепку, Слава не заметил. Положил пальто и кепку на стул, сел у края стола… Что тут поднялось! Все поднялись. Сперва захлопали и тут же поднялись. Ленин сидит. Какой-то парень стоял на трибуне. Чего-то говорил. Ничего не разобрать. Сматывайся-ка ты лучше, пожалуйста! Кончай, кончай… А вот то, что последовало дальше, Слава осмыслить не мог. Он спрыгнул с подоконника, внезапно, и его понесло. Тем более что никто не мешал. Всех несло к сцене. А тех, что сидели в первых рядах, перенесло на сцену. Всех несло ветром истории. Славу прибило к сцене. Он присел на корточки перед трибуной. Никто ему не мешал. Кто-то что-то пролепетал в президиуме. Славушка догадался: взывают о порядке. Но беспорядка, собственно, не было. Всем только хотелось быть поближе к Ленину. — Ле-нин! Ле-нин! Ле-нин! Славушкой овладевает восторг. Славушка поет «Интернационал». Ленин тоже поет. Все поют. «Представьте себе, — будет он рассказывать много лет спустя. — Я орал. Неистово. Исступленно. Не замечая, что другие тоже орут. Я готов был в этот момент умереть. От восторга». А Ленин сидит. Смеются его глаза. Видел ли Слава его глаза? Много лет спустя Слава утверждал, что видел. Ленин вынимает из жилетного кармана часы, поднимает над головой, указывает на циферблат пальцем. Шацкин… Этого парня зовут Шацкин. Слава запомнил. Парня зовут Шацкин. Он сразу понравился Славе. Кто знает, какой он! Но сразу видно, что умный. Он в этот вечер председательствовал. Шацкин приподнялся и перегнулся через стол к Ленину. — Владимир Ильич! Как объявить ваше выступление? Зачем объявлять? — Доклад о международном положении, — добивается Шацкин, — или доклад о текущем моменте? Ленин приложил ладонь к уху, он, как и Слава, не сразу расслышал вопрос. — Доклад о международном положении или о текущем моменте? — Нет, нет… Ленин качнул головой. — Не то, не то, — быстро проговорил Ленин, негромко, но очень отчетливо. — Я буду говорить о задачах союзов молодежи. Порывисто встал и тут же пошел к трибуне. Остановился у края сцены. В правой руке он держит листок с конспектом, левую заложил за пройму жилета… Так вот какой он! Самый обыкновенный человек, ниже среднего роста… — Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать… И слова как будто обыкновенные. Говорит он о том, что задача молодежи — учиться. Это, пожалуй, более чем обыкновенно. Затем разбирает, чему и как учиться. То, что это философия эпохи, Слава поймет позже, а пока все очень просто, очень ясно и почему-то очень… ново. Говорит о культуре. О духовном богатстве, накопленном человечеством. Одними лозунгами коммунизма не создашь, мы должны взять у старой школы все хорошее… Заложив руки за спину, Ленин ходит по сцене, стараясь не задеть никого из тех, кто сидит перед ним на полу. Он произносит речь, которая на многие годы станет программой работы всей коммунистической молодежи. Еще действует в рабочем строю Николай Островский, у него еще и намерения нет написать о себе книгу, Зоя Космодемьянская еще даже не родилась, ее еще не существует в природе, а Ленин уже определяет судьбу и Островского, и Космодемьянской, и Кошевого, и Стаханова… Ленин останавливается, выбрасывает вперед руку, подчеркивает важную мысль: — Вы должны воспитать из себя коммунистов… Наша нравственность подчинена интересам классовой борьбы, революция растет во всем мире, наша нравственность в нашей борьбе! Он не похож на отца Славы. Не похож ни на кого из родных и знакомых. Но в нем много чего-то родного, давно и хорошо знакомого. Мягкость и резкость. Сарказм и доброта… Вот у кого бы поучиться! Ходить к нему заниматься. В его класс. Слушать его уроки. Выполнять его задания… Так и будет. Мы еще долго будем брать у него уроки. Разве кто-нибудь может подумать, что не минет и четырех лет, как его не станет. Ему всего пятьдесят лет! Люди доживают до семидесяти. До восьмидесяти. Он не доживет даже до осени 1924 года! И навечно переживет себя. Ах какой он живой человек! Позже Славу спросят: — Он был такой? — Какой? — спросит он. — Непохожий на все рассказы? — Да! — А какой? — Невозможно обрисовать… Не пройдет и четырех лет, как Слава Ознобишин дымным январским утром будет стоять перед Домом Союзов, не замечая ни стужи, ни людей… Он обдумывает план электрификации. Десятки инженеров и экономистов совместно с ним разрабатывают этот план… — Нужно не меньше десяти лет для электрификации страны, чтобы наша обнищавшая земля могла быть обслужена по последним достижениям техники. Слава вспоминает уроки алгебры, школу, Ивана Фомича: а+в=в+а. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вот она, политическая алгебра: Советская власть плюс электрификация… Ленин перечисляет задачи. Как просты и как непомерны… Не всякому дано быть членом такой партии, не всякому дано выдержать невзгоды и бури, какие выдержит партия Ленина! Он вытягивает вперед руку. — Тому поколению, представителям которого теперь около пятидесяти лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, которому сейчас пятнадцать лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества. Внезапно Ленин проводит рукой по лбу, сует конспект в карман, поворачивается, идет к столу и садится. Все кричат: — Ленин! Ленин! Ура! Кто-то бросается к сцене, кто-то поворачивается к сцене спиной, возбужденно переговариваясь с соседями. Он сидит у края стола. Вынимает из кармана записки. Их несут и несут. Сперва он их брал сам. Читал, не прерывая речи. Чтобы не мешать, принялись передавать записки, минуя его. Шацкин кладет перед ним еще ворох записок. Ленин всплескивает руками и с явным удовольствием раскладывает записки перед собой. Рассматривает. Обращается к Шацкину. Тот подает лист бумаги. Ленин перебирает записки. Составляет конспект ответа. Нет чтобы прямо взять и ответить! Он ведь все знает! Но он думает, прежде чем ответить. Ищет что-то в кармане, встает, опускается на колено, глядит под стол. — Что случилось, Владимир Ильич? — Потерял записку. Такая хорошая записка! Надо ответить. На этот раз он поднимается на трибуну. В зале жарко и тихо, и никому не приходит в голову записать ленинские ответы. Последняя записка… Ленин сгреб всю кучу, сунул в карман, посмотрел в зал, сказал: — Вот и все. Вот и все… Или это только начало? Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир… Ленин надевает пальто, приличное интеллигентское черное пальто с бархатным воротником, еще раз достает из жилетного кармана часы, прощается, пожимает руки, идет к выходу… Паренек в гимнастерке окликает Ленина: — Владимир Ильич! Ленин поворачивается всем корпусом, ждет вопроса. — Владимир Ильич… неужели… я… — Голос паренька прерывается. — Неужели я увижу коммунистическое общество? Ленин совершенно серьезен. — Да, да, — громко и взволнованно произносит он. — Да. Вы. Именно вы, дорогой товарищ, его и увидите. 66 Еще одна ночь, и Слава покинет Москву. Все уже разъехались. Спальни в общежитии опустели, и вахтеры подозрительно посматривали на мальчика. Он перебрался к деду в его нетопленую тесную квартиру, заваленную книгами. Книги стояли на полках, лежали на полу, книгами набиты огромные лубяные короба. Дед всю жизнь собирал книги. Все здесь перемешалось, инкунабулы и бульварные романы. Дед спал, сидя в ободранном кресле, кутаясь в порванное драповое пальто. Белая нестриженая борода топорщилась во все стороны. Внука он встретил опять равнодушно. — Оставайся, ночуй, но у меня ничего нет… У него действительно ничего не было. Сердобольные старушки выкупали для него по карточкам скудный паек, забегала старая благодарная пациентка, щепочками растапливала «буржуйку», жарила на касторовом масле мороженую картошку, которую дед находил чрезвычайно вкусной. Он мог бы жить лучше, продавая книги, но расставаться с книгами не хотел. Даже с такими, какие свободно можно пустить на растопку. Безучастно осведомился о Вере Васильевне: «Так, так…» Старик сидел в кресле, на столе лежала раскрытая Библия, на табуретке стоял берестяной короб с письмами. Ночью, когда дед не то задремал от холода, не то впал в старческое забытье, Славушка поинтересовался содержимым короба. В нем хранилась давнишняя любовная переписка. Через жизнь старика прошло много женщин, мальчик слышал об этом краем уха, и сейчас, вытащив наугад несколько писем, дивился, как могли женщины писать такие пылкие и страстные признания этому немытому всклокоченному старику. Все три вечера, которые Славушка провел у старика, дед вперемежку читал женские письма и Библию. Но, когда Слава обмолвился, что он коммунист, дед внезапно оживился, обхватил руку мальчика холодными влажными ладонями и притянул внука к себе: — День вчерашний заглядывает в день завтрашний. Я читаю, а ты живешь. Не задержись ни возле книги, ни возле женщины… Мальчик с любопытством смотрел в голубые выцветшие глаза. Дед и внук поужинали ржавой пайковой селедкой и запили ее водой с сахарином. Славушка лег на расшатанную кровать с продавленным матрацем и вскоре заснул. Ночью ему приснился сон. Голос с неба говорил о каких-то книгах. Мальчик открыл глаза. Дед сидел в кресле и читал: — "И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди возьми раскрытую книгу из руки Ангела, стоящего на море и на земле». Шестнадцатисвечовая лампочка тускло светилась под бумажным коричневым абажуром. Верх абажура обуглился, он уже отслужил свою службу. Но старику, должно быть, уютно с этой лампой. Читал он вслух, негромко, не спеша, — никому не дано знать, понимает ли дед, что дочитывает свою жизнь. — "И я подошел к Ангелу и сказал ему: «Дай мне книгу». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка как мед». — Волосы на голове деда распушились серебряным нимбом, а борода, как у бога, только что дравшегося с чертом. Ему ничто уже не нужно, он поднялся над самим собой, был выше бога и выше дьявола, все понял, ничего не может объяснить, и только любопытство светится еще в глазах. — «И взял я книгу из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Самое важное, из-за чего Славушка задержался в Москве, грим и парики. Не было в те годы деревни, где не представляли Островского, и сила воплощения немало зависела от средств воплощения. Ни один агитатор не разоблачал природу кулака сильнее, чем делали это монологи Несчастливцева или жалобы Катерины. Славушка обошел весь Главполитпросвет. Мрачный субъект в солдатской гимнастерке выдал ему ордер на «три фунта волоса». Мальчик оробел. «Какого волоса?» — «Идите в подвал. Всякого». Потом мадам в пенсне написала записку в «театральные мастерские»: «Выдайте пять коробок и пять носов». — «Каких носов?» — «Любые, какие вам подойдут…» В подвале находился склад париков. Славушке отвесили три фунта. Он спорил с кладовщиком. Хотелось набрать париков побольше, выбирал самые легкие, с лысинами, а кладовщик навязывал огромные, со множеством локонов. «А как будете вы играть Мольера?» — «Мы не будем играть Мольера, — заносчиво огрызнулся мальчик. — Нам нужны современные пьесы». Разыскал театральные мастерские. Пять коробок грима было таким богатством, что с радости он согласился взять любые носы. Он появился перед дедом усталый и счастливый. — Достал? — Достал. — Что? — Парики. Носы… — А для себя что достал? — спросил дед с пристрастием. — Ничего. — Говорят, приезжим выдают обмундирование. — У меня еще вполне приличная куртка… Дед с сомнением поглядел на внука: — Когда едешь? — Завтра. — Я ничего не могу тебе дать. — А мне ничего и не нужно. Короб с письмами стоял на полу. Дед ногой задвинул его под кресло. — Что ж, поезжай, — сказал дед. — Должно быть, мы с тобой больше уже не увидимся. — Ну что ты! Опять поужинали вместе. Ломтем хлеба и морковным чаем с сахарином. Дед разрешил сжечь одну корзину, книги жечь он не позволял. Славушка вскипятил чайник. — У тебя есть еще какие-нибудь дела? — спросил дед. — Да, мне еще надо видеть… — Славушка не знал, надо ли ему видеть Арсеньевых. — Арсеньевых, — сказал он. — Хочу зайти попрощаться. Дед поежился в пальто: — Они не хотят видеть меня, и я не хочу видеть их. Бойся торжествующих умников. Русские люди умны по природе, но очень уж любят рассуждать. Если ты сделал выбор, иди и не останавливайся. Люди любят останавливаться, и это их губит. Стоило мне остановиться, как я невольно делал шаг назад. Не останавливайся. Будь холоден или горяч, только не останавливайся. Я дам тебе одну книжечку. Захватишь с собой. — Он протянул внуку книжку в черном переплете. Славушка раскрыл книжку. Евангелие. — Дедушка, ты что? — смущенно произнес Славушка и улыбнулся. — Я атеист. — И я, можно сказать, атеист, — насмешливо сказал дед. — Но богу в течение столетий приписывают самые мудрые изречения. — В книжке лежала закладка. — Вот… — сухим зеленоватым ногтем дед отчеркнул три стиха, — прочти. И мальчик прочел. — Вслух, — сказал дед. И мальчик прочел вслух: — "Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг". — Понял? — спросил дед. — Более или менее, — сказал Славушка. — Мудрые слова, — сказал дед. — Спасибо, — сказал Славушка. — Но книжку я не возьму, неудобно, да она мне и не нужна. — Я не хочу, чтобы ты был несчастен, — задумчиво произнес дед. — А я и не буду, — ответил Славушка. — А я несчастен, жалок, нищ, слеп, и наг, — еще медленнее и тише произнес дед. — Нет, — ответил Славушка. — Если ты это понял, ты уже не несчастен. — Нет, я несчастен, жалок и слеп — повторил дед. — Иди, будь холоден или горяч, но всегда иди. Как и многие русские люди, я слишком часто топтался на месте, и поэтому я несчастен и жалок. — Схожу к Арсеньевым, — сказал Славушка. — Неудобно не попрощаться. — Вот уж кто не холоден и не горяч, — сказал дед. — Много еще есть людей, которые теплы оттого, что стоят неподалеку от огня. Иди, но тебе я не советую жить отраженным светом. На улице темно, скупо светят тусклые фонари, редкие прохожие тонут в переулках. У Никитских ворот ветер резкими рывками набрасывается на прохожих. Пахнет сыростью, землей, ландышами, так, точно растут они тут, на мостовой, под ногами. Пустынно. Тяжелые дома загораживают бульвары. Окна поблескивают черными впадинами. Магазины заперты, торговать нечем. Одна аптека открыта: умирающим не отказывают в помощи. Зайти? В аптеке тусклое одиночество. Безнадежно серый субъект что-то бормочет у окошка «Прием рецептов»: «Я вас прошу…». В окошечке старая еврейка. «Я вас умоляю…» Аптекарша похожа на сфинкса. «Если вы не сжалитесь, я застрелюсь на ваших глазах…». Она покачивает головой: «Без печати я не имею права». Серый субъект извивается, точно он без костей. «Каменная женщина!» Она вовсе не каменная. Усталая, печальная и неумолимая. Серый субъект клянчит. «Не могу нарушить закон». — «Тебе еще дорога твоя жизнь?…» — «Не пугайте меня, это лишнее». — «В кармане у меня бритва», — угрожает субъект. Славушка перебивает: «Разрешите позвонить по телефону?» Аптекарша смотрит на мальчика. «По служебному делу или просто так?» — «Просто так». — «Звоните». — «Я могу заплатить…» — «Оставьте. — Аптекарша покачивает головой. — Какую ценность имеют наши деньги?… — На мальчика аптекарша смотрит еще загадочнее, чем на морфиниста. — Звоните, я сказала…». Славушка снимает трубку: «Дайте Кремль». — «Не надо», — говорит морфинист. «Это Кремль?» — переспрашивает Славушка. «Не надо, — повторяет морфинист. — Я уйду…». Он отскакивает от окошечка. Хлопнула входная дверь. «Это квартира Арсеньевых?» — К телефону подходит тетка. Равнодушно-вежлива. «Я хочу зайти…» — «Когда? Сейчас? Что-нибудь случилось?» — «Завтра я уезжаю, проститься…» — «Заходи, конечно…» Исчезновения его не заметили бы. «Зачем вы его напугали?» — спрашивает аптекарша. «По крайней мере, он ушел…» — «Я ничего не боюсь, а ему вы не дали выплакаться, — говорит аптекарша. — Я уже видела все». — Она стара и мудра. На улице еще темнее. Может, лучше бы посидеть с дедом? Он еще что-нибудь бы сказал. «Унион». Мальчик помнит этот кинематограф. На этот раз он не успел в нем побывать. Нет времени на развлечения. Осенняя ночь торопится. Оперетта Потопчиной. Консерватория. Университет. Все такое знакомое. Зачем он идет к Арсеньевым? Родственные отношения он не очень признает, а Арсеньевы и того меньше. Все, что было оставлено в Москве, сдвинуто в прошлое. Однако он идет. Что-то все-таки нужно, если идет. Каменная громада Университета. Alma mater дедов и прадедов. Направо Манеж. Налево Охотный ряд. Часовня Иверской Божией Матери. Красная площадь. Здесь еще пустыннее, чем где-либо в городе, и ночь призрачнее, чем где-либо, здесь бродит вся русская история. Подходит к Спасским воротам. Заходит в будку у ворот. За стеклом дежурный в военной форме. «Вы к кому?» — «К Арсеньевым». — «Сейчас поглядим. Фамилия?» — «Ознобишин». — «Да, пропуск заказан». Красноармеец в воротах смотрит поверх мальчика, пропускает, почти не глядя. Ночь. Ночь. Поздняя осень. Белые дворцы. Мелкий дождь то перестает, то брызжет. Пустынная мостовая. Вот прошел кто-то мимо и замолк. Тысячи ветров пронеслись над этими булыжными плитами. Дворцы. Соборы. Канцелярии. Никто не обращает внимания на затерявшегося подростка. Он идет медленно, не торопясь. Не очень охотно идет он к Арсеньевым. Не ждет от них ни помощи, ни советов, ни пожеланий. Да ни в чем этом он и не нуждается. Он выбрал путь, и никому не дано ни остановить его, ни поторопить. А ночь гудёт, шумит над страной, переливается песнями, выстрелами, речами, ветер швырнет в лицо пригоршню дождя и мчится дальше, земля пузырится, пучится, как на дрожжах, и лишь через много лет вскипят по стране засеянные поля. Длинный дом с высокими окнами. Офицерский корпус. По стертым каменным ступеням поднимается на второй этаж. Коридор. Бесконечный темноватый коридор. Желтая лампочка. Двери направо и налево. Славушка наперед знает, как его встретят, что скажут и чего не скажут. «Ну вот… Уезжаешь? — Очень хорошо, а то еще начнешь надоедать! — Какое впечатление произвела на тебя речь Владимира Ильича? — Не товарища Ленина, а именно Владимира Ильича. — Мы ведь с ним старые знакомые, соратники. Чаю хочешь?» Славушка откажется, ждут, что откажется, потом снисходительно: «Садись, садись…» Чай будет жидкий, но настоящий. В вазочке вишневое варенье. Чай, хлеб, сахар — паек, варенье — от тети Зины. Про нее известно спокон веков: старая дева, заведует школой в Хамовниках и сама учится в университете Шанявского, а летом варит варенье. После революции выяснилось, что тетя Зина помогала большевикам: хранила литературу, давала приют нелегальным товарищам. Ей предложили вступить в партию, она отказалась: «Я обывательница, люблю варить варенье». Запасы его столь велики, что даже на третий год революции она снабжает вареньем Арсеньевых. Варенья наложат щедро. «Ешь-ешь! Тетя Зина…» Это не паек! «Никогда не предполагала, что сын Коли станет большевиком. Коля был слишком мягок…» Ну как же, это только они такие твердые! «Не торопись с возвращением в Москву, приобрети сперва опыт, получи закалку, поварись в гуще жизни… — Не вздумай броситься под наше крылышко, мы завоевали свое общественное положение в борьбе, в лишениях… — Пиши, только вряд ли сможем аккуратно тебе отвечать, Иван Михайлович очень загружен. И не вздумай направлять к нам кого-нибудь с просьбами. Теперь для всех равные возможности…» Они не поскупятся на прописные истины. Славушка идет к Арсеньевым только потому, чтобы не упрекала мама. Распахивается чья-то дверь. Мальчика обдает знакомым запахом картофельного супа. Этот суп он ел в течение всей жизни. Даже тот, кто готовит мировую революцию, ест картофельный суп! Что ж, он тоже получит свою порцию. Идет. Не торопясь. Сейчас он один в этом бесконечном тусклом коридоре. Вдруг хлопает дверь. Как-то совсем иначе, чем только что. Еле слышно. И сразу быстрые негромкие шаги. Славушка оборачивается. Невысокий человек в черном пальто. Он идет очень быстро. Стремительно! Точно его несет ветер. Нет, нельзя сказать, что его несет ветер. Он сам ветер. Вот он ближе, ближе… Славушка узнает его и хочет посторониться. Прижимается к стенке. Он как будто не видит мальчика. Еще мгновение, и он промчится мимо. Но он останавливается и взглядывает на мальчика. — Где я вас видел? Да, это он! Это он спрашивает меня! К горлу подкатывает комок. — Я… Я слушал вас… — Да-да-да. На съезде молодежи. Помню, помню. То-то смотрю… — Он протягивает руку. Он протягивает мне руку! — Здравствуйте, товарищ. — Здравствуйте, товарищ Ленин! Быстрый взгляд. Быстрый, пронизывающий взгляд. — Вы откуда? «Может быть… может быть, здесь нельзя ходить? Может быть, здесь нельзя ходить в это время?» Мальчик растерянно оглядывается на дверь: — Я оттуда… — Я спрашиваю, от какой вы организации? — Из Орла. — Из города? — Из деревни. Еще один стремительный взгляд. — А кто ваши родители? — Отец убит на войне, мать учительница. Педагоги. Он улыбается. Но это не просто улыбка. Не улыбка вежливости, это улыбка необыкновенного всепонимания. — Отлично. Мои родители тоже педагоги. Этими словами он уравнивает себя с мальчиком. — А почему вы задержались в Москве? Он разговаривает со мной! — Надо было достать… Для спектаклей. Парики, Грим… «Неужели я не могу сказать что-нибудь более серьезное? Какие-нибудь важные дела… Но ему нельзя неправду. Даже немного неправды. Скажешь и тут же умрешь. Сейчас он уйдет…» Но он не уходит. — Очень хорошо. Значит, были у Надежды Константиновны? — Нет… — Не добрались? — Нет, мне и так все дали. Он смотрит на меня, но смотрит на что-то и сквозь меня, становится удивительно серьезным и даже грустным. — Вот почему это так? — задумчиво спрашивает он… Нет, не меня. Кого-то еще. Может быть, самого себя? — Мне жалуются на Наркомвнудел, на Наркомздрав, постоянно жалуются на Наркомпрод, но никогда не жалуются на ведомство Надежды Константиновны? Он не ждет от меня ответа. Он думает. Обо мне, о Надежде Константиновне, о государстве. Славушка физически ощущает движение ленинской мысли, она пульсирует, как удары метронома. Собираясь в Москву и сам себе в том не признаваясь, мальчик мечтал о такой встрече! Он спрашивает. Спрашивает меня. О чем он меня спрашивает? Не спрашивает только об одном, как я попал в Кремль. К кому и зачем пришел. Чувство такта развито в нем, как ни в ком. — Вы кем работаете? — Я секретарь волкомола. — А сколько у вас комсомольцев? — Человек триста. — Это же громадная сила. А что вы будете делать по приезде? Что я буду делать? Что мы будем делать? Ставить спектакли. Разыгрывать самые великолепные спектакли, какие только выдумает наш гениальный режиссер. Открывать библиотеки, обучать старух грамоте, возвращать дезертиров в армию, поднимать батраков на борьбу с кулаками, находить спрятанный хлеб… Нет, я не в пустом тихом коридоре какого-то там Офицерского корпуса! Я среди бескрайней необъятной страны, где поля сменяются перелесками, где часами приходится идти от деревни к деревне, где старики перестают верить в бога, а дезертиры обретают сознание… Вот она — сила мечты! Интервенты расстреливают комиссаров, а исчезают интервенты, а не комиссары, комиссары все чаще свидетельствуют о том, что нет того света. Есть наш свет. Наш свет, черт возьми! Волнуется бесконечное зеленое море, наливается золотом хлеб, он идет по полю, высоколобый, сильный, скуластый, и я рядом с ним, мы идем от деревни к деревне, осветить электричеством всю страну, в каждой избе-читальне, в каждом совдепе зажечь по лампочке, идем по уездам, по волостям, перельем медный звон на провода… — Что вы будете делать по приезде? — Он хочет понять, понят ли он, — Дорогой товарищ, что у вас будет на первом плане? — Учиться. Он улыбается: — Самое большое зло — разрыв книги с практикой жизни. Учиться! Связывая каждый шаг своего учения, воспитания и образования с непрерывной борьбой против старого эксплуататорского общества… Он разговаривает со мной, тратит на меня свое время… Вот зачем я пришел сюда! — Ну что мне сказать вам на прощанье? Вы жидковато одеты. Осенние холода влияют на настроение! — Что вы… Владимир Ильич! Я осмеливаюсь возражать… — Да-да, влияют! Осенние холода влияют на настроение красноармейцев, понижают его, создают новые трудности, приводят к большим бедствиям… Он очень серьезно смотрит на мальчика. — Мы нищие, — твердо говорит он. — Голодные, разоренные, нищие. Нет теплой одежды, обуви… Он говорит то же, то дед: "И нищ, и слеп, и наг… Славушке хочется разрыдаться! Нет, это другое! — Учиться, связывая каждый шаг с борьбой. Пока не побьем Врангеля до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные задачи на первом плане. Армию надо подготовить к весне. Всякий шаг помощи, который оказывается Красной Армии в тылу, сейчас же сказывается на настроении красноармейцев. От его взгляда нельзя укрыться. — Вам понятно, что сейчас делать? — Да… Владимир Ильич! — Усилить хлебные заготовки, собрать лишние пуды хлеба… Он пообещал нам коммунизм, и для этого — собрать лишние пуды хлеба. Он говорит о нищенстве, а видит страну, залитую электрическим светом, поднятую тысячами тракторов, страну тысячи солнц… И совершенно просто: — Так и передайте своим товарищам. Он виновато улыбается. — Извините, дела… Протягивает руку: — До свиданья, дорогой товарищ. И вот он уходит… Идет по коридору. Быстро, быстро. Какая в нем молодость! Славушка получил все, чего бы он сегодня мог пожелать. Ночь как ночь. Сырая осенняя ночь. Сколько еще будет таких ночей. И таких, и более холодных, и более страшных. Но будет день, много дней, дней мысли и света. Приближается третья годовщина революции. День света и мысли. Моросит дождь. Поскорей бы переночевать — и к себе, на Орловщину. Идет по мокрой мостовой. По вековым каменным плитам. Сколько русских людей здесь прошло… И вот он тоже идет, наивный пятнадцатилетний мальчик, которому суждено строить коммунистическое общество. Выходит из Кремля. В улицах носится ветер. Темно. Ветер подгоняет, торопит. Скорее, скорее! Страна моя… Мечта! Завтра в поезд. В Орел. В Успенское. В непостижимые русские просторы. КНИГА ВТОРАЯ 1 И вот Слава уже в поезде, в тесном и грязном вагоне, на обычной вагонной полке, с которой рассматривает окружающих его людей. Солдаты в шинелях, мужики в зипунах, дряхлые бабки в кацавейках, унылые личности неопределенного вида и рядом прямо-таки римские центурионы в кожаных куртках нараспашку… В разговоры Слава не вступал, с непонятным ему самому напряжением перебирал в памяти все, что произошло с ним в последние дни: громадный зал, который почему-то до сих пор называли Купеческим собранием, и пропуска, и песни, и речи ораторов, селедки и жиденький суп из разболтанного пшена, брошюры и газеты… И самое главное — встреча с Лениным. …Невысокий человек в черном пальто. Идет очень быстро. Стремительно. Точно его несет ветер. Нет, он сам ветер! Все ближе, ближе… Слава узнает его и не верит своим глазам… Всего несколько дней назад Слава Ознобишин видел и слышал Ленина на съезде комсомола — и вот теперь, здесь, совсем рядом… Слава прижался к стене. А Ленин как будто и не видит мальчика, так стремительно он идет. Еще мгновение, и он скроется. Но он останавливается и вглядывается в мальчика. — Где я вас видел? — Я… я слушал вас… — Да-да-да. На съезде молодежи. Помню, помню. То-то я смотрю… Он протягивает руку. Он протягивает Славе руку! — Здравствуйте, товарищ. — Здравствуйте, товарищ Ленин. Быстрый взгляд. Быстрый пронизывающий взгляд. — Вы откуда? — Из Орла… Еще один стремительный взгляд. — А кто ваши родители? — Отец убит на войне, мать учительница. Педагоги. Он улыбается. Но это не просто улыбка, это улыбка необыкновенного всепонимания. — Мои родители тоже были педагоги. Вы где работаете? — Я секретарь волкомола. — А сколько у вас комсомольцев? — Человек триста. — Это же громадная сила. А что вы будете делать по приезде? — Учиться… Ленин улыбается: — Самое большое зло — разрыв книги с практикой жизни. Учиться! Связывая каждый шаг своего учения, воспитания и образования с непрерывной борьбой против старого эксплуататорского общества… Учиться, связывая каждый шаг с борьбой. Пока не побьем Врангеля до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные задачи на первом плане. Армию надо подготовить к весне. Всякий шаг помощи, который оказывается Красной Армии в тылу, сейчас же сказывается на настроении красноармейцев… От его взгляда нельзя укрыться. — Вам понятно, что сейчас делать? — Да… Владимир Ильич. — Усилить хлебные заготовки, собрать лишние пуды хлеба… Он говорит о нищенстве, а видит страну, залитую электрическим светом, поднятую тысячами тракторов, страну тысячи солнц… И совершенно просто: — Так и передайте своим товарищам. — Он виновато улыбается. — Извините, дела… — Протягивает руку. — До свиданья, дорогой товарищ… — Ваш билет? Он предъявлял билет. — Одолжите кружечку? Он одалживал кружку. — Позвольте подвинуться… Все было несущественно. Он был устремлен к таким высотам, двигался по такому пути, на котором всякие билеты и кружки не имели никакого значения. 2 Стены выбелены известью, квадратная выбеленная печь подпирает выбеленный потолок, продолговатый дощатый стол, серые скамейки, щербатый пол, простые геометрические пропорции, чистота; от всего веет холодом, хотя печь щедро натоплена Григорием. Он не только сторожит помещение, Григорий самим Быстровым поставлен охранять чистоту учреждения, стоящего на страже революционных завоеваний. Слава лишь позавчера добрался домой. Стоял темный осенний вечер, ветер только что не стегал по крыше ветвями деревьев, трепал их, пригибал, сердитый сухой ветер, в камень превращающий землю. Туч не было, если и показывалось издали темное облачко, ветер гнал его по небу, как вспугнутого пса. Вечер, ветер, и все-таки светится у Астаховых оконце, одно-единственное оконце, не иначе как Вера Васильевна проверяет французские вокабулы, начертанные в тетрадках Прошками, Тишками и Мишками — рекрутами новой нарождающейся армии. Слава миновал крыльцо, ступил на мягкие доски галереи, и — надо ж так! — первым встретился тот, кого он меньше всего хотел встретить. — С прибытием, Вячеслав Николаевич! — язвительно приветствовал его Павел Федорович. — Из каких это вы палестин? — Из Москвы, прямо со станция. — От самого, значит, товарища Ленина? — не без иронии продолжал Павел Федорович. — Напросвещались сами и теперича прибыли просвещать нас, дураков? — Да бросьте вы! — с досадой отозвался Слава. — Я на самом деле видел Ленина и говорил с ним, и шутки тут совсем ни к чему. Он не стал задерживаться возле того, с кем ему предстояло бороться, — не день, не два, а долго, и с переменным успехом, хотя в конечном исходе сомнений у Славы не было. — Позвольте… Он не стал обходить Павла Федоровича, тот сам отступил в сторону. — Ну иди, иди к матери, выкладай ей про Ленина, — хохотнул он вслед Славе. — Может, вам и посытей будет с им, хотя, говорят, сам-от тоже брючки подтягивает… Как Слава и предположил, Вера Васильевна сидела за столом, перед ней теплилась коптилка, в блюдце с конопляным маслом горел, потрескивая и чадя, скрученный из ваты фитилек. — Мамочка! — Наконец-то… Как мог он так долго быть без нее! — А где Петя? Петя тут же лежит, прикорнув на лежанке, спит, чуть посапывая, чуть улыбаясь, снится ему что-то хорошее, доброе, простое, такое, каков он сам. Слава не удержался, позвал: — Петя… Тихо позвал. — Ох, нет, нет, не буди. Намаялся он за день, теперь, когда Федора Федоровича нет в живых, ему приходится отрабатывать свой хлеб… Вера Васильевна провела руками по плечам сына. — Заходил к деду? Ее мало интересовала общественная деятельность сына. — Дед читает Библию, перебирает старые письма, в общем, не унывает. — Голодает? — Как все. — Он мне что-нибудь передавал? Славу вдруг поразило, что дед так ничего и не передал Вере Васильевне, ни слова привета, точно ее не существовало. Слава уклонился от ответа. — Он подарил мне Евангелие. — Евангелие? — Сказал, богу в течение веков приписывались самые умные изречения. — И ты взял? — Что ты, мама! — Напрасно, там много мудрых мыслей, и, главное, это очень утешает человека. — Я не нуждаюсь в утешении. Гордости Славе не занимать стать. Неожиданно к гордости примешалась жалость. Он не нуждается. Ну а мама… Нуждается в утешении? Очень даже нуждается! И он почувствовал себя виноватым перед мамой. Сам-то он привез ей хоть что-нибудь? Хоть пустяк какой-нибудь?… Как же это он так оплошал?… И вспомнил: кто-то в общежитии поделился с ним, подарил пачечку сахарина. Он порылся в кармане, протянул матери. — Это тебе. Больше я ничего не смог достать. — Спасибо, мне больше ничего и не надо. Он видит, маме приятно, что он о ней не забыл. — Ты хочешь есть? Вера Васильевна принесла хлеб и молоко. Только сейчас Слава почувствовал, как проголодался. Молоко густое, холодное, должно быть, стояло и сенях, но хлеб какой-то странный, горчит и хрустит на зубах. — Что это за хлеб? — С лебедой, — объяснила Вера Васильевна. — С хлебом плохо. Как-то сразу стало не хватать. Собрали мало, недород, а следующий год, говорят, будет еще хуже… — Каким будет следующий год — никто не может сказать, — рассудительно произнес Слава, давясь хлебом. — Не будь пессимисткой. Вера Васильевна постелила Славе на диване, с едва он коснулся простыни, как стал стремительно засыпать. Но тут до него донесся вопрос: — А Лиду? Тетю Лиду ты видел? Маму, разумеется, интересовало, заходил ли Слава к Арсеньевны, спрашивать не хотелось, однако Слава молчал, и ей пришлось спросить: Мамин вопрос отогнал сон. — Видел. С первого же слова Вера Васильевна поняла, что рассказ об Арсеньевых придется вытягивать из сына клещами. — Как они? — Едят чечевицу. — Какую чечевицу? — Вера Васильевна растерялась. — Что еще за чечевица? — Обыкновенная. Пришел в гости, угостили меня чечевицей. — Ну а сами-то они, сами? — Сами тоже едят чечевицу. Впрочем, угощали еще вареньем. — Слава, я ведь спрашиваю тебя не о том, чем тебя угощали. Иван Михайлович — министр! Это ведь все-таки что-то значит. Или он уже не министр? — Он не министр, а нарком. — Ну, это одно и то же. Он не предложил тебе остаться в Москве? — Нет. — Слушай, Слава, это невозможно. Ты можешь толком рассказать? Как они живут? О чем с тобой разговаривали, что спрашивали обо мне?… И вдруг Слава понял, что он не то что не хочет рассказывать об Арсеньевых, а ему нечего о них рассказать, что в этой кремлевской квартире идет та же скучная обывательская жизнь, какой жили до революции их многие родственники. — Живут, как и все… — Слава заметил, что говорит о них так же, как и о деде, неохотно. — Получают паек. Вареньем, впрочем, снабжает их тетя Зина. Очень заняты. Иван Михайлович спешил на заседание Совнаркома. Тетя Лида работает в профсоюзе текстильщиков… — Иван Михайлович рад, что ты вступил в партию? — Рад. — Дал тебе какие-нибудь советы? — Дал. — А обо мне что-нибудь спрашивали? — Тетя Лида интересовалась, как у тебя с обувью. — Обувью? — Да… Нет, ему решительно нечего рассказать об Арсеньевых: каша, вечное древо жизни, коленкоровая папка, и… пожалуй, и все. — Передавали тебе привет… Вера Васильевна разочарована. Слава почему-то остался недоволен своими родственниками. Впрочем, Иван Михайлович всегда был сух, а Лида на все смотрит глазами мужа, Слава не сумел поговорить с Иваном Михайловичем… — Ты, вероятно, пришел и просидел у них весь вечер бирюком… — Вероятно… Спорить с мамой не стоит, все равно ничего не поймет. Сон снова смыкает Славе веки, а первая его мысль, как только он проснулся, была о Ленине… Побежал в волисполком, Быстрова нашел в земельном отделе, заседала коллегия волземотдела — Данилочкин и его заместитель Богачев разбирали мужицкие споры — о наделах, о выпасах, о разделе имущества. Быстров часто принимал участие в деревенских тяжбах. — Смотри, кто пожаловал, — сказал Быстров. Данилочкин улыбнулся Славе: — А мы думали, ты уж не наш… — Почему? — удивился Слава. — Пошел слух — оставили в Малоархангельске. — А я б не остался… — Мы не вольны над собой, — нравоучительно возразил Степан Кузьмич, но смотрел на Славу одобрительно. Вошел Дмитрий Фомич, протянул Славе руку и — сразу: — Ленина видел? — Видел… Степан Кузьмич не дал ему договорить: — Помолчи! Соберем коммунистов, волкомол твой, исполкомовцев, расскажешь всем. Не разбрасывайся — одному одно, другому другое, первое слово всегда самое дорогое… И вот товарищ Ознобишин сидит один в волкомпарте и ждет, когда соберется народ послушать его рассказ о поездке в Москву. Он уже навострился делать доклады, а вот сегодня не знает, не знает… Входит Дмитрий Фомич Никитин — созывали партийное собрание, но сегодня, хоть он и беспартийный, Никитину разрешили присутствовать, на сегодняшнее собрание Быстров позвал многих беспартийных, — шутка ли, свой, успенский человек, побывал в Москве, слышал Ленина, — самого Ленина! — приходят Устинов и Зернов, приходит даже Введенский, его Быстров пригласил особо, Семин недолюбливает Введенского, считает несоветским элементом, а Быстров с ним почему-то нянчится… Появляются Сосняков, Саплин, Терешкин, Елфимов… Комсомольский актив! — Все воробьи слетелись, — шутит Данилочкин. Они подходят к Ознобишину, здороваются, у них больше всего прав на Ознобишина, это ведь они посылали его на съезд комсомола. Становится тесно. Жарко и душно. Григорий постарался, накалил печь. Зачадили махрой… А вот и Быстров! Да не один… Батюшки мои светы! Вот почему задержка: Шабунин! Афанасий Петрович Шабунин пришел послушать Ознобишина. Откуда он только взялся? Слава не слышал, что он приехал. Вот перед кем придется говорить… Степан Кузьмич поглядывает на Семина: — Начнем? Семин открывает собрание. Выбирают президиум: Семина, Еремеева, Данилочкина. Быстров должен занимать гостя. — Товарищи, поменьше дымите, задохнемся! Слово для доклада о Третьем съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи предоставляется товарищу Ознобишину… Слава не успевает открыть рот. Грузный, тяжелый, будто заспанный, Дмитрий Фомич поднимает руку и, как бы отмахиваясь от чего-то, разгоняет перед собой дым, сизые кольца которого сам понапускал из своей трубки. — Слухай, Николаич, расскажи-ка ты нам лучше о Ленине. Но именно о Ленине Слава и хочет говорить, о чем же еще говорить, рассказывая о съезде. Только как бы поскладнее начать. Он смотрит на строгого и недоверчивого Соснякова, на сочувственно улыбающегося Саплина, на добродушного Данилочкина, на сдержанного Семина, переводит взгляд на Быстрова, тот ободряет Славу взглядом, его голубые глаза грустны и ласковы, как-никак ведь это он воспитал Ознобишина. Слава переводит взгляд на Шабунина. Вот кого он побаивается, Шабунин смотрит спокойно и чуть вопросительно… Что может сказать ему Ознобишин? Но именно взгляд Шабунина, спокойный и полувопросительный, заставляет Славу собраться. — Товарищи! Именно с этого слова и следует начать, именно с этого слова, это не формальное обращение, вовсе нет, перед ним его товарищи, товарищи по борьбе, по партии, по духу. — Я говорил с Лениным… — То есть слушал товарища Ленина, — снисходительно поправляет Семин — Семин председательствует сегодня, и собрание у него будет идти как по маслу, все будет соответствовать, — чему? — а всему тому, что принято, что установлено. — Вы хотите сказать, что слышали выступление товарища Ленина? — Слышал, конечно. Но я и разговаривал с Лениным! Он говорил, что холод… Что холода влияют на настроение красноармейцев. Что мы должны им помогать. Теплая одежда. Хлеб. Он так и просил передать… Тень проходит по лицу Быстрова. — Минуточку, минуточку, Слава… Слава его выученик, его воспитанник. Степан Кузьмич может позволить себе оборвать Славу на полуслове. — Василий Тихонович, — обращается он к Семину. — Два слова. К порядку, так сказать… — Он обращается к Славе, хочет ему помочь. — Я, конечно, понимаю, ты волнуешься. Впервые на таком съезде. Но ты поменьше от себя, все же ты отвечай за то, что говоришь. Разве так можно? Ленин — и вдруг: холода влияют на настроение… Ты просто… — Быстров даже улыбнулся, извиняя волнение Славы. — Какое значение имеют для революционера холод или голод? Революционер неподвластен настроению. Революционер пренебрегает всем. Ленин нам всем пример, его никогда и ничто не останавливало… Но даже в угоду правильному Семину, даже в угоду несгибаемому Быстрову Слава не будет говорить то, чего хотят от него другие, — он слышал то, что слышал! Он не столько еще понимает, для этого он слишком молод, сколько чувствует, что выступление Ленина на съезде было моментом наивысшего подъема, и, отбросив все остальное, он во всех подробностях рассказывает, как ждали в зале Ленина, как он появился, вошел, сел, как говорил… Слава видит спокойное, сосредоточенное лицо Шабунина и чувствует, что понимает его Шабунин, понимает, что в речах Славы от Ленина и что от Ознобишина. И тогда Слава припоминает урок, преподанный Шабуниным комсомольцам на уездной конференции, когда он вслух прочел им доклад Ленина на II конгрессе Коминтерна вместо того, чтобы пересказывать его своими словами. Слава вытаскивает из кармана сложенную газету. — Товарищи, — говорит он, — вместо того, чтобы пересказывать товарища Ленина, я лучше прочту… Дочитывает до конца, складывает газету, садится. — Позвольте, — обращается к нему Семин, — вы сказали, что разговаривали с товарищем Лениным? Слава снова встает. Как это он забыл! Конечно, это не так важно, как то, что он только что прочел, но сейчас для его слушателей это, возможно, важнее всего. И Слава рассказывает совсем просто, по-ученически, о своей встрече. И чувствует, что не может, не может, не способен передать своим слушателям то пронзительное чувство близости, какое он испытывал, разговаривая с Лениным с глазу на глаз в пустом и холодном коридоре. Кого-то интересуют всякие бытовые подробности: а какой это был коридор, и как появился Ленин, и как он выглядит, как говорит, как держится с людьми… А Слава не очень даже хорошо помнит, какой был коридор и как был Ленин одет, сейчас он понимает, что его мимолетный разговор с Лениным лишь подтверждение того огромного урока, который содержится в только что прочитанной речи, обращенной и к Славе Ознобишину, и ко всем, ко всем его сверстникам. Свидание с Лениным… Свидание с Лениным происходит именно сейчас, в тот самый момент, когда Слава и его слушатели пытаются понять его мысли и извлечь из них наставление для борьбы. 3 Слава забежал в исполком и в сенцах столкнулся с Иваном Фомичом, — тот хоть и не жаловал исполком, а приходилось обращаться то насчет дровишек, то насчет сенца, к этому времени Иван Фомич и коровкой уже обзавелся, Ирина Власьевна была на сносях. Иван Фомич пригладил узкой, совсем не мужицкой чистой и гладкой рукой черную шелковистую бороду, протянул Славе мягкую ладошку. — Здравствуйте, — он ко всем ученикам обращался на «вы», поколебался, и Слава это уловил — как теперь именовать в общем-то еще своего ученика. — Слышал, вернулись из Москвы. Понимаю, сейчас вам не до школы, а все ж таки числитесь вы в учениках. И пошел, не ожидая ответа. Скрылся за дверью земотдела. Слава совсем перестал ходить в школу, не позволяли дела. Ивану Фомичу махнуть бы на него рукой… Но в нем удивительно развито чувство ответственности за своих учеников. Стоит любому подростку стать его учеником, как у Ивана Фомича сразу же возникает потребность вести этого ученика по жизни, довести до того момента, когда тот сможет самостоятельно продолжать свой путь. Это его призвание, не случайно он стал учителем. Слава представлял себе, как Иван Фомич посадит его и начнет говорить о пользе образования, объяснять, как важен для человека багаж накопленных знаний. — А у вас этого нет, — скажет Иван Фомич. — Вы нахватали массу отрывочных сведений, но у вас нет системы, а для человека нет большей опасности, как остаться дилетантом! Он скажет так или примерно так… Но и не пойти Слава не мог. Он пошел, когда отзвонили обедню, когда бабы в девки потянулись от церкви. Иван Фомич тоже мог ненароком забрести к обедне — не верит ни в черта, ни в бога, — в этом Слава уверен, но Иван Фомич любит демонстрировать свою независимость, власти не поощряют посещение церкви учителями, так вот нате, мне никто не указ, а потом на каком-нибудь уроке скажет, что ходит в церковь единственно из-за любви к хоровому пению, мол, церковная музыка есть выражение торжественности и благочестия, присущих многим народам и особенно русскому… Дни стояли странно сухие, ярко синело безоблачное небо, шелестели на березах желтые листья, озимые всходили плохо. Просторный дом сиял на солнце, тропинка, протоптанная от реки, белела, точно ее посыпали речным песком, и даже хвоя на лиственницах зеленела по-весеннему. Директора школы Слава нашел в учительской. Иван Фомич подшивал валенок, на столе перед ним — о резки войлока, нож, дратва, воск и моток тонкой пеньковой бечевки, он старательно продергивал сквозь подошву нитку. — Экипируюсь на зиму. — Отложил валенок в сторону, взял два стула, поставил у окна, жестом пригласил садиться, распахнул раму. — Теплынь… — на мгновение будто тень прошла у него по лицу. — Не нравится мне эта теплынь… — И испытующе поглядел Славе в глаза. — У меня к вам разговор… Но разговор получился не такой, какого ожидал Слава, не о пользе наук собирался говорить с ним учитель Никитин. — Слышал я о ваших докладах и в исполкоме, и перед молодежью. Поучительно, конечно, послушать и как съездили в Москву, и как побывали на съезде. Ноу меня к вам приватный, если можно так выразиться, вопрос. Иван Фомич перегнулся через подоконник, точно проверил, не слушает ли кто за окном. — Передавали, довелось вам видеть товарища Ленина? Слава очень гордился тем, что видел Ленина, и охотно это обстоятельство подтвердил. — И видел, и слышал. Ленин делал нам на съезде доклад… — Да, да, мне передавали, — повторил еще раз Иван Фомич. — Но это все внешнее — как он там взошел и… как высказался. Я о другом. То, что вам, может быть, и невозможно еще понять. Вот вы соприкоснулись… Непосредственно, так сказать, с ним соприкоснулись. Как вы его понимаете? Меня не интересует, какие там у него борода и лысина, какой голос, как он выглядит. Я не о том. Вы, так сказать, очутились в сфере его непосредственного воздействия, и я хочу попросить вас попытаться мне объяснить — что есть Ленин, как вы понимаете, Ленина? Слава сначала не понял Ивана Фомича… Он подробно докладывал и на собрании коммунистов в исполкоме, и на собрании молодежи в нардоме, как торопились делегаты съезда в Свердловский университет, как вместе с другими вошел в зал, как все ждали появления Ленина и как живо и увлеченно выступал Ленин. Как все были потрясены, когда вместо того, чтобы сейчас же послать всех на фронт, Ленин принялся объяснять, что надо учиться и что учиться коммунизму — это не просто сесть за парту, а учиться, связывая каждый шаг своего учения с непрерывной борьбой против старого эксплуататорского общества… Обо всем этом Слава рассказывал охотно и даже вдохновенно. Он запомнил внешние черты Ленина и то, как Ленин, слегка выставив вперед правую руку, в такт своим словам рубил воздух ладонью, и как иногда он вдруг насмешливо и хитро щурил глаза, и как заразительно и радостно смеялся… Это Слава заметил, как только увидел Ленина. Но вот понять Ленина, постичь… Это ему еще не дано, для этого он еще не созрел, и поэтому вопрос Никитина показался ему странным, непонятным и даже наивным. — Как что есть Ленин? — бездумно и даже беспечно сказал Слава. — Председатель Совнаркома. Ну, если хотите, вождь нашей партии… — Нет, не то, — возразил Никитин. — Как бы вам объяснить… Но и Никитин, несмотря на весь свой педагогический опыт, не мог достаточно отчетливо пояснить значение того, что вкладывает он в свой вопрос. — В истории человечества бывают эпохи невероятных социальных потрясений, подобные тектоническим явлениям в природе, однако тектонические сдвиги есть лишь действие сил природы, в то время как социальные сдвиги направляются человеческим разумом, и не надо быть мудрецом для того, чтобы понимать, что человечество переживает сейчас сильнейшее социальное потрясение, какое когда-либо имело место в жизни человеческого общества. Разумеется, потрясение это вызвано совокупностью деятельности многих великих умов, но всякому мыслящему и непредубежденному человеку очевидно, что в данный момент разум человечества воплощен в Ленине, именно Ленин есть наивысшая концентрация человеческого познания и опыта. То, что говорил Иван Фомич, было сложно и малопонятно, и Слава молчал, он не в состоянии был вести такой разговор. — И еще объясню, — продолжал Никитин. — У революции, развитием которой руководит Ленин, предостаточно противников, и все давно полетело бы к чертовой матери, а наша страна была бы разгромлена, не будь в Ленине сконцентрирован высочайший разум. И постепенно до Славы стало доходить, что хочет услышать от него Никитин. Его мало интересует впечатление от первой встречи. Человек как и все. Никитина не интересуют поверхностные впечатления. Но ведь Ленин сверхчеловек, он — гений. Вот это-то сверхчеловеческое и интересует Никитина. Подобно множеству людей, Славе довелось увидеть Ленина-человека. Но заметил ли он в нем — не постиг, а хотя бы лишь заметил, — то, что делает его направляющим умом своего времени? Слава не очень-то отчетливо понимал, какого ответа ждет от него Никитин, и недостаточно сознавал, что ответ этот важен не столько для Никитина, сколько для него самого. И почему-то вдруг принялся рассказывать Ивану Фомичу об Арсеньевых. — У меня есть тетка, сестра моего отца, муж ее народный комиссар, они старые революционеры, большевики… Он рассказал о посещении Арсеньевых, о скромной квартире нынешнего министра, о скудном их рационе, о нравственном пуританизме… Арсеньев вступил в партию одновременно с Лениным, вел в свое время рабочие марксистские кружки, сидел в тюрьме, несколько лет провел в ссылке, эмигрировал за границу, жил и в Лозанне, и в Париже, в 1902 году примкнул к большевикам, а в 1914-м к циммервальдовцам, почти одновременно с Лениным вернулся в 1917 году в Россию, был одним из руководителей вооруженного восстания, словом, большевик без сучка и задоринки и в то же время полный антипод Ленину. Мысль Арсеньева вряд ли проникала дальше, чем за порог своего кабинета, а Ленин смотрел далеко вперед, и то, что другим удавалось увидеть лишь при непосредственном соприкосновении с событиями, Ленин предвидел задолго до наступления событий. Ленин превосходил своих соратников и глубиной ума, и широтой души, и целенаправленной волей, и при этом никогда и ни перед кем не пытался обнаружить свое превосходство, а Арсеньев даже перед племянником кичился своим превосходством. Ленин щедро делился богатством своего интеллекта с окружающими, а Арсеньев держал все свои духовные ценности при себе. Ленин был солнцем, центром системы, в которой Арсеньев был лишь одним из многих и малозаметных спутников солнца. И чем тщательнее перечислял Слава достоинства Арсеньева, его скромность, вежливость, непритязательность, деловитость, принципиальность, тем заметнее превращались они в свою противоположность, все было то и не то… — Подождите, не перебивайте меня, — взмолился вдруг Слава. — Я обязательно должен досказать… Но Иван Фомич и не думал перебивать, наоборот, внимательнейше слушал, понимая, что в отрицании Арсеньева Слава утверждает в себе Ленина. — Вы понимаете, он министр, а живет ну совсем как какой-нибудь заурядный врач или чиновник… Слава рассказал и как тетка поила его чаем, и как охотно ел Иван Михайлович чечевицу, и даже как Иван Михайлович отказал ему в протекции, которую племянник и не думал искать у своего дяди. Все, все у Арсеньевых было безупречно и правильно, и как же все это было мелко и ничтожна! Иван Фомич вдруг схватил руку Славы и стиснул ее меж двух своих громадных ладоней, пожал и еще раз пожал, и было в этом рукопожатии что-то и дружеское, и отеческое, в этом рукопожатии заключалось утверждение самого Славы. — Я понимаю вас, после встречи с Лениным такие люди, как Арсеньев, утратили для вас всякий интерес… Он еще шире распахнул оконные рамы, по календарю стояла глубокая осень, но солнце пекло, как в июле, и какой-то телок, заскочивший в заброшенный школьный сад, носился там. — Слава, — торжественно сказал Иван Фомич я даже поднялся, точно почувствовал себя на уроке. — Будьте счастливы, вам удалось испить живой воды у самых ее истоков. Такое выпадает на долю немногим. Пить эту воду будут миллионы людей, она разольется, как Волга, но вам довелось напиться прямо из родника. Ленин для нас нечто большее, чем Председатель Совнаркома. Он наше знамя, наша программа, и это все очевиднее нашему народу, а скоро будет понято и всеми другими… За окном по-прежнему сияло солнце, жара разморила даже телка, тот перестал носиться по саду, стоял на одном месте и обгладывал молодую яблоньку. — Не нравится мне эта теплынь, — повторил Иван Фомич, — когда же наконец осень вступит в свои права? Солнце тоже хорошо в меру. Что делается в полях! Озимые совсем пожухли. Нам бы сейчас дождей, дождей… 4 — Поедешь завтра, — сказал Данилочкин, строго глядя на Ознобишина, и заковылял к председательскому месту, он все чаще заменял в исполкоме Быстрова, тот свирепствовал, носился по волости из конца в конец, ни один дезертир не мог от него укрыться, хлеб находил, куда бы ни спрятали. — Поедешь завтра за керосином, — повторил Данилочкин, садясь и покряхтывая. Он ждал вопросов, но Слава молчал: ведь приказывал Быстров, а Быстрову Слава подчинялся беспрекословно. — Отправитесь завтра чуть свет, Степан Кузьмич наказал послать в Орел тебя и Чижова. Егор все ходы и выходы в городе знает, только ему могут не дать, у него мошенство на роже написано, а украсть может, самого себя обокрадет, а ты и получишь и довезешь, под твою ответственность отдаем керосин, получите — глаз не спускай… Слава так и не понял, кого имеет в виду Данилочкин — Чижова или керосин, впрочем, по существу, это было одно и то же. — Довезем, Василий Семенович! — заверил Слава. — Куда он от меня денется! — Ну то-то, — сказал Данилочкин. — Иди предупреди мать… Чижов застучал кнутовищем в окно кухни еще затемно, переполошил Надежду, та сперва ничего не разобрала, перепугалась, заклохтала: — Чаво? Каво? Чижов захохотал. — Давай своего барчука! Но Слава не спал. С вечера прикорнул одетым, не любил, когда его дожидались. Не спала и Вера Васильевна. Не могла привыкнуть к отлучкам сына. Он с вечера предупредил мать: — Завтра еду. — Куда? — В командировку. — В какую командировку? — В Орел. — Зачем? — За керосином. — Неужели, кроме тебя, некого послать? — Мамочка, это же как золото… Слава зашнуровал ботинки — вместо шнурков все в деревне пользовались крашенной в черный цвет пеньковой бечевкой, — накрутил на ноги обмотки, натянул куртку, нахлобучил фуражку — и готов. — Надень под куртку мою кофточку, замерзнешь… — Ты что, мам, смеешься? — Кофточка шерстяная… На улице, хоть темно еще, заметно, что пасмурно, день обещал быть теплым, похоже, собирался дождь. У крыльца стояла телега, запряженная каурой лошаденкой, спереди, свесив через грядку ноги, сидел Евстигней Склизнев, один из самых худоконных мужиков на селе, пришел его черед справлять трудгужповинность, Чижов топтался возле телеги. — Егор Егорович, — взмолилась Вера Васильевна, — уж вы присмотрите за Славой… — "Присмотрите", — насмешливо отвечал Чижов. — Вячеслав Николаевич начальник, а мы люди маленькие. — А если дождь? — Не сахарные! — Егор Егорович! — Не тревожьтесь, у меня с собой дождевик. Мама ни в одну поездку не отправляет его без напутствий. Слава обошел телегу, сел по другую сторону от Склизнева. — Поехали, поехали, — сердито забормотал он. Лошадь с места затрусила мелкой рысцой. — Счастливо! — крикнул Чижов, прыгая на ходу в телегу. — Тронулись, что ли ча! Склизнев молча вывернул телегу на середину дороги и хлестнул лошаденку вожжой, ехать ему не хотелось, только не властен он над собой. — Ничего, Вячеслав Николаевич, не горюй, — промолвил Чижов снисходительно. — Доставлю тебя туда и обратно в целости и сохранности. Чижов, как и многие другие в те поры, был личностью скрытых возможностей. Подобно многим местным мужикам, молодым парнем он подался на заработки в Донбасс, лет двадцать о нем не было ни слуху ни духу, и вдруг сразу после Октябрьской вернулся с женой, замызганной, молчаливой бабенкой, и двумя сыновьями, смышлеными и задиристыми, в отца, парнями. Распечатал Чижов заколоченную свою избенку, а чем жить? Не токмо что лошаденки какой — ни овцы, ни курицы, один ветер по сусекам свистит. Поклонился Егор миру, выбрали его мужики в потребиловку продавцом, и, глядишь, уже Егор Егорычем величают, оборотист, сметлив, прямо коммерции советник, на своем месте оказался мужик. И не то чтобы махлевал или воровал, просто способность такая, в лавку попадали разные дефицитные товары — мануфактура, мыло, соль, деготь, предметы самой первой необходимости, товары эти реализовывались в порядке натурального обмена, рабочий класс давая промышленную продукцию, а крестьянский класс расплачивался зерном, маслом, яйцами, и сколько бы ни происходило ревизий, у Чижова все сходилось тютелька в тютельку, сколько продано, столько и получено, все всегда налицо, свои доходы Чижов извлекал из товаров, которые в те суровые времена никем всерьез и не принимались за товары, то достанет модных колец штук с полета, то сколько-то сережек с красными и зелеными стеклышками, то ящик «Флоры» — крем от загара и веснушек, а то так и бессчетное количество баночек с сухими румянами, девкам: как известно, без крема и румян не прожить. Такой товар никем не учитывался, и где доставал его Чижов, никто не интересовался, во всяком случае, по государственным разнарядкам его не отпускали. И чем сытнее Чижову жилось, тем больше внимания уделял он своей наружности. Приехал в подбитой ветром шинелишке, в солдатских буцах, с унылыми усами на голодном, сером лице, а как заделался продавцом, не прошло двух лет, как заимел суконную куртку на заячьем меху и хоть ношеные, но хромовые сапоги, усы сбрил и стал походить на актера из захудалого театра. Сидеть в телеге неудобно, сзади погромыхивали два железных бидона, предназначенных под керосин, а передок занимал не то тюк, не то мешок, мешавший усесться поудобнее. — Чего это тут? — поинтересовался Слава. Чижов ласково погладил мешок, объяснил: — Поросеночек. Хотя, по объему судя, поросеночек давни уже был на возрасте. — Это еще куда? — Да так… — Чижов неопределенно пошевелил губами. — Просили тут передать… — И отвернулся. Моросит дождь, колеса тонут в грязи, дорога расползается. Хочется укрыться от дождя в тихое домашнее сумеречнее тепло, а лошаденка все бежит и бежит. Куда едем? Зачем? А дождь все моросит и моросит! За керосином? За керосином. За светом. За теплыми веселыми вечерами. Слава весь сжался, свернуться бы в комочек и дремать, дремать… Чижов сдержал обещание, дал мальчику «дождевик», заскорузлый брезентовый плащ, которым можно окутать трех таких мальчиков, как Слава, и Слава съежился под брезентом, натянул капюшон. — Николаич, замера? — закричал откуда-то сверху Чижов. Слава высунул голову. Телега стояла перед приземистой мокрой избой, по ее стенам струились унылые потеки дождя. — Чего? — Не замерз, спрашиваю? Коня покормить надоть. Зайди, обогрейся… Слава спрыгнул, наступил на полы плаща, чуть не упал, беспомощным чувствовал он себя в чижовском дождевике. В избе так же сыро и скучно, как снаружи. Молодая баба в паневе стоит у печки и безучастно смотрит на проезжих Евстигней внес торбу, подал Чижову, тот достал ситную лепешку толщиной пальца в четыре и кусок сала, завернутый в лоскут грязного кумача. Карманным ножом Чижов накромсал хлеб и сало. — Угощайтесь. Он заметно спешил. Раза два выскакивал на улицу проверить, подобрала ли лошадь сено. Едва успели поесть — и опять в нуть. Чижов подгонял Евстигнея, Евстигней лошадь. В Орел добрались запоздно, но Чижов ориентировался в неприветливых, темных переулках, как лоцман в знакомом фарватере — туда, сюда, направо, налево… — Заворачивай, — указал он Евстигнею на низкий домишко и сам побежал отворять ворота. Встретили их — сперва во дворе какая-то толстая женщина в черном, а потом, в доме уже, строгий мещанин в чуйке — не слишком любезно, но и не отказывая в квартире, должно быть, Чижов не раз уже останавливался здесь, бывая в Орле. Он и Евстигней с утра собрались куда-то по торговым делам, а Славу Чижов погнал в совнархоз. — Двигай, Николаич, керосин выбить непросто, дня три потратишь… Но Славе повезло. Человеку, впервые попавшему в губсовнархоз, могло показаться, что там царит беспорядок, столько посетителей моталось в его коридорах и комнатах. Слава растерялся и вместо того, чтобы обращаться в топливном отделе к лицам, обладающим в совнархозе властью, обратился за советом к скромной и тихой барышне у дверей, и как раз напал на того, кто был ему нужен. Именно эта барышня и выписывала ордера на керосин, хотя оказалась вовсе не такой простой, как можно было подумать. Сперва огрызнулась, потом пожалела Славу, он и в самом деле выглядел после дороги утомленным и жалким, спросила, откуда он, проверила документы и вдруг посочувствовала: — И зачем вы только полезли в снабженцы! Такому, как вы, не вырвать у нас керосина! Слава хотел было сказать, что она напрасно так о нем думает, но не успел, барышня посмотрела на него и пообещала: — Приходите завтра с утра, сегодня нет выписки, неприемный день, выдам вам керосин, да не опаздывайте, а то мои начальники разбегутся по всяким заседаниям. Впереди у Славы был целый свободный день. 5 В губкомол Славе идти не хотелось, пойдут пустопорожние разговоры о росте и приросте организации, а он после поездки в Москву избегал пустопорожних разговоров. И на квартире не хотелось сидеть, он слышал, как Чижов, доставая из мешка хлеб, звякал стеклянной посудой, в ней не могло быть ничего, кроме самогонки, — Чижов пригласит каких-нибудь гостей и будет договариваться о таких делах, о которых Славе знать не положено. Поэтому он и отправился на рынок, провести одну обменную операцию. Вера Васильевна дала ему в дорогу шерстяные носки, которые выменяла у какой-то бабы на ненужный ей шелковый платочек. «У тебя не замерзнут ноги!» Слава добросовестно доехал в носках до Орла, но после посещения совнархоза ему вдруг пришла в голову идея сходить на рынок и выменять их на что-нибудь такое, что доставило бы маме удовольствие. По пути он заглянул на квартиру, завернул требование на керосин вместе с партийным билетом в клеенку, спрятал сверток в дорожный мешок, стянул с ног носки, сунул их в карман и с легкой душой отправился на рынок. Рынок был большой и пустой. День клонился к вечеру, наступала та пасмурная и унылая пора, когда деловое оживление ноябрьского базарного дня шло уже заметно на убыль. Покупатели расходились, и местные коммерсанты сворачивали торговлю. В стороне стояло несколько подвод. На них мерзли мужики с остатками картошки и пшена, привезенными в город вопреки существующим запретам. По булыжной мостовой неутомимо бродили неприметные пыльные личности, торговавшие махоркой, нитками, леденцами и мылом. Обрюзгший седой интеллигент молча держал на вытянутых руках два бронзовых подсвечника. Под навесами кустари продавали изделия своего труда — картузы, шапки, баретки и сапоги-недомерки. Две немолодые дамы склонились над загадочными лохмотьями. Наконец Слава увидел женщину с чулками, тонкими дамскими чулками, и чулки эти сразу ему приглянулись. Он достал из кармана носки. «Вы не могли бы сменять?…» Слава мало верил, что сделка состоится, грубые шерстяные носки и тонкие дамские чулки! Он плохо знал рыночную конъюнктуру. Владелица чулок бросила беглый взгляд на носки и тут же, без дальних разговоров, схватила их, сунула за пазуху себе, протянув взамен — нет, не одну, а целых две пары чулок. Вероятно, она посчитала обмен достаточно удачным, потому что тут же исчезла. Слава не успел еще представить себе радость Веры Васильевны, как мирное однообразие базарной жизни нарушил пронзительный переливчатый свист. Мимо Славы пронеслась повозка. Огромный мужик изо всех сил нахлестывал вожжами пегую лошаденку, а с повозки во все стороны сыпался картофель. Следом за мужиком появилась другая повозка — баба с разинутым ртом и громадной медной кастрюлей на повозке. Невесть откуда прибежали две перепуганные курицы. Отовсюду доносились крики, брань и вопли. Слава растерялся лишь на мгновение, он сразу сообразил, что на рынке облава. Несколько милиционеров и красноармейцев из продотряда оцепили рынок и вылавливали спекулянтов. Торговля продтоварами была запрещена, продуктами торговали из-под полы, а если кто из торговцев попадался, товар подлежал реквизиции, а самого торговца препровождали в тюрьму. Вислоухий красноармеец остановил Славу. — А вы чем торгуете, гражданин? — Я не торгую. Я приехал в Орел за керосином. — За каким керосином? Вы что, не знаете, что керосин нормированный продукт? — Да я не сюда, я в совнархоз… — А здесь что делаете? — А просто так… Красноармеец подозвал милиционера. — Запутался парень… — Чем торгуешь? — строго спросил милиционер. — Я за керосином… — Ты что, в кармане его, что ли, носишь? А ну, покажь карманы… И, не ожидая ответа, полез к Славе в карман и вытащил одну пару чулок за другой. — Твои? — Мои. — Значит, чулочки? — Я для мамы. — А мама где? — В деревне. — Документы есть? — Документы на квартире. — Да чего ты с ним, — перебил красноармеец. — Мама в деревне, документы на квартире, а сам чулочками промышляет… Спустя минуту Слава стоял в толпе мешочников и спекулянтов, согнанных в тупик со всего базара, а еще через минуту шагал под конвоем к городской тюрьме. В тюрьме Ознобишин пытался протестовать, но с ним, как и с другими, много не разговаривали. — Утро вечера мудренее. Дождешься своего часа. Просторное помещение, напоминающее сарай, нары вдоль стен, длинный стол и бочка для определенных надобностей. Пришел дежурный, принялся всех переписывать. — Фамилия, инициалы, за что задержан, что конфисковано… Задерживали, должно быть, множество народа, потому что даже имя-отчество не спрашивали, ограничивались инициалами. Спросили Ознобишина: — Откуда взял чулки? — Выменял. — Будет врать-то. На что тебе чулки? Большинство, видимо, попадало сюда не раз, были уверены, что через день-два выпустят, а весь интерес сводился к одному — отберут или не отберут взятые при аресте продукты. Бушевать вздумал только один рыжебородый торговец. — Господин начальник! — Товарищ начальник. — Будьте себе товарищ… Я не возражаю, но при чем тут мои шапки? Сахар — да, крупа — да, картофель — да, но в каком законе запрещено продавать головные уборы? За что меня забрали? — А хлеб? — Что — хлеб? Я же не могу есть свои шапки. — Две буханки. — Ну что — две буханки? Я же не собирался съесть их сразу? — Хлеб не разрешено ни продавать, ни покупать. — У меня сын ответственный работник, должен он питаться? — Разберемся… Слава понятия не имел о тюрьме и вот теперь сам угодил… Верно говорят: от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Главное, было б из-за чего! Поехал за керосином для изб-читален, сходил на базар купить маме подарок, и вот нате, доказывай, что ты не спекулянт. Впрочем, сомнений в том, что ему недолго тут находиться, у Славы не было. Громадная комната, сводчатый потолок такой тяжелой кладки, что его не проломить никакими кувалдами, цементный зашарканный пол. Деревянные нары вдоль стен, длинный стол, две скамейки. На окнах решетки. Лампочка под жестяным абажуром. И люди под стать этой унылой камере. Не отличишь друг от друга. Подавленные, упорно отрицающие за собой любую вину. Привлек было к себе внимание рыжий еврей, но опять же не тем, что чем-то отличался от завсегдатаев базара, а тем, что был крикливее других. Дежурный переписал всех в тетрадь, приказал «сидеть потише», сказал, что утром со всеми разберутся, и ушел, погремев за дверью замком. Арестанты принялись располагаться на нарах. Появились карты, составились партии в подкидного дурака. Иные принялись обсуждать конъюнктуру завтрашнего рынка, другие передавали соседям всякие семейные новости, здесь многие были знакомы между собой. Камера оживилась с приближением ужина, двое надзирателей внесли бачок, несколько глиняных мисок и множество деревянных ложек. — Садитесь вечерять, коммерсанты, — сказал дежурный. — Но чтобы без шума… К бачку подошел мужчина во френче, задумчиво поболтал в банке черпаком, пренебрежительно произнес: — Пшенка! Он быстро пересчитал обитателей камеры. — Становись! — раздалась его команда. — Сорок семь, шесть мисок, по восемь человек на миску, и со мной шесть человек… — А почему, извиняюсь, раздавать будете вы? — поинтересовался рыжий еврей. — А потому, что знаю порядок, — начальственно заметил мужчина. — А почему с вами будет не семь, а шесть человек? — продолжал интересоваться рыжий еврей. — А потому, что устанавливаю здесь порядок я. — Я извиняюсь, но кто же вы такой? — Начснаб. И вообще заткнись, если не хочешь получить леща. — Чо такое леща? — попытался было возразить поборник справедливости, но так и не дождался ответа. Начснаб разлил похлебку, оставив гущину на дне для себя. Рыжий скорбно поглядел на миску. — А тарелок здесь не полагается? — неуверенно спросил он. — Может быть, я не хочу есть из одной миски. — Так дожидайся сервиза в цветочках, — сказал начснаб и сострадательно кивнул Славе. — Бери ложку, мальчик, не зевай, ешь. Рыжий все-таки постучал в дверь. Дежурный приоткрыл глазок. — Будьте любезны… тарелку… — Не полагается. — Что значит не полагается? — взвизгнул рыжий. — Покажите мне такой закон, чтобы все ели с одного места? Глазок захлопнулся. Рыжий поиграл ложкой. Есть хотелось. С начснабом он еще согласился бы есть из одной миски, но рядом сидел тип с волдырем на губе. — И разве это суп? — спросил рыжий. — Это же пойло… Никто ему не ответил, все были заняты ужином, рыжий забеспокоился и, стараясь не глядеть на человека с волдырем, погрузил ложку в миску. — Ну вот и напитались, — благодушно сказал начснаб, облизывая ложку и засовывая ее за голенище. — Теперь до утра. — А что утром? — опять спросил рыжий. — Чай с хлебом? — Какао с бубликами, — усмехнулся начснаб. — Отпустят вас, отпустят мальчика, а меня повезут в трибунал и приговорят к расстрелу. Слава в ужасе поглядел на человека во френче, он лежал на нарах как ни в чем не бывало. Рыжий почтительно коснулся его ноги. — За что же это вас? — За баранину, — лениво сказал начснаб. — Достаю баранину, распределяю, а как выйду на базар, они тут как тут… — И вы думаете, вас за это… Начснаб лениво пускал кольца табачного дыма. — Тут и думать нечего, каждый раз одно и то же. — То есть, извините, как это каждый раз? — Да меня уже шесть раз расстреливали, — невозмутимо похвастался начснаб. — Подержат месяц и выпустят, сил моих больше нет, уволюсь после этого раза… Постепенно арестанты угомонились. Прикорнул и Слава возле начснаба, пока, задолго до рассвета, его не разбудил грохот раскрываемой двери. Двое парней в штатских пальто и с винтовками через плечо ворвались в камеру. — Это же смех! — закричал один из них, вглядываясь в Ознобишина. — Сейчас тебя выпустят, вот ордер… Слава узнал Шифрина — да, это был тот самый Шифрин, с которым он год назад ездил в политотдел Тринадцатой армии. Не успел Слава отозваться, как рыжего еврея точно сдуло с нар. — Давид, — кинулся он к Шифрину. — Чтоб ты жил сто лет… Шифрин точно не видел рыжебородого, он сразу же устремился к Ознобишину. Обниматься при встрече даже после долгой разлуки было не в нравах того времени, Ознобишин и Шифрин обменялись небрежным рукопожатием, но глаза Шифрина потеплели, и он похлопал Ознобишина по плечу. — Я сегодня дежурю по ЧОНу, — сообщил Шифрин. — Сообщают, среди всяких подозрительных личностей — комсомольский работник, только у него никаких документов… Рыжий еврей возник из-за плеча Шифрина. — Давид, а на меня ты взял ордер? Шифрин покраснел. — Папаша, вы таки ничего не понимаете! — Чего не понимаю? — Товарищ Ознобишин комсомольский работник, а вы… — Так я не комсомольский работник, но тебе-то я кто — отец или не отец? — Вы классовый враг, папаша, и я не имею права вас отпускать… — Значит, для товарища у тебя есть права, а для родного отца… — Папаша, вы — спекулянт. — Хорошо, пусть будет по-твоему, отсижу до утра, но что будет с товаром? — Товар передадут продкому, — холодно сказал Шифрин. — Как, и хлеб? — И хлеб. — И фуражки? — И фуражки. — Это же разбой! — взвизгнул рыжий. — Давид! Но Шифрин и Ознобишин находились уже за порогом камеры. Ознобишина заставили расписаться, что у него нет никаких претензий, о чулках он даже не вспомнил, и приятели очутились на улице. И вновь, как и тогда в поезде, при возвращении в Орел, Шифрин на мгновение замялся, но тут же преодолел смущение. — Что же с тобой делать? Ночь… Придется идти ко мне. Они зашагали по темным переулкам. — Это твой отец? — спросил Ознобишин, вспомнив рыжебородого еврея. — В них надо бросать бомбы, — сердито ответил Шифрин. — Его уже ничем не исправишь. Остановились перед мрачным особняком. Шифрин опять поколебался. — Ты извини, — произнес он, — мы живем в подвале. И только в квартире Шифрина Ознобишин начал кое-что понимать… В двух полуподвальных комнатах ютилось — Ознобишин не пытался их сосчитать — такое множество детей и женщин, что каждый лишний человек стал бы здесь бременем. — И все это твои? — удивился Ознобишин. — Да, — сконфуженно признался Шифрин. — Братья, сестры, тетка, племянники отца… И повсюду висели фуражки. Готовые и не готовые. Болванки, тульи, околыши, каркасы, козырьки, комнаты одновременно были и жильем и мастерской, и только сейчас Ознобишин заметил, как конфузит Шифрина эта обстановка. — Будем спать? — спросил Шифрин, бросил на лавку пальто и торопливо погасил лампу, в темноте он чувствовал себя увереннее. — Кого это ты привел, Давид? — спросил в темноте женский певучий голос. — Товарища по партии, — ответил Шифрин и тут же строго сказал: — Спи, спи, поздно, люди давно уже спят. Лежа в темном душном подвале, Ознобишин вдруг понял, почему Шифрин не звал его в гости: Давид стыдился своей семьи, стыдился своего отца, и хотя умом Слава понимал Давида, сердцем не мог его оправдать, — жизнь дает нам лишь одного отца и одну мать, и, какие бы они ни были, человек не смеет стыдиться своих родителей. 6 Слава проснулся спозаранку и, сидя на узеньком диванчике, ждал, когда начнут просыпаться женщины и дети. Постепенно в комнатах началось хождение, обитатели подвала о чем-то говорили, ссорились, взвизгивали, кричали, но Слава не понимал их языка. А утро все не наступало, и Слава понял, что здесь оно так никогда и не наступит, дневной свет не проникал в подвал, люди здесь обречены на вечные сумерки. Давид сконфуженно протер глаза, прикрикнул на детей: — Шмаровозы, тихо! Собираетесь вы в школу или не собираетесь? — Крикнул одной из женщин: — Накорми их и отпусти. — Повернулся к Славе: — Сейчас позавтракаем и пойдем… Женщина с рыжими всклокоченными волосами, кое-как подколотыми шпильками, поставила на стол блюдо с мелко нарубленной свеклой и тарелку с пышками неопределенного цвета, разложила по тарелочкам свеклу, положила на каждую по одной пышке, сдвинула на край стола валявшиеся лоскутья и усадила детей. — Присаживайтесь, будьте любезны, — предложила она гостю. — Извините, курочки у нас нет. А Славе не терпелось уйти. Такого нищенства и такой грязи он не встречал даже в деревне. — Садись, поешь, — пригласил Давид Славу. — Хлеб, конечно, не деревенский, но есть все же можно… Вот когда до Славы дошли вопли рыжебородого еврея о хлебе! Для такой оравы нужно шить фуражки с утра до вечера. И кем же тогда является Давид, ничего не предпринявший для того, чтобы вернуть отцу конфискованные буханки? Фанатиком или героем? До чего все непросто… — Ты извини меня, — признался Шифрин, — не хотелось показывать тебе это свинство. — Ой, боже мой! — закричала вдруг седая женщина в папильотках, Слава догадался, что это мать Шифрина. — Отца забрали в каталажку, а ты сидишь тут и ничего не делаешь, чтобы спасти отцовский товар! — Я пойду, — сказал Слава. — Спасибо за гостеприимство. — Извини, — сказал ему Шифрин в спину. — Не могу я спасать эти чертовы картузы. И все-таки Давид чувствовал себя неуверенно, с отцом он поступил, может быть, и правильно, но перед братьями и сестрами в чем-то был виноват. Небо было пасмурно, моросил дождь, день в городе давно уже начался, по улицам сновали прохожие, немногочисленные продовольственные лавки были уже открыты, и белели наклеенные на стены свежие номера газет. Слава дошел до Болховской улицы, свернул в грязный переулок, отыскал дом, где они с Чижовым остановились, попутчики его отсутствовали, достал из мешка документы и поспешил в совнархоз. В топливном отделе царила обычная толчея, и не посчастливься Славе встретить здесь накануне добрую фею, долго бы ему тут пришлось мытариться со своим требованием на керосин. Барышня сразу узнала Славу и сама пошла с его требованием к начальству. — Вот и все, — сказала она, возвратясь. — Григорий Борисыч разрешил отпустить два, да я еще сделаю полпуда… И тут же, на глазах у Славы, к резолюции «выдать два пуда» приписала «с половиной». — Я же вижу, что вы не для себя, — деловито пояснила она. — Нас тут одолели всякие жулики, выпрашивают для школ, для больниц, а потом торгуют на рынке… Слава подумал, что такую девчонку, светловолосую, худенькую и, должно быть, голодную, невозможно подкупить. Она тут же выписала ордер, велела Славе расписаться в расходной книге и пожелала ему счастливого пути. Оставалось только ехать на склад и получить драгоценную жидкость. Слава снова отправился к себе на квартиру. Чижов и Евстигней не появлялись. Слава решил позавтракать, запустил руку в торбу, нащупал ситники и… отдернул руку. Его пронзило такое острое чувство раскаяния в том, что он ест хлеб, а рядом кто-то голодает, что он не смог совладать со своим внезапно возникшим желанием. Конечно, Чижов разозлится… Черт с ним! Он торопливо вытащил все ситники один за другим. Три, четыре… сунул в свой дорожный мешок и зашагал к совнархозу. Слава поднялся в топливный отдел. Там царила все та же толчея, посетителей даже прибавилось. Анемичная барышня сидела на своем месте. Она удивленно взглянула на Славу. — Вы что? — Можно вас попросить… — У вас все в порядке, идите, получайте… Слава оглянулся на входную дверь. — На минуточку? Он нерешительно двинулся к двери, барышня пошла следом за ним. На лестнице никого не было. Слава торопливо полез в мешок и подал барышне ситник, он был уверен, что она голодна. Однако у нее тут же сузились глаза и побелели губы. — Да вы что… — Она рассердилась и перешла на «ты». — Да как ты смеешь? Ты думаешь — я голодная? А еще комсомолец! Да, я голодная, — призналась она с удивительной прямотой. — Но я такая же комсомолка, как и ты. Думаешь, прибавила керосина, чтобы ты мне что-нибудь дал? Дурак! Я же сразу разобралась, что ты не жулик, а действуешь, как жулик… Слава никогда бы не подумал, что эта барышня, сидящая целыми днями за канцелярским столом, такая же комсомолка, как и он сам, в его представлении как-то не совмещались принадлежность к комсомолу и канцелярская деятельность, а девчонка давала ему урок принципиальности, и ему тем более хотелось поделиться с ней хлебом. — Чего ты злишься? — сердито сказал он. — Я же вижу, как у вас в городе. Я из деревни. Пойми, у нас все-таки больше хлеба, я по-товарищески… Но барышня распалялась все сильнее. — А я тебе вот что скажу по-товарищески, — пробормотала она, не слишком поднимая голос, чтобы не привлечь к себе внимания. — Иди и не суй мне своих булок, а то пойду и скажу, что ты давал взятку, сразу полетит ордер… Она способна была пожаловаться, Слава испугался за свой керосин, склонился над мешком, запихивая туда ситник, а когда поднял голову, барышни уже не было, только дверь стукнула перед его носом. Обескураженный Слава побрел на квартиру Шифрина. Давида уже не было, но остальные обитатели подвала и не думали расходиться. У стола сидел недавний сосед Славы по тюрьме, отец Давида, и как ни в чем не бывало мастерил очередную кепку, и на рыжей его бороде дрожала черная нитка. — Кто там? — Он поднял голову и сразу узнал Славу. — А, товарищ по партии. — Давида нет? — спросил Слава, лишь бы что-то сказать. — Давид уже борется с классовым врагом, — сказал старший Шифрин. — Ищите его в милиции. Тут из соседней комнаты выплыла мать Шифрина, все еще не причесанная, но уже без папильоток. — Вы? — осведомилась она у ночного постояльца. — Или вы у нас что забыли? Слава опять полез в свой мешок. — Давид вчера положил в мой мешок хлеб, а я забыл оставить… Родители Шифрина не внушали ему симпатий, но Слава, мысленно осудив Давида за то, что тот недостаточно заботится о братьях и сестрах, решил хоть как-то помочь этим детям. Растрепанная женщина выхватила из рук Славы ситники. — А положил он в мешок четыре? — недоверчиво спросила она. — Я понимаю, вы тоже хотите кушать, но четыре — это не пять… Слава скользнул за дверь. Еще минута — и от него потребуют целого барана! Снова отправился домой, снова не застал ни Евстигнея, ни Чижова, но на этот раз принялся терпеливо их ожидать. Они появились под вечер — Чижов с большим свертком в руках, а Евстигней с ящиком, прихваченным к спине лямками. — Удалось али как? — поинтересовался Чижов и, узнав, что керосин выписан и остается ехать только на базу и получить, тут же погнал Евстигнея запрягать лошадь. Слава глазами указал на сверток. — А это что? — Поросенок! — Чижов ласково похлопал ладонью по ящику. — В ящике краска, мужикам крыши красить али что, а в свертке девичьи радости — бусы и кольца. — Он захотел похвастаться приобретением, надорвал бумагу, вытащил картонную коробку, раскрыл перед Славой. — Товар дай боже! В коробке поблескивали разноцветные стеклянные елочные бусы. — На что они вам? — удивился Слава. — Да господи! Знаешь, Николаич, сколько я на них наторгую и яиц, и масла, и молока? — Да ведь они побьются? — А красоту навек и не покупают… Уплатили за постой, выехали со двора. — Давай, давай, — подгонял Чижов Евстигнея, — нам бы засветло из Орла… Телега загромыхала по мостовой. Осенний дождик внезапно остановился, небо точно задумалось, подул ветер, холодный, резкий, и вдруг посыпал колючий снежок, покалывая иголками лицо. Миновали приземистые одноэтажные улочки, пересекли Щепную площадь, вывернули на окраину к монастырю, свернули через огороды в сторону — за невысоким забором из гофрированного железа высились тяжелые цистерны, бывший нобелевский склад, над воротами которого, меж двух столбов, покачивалась под ветром жестяная вывеска с намалеванной черной краской надписью «не курить», с черепом и двумя перекрещенными костями. — Как в аптеке али на поле боя, — сказал Чижов и застучал кулаком по калитке. Выглянул сторож в малахае. — Какого дьявола? — За керосином. — Вы б позже приехали. Прочел, перечел ордер, отомкнул ворота. — Шевелись! Сам под уздцы подвел лошадь к продолговатой бочке. — Где посуда? Чижов и Евстигней составили на землю бидоны. — У меня как в аптеке, — сказал сторож. — Корец на десять фунтов. Сколько отпущено вам пудов? Значит, десять корцов… Подставил под кран ковш, наполнил и быстро, через воронку, слил керосин в бидон. Сторож действовал в одиночку. Слава подивился — бумажки на керосин оформляло с десяток человек, а отпускал один, и еще Слава подивился тому, как это он не боится, что могут ограбить базу, потому что на рынке за керосин можно было выменять и хлеб, и сало, и самогон. — А не страшно? — высказал ту же мысль Чижов. — Придут, накостыляют и увезут бочку? — А левольверт? — отвечал сторож. — Однова тут пришли двое, налей ведро, говорят, так один так и остался лежать, а другой давай бог ноги… Чижов поинтересовался: — А револьвер при тебе? — Не твоя это забота, — отрезал сторож. — Получил — и отъезжай, куда тебе надо, ночь уже… — Да я ничего, — примирительно сказал Чижов, — не задержал — спасибо и на этом. — Закурить не найдется? — попросил сторож. Чижов кнутиком указал на вывеску. — Да ведь нельзя. — Вам нельзя, а мне можно. Чижов выгреб из кармана горсть самосада, сторож стоил того, ни на минуту не задержал приезжих. Совсем стемнело, когда выехали на шоссе. Колеса загромыхали по смерзшимся колеям. Снег падать перестал, а ветер становился все резче. Евстигней взмахнул было кнутом и опустил руку — лошадь споткнулась и стала. — Ах ты, едрена палка… Евстигней от огорчения ругнулся. Вместо расползающейся грязи дорогу покрывали подмерзшие глинистые комья. — Таперя держися, — пробормотал Евстигней. — По такому гололеду и за два дни не доберешься… Слава с ужасом услышал предсказание Евстигнея — он, скрючившись, сидел под брезентом и чувствовал, как деревенеют его руки и ноги. — Ты бы, Николаич, слез, пропадешь под брезентом, — посоветовал Чижов. И Чижов, и Евстигней давно уже шагали возле телеги. Слава с трудом спрыгнул на землю. Какая твердая! Все ноги побьешь о такие глыбы. Ветер так жесток, что идти трудно. Но идти надо. Надо, надо. Вечное «надо». С детских лет сталкиваемся мы с этим «надо» и до самой смерти существуем под бременем этого слова, — умирать только не надо, и ради того, чтобы не умереть, постоянно подчиняемся этому «надо». Он с трудом передвигал ноги, делая вид, что ему это совсем нетрудно, стараясь не отстать от двух выносливых, закаленных мужчин. Экипированы они неплохо, один в ватнике и выменянном где-то зимнем мужском пальто с облезшим меховым воротником, другой — в овчинном полушубке и поверх него плотном рыжем армяке; один в валяных сапогах, обшитых кожей, другой, правда, в чунях, но предусмотрительно обвернул ноги суконными портянками. Им легче. А Слава, мягко выражаясь, одет не по сезону. Две рубашки, нижняя и верхняя, мамина шерстяная кофта да суконная куртка, которая могла бы согревать в нетопленом помещении, но никак уж не на таком ветру. Идти в плаще невозможно — он непомерно велик, длинен, ноги в нем будут путаться, а заскорузлый брезент усиливает ощущение холода. Сколько он так шел? Час, полтора? Замерзая на ходу, он только это и чувствовал; ночь, ветер, выбоины… Он все готов был послать к черту — спектакли и митинги, и это путешествие, и керосин, и самого себя… Он еще не знал, каким испытанием обернется для него эта поездка! Да и впоследствии не очень-то отдавал себе отчет в том, что в эти сутки его человеческое достоинство подверглось жесточайшей проверке. Он шел и старался не замечать холода. А как его не замечать? Думать о чем-либо другом? Он припоминал подробности съезда, на котором был недавно в Москве. Малую Дмитровку. Купеческое собрание. Делегатов. Среди них было много ребят, только что приехавших с фронта. Они были проще и жестче тех, кто еще не побывал на войне. Вероятно, этим ребятам с фронта не раз приходилось совершать такие же переходы. Нестерпимый холод, холод и голод, непроницаемая темь… «Как некстати ударил мороз! — размышлял Слава. — Если бы похолодало двумя-тремя днями позже. Увы, природа еще не подчиняется людям…» Телега неожиданно остановилась. Слава сделал несколько шагов и тоже остановился. «Тпру, тпру…» Кто сказал «тпру»? Его спутники скрутили по козьей ножке. Евстигней кресалом принялся высекать искры и высекал до тех пор, покуда не затлел пеньковый фитиль. И хотя Слава и не курил и понимал, что зажженная цигарка не может согреть курящего, два вспыхивающих в темноте огонька создавали иллюзию тепла. — Ничего, Николаич, крепись, — сочувственно произнес Чижов. — Потерпи малость, скоро ночевка. Давно миновали какую-то деревню, и еще деревню, и еще, но Чижов, должно быть, считал, что останавливаться рано. Пальцы на ногах у Славы совсем застыли, ноги двигались автоматически. «Господи, дай мне сил дойти, — твердил про себя Слава. — Не упасть и дойти…» Дойти… До чего? До тепла? Наконец Чижов сжалился. Нет, жалел он не Славу и даже не себя, хоть и сам сильно притомился, он пожалел лошадь — впереди еще немалый путь, а дорога из рук вон… Они въехали, вернее, вошли еще в одну деревню, и Чижов указал Евстигнею на добротную шестистенную избу. — Держи туда. Двое мужиков и баба сидели за ужином. Встретили Чижова приветливо, даже суетливо, видно было, здесь его знают. — Дюже замерзли? — хлопотливо спросила баба. — Мороз-то как вдарил! Садись, садись вечерять… — Указала на Славу. — А это кто с тобой? Совсем закоченел парень… Телегу оставили во дворе, лошадь завели в сарай, бидоны предусмотрительно внесли в сени, сверток в избу. Не успел Слава сесть на лавку, к нему пододвинули миску. — Супцу. Супцу хлебни, грейся… Горячая жирная похлебка обожгла его, он глотал ложку за ложкой, и бездумное умиротворение овладевало им все сильнее. Он опьянел от тепла, голова опустилась на стол, Чижов с помощью хозяйки оттащил его на лежанку и прикрыл чьим-то полушубком. Проснулся он на рассвете. Чижов осторожно тряс его за ногу, приговаривая: — Пора, Николаич, пора, дорога еще немалая, рассвело… Спросонья Слава не сразу сообразил, где находится, — чужая изба, незнакомые люди, — соскочил с лежанки, все вокруг не так уж уютно и тепло, как показалось вечером. Хозяйка, стоя перед загнеткой, разжигала огонь. Чижов вынул из мешка кусок жирной свинины, протянул хозяйке, еще пошарил в мешке. Недоуменно наморщил брови. Слава пришел на помощь: — Ситники? — Ты их, что ли, взял, Николаич? То-то, думаю, как тебе удалось получить столько керосина, — догадался Чижов. — Пхнул кому-нибудь? Слава молчал, и Чижов принял его молчание за согласие. — Плоховато без хлеба, но коли на пользу делу… — Он оборотился к Евстигнею. — Ты лепех каких в дорогу не припас? — Не будешь ты есть мой хлеб, — отвечал Евстигней, выкладывая на стол большой ломоть черного, как земля, хлеба. Чижов сочувственно взглянул на Евстигнея. — С лебедой? Что поделаешь, все лучше, чем без хлеба… Слава знал, что многие в Успенском пекли хлеб с лебедой. Тем временем хозяйка поставила на стол сковородку, поджаренная свинина брызгалась салом, и Чижов алчно зацепил вилкой сразу два куска. Хлеб хрустел на зубах, как песок, и сало с таким хлебом казалось затхлым и горьким. Слава отложил вилку. — Не гребуй, парень, — наставительно сказал Чижов. — Быват, и таким хлебом не пробросаешься… Но горький хлеб застревал в горле. Евстигней пошел запрягать. Слава выглянул за дверь. Землю накрыло снегом, вода в колеях подернулась ледком, ветки деревьев опушил иней… Зима? Рано бы, да погоду ведь не закажешь. День-два, и все растает, а вот добираться до дому, как назло, приходится зимой. Слава поежился и вернулся в избу. Чижов вполголоса говорил о чем-то с хозяевами. Он сочувственно посмотрел на Славу. — Холодно? — Ничего. — Слушай, Николаич, есть дело, — обратился Чижов к Славе. — Замерзать неохота? Негромко что-то сказал, и хозяин избы вышел и тут же вернулся, неся в руках новый овчинный полушубок. Чижов взял полушубок из его рук и подошел к Славе. — Примерь, Николаич. — И, не дожидаясь ответа, помог Славе натянуть полушубок. В таком полушубке не страшен никакой мороз. Чижов оказался добрым человеком, нашел выход. Его знали чуть ли не во всех деревнях по пути в Орел. Попросил хозяев одолжить полушубок, а в следующую поездку вернет полушубок в полной сохранности. — Хорош? Ответа не требовалось. — Сторгуем тебе бекешу? — весело спросил Чижов. Слава не понял. — Как — сторгуем? — Эх, Николаич, Николаич, — сочувственно проговорил Чижов. — Не умеешь ты еще жить. В голосе снисходительная насмешка, почему-то она встревожила Славу. — Да ведь купить мне не на что, — сказал он громко и жалобно, хотя это очевидно и без его слов, и неуверенно добавил: — Вот если бы одолжить… Чижов засмеялся: — Кто же при теперешней жизни поверит в долг? Тихо и доверительно обратился он к Славе: — Десять фунтов керосина — и бекеша твоя, комсомол твой от десяти фунтов не обедняет. Вот оно, испытание, мало с чем сравнимое по своей жестокости. Заледенеть от стужи или пожертвовать небольшой частью керосина и уберечься от холода, спастись от простуды и тем сохранить себя для той самой работы, ради которой он и добывал керосин. Полушубок будто сшит по нему… Чижов в ответе Ознобишина не сомневался и хотел помочь совершить ему неизбежный шаг. — Никто ничего знать не будет. Я — могила, два пуда привезешь, и то большая удача… Он что-то еще говорил, а у Славы остановилось сердце, то, что предлагал Чижов, было хуже, чем замерзнуть в поле под кустом, — чему же тогда учил его отец, из-за чего погиб Федор Федорович, зачем с ним разговаривал Ленин, — в это мгновение он не думал ни об отце, ни о Федоре Федоровиче, ни о Ленине. Они существовали где-то в его подсознании. Слава молча стащил с себя полушубок и положил на лавку. — Ты чего? — удивился Чижов. — Никто знать не будет… — Хочешь записать меня в мерзавцы? — На улице мороз, — предупредил Чижов. — И к вечеру усилится. Слава застегнул свою куртку на все пуговицы. Ему хотелось заплакать, но он не смел заплакать. Чижов может подумать, будто плачет он из-за того, что у него нет полушубка, а на самом деле ему хотелось заплакать из-за того, что предложение Чижова показало, как мало он уважает Славу. Он нахлобучил шапку и пошел прочь из избы. Евстигней стоял у запряженной лошади. — Поехали! — выкрикнул Слава и зашагал рядом со Склизневым. Чижов шел неторопливо, вразвалку, но Слава с трудом за ним поспевал, ноги у него начали мерзнуть, точно он и не ночевал в теплой избе. О том, чтобы сесть в телегу, нельзя в подумать лошадь еле тащится, да и без движения, скрючившись от холода, легко заснуть и никогда уже не проснуться. Вероятно, это была его самая длинная дорога в жизни. Иногда ему казалось, что он умирает. Видеть вокруг себя он почти ничего не видел. Свинцовое небо, готовое вот-вот прорваться и засыпать все снегом. Пожухлое, грязно-фисташковое поле за обочинами и черные колеи, покрытые блестящим тонким льдом. В бидонах слышно поплескивал керосин. Ради него он и отправился в это путешествие. Керосин будет разлит в бутылки, из бутылок в лампы — и произойдет чудо: нечистые станут чистыми, больные — здоровыми, неграмотные — грамотными… Ради этого можно вытерпеть все, что угодно. Может быть, Быстров и не осудил бы его за то, что он выменял керосин на полушубок, может быть, даже Ленин не осудил, бывают моменты, когда даже самые жесткие правила позволяется нарушить ради сохранения жизни… Куртка совершенно не греет, а мамина кофта точно примерзла к телу. Он до того замерз, что слышит ветер, не тот ровный, свистящий шум, который доносится и до Чижова и до Евстигнея, а ту таинственную музыку ветра, которую можно услышать только в таком состоянии, в каком он сейчас находится. Они проезжали, вернее, проходили деревни, Чижов и Евстигней иногда останавливались, закуривали, шли дальше, а Славе даже остановиться было не для чего. В его сознании теплилась лишь мысль о том, что он привезет керосин в Успенское, а там уж будь что будет. Чижов торопился, видимо, дома его ждали дела. Евстигней как будто не спешил, но и он, должно быть, стремился скорее добраться до дома, а Славе хотелось лишь согреться, неважно где, лишь бы согреться… Ветлы по сторонам торчали, как нескончаемый частокол. Вот если бы зажечь их, чтобы они полыхали вдоль всей дороги. Посыпал снег, и как будто стало теплее. Слава нашел в себе силы вытянуть из кармана руку, поймал на ладонь падающий снег и тут же слизнул снежинки. Чижов и Евстигней перебрасывались короткими фразами, Слава не прислушивался к их разговору, он не спускал глаз с бидонов. В потемках вступили в Успенское, но и на знакомой улице нисколько не потеплело, телега продолжала подпрыгивать на замерзших комьях. Еще двести-триста саженей, и можно сгрузить бидоны и разойтись по домам. Однако кобыла остановилась против избы Склизнева. Стоит и стоит. Чижов отошел в сторону, посматривает в проулок, а Евстигней прикасается рукой к плечу Славы. — Вячеслав Николаич, будь человек, забегу я домой, принесу бутылку, налей чуток керосину за то, что в срок доставил… Должно быть, Чижов и Евстигней заранее договорились, Чижову отойти, будто не слышит, а Евстигнею попросить бутылку — пустяк, за дорогу больше могло расплескаться. Слава лишь после сообразил, что так, бутылку за бутылкой, можно обездолить не одну школу или читальню… — Н-но, н-но, езжай! — Слава даже взвизгнул от нетерпения, так хотелось сгрузить керосин. Евстигней испуганно отодвинулся. — Нельзя так нельзя… Остановились у потребиловки. Чижов зазвякал ключами. — У меня сгрузим? Самое лучшее — поставить бидоны в подсобное помещение при лавке, и Слава согласился бы, если бы не два покушения на керосин по дороге. — Нет, нет, поставим в амбар у Астаховых. Свернули во двор Астаховых. Слава забежал в кухню, позвал Федосея, Павел Федорович сам вышел открыть амбар, сняли бидоны, поездка в Орел за керосином окончена. Слава не в силах был даже проститься со своими спутниками, ухватился за руку выбежавшей ему навстречу Веры Васильевны, и мама повела его в дом, как маленького. — Скорее, скорее, ты совсем закоченел… Мама раздевала, Петя расшнуровывал ботинки, а Слава плохо понимал, что с ним, так сильно его трясло. Его уложили в кровать, Петя накрыл одеялами… — До чего ж я за тебя беспокоилась, — приговаривала мама. — Такой неожиданный мороз, а ты… Принесла горячего молока. — Лишь бы не воспаление, пей, у меня есть немного меда… — Положила в молоко меда, поила Славу, велела Пете растирать брату ноги. — Не могли никого другого послать за этим керосином, — неизвестно кому пожаловалась Вера Васильевна. Всю ночь подходила к сыну, притрагивалась ладонью ко лбу: не поднялась ли температура? Спал Слава до полудня. Вера Васильевна ждала его пробуждения. — Ну как? — Все в порядке. Это было чудо, но Слава не простудился. — А как съездил — удачно? — Да, мамочка. — И много достал? — Сколько просили, столько и дали, даже больше. — А ты не мог бы… Вера Васильевна замолчала. — Что, мамочка? — Да нет, ничего… Так ничего и не сказала. Славе хотелось рассказать маме о поездке, в другой раз он не согласится отправиться в такой поход, и только мама способна его понять, но о чем, собственно, рассказывать? О том, как было холодно? Разве можно рассказать о том, как тебя насквозь пронизывает стужа? Или о том, что не согласился выменять полушубок на керосин? Мама сочтет это естественным поступком — ни отец его, ни мать никогда не согласились бы на что-либо бесчестное… — Нет, рассказывать не о чем. Слава поглядел в окно. В небе сияло солнце, и похоже было, что и за окном тепло. — Надо идти в исполком, сказать о выполнении поручения. В сенях его перехватил Павел Федорович, поманил к себе. — Постой-ка… Слава догадался, о чем пойдет разговор. — Фунтиков пять не одолжишь в дом? — Не могу. — Хлеб в доме можешь есть, а дать в дом не можешь? — Не мой это керосин, я человек подотчетный. — Извините за беспокойство, Вячеслав Николаевич… Слава вышел во двор. Как нарочно, сразу потеплело. Земля раскисла, глубже вдавились колеи, деревья тянулись к солнцу, словно собирались набирать почки, ветра не было, пахло прелой листвой. У сарая Федосей подгребал граблями рассыпанное сено. — Погода, Николаич? Слава попросил Федосея запрячь лошадь, вдвоем отвезли бидоны к волкомпарту, внесли с помощью Григория, и Слава заторопился похвастаться своей удачей. Посетителей в исполкоме нет, никто не едет по такой грязи, лишь сидит за своим дамским столиком Дмитрий Фомич, да приковылял в канцелярию Данилочкин, увидев в окно Славу. Дмитрий Фомич отложил ручку. — Как съездили, молодой человек? — Привез? — спросил Данилочкин. — Привез. — Сколько? — Два с половиной. — Разбазарили чего-нибудь по дороге? — Нет. — Не поддался Чижову? — Не поддался. — А себе сколько отлил? — Нисколько. — Что ж так, себя забывать не следует… Слава промолчал. Как может Василий Семенович так о нем думать? — В таком случае садись, — сказал Данилочкин, — составляй разнарядку, ты доставал, ты и распределяй. И Слава сел за разнарядку и лишь когда принялся фунт за фунтом делить керосин между школами, читальнями и народными домами, подумал, что надо было бы хоть бутылку, хоть полбутылки оставить маме, чтобы она проверяла ученические тетради не при тусклом мерцании конопляной коптилки, а при свете керосиновой лампы. 7 — Слава, ты где встречаешь Новый год? Вера Васильевна привыкла встречать Новый год своей семьей. Слава помнил, как горько ей было, когда год назад он предпочел провести новогоднюю ночь у Быстрова. Он замялся. — Придется устроить вечер для молодежи. — А перенести этот вечер на следующий день нельзя? — Тогда это будет не вечер, а следующий день… О новогоднем вечере возникали разговоры и среди комсомольцев, однако решающее слово оставалось за Быстровым. Слава пошел в исполком. Степан Кузьмич изучал какие-то списки. Он сильно изменился после убийства Александры Семеновны, помрачнел, его отчаянность и горячность сменились придирчивостью и раздражительностью, чем-то стал он походить на всех прочих людей, помирился с первой женой и каждый вечер ездил ночевать в Рагозино, в старую свою избу, теперь с ним можно было и поспорить, и не согласиться, махнет рукой и скажет: «Ну ладно, делайте, как знаете» — и замолчит. — Степан Кузьмич, хотим устроить встречу Нового года в Народном доме, — сказал Слава. — Чтобы все не сами по себе, а вместе. Быстров посмотрел куда-то поверх головы Ознобишина и безразлично согласился: — Валяйте. — А кого звать? — спросил Слава. — Вы будете? — Нет уж, уволь. Новый год я встречу с бутылкой самогона. — Так как же? Устраивать встречу? Быстров пожал плечами… Слава отправился в Народный дом — Андриевский торчал там с утра до вечера, не так уж много у него дел, но оставаться на хуторе не хочет, шурья обязательно заставят делать что-нибудь по хозяйству. Слава застал Андриевского лежащим на диване. Лежит и улыбается, как кот на солнышке. — Я к вам… — Вот лежу и раздумываю, как бы получше устроить встречу Нового года, — предугадал Андриевский просьбу Ознобишина. — Нечего людям сидеть по своим углам. Они стали намечать программу вечера. — Начнем с доклада. — Какой еще доклад? Дайте людям просто повеселиться! — Надо идейно их зарядить… Но Андриевский теперь не так сговорчив, как год назад. — Хватит с нас идеологии. — Степан Кузьмич сказал… — Если Степан Кузьмич хочет делать доклад, пусть делает, — отпарировал Андриевский. — Но я и его постараюсь отговорить. Он возражал против каких бы то ни было речей: спектакль и танцы… А какой спектакль? Виктор Владимирович предлагал поставить какой-то нелепый фарс, в котором женщины переодевались мужчинами, а мужчины женщинами. Слава готов был прийти в отчаяние. Выход подсказал Иван Фомич, он заходил изредка в библиотеку и, застав как-то Андриевского и Ознобишина в сильном возбуждении, вмешался в их спор. — Бой идет, а мертвых нету?… Сперва он поддержал Андриевского: — Лекции и доклады в новогоднюю ночь, право, ни к чему. Андриевский заулыбался. Но и с Андриевским не согласился: — Однако пошлостью тоже не стоит засорять мозги. — Что же вы предлагаете? — А почему бы вам не поставить настоящий спектакль? — Что вы называете настоящим спектаклем? — Ну, поставьте какую-либо хорошую пьесу… — И вдруг предложил: — А почему бы вам не поставить, скажем, «Ревизора»? — "Ревизора" нам не осилить, — сказал Андриевский. А Слава подумал: «Революция. Советская власть, и — „Ревизор“?» Никитин настаивал: — Интересно и поучительно, вроде даже подарок для зрителей. — А кто сыграет Хлестакова? — поинтересовался Андриевский. — Вы, — сказал Иван Фомич. — Лучшего Хлестакова у нас не найти. — А городничего? — Я, — сказал Иван Фомич. — В таком деле и я соглашусь потрудиться. В конце концов он убедил спорщиков. Славу подкупало уже одно то, что Иван Фомич нашел подходящую роль для Андриевского! Доморощенная труппа загорелась предстоящим спектаклем. Ниночка Тархова играла Марью Андреевну, а Симочка Тархова — Марью Антоновну, братьям Терешкиным достались Бобчинский и Добчинский, а Евгения Денисовича Зернова уговорили сыграть почтмейстера, заведующий волнаробразом не мог отказаться играть в постановке «Ревизора», к тому же он еще недавно вступил в партию, и в случае чего Ознобишин мог при поддержке волкома принудить его к участию в порядке партийной дисциплины. Пьеса была разучена, и спектакль удался на славу. Народу пришло на новогодний вечер порядочно, и «Ревизор» не заставил скучать публику. Слава только не понимал, почему Хлестаков так ему неприятен, а грубый Сквозник-Дмухановский вызывает в нем самую искреннюю симпатию… Он с нетерпением ждал окончания спектакля, чтобы произнести праздничный тост. Но едва в последний раз задернули занавес, как Андриевский, не разгримировавшись, не сняв костюма, в парике с завитым коком, выскочил на сцену и громогласно объявил: — Танцы! За фисгармонией сидела Кира Филипповна, должно быть, давно ждала своей очереди, сидела и раздувала мехи, не успел ее муж объявить танцы, как тут же ударила по клавишам. По традиции бал открывался вальсом. Из зала еще вытаскивали скамейки, а братья Терешкины уже отделились от стен. Барышни оживились. Медленно и плавно кружились пары, лампы жадно пожирали керосин, на этот раз щедро отпущенный товарищем Ознобишиным. Он стоял у самой рампы и наблюдал за проносившимися парами. Вот Сонечка Тархова в объятиях Андрея Терешкина, вот Симочка Чернова в обнимку с Васькой Тулуповым, вот Нина Тархова с Никитой Терешкиным… На секунду у Славы явилось желание потанцевать и тут же исчезло, очень уж это безыдейное занятие. Кира Филипповна заиграла падеспань. В душе Слава называл себя прожигателем, если и не жизни, то керосина, разозлился на самого себя и ушел за кулисы в библиотеку, на время превращенную в артистическую. В окружении актеров Андриевский прихлебывал из стакана чай и рассказывал смешную, должно быть, историю, потому что слушатели весело смеялись. — А, милости просим! — воскликнул Андриевский, завидев Славу. — Поздравляю! — С чем? — Удался ведь вечер! — Не нахожу. — А чем он вам не нравится? — удивился Андриевский. — Веселья хоть отбавляй. — Потому, что вы не дали мне произнести тост, — откровенно сказал Слава. — Голубчик, но вы опять стали бы излагать содержание передовой из «Орловской правды», — искренно признался Андриевский. — А мы измеряем жизнь масштабами всей страны! Страна устала от революции, от войны, от разверстки. Люди хотят танцевать, наряжаться, а вы продолжаете пичкать их политикой. — Что это вам надоело? — угрожающе спросил Слава. — Мы устали от Быстровых! — вырвалось у Андриевского. — Напрасно радуетесь, — спокойно, даже слишком спокойно ответил Слава. — Революция не кончилась… — Только нам не придется видеть ее продолжение, — снисходительно сказал Андриевский. — Надо уметь ждать… Наберитесь воли и мужества… Слава упрямо смотрел в наглые глаза Андриевского. — Мужества и воли нам не занимать… — Вы боитесь отступления, — продолжал Андриевский. — Боитесь сильных людей… — Вас? Нет, вас я не боюсь. — Вся ваша воля только на словах… — Нет. — Попробуй я на вас напасть, сразу ударитесь в панику. — Нет. — Вот начну вас душить, что вы станете делать? — Да вы побоитесь… Служители деревенской Мельпомены не придавали спору серьезного значения, однако же им было любопытно, чем кончится это препирательство. Андриевский вытянул свои руки перед Славой. — Ну, хватайте, отталкивайте! Слава качнул головой. — И не подумаю. Андриевский положил руки ему на плечи. — Задушу! — А я не боюсь… Андриевский обхватил шею Славы мягкими прохладными пальцами. Глупо шутил Андриевский. Слава смотрел ему прямо в глаза. Нельзя поддаться этому типу. Прояви Слава слабость, это сразу развеселит всех. И тут он почувствовал, что Андриевский вовсе не шутит. «До чего ж он меня ненавидит», — подумал Слава. Вот тебе и крестовый поход против врагов революции! Больше он уже ни о чем не думал. Тонкие сильные пальцы сдавили ему шею, и у него закружилась голова. Слава почувствовал тошноту. На одно мгновение. Потом боль. Тоже на мгновение. Ему почудилось, что умирает. И потерял сознание. На одно мгновение, всего лишь на одно мгновение. И тут же услышал крик неизвестно откуда появившейся Сонечки Тарховой. — Что вы делаете, Виктор Владимирович? И то, что он смог услышать каждое произнесенное Сонечкой слово, свидетельствовало о том, что он приходит в себя. Андриевский весело смотрел на Славу я смеялся. И все смеялись вокруг. — Испугались? — ласково спросил Андриевский. — Что за глупые шутки, — осуждающе сказала Сонечка. — Нет, ничего, — негромко сказал Слава, — все в порядке. — Видите, какая непростая штука — воспитание воли, — сказал Андриевский. — Вижу, — сказал Слава, — но я вас все равно не боюсь. — Еще бы вы стали меня бояться. Ведь мы же друзья. И как только стало очевидно, что с Ознобишиным ничего не случилось, все сразу утратили к нему интерес. Андриевский пошел на сцену, Сонечка убежала в зал, разошлись остальные, и Слава остался в библиотеке один. Он потрогал шею, натянул на себя куртку, нахлобучил шапку, вышел на крыльцо. Искрилась морозная ночь, над домом висела голубая луна, высились заснеженные ела. — Домой, — сказал Слава вслух самому себе. Возвращаться через парк, по аллее запорошенных снегом кустов сирени, обок с занесенной снегом рекой, не хотелось. Да какой там не хотелось! Боялся он идти через пустынный зимний парк. Волки мерещились. Никаких волков не было и не могло быть, он твердо знал, а вот мерещились… Страшно! Кружилась голова. Слегка, но кружилась. Он еще ощущал цепкие, жесткие, злые пальцы, сдавливающие ему горло. Проклятый Андриевский! Шутил или в самом деле хотел задушить?… Но где-то в глубине души Слава знал, что Андриевский вовсе не шутил. И хотя в пустом парке не мог попасться никакой Андриевский, он боялся идти в ночной пустоте. Поэтому он решил идти через деревню, через Семичастную — ночь, все спят, но все-таки по обеим сторонам избы, за стенами люди, не чувствуется такого одиночества, как в парке. Слава стоял у крыльца. За окнами то взвизгивала, то гудела фисгармония, за окном танцевали, но ему хотелось домой. Даже мысленно он не сказал — к маме, но хотелось именно к маме, только к маме, и больше ни к кому. Сейчас, стоя у крыльца и не признаваясь в том самому себе, он жалел, что не остался встречать Новый год с матерью и братом. Он медленно пересек лужайку и, загребая снег валенками, двинулся по тропке, ведшей к усадьбе Введенского, миновал ее, ни одно окно не светилось в его доме, обогнул сарай, поднялся по скользкому покатому спуску, пересек чей-то огород и вошел в деревню. Все спало, нигде ни огонька, деревня молчала. Избы справа, избы слева. Широкая деревенская улица. Снегопад начался еще в сумерки. Всю проезжую часть улицы покрыла белая пушистая пелена, а Слава видел ее то лиловой, то голубой, луна окрашивала снег в причудливые цвета. Избы, то серые, то черные, вдруг становились зелеными, искрились, как в сказке. За сказочными стенами спят мужики и бабы, дети и старики, коровы, овцы, куры на насестах и даже рыжие тараканы в щелях. Наступил Новый год, а люди не знали, что наступил Новый год. Где-то пьют вино и несутся тройки по улицам, а здесь тишина и покой. И вдруг из белесого сумрака собачонка… Откуда она метнулась, из-под каких ворот? Метнулась, затявкала, залилась… Ах, Слава, да что же ты делаешь?! Нагнулся, набрал в горсть снега, швырнул… Что же ты делаешь?! Как ты не услышал собачьего лая?! Откуда они только взялись? Как кинутся, как зальются в тысячу голосов! Ощерились! Вот-вот набросятся… Слава закричал, но куда там, все спит в лунных лучах, никто ничего не слышит. Что же делать? Вот-вот порвут… Стой! Остановись, тебе говорят! Замри на месте! Еще порыкивают псы, но тоже остановились. А теперь медленно, шаг за шагом… Вот и мостик. Вот и Поповка… Теперь обогнуть Волковых… Вот и дом. Свой дом. Подергал щеколду, не заперто! За дверью свет. За столом мама, Петя и — почему он здесь? — Павел Федорович. — Ах, Славушка… Мама не сердится, мама рада ему! — Раздевайся, садись. Как хорошо, что мы еще не легли… На столе винегрет, пирог из ржаной муки с капустой. — Выпей с нами, — говорит мама. — Выпьем еще раз за Новый год! Мама из кувшина наливает в стаканы напиток неопределенного цвета. Запрокинув голову, Петя пьет так отчаянно, точно этот напиток невесть какой крепости. — Пью за Федора, — вполголоса произносит Павел Федорович. — Хотел бы я сейчас его видеть. — Павел Федорович принес нам сегодня сушеных вишен, — говорит мама. — Я сварила, прибавила меду, так что у нас шампанское. Слава решил быть с Павлом Федоровичем полюбезнее. — А где же Марья Софроновна? — Спит. Спит, как спят все сейчас в Семичастной. Потому-то Павел Федорович и навестил в эту ночь семью брата. Марья Софроновна совсем прибрала его к рукам, и где же ему искать сочувствия, как не у невестки, которая ничего от него не требует. В каждом человеке сочетается хорошее и плохое, и что в нем возобладает — добро или зло — зависит от многих обстоятельств. Работники боялись Павла Федоровича, да и успенские мужики не считали его добрым, — долг не простит, проси не проси, взыщет без поблажек, крепенек, зубы об него обломишь, а на самом деле человек податливый, слабый, командовали им женщины, как скажут, так и поступит. Большую часть жизни смотрел из-под рук матери, а после ее смерти вьет из него веревки Марья Софроновна. — Выпей, — обращается он к Славе. — Славный квасок изготовила твоя мама. — Ну как праздновали? — интересуется Вера Васильевна. Слава щадит мать. Расскажи он об Андриевском, мама будет волноваться. — Танцы были, спектакль… — А теперь выпьем за ваших сыновей, — предлагает Павел Федорович. — Россия теперь в их руки дадена. — Смотрит то на Петю, то на Славу, — Что касаемо Петра Николаевича, тут все ясно… У Пети от удовольствия блестят глаза. Впервые его называют по отчеству. — Петя парень трудящий, всю жизнь будет вкалывать… — Павел Федорович переводит взгляд на Славу. — А вот как ты, Вячеслав Николаевич, определишься, это еще надо поворожить… — Славе надо учиться, — подсказывает Вера Васильевна. — Тогда что-нибудь и получится. — А вот и нет, — возражает Павел Федорович. — Нынче учатся одни дураки. Хватать надо, смутное время не часто повторяется. Вера Васильевна в недоумении: — Что хватать? — Да все, что лезет в руки. Счастье. Должность. Паек… — Павел Федорович видел — ничего-то Вера Васильевна не понимает. — Взять того же Быстрова. Ни образования, ни хозяйства. А в волости высшая власть. Сыт, пьян, лошадь чистых кровей, жена — генеральская дочь. А то, что убили, — чистый случай, найдет другую. Все его боятся, а мальчишки молятся на него, как на бога. Услышь Слава год назад такую речь, он бы не простил Павлу Федоровичу ни одного слова, — увы, Слава на Быстрова уже не молится. — Прав я или не прав? — обращается Павел Федорович к Славе. — Нет, — твердо отвечает Слава, — коммунист ищет счастья не для себя лично, а для общего блага. — Вот видите, — говорит Вера Васильевна. — Славе не нужно никаких должностей, он поступит в университет… Но и мама не права. — Нет, — возражает Слава, — я хочу работать. — Он поправился: — То есть не то что я зарекаюсь учиться, но некогда сейчас… Тускло светит лампа. Петя моргает, он не привык не спать по ночам. А Павел Федорович все сидит. Только ходики постукивают за стеной. — Паш, Паш, где ты там? — послышался вдруг из-за стены голос Марьи Софроновны, чуть хрипловатый со сна и в то же время певучий, призывный. — Подай напиться. Павел Федорович вскочил. Слава потянулся за стаканом, наполнил вишневым напитком. — Нате, несите… — Да ты што, — шепнул Павел Федорович. — Она убьет меня за эти вишни. Неслышным шагом побежал за водой и пропал. Мама обняла Петю, подвела к дивану, уложила, он мгновенно заснул. Потом легла сама. — Я посижу еще немного с тобой, — сказал Слава. Он сел на постель. Ему так много хотелось ей сказать, уверить, что он оправдает ее надежды, но, так ничего не сказав, прикорнул к спинке кровати и задремал в ногах у матери. 8 Странная тянулась зима, длинная, если глядеть вперед, месяц за месяцем метели, морозы, сугробы, занесенные снегом проселки, школы с угарцем, печи топили соломой, и учительницы боялись упустить тепло, уроки, одинаковые по всей России, и короткая, если оглянуться назад, ни один день не повторим, не похож на другой. Ознобишин не сидел на месте, ездил по деревням, и у него тоже ни один день не походил на другой. На этот раз он крепко прибрал к рукам весь волостной комитет. «Будем много говорить, и половины дел не переделаем». Привез из Орла керосин и сразу не на склад в потребиловку, и даже не в кладовку к Григорию, а прямо в комитет, в свою канцелярию, за печку. Огнеопасно, зато целехонько, отсюда четвертинки не унести. Слава даже с Быстровым поцапался. «Достал? Молодец! Отлей для исполкома с полпуда, привезут в потребиловку — отдадим». — «Нет, Степан Кузьмич, не отолью». — «А куда столько?» — «Для изб-читален, будем неграмотность ликвидировать». — «Что-то ты голос начал поднимать?» — «Я не поднимаю, но у это о керосина целевое назначение…» И Быстров отступил: «Смотри, если узнаю, что попало куда-нибудь на сторону…» Для порядка Ознобишин созвал заседание волкомола. «Керосин только для ликбеза. Сколько у нас изб-читален? Девятнадцать? Всем по бутылке. А дальше смотря по успеваемости…» Сосняков, разумеется, встрял: «Мы это еще обсудим…» — «Я это еще в Москве обсудил». — «С кем это?» — «А с тем, кто поумнее тебя». И все. Раньше так только Быстров разговаривал. «А тебе, Сосняков, придется в Успенском задержаться, я по деревням буду мотаться, а ты здесь, в комитете командовать». Вечером школы превращались в избы-читальни. Учительницы плакались: «У нас школьные тетради не проверены». — «Уж как-нибудь ночью, а это дело тоже откладывать нельзя». В школу сгоняли старух и допризывников. «Бабушки, будем учиться грамоте…» К большевистским затеям уже привыкли, не отвертишься. Слава начинал с чтения. Вслух. Читал «Дубровского». Иногда «Барышню-крестьянку». Реже стихи Некрасова. Потом приступала к делу учительница. «Слова состоят из букв… Буквы складываются в слоги…» Ученицы напряженно смотрели на черную доску. «Попробуйте записать». Ознобишин снова читал, на этот раз какую-нибудь статейку из газеты. «Могли бы и сами прочесть. Дайте срок, к весне начнете читать». Ночевать он оставался в школе, а наутро отправлялся в следующую деревню. Все это было бы скучно, если бы перед ним не возникали очертания преображенной страны. В нем чувствовалась одержимость, которая действовала на окружающих. Ему не надоедало переезжать из деревни в деревню, беседовать со стариками, собирать молодежь, повторять изо дня в день: учиться, учиться… Учиться коммунизму! Его одержимость заражала даже его противников. Уж на что были чужды коммунистические идеи Павлу Федоровичу, даже он посочувствовал если не идеям, то их проповеднику. В один из редких наездов домой Слава сразу устремился на кухню, заложил руки за спину и прижался к печке. Маленький, посеревший от холода, он точно вбирал в себя тепло от печи. Тут зашел на кухню Павел Федорович, достать уголька, прикурить, а увидел, можно сказать, своего классового противника. — Замерз? — Немного. — Домой надолго? — С утра в Каменку. Павел Федорович хмыкнул, закурил, ничего больше не сказал, молча ушел, минут через десять вернулся, швырнул на лавку овчинный полушубок. — Примерь. — Откуда это? — Отчима твоего полушубок. Шили, когда помоложе тебя был. Вырос из него, вот и завалялся в старых вещах. Сейчас как раз на тебя. Оставил полушубок и ушел. Надежда подала обновку мальчику: — Примерь, примерь… Теперь Славе полегче будет в поездках. От Федора Федоровича он мог принять подарок. — Годится? — В самый раз. Надежда даже попрекнула: — Ты вот не ладишь с хозяином. А будь ты поглаже, и он будет послаже. «Может, он рассчитывает дождаться от меня керосина, — подумал Слава, — так это напрасные надежды». — Исть хочешь? — спросила Надежда и, не ожидая ответа, пересыпала со сковородки в зеленый эмалированный тазик зеленую от политого на нее конопляного масла картошку и положила прямо на доски стола с пяток соленых огурцов, — Хлеб-от такой, что лучше без хлеба. Поев, он спросил: — Мама у себя? А Петя? — Петька на хуторе, ремонтирует с Филиппычем инвентарь. Прошел в комнаты. Вера Васильевна сидела за столом, поправляла школьные тетрадки. Перед ней тускло светилась коптилка с конопляным маслом — на мгновение ему опять стало стыдно. Он бы мог принести матери керосина, не портила бы глаза, но какой несоизмеримо больший стыд охватил бы его, если бы он это сделал, — он виновато подошел к матери, прижаться бы к ее русым, пушистым и мягким волосам, поцеловать ее, но это тоже стыдно, он уже взрослый. — Прибыл? — Давно прибыл. — Пойдем покормлю. — Надежда покормила. — Надолго? — До завтра… Вера Васильевна отложила тетрадки в сторону, повернулась к сыну. — А сам ты собираешься учиться? — Собираюсь. — Иван Фомич жаловался на днях на тебя: в министры он, может быть, говорит, и выбьется, но министр без образования — это все равно, что мужик без земли. — Так образование приобретается не только у школьной доски. — Очень уж ты самонадеян. Он все-таки подошел к матери, поцеловал ей руку. — Я ведь, мама, думаю не только о себе. Проснулся Слава еще затемно. Ветер за окном шаркал по стеклу веткой яблони. Мама спала, дыхание ее почти не слышно, а Петя посвистывал, посапывал во сне, уставал за день, усталость рвалась из его легких. Мама услышала, как Слава одевается. — Встаешь? — Пора. Она достала сверточек. — Возьми хлеб. Настоящий. Слава поколебался и взял. Давно он не ел настоящего хлеба. Кто-то вознаградил маму за какой-нибудь медицинский совет. В Поволжье голод, об этом сообщали газеты, для голодающих собирали пожертвования, волны голода докатились и до Орловщины, особо бедственного положения не было, от голода не умирали, пшено и картошка еще водились, но в хлеб их не подмешивали, толкли и добавляли к ржаной муке лебеду. Петя спал, нога у него свешивалась из-под одеяла. Слава подошел к брату, погладил по ноге, и Петя, не просыпаясь, спрятал ногу под одеяло. Во дворе темно, холодно, мерцали еще утренние звезды, тявкали вдалеке собаки, уныло, нехотя, только еще просыпались. Ознобишин пошел к исполкому. Казалось, на улице потеплело, полушубок все-таки здорово согревал, даже Павел Федорович способен на человеческие чувства. У коновязи, вся в инее, дремала запряженная в розвальни дежурная лошаденка. В коридоре, закутавшись в тулуп и привалясь к стене, спал на лавке дежурный возчик. Слава склонился над ним: — Поехали? — А Дмитрий Фомич не забранит? — Договорились мы с ним… Сперва в Каменку, оттуда в Критово. Критово — опасное село. Там мужиками верховодит отец Геннадий Воскресенский, «красный поп», как он сам называет себя. В церкви произносит проповеди в пользу Советской власти — Советская власть, говорит, самая что ни на есть народная власть, и на свадьбах и похоронах, выпив чуть больше нормы, поет революционные песни. Придраться к нему трудно, однако опасность исходила от него. Какая? А черт ее знает какая! В селе ни одного коммуниста, а комсомольцы… Бегать по избам и созывать мужиков на сходку могут, но вмешаться в жизнь села посерьезнее… Куда там! Продразверстку собрать — иди к отцу Геннадию, трудгужповинность — к отцу Геннадию, дров для школы привезти — тоже к нему. И не то чтобы вел себя чересчур нахально или открыто вмешивался в дела сельсовета, нет, сидит у себя дома, занимается своим хозяйством, но, какой бы вопрос ни возник, без него мужики ничего не решают, поп наш, советский, твердят, ни против власти не пойдет, ни против мужика, рассудит по совести. Быстров пытался удалить Воскресенского из волости: «Вы бы перевелись куда-нибудь, батюшка?» Геннадий съездил в Орел, привез бумажку — попа не трогать, «поскольку ни в чем предосудительном не замечен». Прежней учительницы Анны Ивановны Перьковой в школе уже нет, ее перевели в уездный отдел народного образования, прислали на ее место новую учительницу. Ознобишин отпустил своего возницу домой — и прямо в школу, навстречу ему девчушка лет шестнадцати, румяная, курносая, в калошах на босу ногу. — А где учительница? — Я учительница. — Сколько же вам лет? — Восемнадцать. — Я секретарь волкомола. Почему занятия по ликбезу не начинаете? — И не начну. Отец Геннадий не позволяет. Он вдовый, замуж предлагает идти за него. — Ну-ка, ну-ка, позовите председателя сельсовета. Этому Ознобишин научился у Быстрова — не самому ходить, а вызывать к себе, сразу устанавливать субординацию. Демочкин, мужик степенный, дипломат, умеет ладить со всеми, пришел, поздоровался. — Чего ж не ко мне? Пошли обедать? — Вы почему не выполняете декретов? — Мы-то? — Вы-то! Почему с безграмотностью не боретесь? — Мы-то? Молодежь у нас вся грамотная, а старухи не идут. — Геннадий не позволяет? — При чем тут Геннадий? Сами не идут. — А ну давай сюда Геннадия. Демочкин поколебался — учительницу послать или самому сходить, пошел сам. Отец Геннадий не замедлил появиться. В шапке на собачьем меху, в лисьей шубе, под ней ряса. — Товарищу Ознобишину почтение. — Садитесь. Судить вас скоро будем. Почему учительницу принуждаете замуж за себя идти? Да вам и не положено. Священникам запрещается по второму разу жениться. Чтобы о нравственности заботиться, а вы сами… Он слова не дал Геннадию вставить, тот только шапку в руках мял. — Идите, потом разберемся, а сегодня чтобы все старухи в школе были. Стопроцентная явка старух была обеспечена, явились такие бабки, которые только под светлое Христово воскресенье слезали с печки, чтобы доползти до церкви. «Маша чис-тит зу-бы… Ма-ша чис-тит зу-бы…» Еще до занятий Ознобишин прошелся по селу, беседовал то с тем, то с другим. — Хлеба Критово сдало меньше всех, в прошлом месяце продотряд у вас все закутки проверил — и ни в одном загашнике ни зерна. Где ему быть? В Никольском учительница вообще не вела занятий по ликбезу. — Почему? — Света нет. — Мы всем ячейкам отпустили керосин? — Не знаю. Секретарь комсомольской ячейки в Никольском — Васютин, парень не очень активный, но исполнительный. Ознобишин к нему: — Где керосин? Васютин потупился. Можно и не спрашивать, дома у него над столом горела лампа. — Наш керосин? Явишься в волкомол, а сейчас собирай комсомольцев, Вам известно, по чьей вине вы не учитесь? На заседании волкомола Ознобишин поинтересовался у Саплина: — Где же все-таки критовские мужики прячут хлеб от Советской власти? Саплин, недавний батрак, вступив год назад в комсомол, сперва не пропускал ни одного заседания, а теперь что-то редко стал показываться в волкомоле. Он хитро улыбнулся: — Ты меня что-нибудь полегче спроси. — А теперь вопрос к Васютину. Ты понимаешь, что ты вор? — Ну, взял бутылку керосина… — Отправим в Орел, в трибунал… Жестокие времена: трибунал за бутылку керосина! Но иначе никто не мыслил: если все едят лебеду, то и я ем лебеду, и если всем нельзя, то и мне нельзя, никому не позволено уклоняться от установленных правил, и тот, кто уклоняется, мне не брат и не друг. Увы, то была риторика! Трибунал не стал бы судить за бутылку керосина. Все, что Ознобишин мог сделать, это исключить Васютина из комсомола. Он так и поступил. Променял Васютин комсомольский билет на бутылку керосина! Ни Саплин, ни даже Сосняков не склонны исключать Васютина, взял керосин без злого умысла, не для того, чтобы сорвать занятия в школе, а скорее для того, чтобы самому чем-то заняться… Но Ознобишин неумолим. Он отказывал себе во всем и хотел, чтобы и другие поступали так же. По возвращении из Москвы он редко с кем советовался. Даже с Быстровым советовался все реже, у Славы появилось ощущение, будто в чем-то они расходятся. 9 Должно быть, он не произвел большого впечатления в Малоархангельске, этот Шифрин. Иначе дали бы ему для поездки по уезду… ну не пару рысаков и не сани с ковровой спинкой, но нашлись бы и лошаденка какая ни на есть, и козырьки, и возница… Представитель губкомола! Командируется для инструктирования уездной организации. Вроде бы ревизор. Но не нашлось для него ни лошади, ни санок, ни кучера. Прибыл в Успенское с оказией. Ехал в Покровское милиционер оформлять акты на злостных самогонщиков и подбросил Шифрина. В волисполкоме он появился в обед. Озябший и суровый. Безошибочно определил, кто в канцелярии главное лицо, подошел к Быстрову, протянул заледеневшую руку. — Я из губкомола. — Покопался в кармане, достал мятую бумажку, положил на стол. — Командировочное удостоверение. Быстров передал бумажку Дмитрию Фомичу для оформления. — Мы и так верим. — Хочу с вами поговорить, как у вас работа с молодежью. — А это уж вы с Ознобишиным, — нетерпеливо ответил Быстров, прошел через комнату, приоткрыл дверь, сказал кому-то: — Пошлите за Ознобишиным. И вот Ознобишин и Шифрин друг перед другом. Слава в своем тулупчике выглядит обычным крестьянским пареньком, и Шифрин, как ни старается выглядеть начальником, держится неестественно, да и одет странно. Солдатская шинель до щиколоток, он получил ее перед отъездом на складе губсобеса, на этот склад военное ведомство сдавало пришедшее в ветхость обмундирование, подпоясана гимназическим ремнем, и на пряжке еще поблескивает лавровый венок, как ни старался Шифрин соскрести эмблему напильником, а голова тонет в боярской шапке, отороченной кроликом под соболя. Шапку отец Шифрина сшил для какого-то заезжего актера. Но актер уехал, не выкупив заказа, и шапка ждала своего покупателя. Если бы не мать, не видать Давиду этой шапки. Мать с тревогой наблюдала, как Давид собирается в командировку. Шинель выдали на службе, подбита она ветром, и мать настояла, чтобы мальчик поддел под шинель ее жакет, а на голове солдатская фуражка. — Нисон! — в отчаянии воззвала мать к мужу. Нисон покачал головой. Все же отцовские чувства пересилили скупость. — Возьми шапку, — сказал он сыну, указывая на полку. — Я поеду в фуражке, — ответил Давид с гордостью. — В таких шапках ходила буржуазия. — Возьми шапку, — повторил отец. — В таких шапках щеголяют теперь твои красные байстрюки. — Надо мной будут смеяться, — уже не так решительно возразил Давид. — Хотел бы я видеть того, кто не позавидует собольей шапке, — сказал отец. — Положим, это не соболь, а кролик, — восстановил Давид истину. — Будь это настоящий соболь, я бы еще подумал. — Он бы еще подумал! — воскликнул отец. — Думать хорошо, когда есть чем согреть голову. «Беру шапку только ради матери, — мысленно сказал Давид. — Иначе от беспокойства она сойдет с ума». В этой-то шапке и появился Шифрин в Успенском волисполкоме. — Ну и шапка у тебя! — вырвалось у Славы. — Где ты ее только достал? Из-под шапки сердито блеснули мышиные глазки. — Шапка тут ни при чем, — сердито сказал он. — Давай по существу. Он потребовал списки сельских ячеек. Его не интересовали ни занятия по ликвидации неграмотности, ни изъятие хлебных излишков, ни художественная самодеятельность, ни заготовка топлива для школ. — Ты мне лучше объясни, как ваша организация участвует в политической жизни страны? Слава не понял: — Разве изъятие хлебных излишков и ликвидация неграмотности не политика? — Не прикидывайся младенцем! У Шифрина сорвался голос, должно быть, он здорово намерзся. — Есть хочешь? — спросил Слава. — Хочу, — сказал Шифрин и хлюпнул носом. — Но прежде займемся делами. Ты можешь собрать волостной актив? — Когда? — Скажем, завтра? — Ты в уме? — Слава снисходительно усмехнулся. — Оповестить, собраться… Зима! Клади неделю. Да и то… Ссылка на зиму была убедительна. — А где у вас больше комсомольцев? — Шифрин склонился над списками. — В Корсунском? Там кто секретарь — Сосняков? — Шифрин сам спрашивал и сам отвечал, он хорошо ориентировался в бумажках. — Можно на него положиться? Крепкий работник? — Работник-то он крепкий, только злой очень, вечно всем недоволен. — Говоришь, злой? — Шифрин повеселел. — Это хорошо! Значит, едем в Корсунское. Он попросил добыть подводу, пойти обедать к Славе отказался, выпил в сторожке у Григория кружку несладкого морковного чаю с куском прогорклого хлеба и заторопился с отъездом. Зимняя дорога, хочешь ты этого или не хочешь, сближает людей; лежа рядышком в розвальнях, укрытые одним тулупом, Слава и Шифрин невольно прижимались друг к другу. Возница дремал, лишь механически похлестывал лошаденку кнутиком, да шелестели по накатанному снегу полозья. Морозец пощипывал щеки. Шифрин шмыгнул носом. — Плохо. — Что — плохо? — спросил Слава. — Все плохо, — пожаловался Шифрин. — Нужно менять курс. И опять Слава не понял: — Какой курс? — Не изображай из себя мальчика, — раздраженно буркнул Шифрин, все чаще шмыгая носом. — В Москве дискуссия. Слышал? Ленин хочет все тишком да молчком, а Лев Давыдыч вынес наболевшие вопросы на обсуждение всей партии… Слава не сразу сообразил, что речь идет о Троцком, Шифрин называл его по имени-отчеству, точно тот был его близким знакомым. — Рабочие бедствуют, крестьянство недовольно, интеллигенция отказывает Советской власти в доверии, — продолжал Шифрин. — А Ленин хочет превратить профсоюзы в школу коммунизма! Наоборот, их надо присоединить к государственному аппарату, установить военную дисциплину… Тулуп плохо согревал Шифрина, его трясло мелкой дрожью, и он все плотнее прижимался к Ознобишину. — Что-то я не понимаю, Давид, — примирительно сказал Слава. — Разве плохо учиться коммунизму? — Эх ты, деревня! — пискнул Шифрин, высунув из-под тулупа сизый нос. — Всему верите, а надо доходить своим умом… И он принялся перечислять: в Ростове бастуют рабочие, в Тамбове крестьянские волнения, в Карелии действуют белогвардейцы, а на Украине петлюровцы. Он называл фамилии и города, ссылался на газеты, факты, каждый по отдельности, выглядели убедительно, но Слава уловил в тоне Шифрина странную тенденциозность, — газеты рассказывают и о хорошем, и о плохом, однако стоит выбрать из газет сообщения об одних несчастных случаях, стоит нанизать эти несчастные случаи на веревочку змеиной мысли, как получается, что везде и всюду происходят лишь одни несчастные случаи, статистика — опасное оружие в руках предубежденного человека. Слава оборвал Шифрина: — А откуда тебе это известно? — Из газет. — Нет этого в газетах! — Надо уметь читать… Шифрин опять спрятал нос, но невнятное бормотание долго еще неслось из-под тулупа. «Что он за человек? — размышлял Слава. — Состоял в чоновском отряде, собирался на фронт, вел себя как революционер, а теперь распространяет всякие обывательские слухи». Ох уж эти слухи! В каком-то доме один сказал что-то про другого и передал третьему, слух пошел по деревне, переметнулся в города, а там… И ведь все выдается за самое достоверное! Слава сдернул с Шифрина тулуп. — Послушай, Давид… — Холодно! — Собрание в Корсунском будем проводить? — Угу. — Вот ты и сделай доклад о том, что ты говорил. — Об этом не всякому скажешь. — Почему? — Для того чтобы правильно оценить происходящее, нужно обладать достаточным кругозором. — Но ты же ведь понятия не имеешь о ребятах в Корсунском? На это ответа не последовало. Шифрин опять зарылся в тулуп. Приехали в Корсунское в темноте. — Зайдем в сельсовет, устроимся на ночевку, отогреемся… Шифрин воспротивился. — Где обычно устраиваются комсомольские собрания? — В школе… — Вот в школу и пойдем. В школе темно, пусто, лишь в одном классе несколько учеников разучивают какую-то пьесу. Шифрин как был, в шинели и шапке, прижался к теплым изразцам остывающей печки и велел вызвать Соснякова. С ним Шифрин быстро нашел общий язык — все только о делах и ни о чем постороннем, договорились созвать комсомольцев с утра, вопрос один — «Текущий момент и задачи молодежи». Сосняков строго посмотрел на Ознобишина, они расходились и в оценке текущего момента, и в определении задачи, и в присутствии представителя губкомола Сосняков почувствовал себя во всеоружии. На ночь Сосняков позвал приезжих к себе — «в тесноте, да не в обиде». Шифрину хотелось поближе познакомиться с Сосняковым, он принял приглашение. «Задаст задачу матери, — подумал Слава, — живут тесно…» — Подождите меня, я сейчас, вчера для учителей картошку привезли… Вернулся с узлом. Одолжил картошки, догадался Слава. Обиды не было, но тесноты было предостаточно, ужинали картошкой с солью, спали на полу, не раздеваясь, на соломе, принесенной Сосняковым со двора. С Ознобишиным Шифрин говорил мало, он больше расспрашивал Соснякова, выяснял, чем тот живет и дышит. Однако в душу Соснякова проникнуть не так-то легко, он не столько отвечал, сколько сам пытался определить, что это за птица прилетела из губкомола. Спалось плохо. Всю ночь мать Соснякова вздыхала на печи, встала чуть свет, затопила печь, и тут же подняла сына и гостей, натолкла им картошки с кислым молоком и с облегчением выпроводила из хаты. Село только просыпалось. В сизом небе подымался над трубами белый дым, резкий, обжигающий ветерок закручивал над сугробами поземку, белесый серп месяца еще виден. Деятели юношеского движения поеживались со сна, в сером ватнике и солдатской папахе шагал несгибаемый Сосняков, торопливо шел в своем рыжем полушубке Ознобишин, и медленно, по-стариковски, волочил ноги Шифрин, то и дело поправляя съезжавшую на лоб шапку. В школе уже топились печи. Оранжевые огни отражались в замерзших стеклах, желтели вымытые полы. — Идите в зал, — сказал Сосняков. — Я зайду предупрежу Петра Демьяныча. Петр Демьянович учительствовал в Корсунском много лет и, как только открыли в селе школу второй ступени, назначен был ее директором. В зал он вошел вместе с Сосняковым, пытливо поглядывая на гостя из Орла. — Раздевайтесь… Шифрин стянул вместе с шинелью и материнский жакет, быстро бросил одежду на стоявший в углу рояль. — Э, нет, — сказал Петр Демьянович. — На музыку нельзя, отсыреет… И переложил шинель на диван. Комсомольцы собрались раньше назначенного времени, те, что учились в школе, пришли еще до уроков, а те, что не учились, пришли еще раньше. Сосняков от всех требовал высокой дисциплины. Слава знал корсунских комсомольцев, но были и незнакомые, волостная организация росла с каждым днем. Он особо поздоровался с Дроздовым, с Катей Вишняковой, с Левочкиным, они ему особенно близки, можно сказать, ветераны, вступили в комсомол еще до прихода деникинцев. — Начнем, — сказал Сосняков. — Кого председателем? — И сам предложил: — Ознобишина. Тут Петр Демьянович обратился к председателю с просьбой: — Мне разрешите присутствовать? Сосняков поморщился: — Собственно, не положено, но… Шифрин наклонился к Славе: — Он ведь беспартийный? Слава кивнул. — Категорически возражаю, — громко заявил Шифрин. — Собрание закрытое, нельзя допустить огласки… Петр Демьянович посмотрел на Ознобишина. Тот промолчал, формально прав Шифрин. — Вопрос слишком серьезный… как бы это сказать… внутрипартийный… — пояснил Шифрин. — Это не означает недоверия. Петр Демьянович прошел через зал и закрыл за собой дверь. Слава так и не понял, чем он мог помешать. — Продолжим, — сказал Слава. — На повестке — «текущий момент и задачи молодежи», слово предоставляется представителю губкомола товарищу Шифрину. Шифрин потер кончик носа. Он принялся пересказывать содержание газет. Телеграммы из капиталистического мира; французские капиталисты натравливают Польшу на Россию. Румыния не осмеливается начать вооруженный конфликт. Попытки немецких монархистов натолкнулись на сопротивление германского пролетариата… Он хорошо разбирался в том, что происходит за границей. Потом перешел к внутренним делам, и тон его изменился. Сказал об усилиях Советской власти, направленных на улучшение хозяйственного положения, и тут же сбился, как и в разговоре с Ознобишиным, заговорил о выступлениях крестьян против Советской власти в Тамбове, о рабочих волнениях в Петрограде… Слава повернулся к Соснякову. Они с тревогой посмотрели друг на друга. Шифрин разливался соловьем… Напряженно смотрел на него Дроздов, а у Кати Вишняковой дрожали губы, и казалось, с них вот-вот сорвется вопрос… — Почему это происходит? — задал Шифрин вопрос и сразу же на него ответил: — Да потому, что в стране растет недовольство крестьян диктатурой пролетариата, однако идти на соглашение с крестьянством, как этого хочет Ленин, не надо, а надо передать управление производством непосредственно самим производителям… До Успенского доходили слухи о политических разногласиях в Москве, но в деревне не придавали им серьезного значения. И вот молодой человек из Орла втягивает их в эти споры, хотя Слава так и не может понять, чего же все-таки он от них хочет. Он тронул оратора за рукав. — Ты почему меня останавливаешь? — крикнул Шифрин. — Не кричи, — негромко сказал Слава. — К чему ты все это говоришь? — А вот к чему! — вызывающе крикнул Шифрин, извлекая из кармана куртки измятую бумажку. — Молодежь — барометр общественного мнения. Мы должны подписать письмо к товарищу Троцкому о том, что поддерживаем его в споре с Лениным… Слава хотел было взять у него листок, но Шифрин не дал. — Я сам прочту! — А я тебе не позволю! — запальчиво сказал Слава. — Ты читал его кому-нибудь в Малоархангельске? Шифрин саркастически улыбнулся. — Читал! Кому?! Это же мужики! Необразованные мужики! Пообещай им уменьшить разверстку — и они тут же предадут революцию! — Так вот почему тебе не дали в Малоархангельске лошадей, — вслух высказал Слава свою догадку. — Только ты и к нам зря, мы такие же необразованные мужики… — Ваша слепая вера в Ленина… Тут Слава отпихнул его от стола, и Шифрин невольно шагнул в сторону. — Ты — драться? — Я запрещаю тебе произносить его имя, — сказал Слава. Перед его взором возник Ленин, по-отцовски разговаривающий с ним в коридоре. Нет, неуважения к Ленину он не потерпит! — Ты — драться? — фальцетом повторил Шифрин. Тут к нему приблизился Сосняков. — А ну, Славка! — произнес Сосняков, хватая Шифрина за плечи. — Выведем его? Слава никак не ожидал поддержки со стороны Соснякова, скорей можно было ожидать, что Сосняков призовет Славу к порядку, но оказалось, что оба они думают одинаково. Слава подошел к Шифрину с другого бока, накинул на него шинель. — А ну… — Ты чего? — Одевайся! Ознобишин и Сосняков натянули на представителя губкомола шинель, Сосняков нахлобучил на него его великолепную шапку, и поволокли его к двери. Кто-то из ребят кинулся было на подмогу. Сосняков отмахнулся: — Справимся и без вас! Они потащили Шифрина по коридору. Он пригрозил им: — Вы ответите! Вышли на крыльцо. — А как же мне добираться? — Иди на Залегощь, а там поездом до Орла, — безжалостно сказал Сосняков. — Дотопаешь! Шифрин шмыгнул носом. — Я замерзну, — жалобно сказал он. — Не дойдет, — согласился с ним Слава. — Ладно, — сжалился Сосняков, — иди в сельсовет, там посылают подводу на станцию. Подбросят. Шифрин отошел на несколько шагов, обернулся, глазки его сверкнули, и он неумолимо сказал: — Вы за все ответите перед революцией! 10 Два зимних дня с промежутком немногим более месяца, а в памяти остались, пожалуй что, навсегда, хотя никаких особых событий в эти дни не произошло. Слава подошел к исполкому утром, над крышей клубился дымок, печи еще топились. У входа трое саней, лошаденки стояли без присмотра, их хозяева дымили небось в коридоре самосадом. Морозно, тихо. Прежде чем заняться делами, Слава всегда заходил в канцелярию узнать, нет ли для него у Быстрова поручений, и взять у Дмитрия Фомича свежую почту. На этот раз в канцелярии что-то много народа. Быстров в бекеше у стола, Еремеев, Семин, Данилочкин… Куда это они? — Вот и Ознобишина прихватим, — говорит Быстров. — Беги домой, оденься потеплей, едем в Малоархангельск. — А его бы не надо, — замечает Данилочкин, — чего зря парня гонять… — Ну нет, ему полезно, пусть вовлекается, — не согласился Быстров. — Как, поедем? Слава ничего не понимает. — А что в Малоархангельске? — Дискуссия, — насмешливо говорит Семин. — О чем? — Вчера запоздно привезли из укома бумажку. Вызывают коммунистов. Тех, кто пожелает. Дискуссия о профсоюзах. Видал в газетах? — Да мы уже читали Ленина! — Грамотный какой! — смеется Семин. — А теперь нас приглашают высказаться. — Впрочем, судя по письму, уком не очень настаивает, чтобы ехали все коммунисты. Достаточно, если явятся члены волкома. — А кто едет-то? — Да человек шесть. Тебя вот еще возьмем. — Я поехал бы, — говорит Слава. — Интересно. — Раз интересно, езжай… Но только Слава собрался сбегать домой, предупредить Веру Васильевну и поддеть что-нибудь потеплее под полушубок, как Дмитрий Фомич, заложив по обыкновению ручку за ухо, мигнул Славе, подзывая к себе. — Это ты хорошо, что едешь. — Почему? — Разбираться скорей научишься… — Разобраться недолго, — самонадеянно отвечает Слава. — Разберутся и без тебя. А тебе я хочу один совет дать: разбираться разбирайся, а держись Ленина, этот не подведет. Понял? — А я и держусь Ленина, — отвечал Слава. — Я с ним согласен во всем. — Ну и беги, — сказал Дмитрий Фомич. — Да шерстяные носки надень, а то и в валенках продерёт. Поблескивала серебристая санная колея, легко трусили лошади, лениво покрикивали возницы, — привались на сено, покрытое домотканой дорожкой, и поторапливайся в Малоархангельск. А приехали только под вечер, синие тени стлались по сугробам, и дорога потемнела, заледенела, и за окнами городских домишек тут и там вспыхивали уютные огни. Поднялись по лестнице на второй этаж. — Регистрируйтесь, товарищи. — Что ж мало вас? — Мы поняли так, что всем необязательно. — Необязательно, но желательно. Узкий зал полон народа. Городские коммунисты почти все здесь, из волостей тоже много понаехало. — Ага, Успенское прибыло! — Будем диспутировать? — А чего диспутировать?… Шабунин, как всегда, в суконной гимнастерке, в начищенных рыжих сапогах, два шага вперед: — Товарищи, может, это и роскошь — собрать коммунистов со всего уезда, но таково указание губкома: всероссийская дискуссия, собраться и обсудить… Тут встал Евлампий Тихонович Рычагов, председатель Дросковского волисполкома, его все знают, солидный такой мужчина, серьезный, строгий, не любитель говорить лишнее. — Полагаю: Афанасий Петрович, навряд ли кто из нас выступит насупротив товарища Ленина. Шабунин усмехнулся: — И я так думаю, но директива есть директива, через месяц в Москве Десятый съезд. Центральный Комитет находит нужным выявить мнение всей партии. — Ну что ж, — согласился Рычагов, — если надо еще раз сказать, что мы с Лениным, возражений не имеется. Не один раз видел Слава Шабунина, и каждый раз его все сильнее покоряла простота Шабунина, — не то чтобы он старался быть простым, он всегда оставался самим собой. Вот он вышел из-за стола, подошел к трибуне, провел рукой по волосам… — Я так же, как и все вы, не один раз прочел тезисы товарища Ленина. Все справедливо… — Он развел руками. — Конечно, есть дела погорячее, надо кончать с бескормицей, с падежом скота, восстанавливать разоренное крестьянское хозяйство, профсоюзная работа у нас не так уж горит, но коли нужно высказать свое мнение, что ж, обсудим и мы с вами задачи профессиональных союзов. Шабунин принялся излагать платформу Ленина и противостоящую ей платформу Троцкого. Троцкий намерен превратить профсоюзы в придаток государственного аппарата. Он считает, что профсоюзы должны воздействовать на своих членов не средствами убеждения, а средствами принуждения, что в конечном итоге, как разъяснял Ленин, привело бы, по существу, к ликвидации профсоюзов как массовой организации рабочего класса. Ленин же, наоборот, утверждал, что профсоюзы являются приводным ремнем от партии к массам, их первостепенная задача — воспитание масс, борьба за повышение производительности труда и укрепление производственной дисциплины, профсоюзы, утверждал Ленин, — это прежде всего школа коммунизма. Шабунин закончил доклад и сам же спросил: — Ну, кто хочет высказаться? — А чего высказываться? — в свою очередь, спросил Рычагов, взявший на себя обязанность выражать общественное мнение. — Нет среди нас ни бывших меньшевиков, ни эсеров, мы как пошли с первого дня революции за Лениным, так и будем идти… — Рычагов пожал плечами. — Даже голосовать не надо, мы все на ленинской платформе. Шабунин только формальности ради собирался просить собравшихся поднять руки, как где-то сзади раздался пронзительный голосок: — Не говорите за всех! Шабунин вгляделся. Бог ты мой, это был Вейнберг! В городе его знали, но политической активностью он не отличался. — Борис Абрамович, ты чего? — удивленно спросил Шабунин. — То есть как чего? — выкрикнул Вейнберг, — У нас дискуссия или Что? — Вы что, хотите высказаться? — А почему бы и нет? — крикнул Вейнберг и принялся протискиваться к трибуне. Маленький, щуплый, решительный… Ознобишин не знал его, не встречал ни в укоме, ни на собраниях. — Кто это? — шепотом спросил он Еремеева, но тот тоже не знал, и Ознобишин повторил вопрос Быстрову. — Тебе здесь лекарства не приходилось заказывать? — вопросом на вопрос ответил Быстров. — Провизор из здешней аптеки. Мимо аптеки Слава проходил, но заходить туда ему не случалось. Аптека помещалась в выбеленном домишке с высоким крыльцом, в окнах которой стояли два огромных стеклянных шара, наполненных один оранжевой, а другой синей жидкостью. Но того, кто скрывался за этими шарами, Ознобишин видел впервые. После собрания Степан Кузьмич поделился со Славой немногими сведениями, которые были у него о Вейнберге. Его занесло из Польши в Малоархангельск в годы империалистической войны. Он осел в городе, делал свое дело, но после того, как отогнали Деникина, явился в уком и заявил, что у себя на родине участвовал в революционном движении и хотел бы теперь вступить в партию большевиков. Приняли его охотно. Немногие из малоархангельских интеллигентов стремились в партию, активностью он, однако, особой не отличался, отпускал свои порошки и микстуры, как и до вступления в партию, и вдруг — нате-ка! — появился на собрании и пожелал принять участие в дискуссии. — А вы за кого, Борис Абрамович? — За платформу товарища Троцкого! — прокричал на весь зал Вейнберг, торопливо влезая на сцену. И заговорил… По существу, он не сказал больше того, что сказал Шабунин, характеризуя позицию Троцкого, но надо было слышать, с каким запалом произносил он свою речь. Сперва он заговорил о профсоюзах. О том, как хорошо организовал Троцкий профсоюзы на транспорте, где под его руководством действовал Цектран. Военная дисциплина, и никаких рассуждений! Первая колонна — марш! Вторая колонна — марш!… Но затем он перескочил вообще к политике партии. Он обвинил правительство в потачках крестьянству. Деревню следовало прижать еще больше. Двинуть когорту продотрядов! Выгрести зерно из всех закромов. Никому никакой пощады! Затем перешел к мирному договору с Польшей. Нельзя было, оказывается, его заключать. Пусть временные неуспехи, но войну следовало продолжать. Потом перескочил к Германии. Объявить войну германским капиталистам! Французским капиталистам! Британским капиталистам! А оттуда недалеко и до Америки. Пролетариат только и ждет команды. Да здравствует мировая революция! Незамедлительно… Можно было подумать, что именно от этого малоархангельского аптекаря и ждет команды мировой пролетариат! Вейнберг обвинял кого-то в лавировании, в предательстве, кричал о мировой революции и вдруг на какой-то высокой ноте захлебнулся и… смолк. — Значит, — спокойно спросил Шабунин, — вы, товарищ Вейнберг, отстаиваете платформу Троцкого? Вейнберг утвердительно кивнул и сошел со сцены, но не на свое прежнее место в глубине зала, а втиснулся в первый ряд. — Ладно, — сказал Шабунин. — Оказывается, и у нас нашелся сторонник Троцкого… — Он посмотрел в зал. — Кто еще хочет высказаться? Ознобишину надолго запомнился этот зал. Население уезда состояло из крестьян, промышленности в нем не было, интеллигенция, учителя и врачи держались еще в стороне от партии, Слава находился в окружении мужиков. Среди них было много солдат. Иные из них прямо с фронта империалистической войны попали на фронты гражданской войны и лишь недавно демобилизовались. Короче, в зале сидели мужики, опаленные войной и революцией, их уже нельзя было смутить никакими выспренними фразами. Они вернулись домой в свои разоренные хозяйства, и владела ими одна забота — выжить, заселить доставшуюся им землю и спасти от бескормицы своих коров и лошадей. Выслушать-то они выслушали оратора, не прерывали, но их сосредоточенное молчание выражало такое неодобрение, какое не передать никакими словами. Еремеев толкнул Ознобишина в бок. — Выступи! Славу легко было подбить на выступление, а Еремееву нравилось еще и поддразнивать Ознобишина. — С чем выступать-то? — Дай отпор! — И дам! Слава поднял руку. — Ну чего тебе? — с досадой спросил Шабунин. — Предлагаю исключить Вейнберга из партии! — с места выкрикнул Ознобишин. — Поскольку он идет вразрез! Шабунин снисходительно улыбнулся: — Так уж и исключить? Нет, товарищ Ознобишин, до этого еще не дошло… — Он повторил: — Так кто хочет еще высказаться? Может быть, кто найдется? — А ну его! — произнес кто-то в зале, и нельзя было понять, к кому это восклицание относится — к Троцкому или Вейнбергу. — Тогда я позволю себе сказать еще несколько слов, — промолвил Шабунин. — Хотя спорить с товарищем Вейнбергом не собираюсь, мы уж сделали свой выбор. Я изложил вам мнение товарища Ленина, привел доводы несогласных, и, думается, повторяться незачем. Программа деятельности профсоюзов, разработанная Владимиром Ильичем, с одной стороны, и… — Он искал слово, которое могло бы вобрать в себя великое множество прожектов, предлагаемых оппозиционерами всех мастей. — Ну и… платформа товарища Троцкого. Разница, я думаю, всем ясна. Но о Вейнберге все же скажу. Его беда — это беда оторванного от жизни одиночки. Сидит он в своей аптеке и сердится на весь мир. Недалеко он ушел от своего вдохновителя! Вспоминается лето девятнадцатого года. Мы вели бои за Орел, а думали, — сейчас я вам в этом признаюсь, — а думали о том, что нельзя отдавать Тулу. И тут сообщают: в Орел прибыл поезд наркомвоена Троцкого, состоится митинг. Собрались. Ждем Троцкого. Что скажет? На что нацелит? Появился он перед нами в сопровождении двух маузеристов — личная охрана, что ли. Все трое в черных кожаных куртках. Только Троцкий без головного убора. Пышная шевелюра, гордо вскинутая голова, пронзительный взгляд. Речь из него полилась, как из граммофона… Какая тогда была на фронте обстановка? Деникинские войска продвинулись за Воронеж, потери мы несем страшные, откатываемся к Орлу. А Троцкий ни слова о том, чтобы закрепиться на оборонительных рубежах. Куда там! Умел говорить! Позже я слышал, будучи в эмиграции, он брал в Париже уроки ораторского искусства. Отлично построенные фразы, рассчитанные интонации… Вперед! Вперед! Только вперед! Не пожалеть своих жизней!… А мы их и так не жалели. Но с чем двигаться? Как удержать в строю дезертиров? Нужны винтовки, пулеметы, снаряды. Где их взять? А он и сам, должно быть, не знает. Знал Ленин — в Туле. Но пафос, Троцкому устроили овацию, выслушать находившихся в зале коммунистов он не пожелал и тут же удалился. Не хотел слушать никого, кроме себя… К чему я это вспомнил? А к тому, что в трудные моменты критики Ленина под покровом звонких фраз всегда предлагают неправильные решения. Нет уж! Будем учиться у Ленина. Он красивых фраз не говорит, он учит нас делу: чтоб наши дети не голодали, чтоб нам самим полегче жилось… — Шабунин насмешливо поглядел на Вейнберга. — Так что ты уж, Борис Абрамыч, не обижайся, но похоже, что ты вместе с Троцким у одного учителя брал уроки красноречия! И всем вдруг стало смешно. И смешно и понятно: скажи мне, у кого ты учишься, и я скажу тебе, кто ты… Слава не сразу понял, к чему Шабунин вспомнил выступление Троцкого. Какую связь оно имеет с речью Вейнберга? А ведь было, было в речах того и другого что-то общее… Шабунин постучал стаканом по столу. — Решим так: недавно мы выбирали делегатов на губернскую конференцию. Поручим им заявить, что вся наша организация стоит на ленинской платформе. Вейнберг вскочил: — Возражаю! — Ну и что из того? — возразил Шабунин. — Вся организация на ленинской платформе, и лишь один член партии не согласен… — Вот я и предлагаю провести выборы по платформе! — Кое-где выборы действительно проводят по платформам, — согласился Шабунин. — Но у нас-то ведь нет сторонников другой платформы? — А я? — Что — вы? — Я-то стою на другой платформе? — То есть вы хотите, чтобы вас тоже послали на конференцию? Но вы же, кроме своего, ничьего мнения не выражаете. — Но я — платформа или не платформа? — Нет… — Шабунин покачал головой. — Вы не платформа, и даже не ступенька, вы просто… Вейнберг захлебнулся от негодования: — Договаривайте! Договаривайте! — Просто вы один-единственный на весь уезд уклонист. На улице темно и морозно. — Как? — спросил Быстров успенских коммунистов. — Будем ночевать или тронемся домой по лунному следу? В небе сияла луна, искрился под ногами снег, была светлая морозная ночь. И все легко согласились ехать домой. Вернулись на постоялый двор, закутались в тулупы и, покуривая, подремывая, переговариваясь, покатили в Успенское. 11 Второй памятный день пришелся на конец марта. На этот раз вызов прислали за несколько дней, и указано было, что на собрание вызываются все коммунисты без исключения. Собрание было назначено на утро, поэтому из Успенского выехали ночью, дул резкий мартовский ветер, пахнущий весенним дождем. Весна не вступила еще в свои права, а дорогу уже начало развозить, день подмораживало, а на другой — ростепель. В Малоархангельске занарядили телеги, колеса становились более верным средством передвижения. К утру, когда подъезжали к городу, грязь облепила все ободья и втулки, с телег приходилось слезать и идти пешком… И что же это за дом, куда они так торопились? Не снилось, не чудилось Павлину Титычу Евстигнееву, что в его третьегильдейском особняке будет заседать конвент — пусть всего лишь уездный, но конвент Октябрьской революции. Гостиная с неудобной мебелью — выгнутые спинки, кривые ножки, береза, отполированная под красное дерево, ситчик в цветочках и фисгармония, на которой никто никогда не играл. Дальше столовая, с лафитничками, с чашечками, с гардинеровскими фарфоровыми фигурками и тульским самоваром. «Эх, дербень, дербень, Калуга, Тула — родина моя!» — и еще дальше спальня с деревянными кроватями, с бронзовыми вензелями, с душными пуховиками и с киотом величиной с кровать. Жил себе купец Евстигнеев, скупал рожь, овес, пеньку, довольствовался своей третьей гильдией, был доволен царем и лафитом, исправником и мужиками, и вдруг — на тебе! Повырубили все перегородки в доме, выбелили стены серой известью, натащили грубо сколоченных скамеек — тоска, как поглядеть, а люди не замечают, что тоска, стоят и поют, с какой страстью, с каким восторгом: Это есть наш последний И решительный бой, С Интернационалом Воспрянет род людской! Еще нет девяти часов, а все уже съехались — пустые телеги, брички и сани отъезжают от крыльца, а те, кто опоздал, торопятся вверх по лестнице. Собрались коммунисты со всего уезда. О чем пойдет речь — известно заранее. Всего несколько дней как из Москвы вернулся Шабунин. Он был делегатом партийного съезда и теперь доложит о нем малоархангельским коммунистам. Снова он стоит на трибуне. Похудел. Глаза глубоко запали. Поджаты бледные губы. — Десятый съезд… Как бы вам передать атмосферу съезда… — говорит он. — Скажу об этом прежде, чем перейду к выступлениям товарища Ленина. Когда мы приехали в Москву и регистрировали свои мандаты, нас атаковали участники всяких групп и группочек, принялись пихать нам брошюрки, платформы, тезисы, но мы… — Хотел сказать «не поддались», но так и не сказал, это было очевидно без слов, и неожиданно для самого себя прибегнул к привычному сравнению: — Горит летним вечером лампа, летит на свет всякая мошкара. Вьются, бьются о стекло, обжигаются, падают. А лампа горит себе и горит. Десять раз выступал на съезде Владимир Ильич. Месяц назад мы собирались здесь, чтобы высказать свое отношение к вопросу о профсоюзах. Но, сказать по правде, это был на съезде не главный вопрос. Десятый съезд, — это, товарищи, такой съезд… Он медленно пересказывал Ленина. Ленин был превосходно осведомлен о том, что происходит в деревне. Громадная бескормица, падеж скота, разорение крестьянского хозяйства… Все, что происходило в стране, нуждалось в критике и перестройке… Подробнее всего Шабунин говорил о замене разверстки продовольственным налогом. Речь шла о величайшей перестройке экономической жизни народа. Кое-кому могло показаться, что партия отступает, а, по сути, это был стратегический план, обеспечивавший дальнейшее наступление социализма. Армии отступают иногда вследствие поражения, но бывает и так, что армия отступает и не потерпев поражения, — чтобы не оторваться от тыла, и тогда приходится свое продвижение задержать. — Слышать заключительную речь товарища Ленина мне не пришлось, — закончил Шабунин. — Триста делегатов съезда были посланы в Кронштадт на подавление белогвардейского мятежа, в их числе был и я. Вот и все, что сказал о себе Шабунин. Он не счел нужным рассказать, как коммунисты шли по льду Финского залива на штурм крепости, как свистели вокруг пули, как в штыковом бою ворвался он вместе с бойцами 7-й армии в мятежный город. О себе он не говорил. Делегат Десятого съезда, он голосовал за Ленина на льду Финского залива. — А что вы скажете, Степан Кузьмич? — спросил Слава, выходя вместе с Быстровым из зала. — Вожжи, — коротко и непонятно ответил тот. — Что — вожжи? — с недоумением спросил Слава. — Вожжи выпускаем из рук, — сказал Быстров. И вдруг у двери Слава увидел Вейнберга. Оказывается, он присутствовал на собрании. Маленький, насупленный и какой-то всклокоченный, сидел на задней скамейке и будто не собирался вставать. Мимо прошел Шабунин, и Слава уловил взгляд Вейнберга, и было в этом взгляде столько пронзительной ненависти, что заболей Шабунин, Слава не посоветовал бы ему обращаться к Вейнбергу за пилюлями или порошками. 12 Ох уж этот самосад! Дымят, дымят… Точно паровозы. Ну какие в деревне паровозы? Дым над каждым, как из самоварной трубы… — Попробуй моего… — А твой крепче? Коммунистов Быстров собрал в исполкоме: — Будем гадать да прикидывать… Солнце прогревает землю, весна набирает силу. Всем понятно: разговор о севе, пора сеять, не пройдет и недели, как нужно выходить в поле. Данилочкин тяжело вздыхает. — А как сеяться? — спрашивает Быстров. Голодновато живут в волости. Хлеб пекут пополам с лебедой. Горький, но все же хлеб. У кого побольше достаток, кто сумел похитрее упрятать зерно, те замешивают в тесто картошку, такой хлеб много вкуснее. Есть, конечно, и такие, кто ест чистый хлебушек, но таких немного, и тот чистый хлеб едят украдкой, чтобы не заметили соседи. Нагрянет власть, и тот же Быстров, тот же Данилочкин начнут шарить по погребам, по чердакам, по бабьим даже сундукам: где рожь? где рожь? Мужик крестится, божится: да нигде, да нисколько; бабы в плач, в крик, а найдется рожь — креста на вас нету, что дети исть будут? Быстров был безжалостен, с налета появлялся в деревнях, перелопачивал и полову и солому, находил зерно там, куда никто, кроме него, и не подумал бы заглянуть, все сметал подчистую и гнал подводы на мельницу или на станцию. Он хорошо понимал, как важно поддержать рабочий класс… Диктатура пролетариата! Продотряды редко появлялись в Успенской волости, и в Малоархангельске, и в Орле знали, что не из страха перед начальством выметает Быстров хлеб из своих деревень, что движет им идея, хоть и ненавистен он становится мужикам. Однако незадолго до весны Быстров отступил от своих правил, и не ради измены делу, которому служил, а именно ради дела; недальновидным начальникам казалось — надо накормить город сегодня, а завтра хоть трава не расти, но Быстров понимал: хлеб нужен и сегодня, и завтра, и послезавтра, нас не будет, а хлеб все равно будет нужен. Вот он и пошел на нарушение: зерно искал и находил, но никуда не отправлял, а ссыпал в каменные амбары, что покрепче, запирал не на один замок, походя пугая председателей сельсоветов: «Бережешь не хлеб — свою жизнь, не убережешь, едрена палка, прощайся с семьей, осиротишь детей, в трибунал — и к стенке…» И где бы ни был ссыпан хлеб, нигде не украли ни зернышка, мужики понимали: не для себя прячет Степан Кузьмич хлеб, если в город не отправляет, значит, задумался о севе… — Надо сеять, — властно сказал Быстров. — Кулаки как-нибудь вывернутся, они похитрее нас, где-нибудь в логах так схоронили зерно, что ни одному дьяволу не найти. Они его, не завозя домой, прямо из своих похоронок на пашню высеют, а вот беднота подобралась, поели все, что могли, им придется помочь. — Да ведь на сельсоветы плоха надежда, — усмехнулся Данилочкин. — Зерно они до поры до времени схоронили, а как собьют замки да примутся делить, уплывет половина на сторону. — А я о чем? — Быстров согласно кивнул. — По всем деревням разошлем наших партийных товарищей. Пошлем уполномоченных. Вот списочек… — достал из своей коленкоровой папки разлинованный листок, на котором рукой Дмитрия Фомича написаны фамилии. — Приехать, проверить списки домохозяев, проверить, у кого какой надел; собрать комбед, составить списки бедноты; послушать народ, прикинуть, кому сколько, да предупредить, чтобы не вздумали в квашню… Он стал называть фамилии уполномоченных: — Данилочкин — Каменка, Еремеев — Журавец… — А поменять? — перебил Данилочкин. — Еремеева в Каменку, а меня в Журавец. — Почему это? — Так я ж сам из Журавца, всех знаю, там меня никто не проведет. — Да, может, ты и честно распределишь, а все равно скажут, кусу больше, а шабру меньше… Быстров заботливо распределил уполномоченных, где поершистей народ, туда и уполномоченных погорластей, а добреньких и мягоньких никуда не послал. Остались лишь Корсунское с Рогозином, все догадывались, — хотя сам он оттуда, — хочет Степан Кузьмич оставить Корсунское за собой, себе доверяет, для него не существует ни родства, ни кумовства. — В Корсунское пошлем Ознобишина. Еремеев даже приподнялся со скамейки. — Да он еще… Не договорил — ребенок, но все поняли. — Да вы что, Степан Кузьмич, — укоризненно сказал Данилочкин. — Знаете, какие там скандальные мужики? Его вокруг пальца обведут… — Пора привыкать к государственной деятельности, — отрезал Быстров. — Учись плавать на глубоком месте. И никто не спросил лишь самого Ознобишина, по силам ли ему такое задание, а сам он об этом не задумывался, раз посылают, значит, обязан выполнить. — Да, вот что еще, — бросил между прочим Быстров. — Дайте ему какое-либо оружие, мало ли что… Так Ознобишин стал уполномоченным волисполкома по проведению весенней посевной кампании в Корсунском. При выходе его нагнал Еремеев, протянул револьвер. — Возьми, пригодится. — Я не умею стрелять. — Ну, попужаешь. — Ленин говорит, в деревне надо действовать убеждением. И не взял. Приехал в Корсунское под вечер. Все тонуло в серых сумерках. Туман как осенью после дождя. И перед Ознобишиным все в тумане. Не так-то просто разделить семена, так раздать, чтоб комар носу не подточил, жалоб все равно будет много. Слава и устал, и намерзся за дорогу. Не хотелось браться за дела с вечера, хорошо бы выспаться сначала. Подводу отпустил. Без труда нашел избу Жильцова, помнил ее по прошлым наездам, — хитроватый председатель сельсовета в Корсунском, и начальству угодит, и с мужиками не рассорится. В избе парно. Жильцов, босой, сидит у печи, жена Кильцова строчит на швейной машинке. — Товарищу Ознобишину! — К вам, Савелий Тихонович. — По части молодежи аль в школу? Чтоб не поднимать суеты заранее, Слава уклонился от ответа. — Дела завтра с утра, а сегодня квартиру бы дня на три. — Сей минут. Обулся в валенки, к ночи еще подмораживало, повел Славу по селу. — К Сапоговым, что ли? Нет, лучше к Васютиным. Кирпичный дом под железом на четыре окна. — К кулакам ведешь? — Не к беднякам же, им самим есть нечего. А Васютины десятерых прокормят. По всему уезду было в обычае ставить приезжее начальство на квартиру к тем, кто побогаче, — и начальству сытно, и кулаку обидно, Ознобишин не возражал, Васютиных лишний едок не разорит. В избе чисто, светло, стол выскоблен добела, в горнице фикусы. — Гостя к тебе привез, Лукьяныч. Васютины в сборе — и хозяин с хозяйкой и все их девки. — Милости просим. Хозяин пожимает гостю руку, и гость, чтобы не обидеть, сам протягивает руку хозяйке, та обтирает ладонь об юбку, здоровается с гостем. — Уж обеспечьте, — просит Жильцов. — Человек сурьезный, без дела не пожалует. — А с каким делом? — вот что интересует и Жильцова и Васютина… С каким? Нажимать или просвещать? Усовещать или карать… — Да с нашим превеликим удовольствием! Васютин само радушие. — Так я пойду? — Будь спокоен, Савелий Тихонович. Жильцов уходит. Васютин только взглянул на девок, и те ушли. — Чичас соберем ужин. — Нет, нет, — Слава отказывается. — Я сыт, разве стакан молока. Наседать на начальство тоже нельзя, перебор хуже недобора. Перед гостем ставят махотку с молоком, достают из стола початый каравай хлеба, нарезают толстыми ломтями. Ах, что за блаженство свежий ржаной хлеб! Давно Слава не ел такого. Не хлеб, а пряник! А хозяйка тем временем стелет ему на лавке постель. — Мы уж вас, извините, здесь уложим, в горнице прохладно. В горнице девки переспят, а мы с хозяином на печи… Пуховик на лавку, на пуховик — простыню, сверху стеганое одеяло. Тушат свет. Слава раздевается, накрывается одеялом. Не спится: то ли мешает шепоток хозяев на печке, то ли томят завтрашние заботы… Семена, семена! Глаза разгорятся у всех, а давать придется самым бессловесным… За стеной ветерок. Страшновато ночью в поле. В доме тоже какие-то шорохи. Мыши? Тараканы?… Тараканов Ознобишин не приметил. Черти?… Черти и есть, завтра он всех чертей выпустит! Просыпается на рассвете, но хозяева уже встали. — Доброе утро. — Рукомойник в сенях. Подают ручник из тончайшего домотканого полотна. — Завтракать… — А сами? — Мы позавтракали. Как же это он так заспался? Сейчас бы картошечки с молочком да с хлебцем… Но тут не вмешаешься. Садись и не чинись, угощайся тем, что дадут, а хозяйка расстаралась: на одной тарелке блины, на другой тарелке блины, гора блинов, а к ним и маслице топленое, и сметанка, и творожок, и лучок поджаренный, и шкварки свиные… — Куда мне столько? — Кушайте, кушайте. Сам Васютин деликатно присел на краешек лавки, спросит о том, спросит о сем, и между прочим: — Хлеб искать будете? — Наоборот. Васютин не понимает, но успокаивается, не за хлебом — и то ладно, значит, спокойно можно отсеяться. Тут дверь хлоп, хлоп — Сосняков. — Здоров… Не поймешь кому — хозяевам, Ознобишину? Мало приветлив Иван Сосняков. Он человек дела. — Ты чего с вечера не зашел? Это уже прямой упрек Ознобишину. А Слава самому себе не признается, всякий раз он рад отложить встречу с Иваном. В ответ пошутил: — Утро вечера мудренее. Его собеседник суров. — Для дураков и лентяев. — Может, позавтракаешь со мной? Ответа Слава не дождался. Но надо видеть Соснякова! Углы губ опущены, глаза прищурены, ноздри подрагивают… Полное презрение! — Собирайся, пойдем. Славушка отодвинул тарелку. Не до блинов! Накинул полушубок, заторопился. — Кулацкими блинами угощаешься? И ведь прав Сосняков. Приезжее начальство останавливается у кулаков, это вроде контрибуции, и все-таки лучше подальше от этих блинов. Сосняков не собирается тратить время попусту: — Зачем приехал? — Посевная. Семена раздавать. Сосняков удивлен: — Тебя послали уполномоченным? — Прежде всего я собирался обратиться к тебе, Иван. Зерна мало, есть решение снабдить бедняков и поддержать кое-кого из середняков. Ты ведь всех здесь знаешь. Надо бы списочек составить, а то уплывет зерно… — А чего составлять? — хитрая улыбочка шевельнула узкие губы Соснякова. — У меня все на учете. Знаю, у кого хлеб спрятан. Уполномоченные не столько ищут, сколько речи говорят! Дом князей Корсунских снаружи изменился мало, но внутри уже все выглядит иначе, занятия идут полным ходом, гостиные и спальни переоборудованы в классы, из-за дверей несется гул голосов, можно подумать, что в этом доме всегда помещалась школа. — Комсомольская ячейка теперь тоже здесь, — Сосняков пытливо смотрит на Ознобишина. — Кстати, ты на бильярде умеешь играть? Слава пожал плечами: — Не приходилось… Для комсомольской ячейки Сосняков приспособил бывшую бильярдную, но бильярдный стол оставили, только сдвинули к стене. Ознобишину теперь понятно, почему он заинтересовался бильярдом. — Я тоже еще не умею, — сказал Сосняков. — А говорят, полезная игра. Развивает глазомер, меткость. Нам бы инструктора сюда, обязали бы всех комсомольцев учиться. Ознобишин не стал спорить. — Давай свои списки. Две школьные тетрадки исписаны каллиграфическим почерком. Все село на учете. «Бедняки. Середняки мал. Середняки кр. Кулаки». «Мал» — маломощные, «кр» — крепкие. Бухгалтерия! Тут появился Жильцов, держится рукой за рыжую бороду, заискивающе заглядывает Ознобишину в глаза. — Вы к нам от волисполкома, Вячеслав Николаевич? Семена делить? Откуда ему известно? Слава сказал об этом одному Соснякову. — Ключи от амбара при тебе, Савелий Тихонович? — В Совете. — Пошли за ключами. Амбар на двух замках, ключ от одного в волисполкоме, от другого в сельсовете. Такая мера предосторожности, изобретение Данилочкина, обеспечивает полный контроль. — По хозяйствам делить будете или как? — По классовому принципу, Савелий Тихонович, — беднякам и маломощным середнякам. — А остальным? — А остальные вывернутся. Пошарят у себя по сусекам. Зашли за ключами в сельсовет, там мужиков полным-полно, притихли, молчат, слух о приезде уполномоченного обошел уже все село. — Семена делить? — Семена. — А кому? Кто-то подал голос: — Кому есть нечего, тем и дадут, сожрут, а сеять как бог даст. Жильцов подал ключи, списки домохозяев. Ознобишин решил прихватить с собой еще двух-трех мужиков. — Кому, мужики, доверяете? Хочу пройти по домам. Называйте. — Селиверстыча. — Васютина Павла Григорьевича. — Не возражаете, мужики? — А когда хлеб делить? — Пожалуй, завтра с утра… Ознобишин — от дома к дому, Сосняков от него ни на шаг, Жильцов и двое доверенных чуть позади. Поднимались на крыльцо, заходили в избу, здоровались, — Ознобишин пытливо вглядывался в хозяев, в детей. — Савелий Тихонович, как тут? — Пуда четыре наскребут. Одним глазом в список Жильцова, другим в тетрадь Соснякова. Сосняков безошибочно определил достаток каждой семьи, его классовый подход строг, но справедлив. В богатые избы заходили мимоходом, да и владельцы их не слишком, видно, рассчитывали на помощь со стороны, посев в этих хозяйствах обеспечивали хитроумно укрытые от чужих глаз мешки с отборным зерном. Вот и еще одна такая богатая изба, кирпичная, под железом, с крыльцом, украшенным деревянной резьбой. — Борщевы. Самое что ни на есть кулачье, — небрежно поясняет Сосняков. — О самом хозяине ни слуху ни духу, с деникинцами ушел… К Борщевым Ознобишин зашел ради проформы. Хозяйка упирается в стол тонкими пальцами, за юбку держится девчушка лет семи, а позади еще трое погодков. Ознобишина поразил землисто-белый цвет их лиц широко раскрытые глаза, бескровные губы. Взглянул на Соснякова. — Чего это они такие? — Какие? — Точно голодные. — А они и есть голодные. В начале зимы продармейцы у них все подчистую выгребли. Сидели на картошке, да и той, должно, не осталось. Ознобишин задумался. — Сеяться будете? — спросил Борщеву. — Если люди помогут… Не сказала — прошелестела губами. Сосняков потянул Ознобишина за рукав. — Здесь делать нечего, пошли. И с таким же голодным отупением столкнулись еще в одной избе, на этот раз темной, тесной и нищей, нищета в ней сквозила из всех щелей. — Этим тоже помогать не будем, — сказал Сосняков. — А этим почему? — Их отец ушел с белыми. — А этот с чего? Здесь-то беднота? — Беднота-то беднота, а переметнулся к классовому врагу. — От бедности и переметнулся, — пояснил Жильцов. — Так и сказал, уходя: глаза бы мои на эту нищету не глядели. — Пойдем, пойдем, — заторопился Сосняков. Ознобишин всматривался в голодные детские глаза. — Как фамилия? — Филатовы. Комиссия, как вскоре их стали называть в селе, — Ознобишин, Сосняков, Жильцов и понятые, — обошли все дворы. К вечеру обход закончили. — Собирай, Иван, ребят, — распорядился Ознобишин. — Овсянина, Плехова… Словом, всех. На всю ночь. Пусть стерегут амбар. Не ровен час, разграбят еще ночью. — Правильно, — подтвердил Жильцов. — Береженого бог бережет. Комсомольцев собрали, вооружили чем пришлось: дробовиками, пистолетом, найденным в усадьбе и сохраняемым для спектаклей. — Смотрите в оба, чуть что — за мной, — предупредил Ознобишин и невесело усмехнулся. — А я сосну. Завтра мне воевать и воевать. Он расставил караул, наказал ходить греться по очереди и ушел с Сосняковым в село. В окнах вспыхивали огни. Звенела где-то бадья, булькала в темноте наступающая весна. — Ты куда? — спросил Сосняков. — К Васютиным опять? — А куда ж еще? — Пойдем ко мне, картошки хватит. — Где там хватит, — безжалостно отказался Ознобишин. — У вас каждая картофелина на счету. Ничего, не объем я ваших кулаков. У Васютиных и тепло и сытно, но Ознобишин не очень-то к ним стремился, позови его кто другой из комсомольцев, он охотно пошел бы, но идти к Соснякову не хотелось, очень уж агрессивен. Васютины ждали своего постояльца. Ужин на столе, постель постлана, а разговорами хозяева его не обременяли. Слава наскоро похлебал щей, даже не забелил сметаной, отодвинул поджарку. — Спасибо, сыт. Почему-то стыдно было есть это мясо, когда Сосняков сидит небось сейчас у себя дома и макает в соль холодные скользкие картофелины. Погасили лампы, разделись, но никто не спит, все сдерживают дыхание, притворяются спящими. «Надо было остаться с ребятами караулить амбар, — подумал Слава и тут же сам с собой не согласился, — завтра будет денек ой-ой какой, завтра мне достанется, дай бог продержаться». И грустно ему было почему-то, людям надо сеять, как можно осиротить землю, всем это на пользу, а семян нет даже у тех, у кого они припрятаны, с семенами негусто, и кому-то надо дать, а это — дать и не дать — в воле Ознобишина: волисполком его уполномочил, ну а сам он себя? Поди разберись, где справедливость. Ивану легче, он во всем придерживается своих списков. Составил их раз и навсегда, кому положено, тому положено, а кому не положено, тому никогда и никакими силами не сдвинуть его с занятой позиции. В общем-то Сосняков прав, живет по законам классовой борьбы… Что-то звякнуло за окном, льдинка, должно быть, сорвалась. Как там ребята у амбара? Трудно предположить, что кто-нибудь позарится на общественный амбар, и все-таки спокойнее, что ребята присматривают за амбаром. Он заспался, заспался… Нет, хозяева еще спят. За окном еще темно. Оделся, тихо вышел во двор, на улицу. Какая-то женщина несет ведра на коромысле. Откуда-то пробивается белесый свет. Прошел мимо церкви. Не так давно еще в ней венчали, крестили и хоронили князей Корсунских. Где они? Алешку застрелили, а княгини уехали. На площади, за церковью, амбар. Недавно еще принадлежал здешнему лавочнику, а теперь общественный амбар граждан села Корсунского. Есть в селе и бедняки, и батраки, вконец обнищавшие крестьяне, и есть богачи, которые держат батраков, и сегодня этим нищим будет дано полное предпочтение. Ознобишин, полноправный представитель Советской власти, отдаст им предпочтение перед теми, у кого и хлеб, и скот. По дороге встретились Левочкин и Плехов. — Все спокойно? — Ознобишин позвенел в кармане ключами. — Сбегайте кто-нибудь за Жильцовым. Село точно только и ждало этой команды — Жильцов еще не пришел, как площадь заполнилась народом. Пришли и старые и малые, мужики и бабы, старики и старухи, набежали ребятишки, только самые маленькие остались сидеть по избам. Ох, до чего ж многолика деревня! И самое опасное, что пришли все. Слухи о том, что семена будут давать одним беднякам, еще накануне прошли по деревне, богатым мужикам нечего делать на площади, и, однако, тоже пришли. Неспокойно на душе у товарища Ознобишина, но назвался груздем, полезай в кузов. — Бочку, что ли, какую подкатите… Из ближнего двора выкатили телегу, поставили перед амбаром. Взобрался товарищ Ознобишин на телегу, осмотрелся. — Товарищи… — даже как-то неудобно называть этих мужиков и баб товарищами, по возрасту он им в сыновья годится. Но не отцами же их называть полномочному представителю Советской власти. — Я уполномочен волостным исполкомом произвести у вас раздачу семян. Заранее предупреждаю: семян мало, выдавать будем только самым маломощным. Тем, у кого, по нашим сведениям, имеется возможность засеять свой клин из своих запасов, тем рассчитывать на помощь от государства не приходится. Поэтому, товарищи зажиточные хозяева… — не называть же кулаков кулаками? — вам можно разойтись! На свою голову сказал — по толпе прокатился крик: — Чего там, дели, поглядеть хотим на вашу справедливость! Ознобишин предупреждающе поднял руку. — Не торопитесь. Хотите стоять — стойте, к амбару все равно не подпустим. Отпускать будем по списку, каждому в свой мешок, а сперва проверим, взвесим, не много ли сгрызли мыши… Подозвал комсомольцев, поставил перед дверями. — Савелий Тихонович! — подал ему ключи. — Открывай. Пахнуло пылью, мукой и будто вправду мышами. — Человек четырех сюда… Подвинули весы к дверям. — Ну, давайте. Сколько должно быть, Савелий Тихонович? Жильцов извлек из кармана засаленную тетрадь, заглянул в свои записи. Рожь — восемьсот двадцать четыре пуда, овса — шестьсот одиннадцать, проса — четыреста… — Подай-ка свои списочки! Со списками Соснякова Ознобишин не расстается, вчера во время обхода он кое-что исправил, но совсем незначительно, эти списки и легли в основу при распределении. Ознобишин повернулся к Соснякову, впрочем, тот не отходил от Ознобишина, никому не доверял, даже Ознобишину, боялся, как бы от его глаз не ускользнула хоть горсть зерна. — Давай прикинем… Нельзя никого обидеть, и нельзя не обидеть, обиженные будут, но пусть никто не упрекнет, не заподозрит представителя власти в пристрастии. Ознобишин встал на приступок амбара. — Тише! Но можно и не взывать к тишине. Тишина воцарилась мгновенно, как только Ознобишин вышел из амбара, — хлеб-от не шутка, кому подфартит, тот обеспечен, посеет без хлопот, а кому-то искать, добывать еще… — Зерно в целости, но на всех все равно не хватит. Мы тут прикинули. Выдаем безлошадным, беднякам и малоимущим. На женщин и детей по пуду… — А мужики — умойся и оботрись? — Мужики при детях! — Значит, мужик уже не человек? — Не хватит иначе, не хватит, мужики перебьются. — Я предупреждаю: кто вздумает перемолоть семена на муку, или, упаси бог, продать, будем судить, наперед говорю, милости тогда от Советской власти не ждите. Да и не враги же вы себе… Тишина. — Мешки у всех при себе? Тишина. — Начнем, значит… Афонина… Афонина Татьяна, подходи. Пять пудов ржи и три овса! Женщина в красном полушалке сделала шаг вперед, а Второй шаг сделала вся толпа, все разом, толкаясь и бранясь, кинулись в беспорядке к амбару. На мгновение, всего лишь на одно мгновение замер Ознобишин: сметут! И ничто не остановит мужиков… Вот когда он пожалел, что не взял у Еремеева револьвер. Он не сумеет противостоять натиску, его сметут, и ничего от него не останется. Еще секунда, и одичавшая толпа ворвется в амбар. — Стойте! — закричал Ознобишин противным, визгливым, пронзительным голосом, вырвавшимся откуда-то из глубины, каким он еще никогда не кричал в жизни. — Еще шаг — и я выстрелю! В левой руке у него список, а правая в кармане полушубка, у него мерзли пальцы, и он пытался согреть хотя бы одну руку, но поняли его иначе, в кармане оттопыривались варежки, а сгоряча что не померещится людям. — Мужики! — крикнул кто-то в толпе. — Он чичас стрелит! Кто-то споткнулся и будто рывком остановил всю толпу. Парень в кавалерийской шинели выскочил вперед, выпятился перед телегой, на которой стоял Ознобишин, и принялся раздирать у себя на груди рубаху. — Ну, стреляй, стреляй… Вероятно, Слава чувствовал нечто подобное тому, что чувствовал Шабунин, когда с винтовкой в руках бежал по кронштадтскому льду. Он вытащил руку из кармана. — Больно ты мне нужен, — с презрением сказал Слава. — Не для тебя назначена твоя пуля. Парень посмотрел на уполномоченного, шмыгнул носом и пошел прочь. — Кто еще? — спросил Ознобишин, чувствуя прилив лихорадочной отваги. — Кто еще попытается? Но пытаться не хотелось больше уже никому, и все, точно по команде, отступили на несколько шагов от амбара. Ознобишин мотнул головой в сторону Соснякова: — Выдавай, Иван. Афонина Татьяна. Пять пудов ржи и три овса. На этот раз никто не помешал женщине в красном полушалке оттащить мешки с зерном от дверей. Ознобишин выкликал фамилию, Сосняков вместе с другими ребятами отвешивал зерно, и мужик, потому что зерно все-таки получали мужики, поспешно оттаскивал мешок от амбара и спешил уйти со своим пайком восвояси. Ознобишин не спешил, а Сосняков тем более, он взвешивал зерно с аптекарской точностью.  Миновал полдень — никто не расходился, Жильцов напомнил Ознобишину — «а пообедать?» — но тот только отмахнулся. После того как Ознобишин отогнал ринувшуюся к амбару толпу, никто не мешал раздаче, иногда возникал мелкий спор и тут же гас, придраться было не к чему, запасы зерна подходили к концу, и Ознобишину оставалось все меньше и меньше времени для осуществления принятого им решения. — Борщева! Анна! — подчеркнуто громко выкрикнул Ознобишин. Никому и в голову не приходило, что могут вызвать Борщеву, она сама не поверила, что ее выкликнул уполномоченный. Ознобишин повторил: — Борщева Анна!… Ее толкнули в спину. — Тебя! — Да она ж кулачка! — Была, да вся вышла, и она и дети еле на ногах стоят. — Борщева Анна! Неуверенными шагами подошла Борщева к телеге. Но одновременно из амбара выбежал Сосняков и подскочил к Ознобишину. — Ты что? Ее же нет в списках! — Есть. Я внес. — Да ведь это же кулацкая… кулацкая семья! Ее муж к белым ушел… — А дети с голоду мрут. — Не наша забота. — Наша. — Кулаков растить будем? — А мы не будем растить их кулаками. — Нарушаешь классовую линию? Ознобишин соскочил с телеги и подтолкнул Борщеву к амбару. — Ну? Чего стоишь? Иди получай. Сам пошел за ней в амбар, смотрел, как отсыпают ей зерно. Сосняков стоял у двери и саркастически наблюдал за Ознобишиным. — Теперь остается только еще вызвать Филатову! — А ты не ошибся, тоже внесена мной в список. Он опять взобрался на свою трибуну: — Филатова! Но Филатовой на площади не было, она просто не пришла, после того, как ее муж ушел с деникинцами, она не могла надеяться ни на какую помощь. — Сходите за ней, — распорядился Жильцов. За Филатовой побежали. Ознобишин ждал. Торопливыми шагами она подошла к телеге, встала перед Ознобишиным, ждала, что ей скажут. — Даем тебе семена, на твоих детей. Только не вздумай съесть. Трудно, а посеяться нужно. Слышала? Филатова пошевелила губами: — Слышу. — Так получай. — Сам и отвешивай, — сказал Сосняков, не отходя от двери. — Я белякам не слуга. — Ребята! — крикнул Ознобишин. — Отвесьте ей пять пудов. Бешеными глазами посмотрел Сосняков на Ознобишина. — А Васютину сколько отвесишь? — За что? — За гостеприимство. Оплатить постой… Ох как хотелось Ознобишину сцепиться с Сосняковым, он уже привык к тому, чтобы ему не перечили, но здесь, при народе, да еще чувствуя жестокую правоту Соснякова, он подавил свою досаду, заслонился от Соснякова его же списком и назвал следующую фамилию. Вот все и роздано. Без особых происшествий. Даже без крика. Выполнил он свое поручение. Спрыгнул на землю. Жильцов смотрит на Ознобишина и весело и снисходительно. — Отвоевался, Вячеслав Николаевич? Отвечать Жильцову не надо. Тот понял все правильно. — Подводу когда занаряжать, сегодня вечером али с утра? — Пожалуй, лучше с утра, не хочется тащиться ночью. А Сосняков упрямо не отходит от дверей. — Славка, поди-ка сюда! — Чего тебе? — Жаловаться на тебя буду, — говорит Сосняков. — Вот так. Нельзя было давать ни Борщевой, ни Филатовой. — Дети-то при чем? — А при том! Детей, может, и жалко, но каждый, кто норовит напакостить и сбежать, будет надеяться, что все равно его семейка без помощи не останется. Ознобишин не хочет спорить с Сосняковым, зерно у Борщевой и Филатовой уже не отберешь. — Жалуйся, сколько влезет, а запомни только одно: проследи с ребятами, чтоб помогли вспахать землю солдаткам и вдовам, чтобы семена не ушли на сторону. — Это мы и без тебя знаем, — процедил сквозь зубы Сосняков. — Ужинать опять к Васютину? — К Васютину. В голосе у Ознобишина вызов. Не хочется ему идти к Васютиным, но и к Соснякову не пойдешь. — Пошли, Савелий Тихонович. Их ждали у Васютиных. И щи дымятся в тарелках, и мясо на доске накрошено, и огурцы в вазочке для варенья, и… — Не обижайся, Вячеслав Николаевич, дело сделано, после работы можно… И бутылка зеленого стекла блеснула на столе. — Как хочешь, Савелий Тихонович, я не возражаю, но сам не буду. — Привыкать надо. Жильцов и Васютин выпили. Жильцов переспрашивает: — Так когда поедем? — Ночуйте, ночуйте у нас, — вмешалась хозяйка. — Женушки еще нет, торопиться не к кому. — А я и не тороплюсь. И вдруг его осенило: семена-то он роздал, но ведь это лишь половина поручения, надо быть уверенным в том, что зерно не пропито, не продано, не съедено, своими глазами видеть, что оно попало в землю. — А знаешь, Савелий Тихонович, я, пожалуй, не поеду завтра, — неожиданно говорит Ознобишин. — Уж больно щи хороши, погощу у вас с недельку. — Да господи, да хоть две, — сказала Васютина. — Хотите, мы вас на печке уложим? — А что так? — поинтересовался Жильцов. — Хочу посмотреть, как сеять будут, на тебя, Савелий Тихонович, нажму, чтоб ты солдаток лошадьми обеспечил. На другое же утро поступил донос. Не Ознобишину — Соснякову. Иван прислал за Ознобишиным посыльного. — Срочно зовет в ячейку. Сосняков с торжеством посмотрел на секретаря волкомола. — Вот убедись, кому ты помог. Борщева хлеб печет. С утра нажарила оладьев, а сейчас хлеб печет. Отрядили к Борщевым патруль во главе с Ознобишиным. В избе у Борщевых пахло хлебом. — Как же так? — спросил Ознобишин. — Я же предупреждал? Борщева развела руками, показала на детей. — Исть просят. Не видели хлебушка с рождества, не совладала, обменяла десять фунтов на муку, больше не съедим, истинный бог, остальное засеем. Ну что ей сказать? — Смотри, хозяйка, обездолишь детей. Уж как-нибудь перебейся, зато осенью с хлебом. И вдруг Борщева осмелела: — А осенью опять придет отряд… «И с помощью Соснякова вытрясет все до зернышка», — не сказал, только подумал Ознобишин. — Скоро новый закон будет, — сказал он. — Не все будут отбирать. Ему не верили, но и не возражали. После посещения Борщевых Ознобишин понял, что медлить нельзя, если за два-три дня не отсеются, съедят зерно или пропьют. За неделю, которую Ознобишин провел в Корсунском, каждый день он приходил к Жильцову еще до света, советовался, у кого взять лошадей, сам провожал мужиков в поле, кому угрожал, а кого слезно упрашивал, и к своему отъезду уверился, что большая часть зерна хоть и с грехом пополам, но высеяна. Даже с Сосняковым расстались они мирно. — Ты бы отлично сам со всем справился, — великодушно сказал Ознобишин. — Но отвечать-то перед волкомом мне. — Какое имеет значение, — не менее великодушно отозвался Сосняков. — Важно, что засеяли, вот что важно, озимая рожь, конечно, лучше родится, но и яровая сойдет. — Тебе, Иван, тоже пора в партию, ты старше меня, — сказал Ознобишин. — Подумываю, Слава. На сей раз ничем не попрекнули друг друга, дело было сделано и мир между ними восстановлен. Вез Ознобишина в Успенское Вася Левочкин, его очередь на подводу. — Смотри не гони лошадь, дорога плохая, — предупредил Васю отец и, ни к кому не обращаясь, пожаловался: — Только из пеленок, а уже начальство… Ехали медленно, телега тонула в выбоинах, на колеса налипла грязь, пахло сыростью, овчиной, навозом, всю дорогу Ознобишин и Левочкин разговаривали о пустяках — что ребята по праздникам ходят в церковь, что блины хороши и без сметаны, что Сосняков в жизни никогда и никому не улыбнулся, что Катя Вишнякова собирается в Орел… Доехали до оврага, он был полон грязи, внизу бурлила Озерна. — Может, отпустишь? — искательно попросил Левочкин. Ознобишин соскочил с грядки, потрепал мерина по лоснящемуся крупу, кивнул своему спутнику, зашагал вниз. — Ладно, бывай… Речка разлилась, мутная вода обманчиво кружила на перекатах, он глазами поискал прячущиеся под водой камни, ступил в воду, сразу вымок до щиколоток и пожалел — зачем отпустил Левочкина. Заглянул по пути в исполком, за дверями молчание, все, должно быть, в разъезде, и заспешил домой. В галерейке столкнулся с Верой Васильевной. Она всплеснула руками. — Сейчас же разувайся! Велела надеть шерстяные носки, дала шлепанцы. — Сейчас нагрею чаю… У нее нашлось даже малиновое варенье. — Почему так долго пропадал? — Сеял. — Но ведь не ты же сеял? Петя, тот действительно… Петя вместе с Филипповичем третий день жил в Дуровке, сеял на хуторе овес. Слава напился чаю, прикорнул на маминой постели… Ночью проснулся, и ему показалось, что он все еще в Корсунском, потом сообразил, что он дома, что Корсунское позади, и все равно, куда от него уйдешь?! Третий год оно с ним. С той злосчастной поездки, когда застрелили Алешу Корсунского. Почему он его вспомнил? Потом ездил открывать в Корсунском школу. Дом в сугробах, белый зал, полыхающий камин, бренчанье расстроенного рояля… Он сделал в Корсунском все, что ему было поручено. Роздал семена, проследил за севом. Но это еще не все: семена, люди, тягло. Смутно он ощущал, что за эти дни он приобрел что-то и для самого себя. В комнате натоплено, как зимой, а снег на улице уже сошел, даже под кустами растаяли ледяные корочки. Слава приоткрывает форточку. Сильно пахнет землей, только-только проклюнувшейся травой, набухающими почками. Наутро Слава идет в исполком. Как всегда, с утра там полно людей. Быстров отчитывает Данилочкина за то, что в Журавце затянулся сев, диктует Дмитрию Фомичу распоряжение сельсоветам взять на учет все косилки и одновременно читает какое-то предписание из уездного исполкома. Слава останавливается перед Быстровым. — Ну как? — только и спрашивает тот у Славы. — Отсеялся, Степан Кузьмич… Ему хочется рассказать обо всем поподробнее, но Быстров говорит: — Вот и ладно, а теперь иди, занимайся своими делами. 13 Время шло, сирень отцвела раньше времени, и уже в мае солнце припекало землю так беспощадно, что в парке, даже в тени, потрескались все дорожки. Лето выдалось жестокое, поля не сулили ничего доброго, редкие, тощие, серые от пыли колосья торчали прямые, как свечечки, не от чего им было клониться, зерна посохли, не успев налиться, рожь перемежалась с лебедой. То не рожь, а лебеда, Батя, не омманывай Пришла, девоньки, беда, Нетути приданова, - пели девки по вечерам на выгоне. Свадьбы расстраивались, надежды рушились, Быстров метался по волости. — Сена, сена накашивайте сколько можно! Голос его срывался, он багровел и заходился в кашле. — Жарко? — спрашивал то одного, то другого коммуниста. — А вы о зиме, о зиме думайте, думайте, как скот до будущей весны сохранить! И волком, и уком то и дело напоминали о предстоящей зиме, до холодов еще ой как далеко, но — готовь сани летом… Слава приезжал то в одну деревню, то в другую, и, выполняя директивы волкома, собирал молодежь — в школу, в избу-читальню, а то так и просто где-нибудь в проулке, — настойчиво втолковывал: — Заготавливайте корма, ребята, траву: солому, турнепс, надерите веников… Обязательно кто-нибудь усмехался: — А веники на что, коров парить? — Сена не будет, и веники сожрут, — терпеливо объяснял Слава. — С Деникиным покончили, теперь нужно справиться с голодом. Как марево, наплывали жуткие слухи: в Поволжье голод, порезали всех лошадей, люди мрут… Тем временем, худо ли, хорошо ли, у всех складывалась и своя семейная жизнь. Можно ли было считать астаховскую семью семьей Славы и Пети Ознобишиных? Да, можно, покуда был жив Федор Федорович, а теперь ничто не связывало Ознобишиных с Астаховыми. Ни Федора Федоровича, ни Пелагеи Егоровны, которая все-таки доводилась Вере Васильевне свекровью, не было уже на свете, остался один Павел Федорович, но и он уже не тот Астахов, каким был два года назад. Марья Софроновна все больше прибирала его к рукам, теперь уже не существовало астаховской семьи: две и даже три разных семьи жили под одной крышей. Федосей и Надежда тоже отдельная семья, ели уже не за общим столом, им не доставалось ни мяса, ни масла, хорошо, хватало картошки, наварят чугунок и мнут по утрам с солью. Дом Астаховых распался. Однако судьбы дома, ставшего пристанищем Ознобишиным, мало заботили Славу, — да что там дом Астаховых, самозабвенно отдаваясь общественной деятельности, он не замечал даже, как живут его мать и брат. Слава любил Петю, но вот проявить к нему повседневный интерес, вникнуть в его жизнь у Славы не находилось времени. Однажды, в начале лета, у Славы произошел примечательный разговор с Данилочкиным. Тот сидел в земотделе и с помощью обыкновенной канцелярской линейки проверял работу приезжего землемера по размежеванию успенских деревень. Слава забежал в земотдел разжиться бумагой, там хранились старые и лишь наполовину исписанные инвентарные книги. Увидев Данилочкина, Слава хотел шмыгнуть прочь, Данилочкин скуповат, сам он бумаги не даст, но он задержал Ознобишина: — Постой-ка, парень! Кто у вас в комитете занимается батраками? — По какой линии? Политическим просвещением или… — Вот именно «или». Просвещение само собой, а вот кто охраняет их материальные интересы, следит, чтоб кулаки их не очень эксплуатировали? — Экправ. — Чего? — Экономически-правовой отдел. Саплин у нас заведует экправом. — И как у него по этой части? — В общем, кулаки у нас под контролем. — А не в общем? — Батраки на учете, хозяева расплачиваются с ними вовремя, если возникает конфликт, тут же обращаются… — Молодцы! В тоне, каким высказана была эта похвала, Слава уловил насмешку. — А что, мы что-нибудь проглядели? — О том и разговор. — В Каменке? — При чем тут Каменка, можно и поближе. — Где это? — Да хоть в Успенском или в Дуровке. — Здесь у нас порядок. — Ой ли! Ты брата своего часто видишь? — Не так чтобы часто… — Про то и разговор, батраков по всей волости выявляешь, а то, что собственного брата в батрака превратили, это тебе не видно? — Почему в батрака? — А кто же он, как не батрак? С утра до ночи пашет на вашего Павла Федоровича, а расплатиться с ним тот и не думает. Такой упрек вроде пощечины, Слава считал, что работа Пети в хозяйстве Астаховых в порядке вещей. — Но ведь он член семьи? — Дай срок, попрет Астахов этого члена семьи вместе с твоей матерью напрочь… Нет, то, о чем предупреждал Данилочкин, не могло случиться, не позволит себе это Павел Федорович, как-никак, а Вера Васильевна все-таки жена его брата. Ну а что касается Пети… Что касается Пети, тут Данилочкин прав. Петю бессовестно эксплуатируют, считается, что он свой. Но Славе неудобно вступиться за Петю, Слава тоже свой, ему легче высказать сочувствие какому-нибудь бушмену из Калахари, чем сказать словечко в защиту Пети. На то он и революционер, чтобы защитить бесправных негров! Миллионы униженных и оскорбленных нуждаются в его помощи! Велик земной шар… А то, что творится рядом, проходит мимо его внимания. Кто-то страдает, кто-то влюбляется, кто-то хитрит… Братья Терешкины ухаживали за сестрами Тарховыми, «крутили любовь», как говорили о них все, кроме Славы, он не замечал, что людей связывают какие-то личные отношения, для него Тарховы и Терешкины были всего-навсего актерами местной драматической труппы. Он видел мир сквозь призму губернской газеты, ему гораздо яснее представлялось то, что происходит в Париже или Бомбее, нежели в Успенском или Дуровке, — в Германии пролетариат ведет классовые бои, это он видел, а то, что в Дуровке эксплуатируют Петю, — явление незначительное, он стоял выше всех мелочей. Такому подходу к жизни учил Быстров: за мировую революцию, не жалея собственной крови, в бой! А то, что где-то рядом обижают какую-то там Дуньку или Машку, — беда невелика, Дунька подождет, стерпит, после мировой революции дойдет очередь и до нее. 14 Романтические порывы увлекали Славу в неведомые дали. Что там мировая революция! Не сегодня-завтра полетим устанавливать коммунизм на Марсе… А жизнь возвращала Славу на землю, и не вообще на землю, а на ту землю, которая горела у него под ногами, в Успенское, в Корсунское, в деревни и села знакомой волости. Дуньки ждать мировой революции не хотели. Они хотели, чтобы о них подумали уже сейчас. Впрочем, Дуньки были многочисленны и далеко не на одно лицо, абстрактная Дунька делилась на множество лиц, и каждое вызывало особое к себе отношение. Ознобишину приходилось постоянно соприкасаться с людьми, одни были симпатичны, другие неприятны, ради одних он готов был расшибиться в лепешку, другие вызывали чувство вражды — классовая борьба в стране вступала в новую фазу. В данную минуту Слава сидел и составлял список успенских коммунистов, укому требовались новые, более подробные о них сведения. Это не его дело, партийным учетом занимался Семин, но Семин вот уже третий день в Малоархангельске, а сведения нужно представить безотлагательно. Каждый человек, каждый коммунист возникал в памяти Славы во всей своей неповторимости, и отвечал он на анкету, не нуждаясь в опросе тех, кто значился в списках. Сам того не замечая, он с увлечением трудился над списком и уже дошел до буквы М, когда его позвали к Данилочкину. Василий Семенович опять сидел на месте Быстрова, Степан Кузьмич продолжал искать хлеб по деревням и у тех, у кого положено и у кого не положено, сопровождая поиски допросами и угрозами, хотя уездные власти не раз уже призывали его к порядку. Данилочкин постучал о стол трубкой, выколачивая из нее пепел, и заговорил, лишь снова набив ее махоркой. — Вот что, Ознобишин, — прохрипел он, — дуй сейчас в Семичастную, уезжает наш адвокат. Напрыгался, наплясался, обратно в город потянуло… — А не отпускать? — А на кой ляд? — возразил Данилочкин. — Пусть катится, фальшивую коммуну Пенечкиных давно пора разогнать. — Но ведь Нардом надо кому-то сдать? Слава соображал — кому, но Данилочкин не задумался. — Терешкину. Такой же актер, как Андриевский. Сумеет ставить спектакли… Данилочкин все уже решил. — А как же со списками? — Списки тоже надо кончать. — Может, Семин вернется. — Семин не вернется, забрали на работу в уезд. — Куда? — В ЧК. — В ЧК? — Слава удивился, в его представлении Семин никак не подходил для работы в ЧК, это была область революционной романтики, а Семин… — Но ведь он же канцелярист, у него душа бумажная, все разложено по полочкам… — А туда канцеляристы и требуются, — сказал Данилочкин. — Там порядок прежде всего. Все-таки это удивительная новость! — Так что списки все равно за тобой, — предупредил Данилочкин. — Когда же я успею? — Посидишь ночь, к утру кончишь, — утешил Данилочкин. — А сейчас в Семичастную, вызови Терешкина и все имущество по акту прима от Андриевского. Навстречу Саплин. — Пошли принимать Народный дом, уезжает Андриевский. — А на его место кто? — Терешкин. — Везет мужику! — Саплин захохотал. — Теперь все девки его, каждый день будет устраивать танцы. Солнце в зените, земля накалена, тверда и бела от зноя, липы собираются цвести, и жужжат над ними бесчисленные пчелы. Ознобишин и Саплин идут хоженой-перехоженой аллейкой, все им здесь примелькалось, и раскидистые кусты сирени, и разросшаяся жимолость, и заросли крапивы… — А как ты думаешь, Слав, — нарушает молчание Саплин, — этот твой Андриевский занавески может спереть?… Дом помещика Светлова, превращенный в культурно-просветительное заведение, желтеет на солнце как медовый пряник. Они прошли через пустой зрительный зал в библиотеку. — Вячеслав Николаевич! — с наигранным пафосом восклицает Андриевский. — Опять судьба нас сталкивает! — На этот раз не судьба, а волисполком, — отвечает Слава. — Вы в самом деле уезжаете? — Судьба! — продекламировал Андриевский. — Себе противиться не в силах боле и предаюсь моей судьбе! Он способен болтать без умолку, и Слава сразу переходит к цели своего визита. — Пришли принимать имущество. Андриевский недоуменно поднимает брови. — А кому же сдавать? — Вообще-то… Нет подходящей кандидатуры, Терешкин — это не то, что нужно, но временно придется остановиться на Терешкине. Пока что сдадите дом Андрею… — Терешкину? — Андриевский доволен. — Превосходно! — Надо будет за ним послать, — говорит Саплин. — А он здесь… — Андриевский кричит в зал: — Андрей Васильевич! И Андрей Васильевич тут как тут, прыгает из темноты на сцену и спускается в библиотеку. Тут Славу осеняет, должно быть, Андриевский и подсунул эту кандидатуру Данилочкину. — Откуда ты взялся? — Пришел помочь Виктору Владимировичу… Саплин взглядывает на Ознобишина. — Будем составлять опись? — Какая опись? — Андриевский снисходительно смотрит на Саплина. — Опись давно составлена, волнаробраз в прошлом году проводил инвентаризацию… Опись у него под рукой. — Пускай Саплин вместе с Андреем Васильевичем всё проверят, а мы посидим, — предлагает он Славе. — В последний раз. Слава утвердительно кивает Саплину. — Начинай. Андриевский перечисляет. — Костюмы, реквизит, бутафория… — И книги, — говорит Слава. — И книги, — соглашается Андриевский. — На книги уйдет не меньше дня. Неужели вы думаете, что я способен чем-то воспользоваться? — Вот ключи от кладовой. Терешкин и Саплин уходят за кулисы. Андриевский придвигает кресло к Славе. — Одна у меня к вам просьба, — небрежно произносит Андриевский. — Хочу взять с собой несколько париков. С локонами. Все равно они здесь не понадобятся, они годятся для пьес Мольера, а кому здесь нужен Мольер? Как, проявите великодушие? — Нет, — отвечает Слава. — Не могу я проявлять великодушие за государственный счет. — Вы пуританин, — ласково замечает Андриевский. — А сейчас наступило время ренессанса, возрождения. — Возрождения чего? — Хорошей жизни, — объясняет Андриевский. — Куда же вы — обратно в Петроград? — В Петроград или в Москву. Или в Киев. — Вернетесь в адвокатуру? — О, нет, не стремлюсь заниматься юриспруденцией. — Откроете театр? — Не театр, а кабак. Слава не понимает Андриевского. Какой кабак? Андриевский человек расчетливого ума… — Как вы не понимаете? Приеду в Москву, открою какое-нибудь кабаре. Братья жены помогут. Хорошая кухня, певички. Кабачок назову как-нибудь позабористей. «Не рыдай» или «Кривой Джимми»… — Почему кривой? — Скорее подмигивающий, но это хуже звучит. — А парики зачем? — Актрисам. На первый случай. Такие парики непросто достать. На смену красным косынкам появятся маркизы, а потом и всякие ню… — Ню? — Голые бабы. Представляете? Голая баба в парике с буклями! Слава испытывает досаду при мысли о том, что внезапное появление Быстрова на мужицкой сходке, собранной два года назад белогвардейцами, помешало Андриевскому выступить со своей речью, выплесни он тогда себя, сидеть бы ему сейчас в тюрьме. Саплин и Терешкин возвращаются со своего обхода. — Порядок, — объявляет Саплин. — Все сошлось. — А книги? — спрашивает Слава. — Книги пересчитаем завтра, — говорит Терешкин. — Главное — мануфактура. Сорок метров холста и ситца. Все цело. И фраки, и сюртуки. — Андрей расписался? — строго спрашивает Слава. — Расписался. — Тогда пошли. — Я еще останусь, — говорит Терешкин. — Посчитаю декорации. Солнце стоит по-прежнему высоко, стало еще жарче, листва обвяла, не хватает воздуха. Но едва отошли от Нардома, как внимание Славы и Саплина привлек пронзительный визг. Где-то за парком, у реки, кричали девки, бабы кричат солиднее. Прислушались. — Бежим? Побежали, продираясь сквозь заросли жимолости, подминая разросшуюся крапиву. В заводи, где поглубже, торчали из воды головы. Слава сразу узнал Мотьку Чижову и Ленку Орехову. — Бессовестные! Мамоньки мои родные… Девки пришли купаться, залезли в реку, а тем временем кто-то унес их одежду. Увидели Славу и Саплина и завизжали еще пронзительнее: — Ой, не смотрите, уходите… — Да што ж ето, Вячеслав Миколаич? — вопила Ленка. — Кто ж ето насмешничает? Слава растерянно оглянулся и вдруг заметил в кустах блестящие черные бусинки. — Стой, трепись с девками, не смотри мне вслед, — вполголоса сказал Саплину. — Сейчас найдем… Отступил в кусты, пригнулся и, чуть похрустывая ветвями, сделал несколько шагов. В кустах притаились двое мальчишек. — Попался! Мальчишка забился в руках у Славы, другой отскочил, и — нет уже его, скрылся. Но того, что попался, Слава держит крепко. — Как же тебе не стыдно? Младший брат Андрея Терешкина Васька… Лет двенадцать-тринадцать, а уже матерщинник, нахал… Девичья одежда валялась тут же, под кустом, смятая, грязная, мокрая. Слава поволок Ваську на берег. — Нашлись ваши юбчонки, девчата! — Гаденыш! — завизжали девчонки. — Подержи… Слава передал Ваську Саплину, вынес из кустов одежду, бросил на берегу. — Пусти, — заныл Васька. — Зачем же ты так? — Слава начал поучать Ваську. — А если б с тобой так поступили? Васька захихикал и тут же разозлился. — Сучки! — закричал он. — Сучки они!… — А ну! — Саплин шлепнул его по губам. — Заткнись. Внезапно Славу осенило. До сих пор не мог он забыть, как не так давно дегтем вымазали ворота у Волковых. Вспомнился обиженный бабий вой. — Постой, постой, — обратился он к Ваське. — Это не ты в прошлом году вымазал ворота у Волковых? — А хоть бы и я? — нахально отозвался Васька. — Сучки они, сучки и есть… Саплин не дал ему договорить, посильнее шлепнул по роже. — Чего дерешься? — закричал Васька. — Пуста! — Так, значит, ты? — повторил Слава. — Что же нам с тобой делать? Тут Васька изловчился и впился зубами в руку Саплину. — Ах, ты… Саплин хотел ему снова влепить. — Не надо, — остановил Слава. Бить Ваську не хотел, но и не хотелось отпускать его без возмездия. — Вот что, Костя, — распорядился Слава. — Нарви крапивы побольше, а я его подержу… Саплин крапивы не пожалел. — Спускай штаны, набивай крапивой… Слава цепко держал Ваську за плечи. — Убью! — завывал Васька. Девчонки сидели в воде и хихикали, пока Саплин запихивал крапиву. — Теперь поддерни да затяни потуже ремень. Васька уже почувствовал сладость казни, тело зажглось… — Сво… Саплин усмехнулся: — Молчи лучше. — А теперь беги и запомни… Слава выпустил Ваську из рук. Он был уверен, что Васька без промедления исчезнет. Но ошибся. Отбежав на безопасное расстояние, Васька повернулся и, уставившись на Славу, завизжал еще пронзительнее, чем недавно кричали девки: — Байстрюк! Комсомол! Я т-тебе… Я т-тебе самому ворота вычерню! Я т-тебе эту крапиву всю жизнь не прощу! Попадешься когда-нибудь… На берегу под елью валялись прошлогодние шишки, Саплин наклонился, поднял шишку, запустил в Ваську, и тот наконец исчез. 15 Лето выдалось тяжкое, жару можно было бы перенести, если бы на полях росло хоть что-то путное — рожь перемежалась с лебедой так часто, что при взгляде на поле во рту ощущался вкус вязкого, будто смешанного с песком, черного хлеба. Сыт не будешь и от голода не помрешь, не сравнить с Поволжьем, как не сравнить Орел с той Тамбовщиной, где кулаки подняли восстание против Советской власти, в Орловской губернии кулаки такой силы не набрали. Пошумели кое-где в Малоархангельском уезде, но не так, как под Тамбовом, в Куракине, эсеры призывали мужиков поднять бунт, а в Колпне мужики требовали Советов без коммунистов, но стоило явиться чекистам — и горлодеры сразу на попятный. В Успенской волости кулаки действовали втихаря, сказывалось присутствие Быстрова, он потачки кулакам не давал, вот они и боялись пойти в открытую против Советской власти. Перед успенскими коммунистами очередная задача — подготовиться к тяжелой зиме. Для этого надо поставить под жесткий контроль все мельницы и крупорушки и прежде всего мельницы Астахова в Успенском и Выжлецова в Козловке. Быстров опять явился к Павлу Федоровичу с целой комиссией. — Гражданин Астахов, вы намерены продолжать свой саботаж? — Ни в коем случае… К тому времени и до Успенского дошла брошюра Ленина о продналоге, наступали новые времена, и частные хозяева воспрянули духом, еще два-три года и крепкие мужички восстановят свои хозяйства, вот Павел Федорович и предполагал, что двигатель на мельнице не сегодня-завтра затарахтит в пользу дома Астаховых. — Мельницу пустим? — А почему не пустить? — Нефтью мы вас обеспечим. — А что молоть? — Все. — И лебеду? — Разумеется, и лебеду. — Нет, на лебеду не согласен, не для того ставлена мельница, чтобы пакостить ее лебедой. — А что же вы собираетесь молоть? — Придет время, пшенички намелем. — Тогда мы сами пустим. — Коли есть среди вас механики, пускайте. Механиков не было, и взять их было неоткуда. Потопталась комиссия перед Астаховым и удалилась несолоно хлебавши. А с Выжлецовым получилось еще хуже. Быстров и в Козловке появился с комиссией. Прошли прямо к мельнице, вызвали Выжлецова. Тот появился незамедлительно. Тихонький, вежливый, нисколько не испуганный, чуть подергивая верхней губой, отчего его рыжие усики шевелились, как у таракашки, пронзительно сверля Степана Кузьмича голубыми внимательными глазками. — Чем могу служить? — Гражданин Выжлецов, откройте мельницу. — Не могу. — То есть как это не могу? — А очень просто, мне сейчас открывать мельницу не с руки. — А я вам приказываю. — А я не выполняю. — То есть как это? — А так. — Тогда объявляю вам решение комиссии: вашу мельницу, как незаконно нажитую, мы обобществляем, можете работать мельником, но мы назначим учетчика, и вы будете отчитываться за работу. — Не приму я никакого учетчика. Своей наглостью Выжлецов поставил Быстрова в тупик. — Позвольте разъяснить вам, Степан Кузьмич, что поступаете вы вопреки закону, — вежливо сказал Выжлецов. — Не знаю, читали вы или нет разъяснения гражданина Ульянова, а мы читали. Теперь налог, теперь нельзя действовать супротив крестьянства, теперь не позволят конфисковать ни мельницу, ни граммофон. В другое время Быстров зашелся бы в крике, а то и достал револьвер, стрельнул бы в воздух, но теперь действовала брошюра товарища Ленина. Выжлецов был спокоен, а Быстров накалялся, и Выжлецов явно ощущал свое превосходство. — Так вы, значит, против Советской власти? — еле сдерживаясь, холодно спросил Быстров. Выжлецов улыбнулся. — Ни в коем разе, мы только против обобществления. — Откроешь? — шипящим голосом спросил Быстров. — Если вы меня ударите, вас будут судить, — предупредил Выжлецов. — А ключей все равно не дам. Быстров повернулся к Коломянкину, председателю Козловского сельсовета, который тоже был в составе комиссии. — Савелий Яковлевич, неси сюда замок, получше и покрепче! Замок был принесен. Быстров запер мельницу на второй, на свой замок, да еще в придачу опечатал оба замка, сделал картонные бирки, продел бечевки, заклеил бумажками, припечатал бумажки печатью. — Теперь намертво, — сказал он Выжлецову. — Гербовая печать. За срыв государственной печати предание суду революционного трибунала. — Как угодно, — согласился Выжлецов. — Однако поимейте в виду, Степан Кузьмич, что на ваш трибунал у нас найдется управа покрепче. Опять же год назад Быстров показал бы Выжлецову, где раки зимуют, арестовал бы, посадил под замок, а сейчас не решился, дули другие ветры, партия требовала более справедливого отношения к крестьянам. Летом 1921 года брошюра Ленина «О продовольственном налоге» была распространена по всей стране, и не только определяла практическую деятельность партийных организаций, но и позволяла им заглядывать в будущее. Волисполкомы и сельсоветы готовились к взиманию налога, разница между продразверсткой и продналогом ощущалась еще недостаточно. Но если при изъятии продразверстки комсомольцы оказывали продотрядам помощь: раскапывали ямы, взвешивали найденное зерно, то при взимании налога такой помощи не требовалось, строгое соблюдение закона исключало всякую самодеятельность. Однако комсомольцы — вчерашние, а то и сегодняшние школьники — были в деревне наиболее грамотными людьми, и в чем, в чем, а в учете урожая и исчислении налога их помощь была незаменима. «Учет и контроль — вот главное, что требуется для налаживания, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества…» А они уже чувствовали себя живущими в коммунистическом обществе и поэтому в деле учета, — больше в деле учета, чем в деле контроля, — могли и оказывали посильную помощь своим старшим товарищам — коммунистам. В каждой ячейке Слава находил наиболее грамотных ребят, которые фактически превращались в учетчиков и счетоводов, а попутно становились агитаторами, объясняя своим отцам и дядьям, что уплата налога улучшит хозяйственное положение самих крестьян и обеспечит снабжение деревни промышленными товарами. Второй заботой комсомольских работников были школы. Хотя непосредственно школами руководил отдел народного образования, они тоже находились в сфере внимания комсомольских ячеек. Комсомольцы вслух читали ученикам газеты, только что изданные книги, проводили беседы и собрания и, учась, сами учили других. А жизнь тем временем шла своим чередом. Как-то незаметно и скучно приняли в партию Евгения Денисовича Зернова. Не принять было нельзя, он заведовал волнаробразом, надо было распространять партийное влияние на учителей, но и торжествовать особенно не приходилось. Шел уже не двадцатый, а двадцать первый год, война кончилась, человеку, вступившему в партию всего годом позже, не грозили ни мобилизация на фронт, ни борьба за хлеб в продотряде, митинговать можно было спокойнее, не рискуя получить пулю в спину. Стояла засуха, в жаркий июльский день коммунисты собрались поговорить о заготовке кормов. Быстров в который раз твердил о том, что овес надо поискать у кулаков, а Данилочкин наставлял всех не оставлять невыкошенными ни одну ложбину и ни один овраг. В конце собрания зачитали заявление Зернова, позвали дожидавшегося за дверью Евгения Денисовича. — Что еще можете добавить, товарищ Зернов? Он принялся повторять передовицу, напечатанную в «Орловской правде». Евгений Денисович принарядился по случаю вступления, на нем розовая шелковая рубашка и черный гарусный шнурочек вместо галстука, позволил себе такую вольность, и собравшиеся старались ее не замечать. — Как школы-то у вас? — спросил Данилочкин. — Обеспечите дровами? Евгений Денисович развел руками, снабжение школ дровами зависело от того, с какой строгостью будет разговаривать с председателями сельсоветов Данилочкин. Из десяти присутствующих шестеро голосовали «за», четверо воздержались. Событие это облегчало Зернову продвижение по службе, а те, кто его принимал, считали полезным вовлекать учителей в партию. Потом навалилась история с женитьбой Саплина. Свадьбу он сыграл мировую, но Славу не позвал, лишь недели две спустя дошли до Славы слухи о свадьбе. Саплин все реже и реже появлялся в волкомоле. — Дела, хлопочу, чтоб не обижали батраков, — отговаривался он. — В Журавце, в Туровце, в Каменке… А потом выяснилось, что он нигде не бывал, занят был своими делами. Мать оставил в Критове, а сам пошел во двор, в соседнюю волость, к самому что ни на есть стопроцентному кулаку Воскобойникову и, главное, венчался в церкви. Девка у Воскобойникова кровь с молоком, заглядишься, а тут еще отцово богатство… Нашел Саплин свое счастье. Недели через три после свадьбы встретились Ознобишин и Саплин в Барановке. Ознобишин приехал поговорить с ребятами по поводу предстоящего призыва в армию, а Саплин торговал там лошадь. Столкнулись нечаянно, в сельсовете, Ознобишин проверял списки призывников, а Саплин хотел расплатиться с владельцем коня при свидетелях. — Что ж ты? — А что я? — Мог бы невесту и в Критово привезти, мы бы ее перевоспитали. — А капитал псу под хвост? — Какие мы на тебя надежды возлагали! — Рассчитался я с комсомолом, мне тоже пожить хочется. — Он вдруг порозовел, застеснялся. — Приезжай в гости… А, Вячеслав Миколаич? Первачом угощу. Мы и тебе невесту найдем… Саплина вызвали на заседание волкомола. Он не явился. Исключили его заочно — «за измену комсомолу, за соблюдение религиозных обрядов, за связь с классовым врагом». А года через три Саплин похоронил тестя и сам стал кулаком, сам нанимал батраков, пил первач, с женой жил душа в душу, а еще через несколько лет его раскулачили, и по этапу он отбыл в Сибирь. 16 Дождь лил как из ведра, дороги тонули в грязи, но никакая непогода не могла задержать успенских коммунистов. «Всем членам и кандидатам РКП(б) Успенской волостной организации прибыть 19 октября 1921 г. в 2 часа дня в гор. Малоархангельск для прохождения чистки…» Все шестнадцать членов да еще двое кандидатов собрались рано утром в волисполкоме… Заболел было Быстров, завсобесом, Константин Филиппович, однофамилец Степана Кузьмича, но и за ним послали нарочного — ни дождь, ни болезнь не должны были воспрепятствовать выполнению партийного долга. Степан Кузьмич ехал вместе со всеми. Грешно было гнать Маруську по такой грязи, дорога размыта ливнем, поэтому на каждой подводе, кроме возчика, всего лишь по двое ездоков. Но к себе Степан Кузьмич Ознобишина не позвал — не то что недоволен Славой, но тот уже не воспринимает каждое замечание Быстрова как непреложную истину. — Что-то мало в тебе классовой ярости, — упрекнул недавно Быстров Славу, когда тот в ответ на требование Быстрова поэнергичнее теребить мужиков со сдачей хлеба сказал, что прошло время пугать мужиков окриками и обысками. Быстров взял к себе Еремеева, Славу же посадил в свою телегу Данилочкин. — Прячься под брезент, парень, — рассудительно сказал он. Предусмотрительный Данилочкин захватил огромное полотнище брезента и устроил над телегой навес, какие делают на своих повозках цыгане. В пути Быстров с Еремеевым то и дело поторапливали отстающих, и всю дорогу Данилочкин брюзжал: — Скачут сломя голову как на войну, тише едешь — дальше будешь. Быстров и Еремеев всю дорогу сидели на грядках телеги, показывая, что дождь им не страшен, и так промокли, что вместо укома пришлось искать пристанище, чтобы обсушиться. Успенские коммунисты не знали за собой серьезных грехов, почти все вступили в партию в трудные дни, но когда тебя призывают к ответу, каждому в пору заглянуть в глаза своей совести. Да и чем черт не шутит, смотришь на себя сквозь розовые очки, а окружающие видят тебя таким, какой ты на самом деле. Ввалился Данилочкин в канцелярию. У стола худой небритый мужчина. Слава не помнил его фамилию, но в лицо знал — заведующий учетом. — Откуда? — Из Успенского. — Где только вы пропадаете? Вас ко скольким призывали? К двум? — Дождь… — Не любовное свидание, дождь дождем, а дело делом, Семин заждался вас. — А при чем тут Семин? — удивился Данилочкин. — Проходит чистку вместе с вашей организацией, у нас он всего два месяца. Семина только назвали, а он уже тут как тут, в новой кожаной куртке. Окинул испытующим взглядом Данилочкина и Славу. — Василию Семеновичу! — Василию Тихоновичу! Со Славой поздоровался свысока: — Здравствуй, Ознобишин. Чем-то он изменился, все такой же сдержанный, молчаливый, внимательный, но и какой-то отчужденный. — А где же остальные? — с легким раздражением спросил заведующий учетом. — Сейчас будут, только грязь счистят. — Чистить их будут здесь, — мрачно пошутил заведующий учетом. — Вы еще не знаете Неклюдова! Неклюдов — председатель комиссии по чистке, в губкоме заведует отделом пропаганды и агитации, из губкома же заведующая женотделом Петрова и от укома Шабунин. Заведующий учетом пошел доложить о приезде коммунистов из Успенского. — И я с вами, — сказал Семин, проходя вместе с ним в кабинет. — Хм, каков! — хмыкнул Данилочкин. — Без году неделю здесь, а уже свой… Выглянул из двери Шабунин, поманил Данилочкина. — Заходи, заходи, не теряй времени. Данилочкин растерялся, не думал, что начнут с него, обдернул китель, решительно шагнул в кабинет. Заведующий учетом вернулся в приемную, а минуту спустя показался и Семин. Тем временем пришли остальные. Быстров поинтересовался: — А где Данилочкин? — Там. Быстров даже растерялся! — Думал, начнут с меня. Он считал себя более других ответственным за деятельность волостной организации, да так оно и было на самом деле. — А кто там, в комиссии? — поинтересовался Давыдов, председатель Протасовского сельсовета. Ответил Семин: — Из губкома Неклюдов и Петрова и Шабунин от нас. — А он — не очень? Давыдов недоговорил, но все поняли — не очень ли строг Неклюдов. — Только держись! — ответил Быстров вместо Семина. — Обязательно спросит, читаешь ли газеты… — Он в упор посмотрел на Давыдова. — А ты их не читаешь. Вот он и попросит тебя… — Партия не читальня, — возразил Еремеев. — Солдата не спрашивают, умеет ли он читать, а умеет ли он стрелять. — Однако в партии невеждам тоже не место, — неожиданно вмешался Зернов. — Куда стрелять, тоже надо понимать. — Вот так и шпарь перед Неклюдовым, — одобрил Степан Кузьмич. — Такой же книжник, как и ты. Он даже книжку написал — «Пособие для руководителей политкружков». Тут появился Данилочкин, на лбу поблескивают капли пота. — Потеешь? — посочувствовал Еремеев. — Здорово пропесочили? Данилочкин только рукой махнул. — Газеты надо читать, — насмешливо повторил Быстров. — А ты небось ни в зуб. — Какие там газеты, все больше о самогоне. — Как борешься с самогонщиками? — Сколько сам потребляю… Позвали Зернова. Не в пример Данилочкину, его держали недолго. — Все в порядке, — ответил он на молчаливый вопрос ожидающих. — Ни о газетах, ни о самогонке. Спросили, как работают школы, о моих отношениях с учителями. Приглашают Ознобишина. Никогда не знаешь, когда придет твой черед! Слава пригладил рукой волосы, улыбнулся, вошел в кабинет. За письменным столом Шабунина Неклюдов, строгий, бледный, с прилизанными волосами, в пиджачке, при галстуке, а Шабунин и Петрова, повязанная старушечьей коричневой косынкой, устроились у окна. — Секретарь волкома в Успенском, — представил Шабунин вошедшего. — Вступил в комсомол еще до прихода белых. Неклюдов внимательно рассматривал Ознобишина. — Сколько вам лет? — Шестнадцать. — А кто ваши родители? Этот вопрос задавали Славе еще год назад… Те же слова, но какая разница! Доброжелательность и утверждение в одном случае, отрицание и недоверие в другом. — Педагоги, — сказал Слава. — А где сейчас ваш отец? — спросил Неклюдов. — Убит. — Кем? Где? — На войне, — сказал Слава. — Убит в четырнадцатом году, — добавил Шабунин. — На германском фронте. — А мать? — Мать учительствует в Успенском, — опять ответил Шабунин вместо Славы. Неклюдов откинулся на стуле и прищурился, продолжая с недоверием смотреть на Ознобишина. — Вы интеллигент? Это был, как показалось Славе, каверзный вопрос, и он промолчал, не ответил. — Ладно, — сказал Неклюдов. — А как вы считаете, способны ли вы руководить нашей молодежью? Пытаясь определить степень политической подготовки Ознобишина, он спрашивал: почему произошел раскол на большевиков и меньшевиков, какие споры велись по поводу Брестского мира, чем вызвана замена разверстки натуральным налогом… Слава ответил на все его вопросы. — А откуда вы все это знаете? — придирчиво поинтересовался Неклюдов. — Из газет, — отвечал Слава. — Другие коммунисты рассказывали. Тогда Неклюдов спросил Ознобишина, что ему известно о совещании двадцати двух большевиков. Этого Ознобишин не знал. На помощь пришла Петрова. Быстров как-то рассказывал Славе о ней: в партию вступила еще в подполье, участница гражданской войны. — Это вы приезжали к Землячке в Отраду? — задала она вопрос. — Вы это о чем? — поинтересовался Неклюдов. — О том, как Ознобишин пробрался через тылы белых в политотдел. — А вам откуда об этом известно? — Сама Землячка рассказывала. Является мальчик, привез документы… Неклюдов с любопытством взглянул на Славу. — Было так? — Так, так, — вмешался Шабунин. — Даже больше. Петрова укоризненно взглянула на Неклюдова: — По-моему, хватит. — Хватит, хватит, — поддержал Шабунин. — Наш парень. Неклюдов медлил, Слава чувствовал — не нравится он чем-то Неклюдову. — А с работой как, справляетесь? — Справляется, — уже сердито сказал Шабунин. — Уком доволен им. — Что ж, у меня больше вопросов нет, — закончил Неклюдов. — Переведем в кандидаты, пусть поучится, а дальше посмотрим. — Зачем переводить? — удивился Шабунин. — Он у нас по всем статьям… — Молод еще, — объяснил Неклюдов и даже упрекнул Шабунина: — Этак вы десятилетних детей начнете принимать в партию. — Не согласен, — сказал Шабунин. — Парень прошел испытание… — Да испытания он как раз и не прошел, — возразил Неклюдов. — Приняли без кандидатского стажа, прямое нарушение Устава. — Он сквозь деникинские тылы прошел, — запротестовал Шабунин. — Ну, это в войну, — отвечал Неклюдов. — А сейчас посложнее время, мягкотелости в нем много, мне у вас же в укоме говорили, было какое-то письмо. Ознобишин ваш весной на посевной зерно всем подряд давал, пожалел кулаков… — Успели доложить? — Шабунин покачал головой. — Так, да не так. Он не кулаков пожалел, а детей. Отцы их действительно ушли к белым, не пожалели детей, бросили на произвол судьбы, а Ознобишин политическую дальновидность проявил, дети те не забудут, чем они Советской власти обязаны, потому мы и оставили то письмо без внимания. — Нет, я бы перевел в кандидаты, — настаивал Неклюдов и обратился за поддержкой к Петровой: — А вы что скажете? Петрова пожала плечами. — Молод, конечно, но… — Впрочем, давайте-ка спросим его самого… — Неклюдов повернулся к Ознобишину. — А что скажешь ты сам? Однако спрашивать Славу было излишне. Он стоял, вдавившись спиной в стену, и плакал. Он был уверен, что ни у кого даже вопроса не возникнет, достоин ли он находиться в партии. — Видите? — как будто даже обрадовался Неклюдов. — Эти слезы характеризуют его лучше всего. Ребенок! Решается серьезный вопрос, а он плачет, точно у него отнимают игрушку. Петрова укоризненно покачала головой. — Товарищ Ознобишин, как можно… Даже Шабунин с неодобрением посмотрел на Славу. — Вот что, — раздраженно сказал он. — Ты иди, мы тут посоветуемся… Слава хотел сказать, что они не правы, но не мог. — Иди, иди, — повторил Шабунин. — Нельзя так распускаться. Изможденное лицо Неклюдова не выражало никакого сочувствия. Слава бросился к двери. Он был так бледен, что всем в приемной стало очевидно, что с ним стряслась беда. Еремеев не выдержал, спросил: — Исключили? Комок в горле мешал Славе заговорить, ответил за него Семин: — Зря это он, перевели в кандидаты. Он все знал, хоть и не был в кабинете. — Да не расстраивайся ты, — утешил Славу Быстров. — Через полгода снова переведем в члены… Тут в приемную вышел Шабунин, встал перед Ознобишиным и, как показалось Славе, насмешливо покачал головой. — Разнюнился? — сказал он Славе. — Какой же ты после этого мужчина? Вот что, товарищи, — обратился Шабунин уже ко всем. — Закончим с вами, и можете ехать, одному Ознобишину придется задержаться часа на три, вопрос о нем перенесли на заседание укома, пусть останется кто-нибудь с подводой, чтобы захватить Ознобишина… Часа не прошло, как отпустили всех, исключенных не было, даже в кандидаты никого больше не перевели, а дожидаться Ознобишина остался один Быстров. — Сходите в чайную, что ли, — посоветовал Быстрову заведующий учетом. — Уком не скоро еще… Единственная в городе столовая работала на полукоммерческих началах, приезжим подавали чай, котлеты, яичницу и даже торговали дрянным винцом, которое завозили раза два в месяц из Орла. Степан Кузьмич спросил себе, разумеется, винца, а Славе заказал и котлет, и яичницу. — Ешь, ешь, не теряйся, через три месяца переведем обратно… — Заседают, — сообщил заведующий учетом, когда Быстров и Слава вернулись в уком, и повел головой в сторону Ознобишина. — Обсуждают. — Ему-то войти? — осведомился Быстров. — Не вызывали… Вскоре в приемную опять вышел Шабунин. — Ждете? — обратился он к Быстрову, точно дело нисколько не касалось Ознобишина. — Отстояли твоего питомца. Слава внимательно рассматривал Шабунина. Худой, поджарый, строгий. Разумеется, строгий. Весь уезд его боится. Никогда не кричит, а боятся. Интересно, меняет он когда-нибудь свою гимнастерку? А может, у него нет ничего на смену? Степан Кузьмич очень уважает Афанасия Петровича. И Слава его уважает… — Степан Кузьмич, забирай парня. Только я думаю, что скоро, очень даже скоро придется товарищу Ознобишину перебираться к нам в Малоархангельск. 17 Это было как подъем на вершину горы. Такое ощущение осталось у Славы Ознобишина, да и не у него одного, после уездной комсомольской конференции. Он выступал на конференции дважды, Шабунин, вызвав Славу к себе накануне, прямо сказал ему: «Ты побольше, побольше выступай, покажи себя молодежи». Когда работа конференции шла к концу, в зале появился Шабунин. Все понимали, что секретарю укома Донцову пора с комсомольской работы уходить, он уже более полутора лет стоял во главе уездного комитета, а по тем быстродвижущимся временам это был громадный срок; кто говорил, что Донцов переходит в систему народного просвещения, кто — что едет продолжать образование, но главная причина заключалась в том, что Донцову шел уже двадцать третий год, он женился, какой он деятель молодежного движения с семейством… Шабунин намеревался сказать, что Ознобишина рекомендует уездный комитет партии, но его имя выкрикнули в разных концах зала. Выбрали Железнова, уравновешенного и серьезного парня. Шабунин намечал его в заместители Ознобишину, рассчитывая, что он будет сдерживать горячего Ознобишина; Никиту Ушакова, юношу, казавшегося интеллигентом, хотя во всем уезде не было более бедной крестьянской семьи, чем семья Ушакова; выбрали Колю Иванова, в преданности которого партии нельзя было усомниться, и выбрали Соснякова. Пришел Шабунин и на первое заседание укома, но пленум укомола и без подсказки избрал именно тех, кого намечал уездный комитет партии. — А теперь, — сказал Шабунин Славе после заседания укомола, — одна нога здесь, а другая там, отправляйся в Успенское. Сдавай дела и обратно. Теперь твое время не принадлежит тебе самому. Быстрая поездка Славе была обеспечена: в Успенское ехал уездный военный комиссар. О таком выезде, какой был у военкома, на конном дворе уездного исполкома, вероятно, и не мечтали: пара караковых рысаков и пролетка на мягких рессорах. — Ну-с, молодой человек, — сказал военком, — доставлю вас туда и сюда в сохранности, но времени на все дела — один день! Расстояние в сорок верст они пролетели, и всю дорогу военком распевал романс об отцветших хризантемах. — На военную службу не хочешь? — один раз только за всю дорогу обратился военком к Ознобишину. — Избавлю от Малоархангельска в момент, откомандирую в военное училище… Но Слава избавляться от Малоархангельска не хотел. Военком остановил коней перед волисполкомом. — Прошу. Слава побежал домой, застал Веру Васильевну за стиркой. — Как ты долго! — Мамочка, всего на пару часов! — Когда же кончится эта спешка? — Уезжаю в Малоархангельск. — Опять? — Не опять, а насовсем. — Как насовсем? — Уезжаю туда работать! — Как так? Ни посоветовавшись, ничего не взвесив… — Мамочка, я подчиняюсь решению партии! Не прошло и часа, как собрали заседание волкомола, следовало избрать секретаря вместо Славы. Он предпочел бы, конечно, чтобы его сменил Моисеев, но было очевидно, что Ознобишина сменит Сосняков, и Слава сам предложил избрать Соснякова секретарем волкомола. — Думаю, Иван справится со своими обязанностями. Сосняков вызывающе переспросил: — Думаешь? — Да, думаю, — сказал Слава, делая вид, что не замечает иронии Соснякова. — Ну думай, думай… А еще через час Ознобишин сдавал Соснякову дела. — Печать. Учетные карточки. Протоколы. Планы… Сосняков не торопясь перелистывал дела, точно Ознобишин мог недодать ему какой-нибудь протокол. — Здесь тетради, карандаши… — Ты от кого получаешь канцелярские принадлежности? — От Дмитрия Фомича. Сосняков задумчиво повертел между пальцами цветной красно-синий карандаш. — Сколько ты получил в этом году цветных карандашей? — Пять. — А где же два? — Исписал, — сердито ответил Слава. — Что еще? — Керосин… Волкомол уже давно перестал распределять керосин, культурно-просветительные учреждения снабжались керосином через потребиловку, и волкомол получал керосин наравне с другими. — Керосин в бачке, у Григория. Сосняков сходил взглянуть и на керосин. Он не спешил, а Слава, наоборот, торопился, все меньше времени оставалось у Славы на то, чтобы побыть с матерью, а надо было еще проститься с Петей, с Иваном Фомичом и даже с сестрами Тарховыми. Однако и придирчивость Соснякова исчерпалась, отпустил он Славу: — Ладно, иди прощайся со своей буржуазией. Всех, кто занимался умственным трудом, Сосняков подозревал в буржуазности. Забежал в исполком, распрощался с Дмитрием Фомичом, с Данилочкиным. Данилочкин добродушно пошутил: — Улетаешь-таки? — А где Степан Кузьмич? Дмитрий Фомич недовольно поморщился, точно у него заболел зуб. — Ищи ветра в поле! Сами подчас ищем, узнаем, в Бахтеевке, пошлем, а он уже в Туровце… Побаивался Слава встречи с Быстровым, вряд ли тот одобрит переезд в Малоархангельск. Уходя, столкнулся в дверях с Иваном Фомичом. — Уезжаю, Иван Фомич. — Далеко? — В Малоархангельск! — А я возлагал на вас другие надежды… — Мама тоже упрекает меня, — сказал Слава. — Но ведь должен кто-то работать? — Мы все зависим не только от себя, — согласился Иван Фомич. — Но кое в чем и от себя. Впрочем, вас ведь не разубедишь! Он все-таки заставлял задумываться, этот учитель! Слава медленно побрел домой. Его не покидало ощущение, что кого-то он все-таки забыл… А тот, кого он забыл, сам напомнил о себе. Подойдя к дому, Слава услышал хриплый лай Бобки… Вот кого он забыл! Такой верный, такой хороший пес! Не со всеми хороший, но со Славой пес дружил, запомнил, как Слава спас его от белогвардейской пули. Слава свернул в проулок. Бобка стоял, натянув цепь, увидев Славу, сразу затряс обрубком хвоста. — Уезжаю, — сказал Слава. — Пришел проститься. Теперь не скоро увидимся… Дорожный мамин сундук был выдвинут на середину комнаты. Сундук этот, сделанный из просмоленной парусины и обтянутый внутри полосатым тиком, мама успела отправить в деревню с Федором Федоровичем еще до своего отъезда из Москвы и потом время от времени извлекала из него разные нужные и ненужные вещи. Похоже, мама всплакнула. — Значит, уезжаешь? — спросила она печально. — А Ивана Фомича ты видел? Мама склонилась над сундуком. — Рано ты покидаешь нас с Петей, — не удержалась, упрекнула она Славу, доставая откуда-то со дна сундука порыжевший кожаный портфель с ремнями и металлическими застежками. — Возьми, — сказала она сыну. — Портфель твоего отца. Ты уходишь в большой мир. Раньше, чем я ожидала. Так будь таким же честным, как твой отец. Перед собой. Передо мной. Перед людьми, которым ты собираешься служить. Считай, это благословение твоего отца… Все-таки мама заплакала, слезинки покатились по нежным маминым щекам, и такая немыслимая боль пронзила сердце Славы, что он не в силах был произнести перед матерью никакой клятвы, никакого обещания, даже просто сказать хоть какое-нибудь ласковое слово. 18 Покуда Ознобишин поднимался, Быстров стремительно катился под гору. Только Славе некогда было оглядываться, наскоро сдав дела и толком не попрощавшись с матерью, он с немудреным своим скарбом и с отцовским портфелем в руках мчался в Малоархангельск. А Шабунин тем временем торопился в Успенское. Они со Славой разминулись в пути, и Афанасий Петрович был доволен, что разминулись, ехал он в Успенское по неприятному делу — снимать с работы Быстрова. Быстров еще воображал себя громовержцем, а мужики перестали бояться Быстрова. Хоть и божья гроза, да появился громоотвод. Степан Кузьмич с понятыми появлялся во дворе у какого-нибудь богатея, объявлял, что пришел с обыском, ан не тут-то было, хозяин не спешил отомкнуть замок на амбаре и ворота в хлев припирал колом, требовал присутствия милиции, требовал ордера на обыск, требовал составить протокол на предмет взлома и слома… А Жильцов Василий Созонтыч, кулак из кулаков, когда к нему пришли, тот и вовсе припер изнутри ворота: не пущу, говорит, стреляйте, а не пущу, а ворвется кто — так прямо на вилы! Пришлось отступить, и пока Быстров обсуждал в сельсовете, как справиться с Жильцовым, тот верхом на лошади слетал на станцию в Залегощь и отбил телеграмму в Москву, да не куда-нибудь там в Наркомпрод или Наркомзем, а самому Ленину: «Грабят!» И что ж, двух суток не прошло, как в Успенское прикатил Шабунин. Собрал коммунистов, всю волостную ячейку, и коротко и ясно: — Уездный комитет партии отстраняет товарища Быстрова от обязанностей предволисполкома. Вот и все, товарищ Быстров, не годитесь вы на сегодняшний момент бороться за интересы пролетарской революции! — Прошу вас, товарищи, подумать, кого бы вы предложили на его место… Коммунисты избрали Данилочкина. Он спокойно согласился стать председателем волисполкома. — А вы, товарищ Быстров, приедете в субботу на заседание укомпарта, — сказал в заключение Шабунин. — Всем остальным товарищам передаю это как директиву уездного комитета партии, предлагаю еще и еще раз прочесть брошюру товарища Ленина о продналоге. Вот он и вернулся на круги своя… Грустно на душе у Быстрова, но нет в этой грусти ни безнадежности, ни отчаяния. Он чувствует себя как подбитый орел. В Рагозине над ним, он замечал, потешаются, но не в открытую, исподтишка, и подбитый орел опасен, клюнет и выдерет клок мяса, лучше не дразнить, не связываться, но сам Быстров понимал, что он подбитая птица. Где-то в душе еще теплилась надежда, что вернется, вернется обратно то великолепное время, когда не существовало никакой середины — красное или белое, красное или черное, — пролетарий, на коня! — и руби, коли, только не давай врагу никакой пощады! А теперь не поймешь, кто друг и кто враг. Шабунин был верным другом, а вот поди ж ты, не кто другой, а Шабунин угрожает Быстрову исключением из партии. — Что, я был плохим коммунистом? — Хорошим. — Не отдавал всего себя служению революции? — Отдавал. — Так чем же я теперь плох? — Тем, что не умеешь смотреть в завтрашний день. — Так в вашем завтрашнем дне я вижу, как буржуи возвращаются к власти. — Потому тебе и нет места в нашем завтрашнем дне, что видишь ты в нем буржуев. — А лавки? А нэпачи? А торговцы? — Завтра их не будет. — Воображаете, что они будут работать на революцию? — Уже работают. Не хотят, а работают. Сами себе могилу копают. — Как бы в эту могилу вам самим не попасть! — Такие, как ты, кто мечется без пути, могут попасть. — А кто знает путь? — Ленин. — Я на Ленина молился! — Надо не молиться, а учиться… Не один раз разговаривал Шабунин с Быстровым, не жалел времени, но Быстров все видел сквозь красный туман сражений и казней. Введение продналога он считал изменой пролетариату. Что еще за соглашение? Что за уступки мужику? Заставить посеять хлеб и отобрать. Сеять и отбирать! Оставить на прожитие по числу едоков, а все, что сверх, отобрать! Мужикам суждена гибель, так и Маркс говорит. Ленин шел за Марксом, а теперь чего-то не туда своротил, заигрывает с мужиками, эсеровскую программу перенимает… — Ты дурак, — беззлобно сказал Шабунин. — Ничего-то ты не понял. Не один ты такой, есть и похлеще тебя горлопаны. Вам вынь да положь сразу мировую революцию, да только так история не делается. Считаете, партия отступила? Что Ленин переосторожничал? А того не понимаете, что никакого отступления нет и не будет. Это же Россия. Ты сам мужик. Это же крестьянская страна. Пройдет десять лет, двадцать, и от тех мужиков, которых ты знаешь, действительно ничего не останется, эти самые мужики, которых ты презираешь, станут такими же участниками нашего коллективного труда, какими на сегодняшний день являются у нас рабочие… — С помощью нэпманов? — закричал Быстров. — С помощью недорезанных буржуев? — Да, с помощью нэпманов, — невозмутимо возразил Шабунин. — Из тех, кого недорезали, мы тоже людей сделаем… Быстров уехал к себе в волость, продолжал носиться по деревням, выгребать остатки хлеба… Но это, как говорится, была последняя вспышка костра перед тем, как погаснуть. Данилочкин внимательно следил за передвижениями Быстрова по волости, и когда одним ноябрьским утром в исполком примчался гонец с известием о том, что Степан Кузьмич прибыл в Протасово в поисках хлеба, Данилочкин тотчас отрядил туда милиционеров. — Товарищ Быстров, потому как срочно требуют вас в волисполком… Встретились они с Данилочкиным вполне дружелюбно. — Покуражился, Степан Кузьмич, и будя. — Что ж, Василий Семенович, принимай власть, только как бы мужики не обкусали тебе втихую все пальцы. Он сдал дела, кликнул Григория: — Запрягай Маруську. Данилочкин крякнул, почесал за ухом. — Лошаденка-то ведь казенная, Степан Кузьмич. — Что ж, прикажешь мне пешком до Рагозина идти? — Зачем пешком, мы тебе подводу занарядим. — А Маруську куда? — Маруську приказано в Моховое отправить. Ничего больше не сказал Степан Кузьмич, утрата Маруськи для него, пожалуй, не меньшая беда, чем потеря жены, но он не стал спорить, пожал руку Василию Семеновичу, Дмитрию Фомичу, еще кому-то, кто попался ему на глаза, и пошел прочь из здания, в котором всего несколько дней назад был полным хозяином. Степан Кузьмич отправился в свою деревню… А куда ж ему еще деваться? Все-таки в Рагозине дети, которых он не так-то часто навещал, жена, хоть и брошенная ради другой, прекрасной женщины… Никто не радовался так падению Степана Кузьмича, как его законная и верная супруга Елена Константиновна Быстрова, хотя кулаки тоже встретили весть о снятии Быстрова с облегчением — Быстров никого не обижал сильнее, чем свою жену и местных корсунских и рагозинских кулаков, разница заключалась лишь в том, что жена по-прежнему любила Степана Кузьмича горькой бабьей любовью, а кулаки ненавидели. Куда ж еще было ему податься? И вот живет Степан Кузьмич в своем Рагозине, как обыкновенный рагозинский мужик, хочешь — паши и сей наравне со всеми соседями, а не хочешь — подавайся обратно в Донбасс, вставай в ряды победоносного пролетариата. 19 Съезды съездами, речи речами, но для того, чтоб могли состояться съезды и речи, надо каждый день, каждый божий день разговаривать со множеством людей, писать множество бумаг, интересоваться, как работают школы и клубы, как, кто и где учится, как работают и отдыхают тысячи сверстников Ознобишина. Железнова, Ушакова, короче, думать обо всем и обо всех, и не только думать, но и претворять свои мысли в повседневные практические дела. Уездные учреждения разместились в бывших купеческих особняках, купцы в Малоархангельске не были особо богаты, все больше прасолы и перекупщики, поэтому и дома их не отличались роскошью. Но под учреждения уездного масштаба они годились вполне. Начальство жило в мещанских домишках, две комнаты занимал председатель исполкома Баранов, в одной комнате ютились секретарь укомпарта Шабунин и его жена, один купеческий особняк отвели под общежитие комсомольских работников. Наверху, в одной половине, зал с прилегающей к нему узкой комнатой в одно окно и кухня с русской печью, в другой половине три светелки, и внизу, в полуподвальном помещении, еще несколько не то комнат, не то кладовок. Постоянной обитательницей этих хором была некая Эмма Артуровна, обрусевшая немка из остзейских провинций, закинутая в Малоархангельск волнами непостижимых для нее событий. Бывший владелец дома, прасол Евстигнеев, взял ее к себе в экономки. Он покинул город еще на первом году революции, а Эмма Артуровна осталась. Она чувствовала себя в доме хозяйкой, и хотя никто ее не нанимал и никуда не зачислял, она приняла на себя обязанности коменданта, расселяла по комнатам часто менявшихся жильцов, вела их несложное хозяйство и добывала в исполкоме дрова. Узкую комнату она отвела Ознобишину, в этой комнате квартировали все секретари, в другой половине, где жила сама, поселила Иванова и Железнова, а в нижнем этаже расположились другие, менее, так сказать, ответственные работники, и среди них лишь одна Франя Вержбловская вызывала у Славы неприязнь, не мог он простить ей измену Сереже. Из руководителей укомола один Ушаков жил вместе с матерью в деревне, всего в полутора верстах от города. Обитатели общежития сдавали свои пайки Эмме Артуровне, она и готовила им обед, поэтому в первую половину месяца сыты были все, а во вторую только одна Эмма Артуровна. Рабочий день начинался со светом и продолжался допоздна, семьями не обзаводились, почти все свое время комсомольские работники проводили в городе или в разъездах, днем питались всухомятку, а перед сном обедали, ели суп и кашу, сваренные Эммой Артуровной еще с утра. Как это и свойственно педантичной немке, Эмма весьма уважала субординацию, поставила в комнату Славы лучшую кровать и единственный в доме мягкий стул, она даже принесла Славе утром кофе — морковный кофе, но он гордо отказался. В первые дни Шабунин часто беседовал с Ознобишиным. — Как ты там? Чем занимаетесь? Надо побольше ездить по уезду. Общаясь с людьми, всегда найдешь правильное решение. Почаще забегай! Советы свои он не навязывал, но ими невозможно было пренебречь, столько в них содержалось здравого смысла и целенаправленности. Как-то Славу позвали вниз, в укомпарт, к телефону, звонил Семин. — Ознобишин, зайди-ка побыстрее в ЧК. — А что случилось? — Придешь, узнаешь. Слава заторопился, в ЧК зря не зовут. ЧК находилась рядом с аптекой. Кирпичный особнячок в три окна, до революции жил в нем исправник. Дверь заперта. Слава постучал. Открыла дверь девица с подстриженной челкой и в шинели. — Вы что некультурно стучите? Звонка не видите? Вам кого? — Семина. — Он вас что, вызывал? — Что за бюрократизм? — рассердился Слава. — Ты-то чего допрашиваешь? Девица отступила от двери, Слава повысил голос, значит, имел на то право. — Пройдите. Комната, в которой помещался Семин, выглядела какой-то необжитой. Семин сидел за круглым, прежде обеденным столом, справа от стола сейф и слева сейф, несколько табуреток. Сам Семин все такой же розовый и даже более гладкий, чем в Успенском. — Что ж долго? — упрекнул он Славу. — А что случилось? — Не торопись, всему свое время, — остановил его Семин и покровительственно осведомился: — Ну, как ты там у себя? — Нормально, — сказал Слава. — Но все-таки что случилось? — Ничего, — сказал Семин. — Ничего не случилось. — Зачем же я понадобился? — Так положено, — многозначительно сказал Семин. — Ты теперь в номенклатуре, и я должен кое-что тебе выдать. Не поднимаясь с табуретки, он отпер сплющенным ключом один из сейфов. — Получай. — Что это? — Средство самозащиты и даже нападения при столкновениях с классовым врагом. Он положил перед Славой тяжелый револьвер с большим вращающимся барабаном. — И четырнадцать патронов к нему. — Что это? — переспросил Слава с некоторым даже испугом. — Зачем это мне? — Наган, браунингов и маузеров у нас сейчас нет, — объяснил Семин. — Пиши расписку и получай вместе с разрешением на право ношения оружия. — А куда же его? — растерянно спросил Слава. — Носи в кармане, кобуры у меня тоже нет, — деловито сказал Семин. — Достанешь где-нибудь. Так Слава Ознобишин стал обладателем здоровенного нагана, какими пользовались в царское время полицейские и который теперь полагалось ему носить на случай столкновения с классовыми врагами. Шла вторая неделя жизни Славы в Малоархангельске, когда Шабунин с утра вызвал к себе Ознобишина. — Еду в Куракино на весь день, неспокойно там, а ты занимай мой кабинет и звони по телефону. — Кому? — У тебя что, дел в волостях нету? Учись руководить людьми. Телефоны только еще появились в Малоархангельске. Не хватало ни проводов, ни аппаратов. На первых порах аппараты поставили лишь в отделах исполкома, в военкомате, в милиции да связали укомпарт с волостными комитетами. До комсомола очередь не дошла, и укомол руководил местными организациями посредством личного общения и переписки. Ознобишин сперва не понял Шабунина. — Обойдемся, Афанасий Петрович, без телефона, зачем беспокоить волкомпарты? Шабунин укоризненно поглядел на Ознобишина. — А ты подумай. Если звонят из укомпарта, если вам доверили телефон, растет ваш авторитет? Привлекает внимание волкомпартов к комсомольским делам? Позвал Селиверстова, заведовавшего в укомпарте канцелярией, помощника Шабунина. — Ознобишин посидит у меня в кабинете, пусть пользуется телефоном… Слава чувствует, как вырос он в глазах Селиверстова. И вот Слава в кабинете секретаря уездного комитета партии. Невелика комната, скромно ее убранство. Письменный стол из мореного дуба на львиных ножках, привезенный сюда из чьего-то поместья. К нему приставлен расшатанный канцелярский стол. Десяток венских стульев. Вешалка у двери. А ведь именно отсюда осуществляет Коммунистическая партия руководство уездом, здесь обсуждаются самые важные вопросы и принимаются самые ответственные решения. Слава садится за стол Шабунина. Перед его глазами во всю стену висит карта уезда. Слава не чувствует себя на своем месте. Однако Афанасий Петрович советовал пользоваться телефоном. Снимает трубку, приставляет к уху. Молчание. Слава кладет трубку на рычаг и снова снимает. Молчание. Слава не умеет разговаривать по телефону. Рассматривает аппарат. Сбоку какая-то ручка. Если покрутить? И неожиданно слышит: «Станция». Слава теряется. И снова нетерпеливее: «Станция». — Мне… мне Скарятинскую волость… Скарятинский волком, — говорит Слава. — Соединяю, — отвечает «станция». Слава слышит далекий напряженный голос. — Кто это? — испуганно спрашивает Слава. — Иноземцев. Иноземцев — секретарь Скарятинского волостного комитета партии… Чудо! Слава берет себя в руки. — Товарищ Иноземцев, говорит секретарь укомола Ознобишин. Позовите, пожалуйста, секретаря волкомола Чечулина. — Ванька, ты? Чудеса техники, да и только! Ну, как ты там? — Слово в слово повторяет он вопрос Шабунина, всего час назад обращенный к нему самому, тут же вспоминает, что Чечулин так и не сообщил, сумел ли волкомол заставить кулаков рассчитаться с батраками, в Скарятине взято на учет много молодых батраков, и уже сердито кричит: — Что вы там прохлаждаетесь?! Если не обеспечите ребятам нормальные условия, вызовем тебя в укомол… Чечулин оправдывается, уверяет, что кулаки рассчитаются в ближайшие дни, а Слава с каждой минутой становится все снисходительнее — сказочно удобно руководить далеким Скарятином по телефону. Он звонит в Колпну, в Покровское… В кабинет никто не заходит. Все, вероятно, осведомлены об отсутствии Шабунина. Все чаще и чаще Слава поглядывает на карту. Такой карты нет больше ни у кого в Малоархангельске. Вот он, Малоархангельский уезд, за который Слава отвечает теперь не меньше, чем Шабунин. Слава подходит к карте. Многие деревни и села он знает только понаслышке. Хорошо он знает только Успенскую волость да дорогу от Успенского до Малоархангельска. А теперь ему предстоит побывать везде. Ну, если и не везде, то во многих, во многих местах. На карте обозначены леса и реки, дороги, пруды, погосты, и теперь до всех этих мест ему дело. Перед ним Россия, со всеми своими радостями и бедами, урожаями и недородами, со всем тем, что заполняет жизнь живущих в этих местах людей. Малоархангельск, Орел, Кромы, Ливны… Несколько веков назад — окраинные земли Российского государства. Здесь казаки и станичники оберегали русскую землю от вражеских воинов. Здесь боярские дети ездили по степи, высматривая появление иноземцев. Здесь до заморозков жгли в полях траву, чтоб на многие версты открывалась бескрайняя степь. Здесь вдоль логов и оврагов, в разделах и балках возникали деревушки… Глаза Славы перебегают от названия к названию… Бог ты мой! Сучья плота, Гнилая плота, Черемуховая плота, Васильева плота, Дальняя плота… Разве их все запомнишь? А запомнить надо обязательно! А сколько колодезей! Пьяный колодезь, Ясный колодезь, Долгий колодезь, Доробин колодезь, Копаный колодезь, Упалый колодезь, Вошеватый колодезь… Что ни колодезь, то деревня. А всяким Выселкам и числа нет… И все это его Колодези и Выселки, здесь он призван служить людям, собирать с ними невиданные урожаи и читать нечитаные книги… И ему вдруг захотелось наверх, к своим сверстникам, к товарищам по укомолу, вместе с которыми он должен делать жизнь в этих Колодезях и Выселках… Слава еще раз взглянул на карту и вышел в канцелярию. — Пойду в мезонин, к ребятам, — объяснил он Селиверстову. — С ними мне как-то сподручнее. — Давно пора, — хмыкнул Селиверстов ему вслед. — Нечего занимать чужой кабинет. 20 Ни звезд, ни всполохов, ни даже теней за окном, сплошная темнота. И сам Слава точно в безвоздушном пространстве. Ощущение безнадежности осветило его. Ни проблеска надежды на что-нибудь хорошее. Он выполз из-под одеяла, ощупью нашел выключатель, вспыхнула под потолком тусклая лампочка, и Слава увидел за столом Быстрова. Быстрова не могло быть, и его не было, и тем не менее он сидел за столом и смотрел на Славу. Такое ужасное у него сегодня лицо, глаза ввалились, скулы выпячиваются, как у монгола, цвет лица мертвенно-бледный, а глаза светятся еще более тускло, чем лампочка. Неотступно смотрит на Славу, горькая усмешка свела его губы, и готов он произнести… Слава знает, что он может произнести, и хорошо, что Быстрова на самом деле нет в комнате. Такого ужасного вечера у него еще не было в жизни. Заседание уездного комитета партии началось в шесть часов. На улице уже стемнело. В комнате зажжено электричество. Две лампочки под потолком и одна на столе Шабунина. Все обыденно и просто. Сперва слушается сообщение упродкома о доставке зерна с глубинных пунктов к станциям железной дороги. Затем обсуждается вопрос о повышении личной ответственности коммунистов за состояние антирелигиозной пропаганды. Затем утверждается назначение неизвестного Славе Самотейкина старшим зоотехником Моховского конесовхоза. А затем… Затем из соседней комнаты, где сидят секретарь и машинистка, вызывают Быстрова Степана Кузьмича. — Товарищ Быстров… заходите… Персональное дело — вопрос о нарушении Быстровым партийной дисциплины. Докладывает заведующий агитпропом Кузнецов. Спокойный и неуговариваемый человек. Еще никогда и никому не удавалось уговорить Кузнецова изменить свое мнение, если тот выскажет его по какому-либо вопросу. Впервые Быстров присутствует на заседании укомпарта не как равноправный участник заседания, а как ответчик, как ответчик перед бывшими своими товарищами. Зло поблескивают его стальные глаза, но он ни на кого не смотрит. Губы жестко сжаты, под скулами перекатываются желваки. Он в бекеше и в шапке. Не захотел раздеться. Шапку сдергивает и сминает в руках. Демонстративно стоит среди кабинета. — Садитесь, — говорит Шабунин. — Ничего-с, постоим. — Да нет уж, присядьте, — настаивает Шабунин. Быстров садится. — Товарищ Быстров игнорирует решения Десятого съезда, — докладывает Кузнецов. — Ничего не поняв, не разобравшись в стратегии партии, он выступает поборником осужденных партией методов и не только на словах, но и на деле продолжает подрывать политику партии по отношению к крестьянству. Быстров каменно молчит. Шабунин предоставляет слово Семину. — Товарищ Семин, вы что добавите? Вот тебе и Семин! В бытность свою в Успенском, находясь у Быстрова в подчинении, он пикнуть не смел. Семин само равнодушие, розовощекая и чуть насмешливая беспристрастность. Он раскрывает тоненькую, оливкового цвета глянцевую папочку и, поминутно заглядывая в нее, перечисляет: — Восемнадцатого июня в помещении Успенского волземотдела в присутствии Данилочкина, Еремеева и Бывшева говорил, что закон о продналоге — закон нереалистичный, при наличии такого закона с мужиком никогда не справиться. Двадцать шестого августа по дороге из Успенского в Критово в присутствии Зернова и Бывшева сказал, что некоторые члены правительства пошли на поводу у буржуазных спецов… У него достаточно записей о том, когда и где Быстров осуждал политику партии. — Хватит, — останавливает Шабунин Семина. — Ну а практика… — Практика тоже имеется, — говорит Семин, перелистав сразу несколько листков в своей папке. — Двадцатого октября произвел в деревне Козловке обыск у нескольких домохозяев и отобрал все обнаруженное зерно. Двадцать девятого октября угрожал жителю деревни Рагозино Жильцову Василию расстрелом, пока тот не сдал в счет продналога четырех овец. Второго ноября в селе Корсунском у гражданина Елфимова Никиты обнаружил самогонный аппарат, самогон конфисковал, оштрафовал Елфимова на десять пудов ржи и приказал разобрать у него сарай и сдать разобранный тес на отопление местной школы… Список проступков Быстрова неисчерпаем. — У вас еще много? — спрашивает Шабунин. — Много, — твердо говорит Семин. — У меня много и таких донесений, и других… — Хватит, — говорит Шабунин. — Кто желает высказаться? — Послушаем Быстрова, — предлагает Кузнецов. — Что он скажет. — Товарищ Быстров, ждем… Степан Кузьмич отстегивает крючок у ворота бекеши, молчит и хмыкает, насмешливо на всех поглядывая. — Что ж, для себя я, что ль, реквизировал? — А самогон куда дели? — интересуется дотошный Кузнецов. — А это вы Семина спросите. — Быстров пренебрежительно указывает на него большим пальцем. — Он все знает. Шабунин вопросительно поворачивается к Семину. Но тот не собирается говорить ни больше, ни меньше того, что было на самом деле. — Самогон уничтожен, вылит на землю в присутствии понятых. Быстров насмешливо смотрит на Шабунина. — Выпил бы я его за твое здоровье, Афанасий Петрович, ежели бы не было у тебя столько соглядатаев. — К порядку, товарищ Быстров, — останавливает его Шабунин. — Вы, я вижу, ни в чем не раскаиваетесь? — А в чем раскаиваться? — Быстров отстегивает еще один крючок. — Взял я себе хоть фунт? — Если бы взяли хоть фунт, мы бы арестовали вас и судили за бандитизм. — Все, что я делал, я делал на пользу Советской власти. — А мы считаем — во вред, — и негромко, и невесело говорит Шабунин. — Вы добавочно собрали несколько сот пудов и на несколько лет поссорили Советскую власть с этими мужиками, а может быть, и сорвали в этих деревнях весенний сев. — А вы хотите обращаться с мужиками с «чего изволите»? — Ну, не с «чего изволите», но мы хотим жить с крестьянством в согласии. — Никогда этого не будет. — А что же вы предлагаете? — Всех кулаков сослать, середняков прижать, бедняков и батраков объединить в артели… — Не рано ли? Будут и артели, но страна еще не готова. В чем-то вы смыкаетесь с Троцким. Это он хочет вести народ к коммунизму из-под палки. — Это я-то смыкаюсь с Троцким? — А вы подумайте. — А мне нечего думать, я все додумал. — Так выскажитесь до конца, скажите, что вы додумали. Быстров распахивает бекешу, ему жарко. — Я не согласен с новой экономической политикой, — скороговоркой, глотая слова, быстро произносит Быстров. — Ленин плохо знает крестьянство, а вы поддерживаете его. Шабунин невесело разводит руками. — Ну, если вы не согласны с Лениным, нам остается только… Шабунин хмурится, ему нелегко произнести то, что он хочет сказать. — …исключить из партии, — договаривает Кузнецов. — Да, исключить из партии, — подтверждает Шабунин, отворачивается от Быстрова и смотрит на Ознобишина. — Прошу голосовать. И только тут Слава отмечает в своем сознании, что Шабунин во все время разговора с Быстровым неотступно наблюдал за ним. «И должен был наблюдать», — думает Слава. Ох, как ему сегодня не по себе! С какой радостью уклонился бы он от присутствия на сегодняшнем заседании, но у него не хватает мужества отказаться от осуждения Быстрова. Он не понимает, что именно мужество обязывает его участвовать в осуждении Быстрова. Нет у Славы Ознобишина более близкого человека, чем Степан Кузьмич Быстров. С первых дней сознательной жизни Слава был единомышленником Быстрова. Быстров был его наставником в жизни, Быстров привел его в партию. Слава стал коммунистом, и это дало ему возможность близко увидеть Ленина, и даже не столько увидеть, как понять его во всем сложном многообразии и хоть как-то к нему приблизиться… Эх, Степан Кузьмич, Степан Кузьмич, дорог ты мне, но Ленин еще дороже, ты спутник в жизни, а Ленин сама моя жизнь… Шабунин смотрит на Ознобишина, но и Быстров смотрит на Славу: предаст или не предаст? — Прошу голосовать, — повторяет Шабунин. Рука у Славы налилась свинцом, он не может отодрать ее от спинки стула, за которую держится. Он не находит в себе мужества… Не хочется, до боли в сердце не хочется голосовать против Быстрова, но тем более он не может голосовать против Ленина. Прощай, Степан Кузьмич! Слава понимает: подними он сейчас руку, он навеки простится с Быстровым, движением руки он навсегда сейчас определит свою судьбу. — Прошу голосовать. Все подняли руки. Поднял и Слава… Быстров встал. Славе казалось, что смотрит он только на него одного, — боль, отчаяние, изумление светились в глазах Быстрова. Слава тоже посмотрел на Быстрова. Лицо Степана Кузьмича дернулось, жилка заиграла у него под глазом. Слава все в себе стиснул, он не смел, не имел права распускаться здесь, перед всеми, закусил губу, опередил Быстрова, сдерживая себя, вышел из комнаты, побежал в уборную, накинул крючок на петлю и только тогда дал волю безутешному детскому плачу. Домой он пришел измученный и потрясенный, отказался от ужина, ответил что-то невпопад Коле Иванову. — Я пойду спать, — сказал он. — Что-то мне нездоровится. Разделся, лег и сразу заснул, как всегда бывает с детьми после перенесенного горя. И вот теперь видит перед собой Быстрова. Степан Кузьмич сидит за столом и укоризненно смотрит на Славу. «Предал?» — спрашивает его взгляд. «Нет», — хочет сказать Слава и не может. Так они и говорят друг с другом всю ночь: Быстров спрашивает и упрекает, а Слава молчит и этим молчанием ниспровергает Быстрова и утверждает себя. Они сидят друг против друга, Слава на постели, Степан Кузьмич за столом, он то исчезает, то появляется вновь, и длится это до того самого момента, когда в окне возникает блеклое пятно рассвета. Слава встает, никакого Быстрова в комнате, разумеется, нет, одевается, идет на кухню, находит на столе ломоть хлеба, садится на табуретку и жует, жует кислый ржаной хлеб, заедая этим хлебом свои горькие слезы. 21 С утра сочиняли инструкции — Ознобишин и Железнов об участии комсомольцев в весеннем севе, Ушаков о работе в школе; советовались, спорили, а потом то ли надоело писать, то ли просто устали, но Железнов сложил листки и воскликнул: — А не пора ли нам пообедать? Пошли домой, в общежитие. Эмма Артуровна сидела у себя запершись, это значило, что обед она не готовила, до нового пайка ребятам предстояло перейти на самообслуживание. Хлеб у Славы в комнате на подоконнике, Железнов принес из своей светелки котелок с вареной картошкой, обедали у Ознобишина, макали картошку в соль и ели с хлебом, запивая холодным несладким фруктовым чаем. Оторвал их от обеда дробный стук в дверь, точно кто-то стучал по двери палочкой. Так оно и было. Дверь распахнулась, на пороге стоял парень в полушубке, он-то и постукивал кнутовищем, точно дробь выбивал на барабане. — Зайти можно? — Заходи, заходи, — пригласил Железнов. — Чего тебе? Статный парень, сажень в плечах, круглая румяная физиономия, черные, резко очерченные брови, у самого носа родинка на левой щеке, насмешливая ухмылочка… Слава узнал его. — Ты из Дроскова? — Из него самого. Раза два видел Слава этого парня в укомоле. — Ты ведь член волкомола, твоя фамилия… — Кузьмин я. — Заходи, заходи, — повторил Слава. — Есть хочешь? — Тороплюсь, — сказал Кузьмин. — Я с лошадьми. — Тогда говори, если торопишься, — сказал Слава. — Слушаем. — Я за вами, — сказал Кузьмин, похлопывая кнутовищем по валенку, и повел подбородком в сторону окна. — Вона, лошади! Слава, Железнов, Ушаков — все трое посмотрели в окно, в верхнюю не замерзшую часть стекла. — Ух ты! — воскликнул Ушаков. — И выезд же у тебя. Прямо перед окном стояли легкие санки с берестяным задком и две крепенькие и заметно норовистые лошадки. — За мной? — встревожился Слава. — А что у вас там случилось? — Да так бы и ничего, мобыть, — весело отвечал Кузьмин. — Дашка Чевырева послала, просила съездить, он, говорит, знает, я ему обещала, а он мне… Даша Чевырева, одна из немногих комсомольских активисток, секретарь Дросковского волкомола, единственная в уезде девушка, возглавляющая волостную организацию… Что он мог ей обещать? Слава не помнил. Да и неотложных дел в Дроскове тоже как будто нет… — Что я ей обещал? Кузьмин хмыкнул, родинка у него подпрыгнула, подмигнул. — А на свадьбу обещали приехать? Слава сразу вспомнил. Вот тебе и штука! Когда в укомоле решили рекомендовать Чевыреву в секретари волкомола, уговаривал ее Ознобишин. — Ты по всем статьям подходишь. Кончила вторую ступень (средние школы в те годы назывались школами второй ступени), грамотная, учителя тебя уважают, умеешь говорить с людьми, предлагали же тебе стать секретарем волисполкома, из пролетарской семьи (семья Чевыревой была одной из самых бедных в Дроскове), отец у тебя герой, погиб на посту, как настоящий коммунист (отца Даши Чевыревой убили кулаки за реквизицию у них хлеба), а потом ты девушка, нет у нас еще девушек на ответственной работе… — Вот то-то что девушка, — возражала Даша. — Влюблюсь, выйду замуж, и вся моя работа насмарку. — Почему насмарку? Не за старика же пойдешь! Как работала, так и будешь работать, все тебя поддержат… — Баба не девка, — рассуждала Даша. — Девка кричит — ветер свистит, а бабу должны по всем статьям уважать. — А тебя и будут уважать, — уверял Слава. — Да что там, мы тебя всем укомолом замуж выдавать будем, я первый приеду к тебе на свадьбу, без меня и не думай выходить… Даша засмеялась: — Обещаете? — Обещаю… Разговор шел как бы в шутку, а теперь вот напоминают и даже лошадей прислали. — Серьезно, Чевырева замуж? — Чего уж серьезнее… — Кузьмин обиделся. — За зря лошадей не пошлют. — А за кого ж она? — Да там у нас за одного, — безразлично сказал Кузьмин. — За Степку за Моторина. Парень ничего… Ушаков и Железнов поняли, что Даша Чевырева идет замуж, но почему она прислала лошадей за Ознобишиным — им невдомек. — Понимаете, ребята, обещал я, когда уговаривал ее идти на комсомольскую работу, — ответил Слава на взгляд товарищей, — что приеду к ней на свадьбу, ежели она вздумает… — А свадьба-то когда? — спросил Ушаков. — Завтра. — По-моему, ехать необязательно, — сказал Железнов. — Секретарь укомола по свадьбам ездит… Делать тебе нечего! — Да я и сам думаю, что необязательно, — согласился Слава. — Да и в качестве кого я там буду? — Дружкой будете, — засмеялся Кузьмин. — Венец над невестой держать. Ушаков не понял: — Какой венец? — Как какой? Поведут молодых вокруг аналоя… — Какого аналоя? — чуть ли не в три голоса вскричал президиум укомола, а Железнов еще добавил: — Это еще что за чертовщина? Кузьмин не понимал своих собеседников, а те не понимали его. Наконец слово за слово разобрались: Даша Чевырева собирается венчаться в церкви. Одна из лучших комсомолок вступает в церковный брак, рубит под корень авторитет всей организации! Тут уж Железнов и Ушаков сами потребовали, чтобы Ознобишин ехал в Дросково — призвать Чевыреву к порядку, объяснить ей все последствия… Теперь поездка на свадьбу уже не развлечение, а необходимость! Все трое взволнованы, церковь собирается нанести жестокий удар комсомолу. — Значит, ребята, я поехал, — говорит Слава. — Тут уж… — Пусти в ход всю силу своего убеждения, — напутствует Железнов. — Что-нибудь да значит комсомольская дисциплина, черт возьми! — Сорви это мероприятие, — добавляет Ушаков. — Это же пережиток — праздновать свадьбы… — Давно бы так, — соглашается Кузьмин, довольный тем, что Ознобишин все-таки едет. — Пережиток не убыток, погуляем, напляшемся… Все, что говорилось тремя политическими деятелями, прошло как будто мимо него. — Оденься потеплее, — советует Железнов. — Морозец еще играет. — У меня с собой тулуп, — успокаивает Кузьмин. — Закутаем вашего начальника, никакой мороз не доберется. Слава натягивает на себя все свои одежки, он уже испытан поездками по уезду, садишься в сани — погодка как будто мягкая, а потом так продерет… — Эмма Артуровна, я уезжаю! — Слава стучит к ней в дверь. — Если кто приедет из уезда, пускай у меня ночуют, не гоните ребят. Эмма Артуровна приоткрывает дверь. — А вы можете за них поручиться? — Могу. — А сами далеко? — В Дросково. — Постарайтесь достать меда, — уныло просит она. — Надоел чай без сахара… Она знает: просьба пустая, но повторяет ее на всякий случай. Слава и Кузьмин садятся в санки… Кузьмин осторожно выезжает за околицу. И нет Малоархангельска, последние домишки нырнули в сугроб, одно снежное поле вокруг, без конца, без края, без единой впереди вешки. Кузьмин привстает, натягивает вожжи и по-ямщицки кричит: — Э-эх, залетные!… Дорога сплошь занесена снегом, сугробы справа, сугробы слева, не дорога, а тропка. А лошадки, ко всему привычные, деревенские, знай себе чешут и чешут. — Э-эх, залетные!… Полуденное солнце искрится в белесом голубоватом небе, сверкает снег, кругом зима — чистая, искристая, безбрежная… До чего ж хорошо зимой в поле! Едешь и сам не знаешь куда. Только бы ехать и ехать, мчаться без конца и края, покуда еще тепло в душе, покуда еще не замерзло сердце, покуда еще не захотелось к огоньку, в дом, к вареву. — Парень-то хороший? — спрашивает Слава. — Ничего, — повторяет Кузьмин. — Тихий только. А работать будет, у таких хлеб растет. Когда же это Даша успела с ним сладиться? Приезжала, шутила, советовалась и об общественных делах, и о личных, но никогда ни намеком… Что ее погнало замуж? Белобрысая такая девчонка, настойчивая, упрямая, даже злая. Злая ко всем, кто мешает работать, кто зря небо коптит… Влюбилась? Но почему в церковь? Не может быть, чтоб верила в бога. Да не верит она ни в какого бога! А почему тогда? Парень верит? Узкое личико, русая коса, аккуратненький носик, желтенькие бровки, голубые глазки… Подводишь ты нас, Даша, Дара, Дарочка… Черти бы тебя забрали, Чевырева! "Пойду прямо к попу, — думает Слава, — и запрещу. Не осмелится же поп мне перечить! Попы теперь хвост поджали. А вдруг поп не послушается? То есть как это не послушается? Мы комсомольцам запрещаем венчаться в церкви! Дашу надо сохранить во что бы то ни стало. Придется Даше объявить выговор… Клуб-то у них есть? Ну, конечно, есть. Соберем молодежь, и взрослые тоже, пожалуйста. Секретарь укомола Ознобишин прочтет лекцию. «Религия — опиум народа» или что-нибудь в этом роде. «Почему патриарх Тихон ненавидит Советскую власть? А Советская власть ненавидит Тихона?» Солнце превратилось в оранжевый шар. Сперва в оранжевый, а потом в багровый. А лошади несут, несут, разбрызгивают из-под копыт снег… Хорошо! — Дай-ка мне, — просит Слава. Встает в санях и кричит: — Э-эх, залетные! Снега стали голубыми. Серо-голубыми. Серыми. Ветерок раздул тулуп. Серая тень накрыла поле. Кони шарахнулись… — Дай-ка… Кузьмин отобрал у Славы вожжи. — С такой упряжкой вам не управиться. Слава ушел с головой в тулуп. — Напрасное вы затеяли дело, — вдруг сказал Кузьмин. — С нашей Дарьей Ивановной вам не совладать, она что решит, так то и будет. — Ну это мы еще посмотрим, — ответил Слава. — Не мы подчиняемся обстоятельствам, а обстоятельства нам. — Я вам лучше другое предложу… Кузьмин чуть отпустил вожжи, запустил руку в сено, свалявшееся под седоками, вытащил холщовую торбу, вывалил меж Славой и собой бутылку, стакан, ломоть хлеба и кусок вареного мяса. — Захватил перекусить… Вытащил зубами из горлышка тугую бумажную затычку, налил стакан. — Начнем, что ли? Гулять так гулять, выпьем за нашу Дашу, завтра за столом, а сегодня по морозцу в санях… Слава принял стакан. — Что это? — Первач. Самый что ни на есть… Слава сам не знал, как это у него получилось, рывком выплеснул самогон на снег и отдал стакан своему спутнику. — Шутки шутишь? Возьми! Не для того еду я в Дросково. — Чего ж добро выплескивать? Кузьмин обиделся и сам пить не стал, заткнул бутылку, сунул под сиденье, сердито погнал лошадей. Въехали в Дросково затемно. — Куда? — отчужденно осведомился Кузьмин. — В исполком. — Даша наказывала к ней везти… — В исполком, — упрямо повторил Слава. Он сердился на Кузьмина за то, что тот предсказывал, будто ничего с Дашей Чевыревой не получится, не рассерди его Кузьмин, он, может быть, и выпил бы с ним первача. — Спасибо, — поблагодарил он, вылезая из саней. — Будь здоров. В исполкоме никого уже не было, только в канцелярии двое корпели над какими-то списками. — Вам чего? — спросил один из них у вошедшего. — Я из Малоархангельска, из укомола. Мне бы Чевыреву. Нельзя ли кого послать? — А вы, случаем, не на свадьбу? Так вы бы к ней домой. — Нет, мне она нужна здесь, — упрямо сказал Слава. — Я по делу. Один из мужчин вышел, но тут в комнату торопливо вошла сама Даша, должно быть, Кузьмин предупредил ее о приезде Ознобишина. — Ох, Слава… — Она поправилась. — Вячеслав Николаевич… До чего ж хорошо! Я все думала, хозяин вы своему слову… — Здравствуй, Даша, — холодно поздоровался Слава. — Где бы нам с тобой… — Да чего ж вы ко мне не поехали? — ласково упрекнула Даша. — Пойдемте, пойдемте! Небось устали с дороги, проголодались… Слава строго на нее поглядел: — Нет, я к тебе не пойду. — И то! — согласилась Даша. — У меня дома что-то вроде девичника. Собрались девчонки, хотя парни тоже пришли. Но я найду вам местечко… — Пойдем в волком. Волостной комитет комсомола помещался в этом же здании, на втором этаже, ему была отведена угловая комната. — Пойдемте, — неохотно согласилась Даша. — Ключ у меня с собой. Поднялись по лестнице. Даша открыла дверь, зажгла лампу. По стенам побежали тени. Вдоль стен аккуратно стоят стулья. Столик у окна накрыт скатеркой. На подоконнике горшки с геранью и фуксией. Сюда бы еще узкую кроватку, и совсем девичья светелка. Слава сел у стола, пригласил Дашу: — Садись. — А то лучше пошли бы ко мне? — опять предложила Даша. — Садись, — настойчиво повторил Слава. — Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Даша в нерешительности стояла среди комнаты. — Это правда? — строго спросил он. — Что — правда? — Что собираешься венчаться в церкви? — Правда. — И ты так спокойно об этом говоришь? Даша поняла, разговор будет долгий, спустила с головы платок, расстегнула плисовый жакет, взяла стул и села перед Ознобишиным, как на допросе. — Давайте, Вячеслав Николаевич, поговорим. Я на комсомольскую работу не рвалась, помните, предупреждала: а если выйду замуж? — А я сказал, что замужество работе не помешает, — подтвердил Слава. — Повторю и сейчас, выходи себе на здоровье, — помешает, если обвенчаешься в церкви. — А без церкви — замужество не замужество. — Кстати, а что за парень, за которого ты выходишь? — Наш, местный, дросковский, ничем из других не выделяется. — А кто тебе дороже — парень или комсомол? В общем-то это был спекулятивный вопрос, хотя до Славы не доходил низкий смысл такого вопроса, в те годы подобные вопросы задавались сплошь да рядом, и Ознобишин действовал в духе своего времени, зато Даша вознеслась на почти недоступную для того времени высоту, она отказалась ответить на вопрос Ознобишина. — А я вам не отвечу, Вячеслав Николаевич, не путайте божий дар с яичницей. Слава задумался — кто же ей божий дар и кто яичница. — А ты не можешь не идти замуж? — Не могу, — просто сказала Даша. — Я люблю его, хоть он и самый обыкновенный, но я хочу детей и именно от него, хотя вы меня, может, и не поймете. Тогда Слава начал действовать с другого конца: — Ты-то сама в бога веришь? Даша со смешком качнула головой. — Нет. — А парень твой верит? — А я его не спрашивала, — медленно произнесла Даша. — Думаю, тоже не верит. — Так на что же вам церковь? — Он помешал Даше ответить и принялся рассуждать. — Религия — средство, с помощью которого богатые держали народ в темноте, попы и в эту войну помогали богачам и белогвардейцам, каждый церковный обряд укрепляет религию, и ты, комсомолка, передовая девушка, подаешь такой пример молодежи? Нет, такого удара ты нам не нанесешь! Даша слушала, но сосредоточилась она явно не на обращенных к ней словах, а на своих мыслях, на каких-то собственных ощущениях. — Что ж ты молчишь? — спросил Слава, озадаченный тем, что Даша не пытается возражать. — Своим поступком ты оскорбишь память своего отца, он был коммунистом и, значит, атеистом, погиб за дело коммунизма, и вот представь себе, что твоего отца, убитого кулаками, понесли хоронить в церковь? Ты бы это допустила? А сама идешь… Даша зябко повела плечами, поправила платок, обеими руками притронулась к волосам, будто проверила — не растрепались ли. — Что ж ты молчишь? — Я же вижу, — скорее себе, чем Ознобишину, ответила Даша, — не хотите вы меня понять… Славу не столько рассердил, сколько обидел ее ответ: он хотел, очень хотел понять Дашу и… не мог. — Мы исключим тебя из комсомола, — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. — Война только кончилась, и Деникин шел против нас, держа в одной руке револьвер, а в другой крест. Кулаков, убивших твоего отца, благословил на убийство поп, а теперь ты пойдешь под благословение попа? Славе казалось, что говорит он очень правильно и убедительно, но только он сам и слушал себя. Даша молчала, сказать Даше, по существу, нечего, и в его голосе нарастала все большая и большая неумолимость. А Даша поднялась, привернула в лампе фитиль, на стекло оседала копоть, но уже не села на стул, а прислонилась к стене, и Слава впервые заметил, насколько она рослее, крупнее и старше его самого. «И ведь верно, года на три старше меня, — подумал Слава. — Уже взрослая…» — Послушайте и вы меня, — неторопливо, ничуть не смущаясь, сказала Даша. — Конечно, вы можете отнять у меня комсомольский билет, но в комсомоле-то я останусь? Я ведь пришла в комсомол не затем, чтобы стать секретарем волкомола, я в комсомол вступила, чтобы вместе со своим батей бороться… Я против богачей, но я тоже хочу хорошей жизни, хочу быть сытой и хочу, чтобы дети мои тоже были сытыми. Я нашла себе парня, я нашла, а не он меня, потому что первого попавшегося парня я бы до себя и не допустила, он совсем простой и даже вторую ступень не кончил, обыкновенный мужик, но он будет мне верным мужем и не побоится никакой работы. Даже не знаю, станет ли он коммунистом. Не машите, не машите руками… А Слава и не махал… Или не заметил, как махал? — Отберете билет? — продолжала Даша. — Ваша воля. Только я его получу обратно, потому что я тоже за Ленина. Я ведь в сторону не ухожу и буду бороться за нашу власть. — Она еще прикрутила фитиль, лампа опять начала коптить, должно быть, в ней было мало керосина. — А теперь послушайте насчет церкви. Я хочу, чтоб меня уважали на селе, потому что трудно бороться, не пользуясь уважением людей. А если я стану жить с мужем невенчанная, бабы начнут называть меня гулящей, в деревне не привыкли, чтоб мужик с бабой сходились просто так, без обряда. Вот потому-то и я… Моя бабка венчалась, мать венчалась, и я обвенчаюсь в церкви. Не потому, что верю, а чтоб люди видели, что я не для баловства иду замуж, а всерьез. Может, через двадцать лет я сама не пущу свою дочь в церковь, да она и не пойдет за ненадобностью, а сейчас это надо, потому что если какая-нибудь баба не окрестит сейчас ребенка в церкви, вся деревня будет дразнить его выблядком… Грубое слово, оно не прозвучало в ее устах грубо, оно лишь выражало тревогу за себя, за будущих своих детей, за уважение людей, которое она не хотела терять. Слава был не согласен с ней, и все-таки в чем-то она была права. — Но ведь мы же должны, пойми ты это, должны строить новое общество, — с отчаянием выкрикнул он. — Должны-то должны, только я не знаю, какое оно еще будет, это новое общество, — сказала Даша. — Вот намедни была я в городе, зашла в женотдел, дали мне там штук десять книжонок — какая семья должна быть в коммунистическом обществе, велели раздать девчатам, а я прочла и ни одной не раздала — такой в ней стыд, разве что отдам ребятам на курево. Обращенье к книжкам всегда укрепляло позиции Славы, он сразу ухватился за повод перевести спор на книжные рельсы. — Что за книжка? — деловито осведомился он. — Раз дали, так не ошиблись, знали, что давать. — Не запомнила названия, — сказала Даша. — Только там говорится, что семью надо разрушать, детей воспитывать в интернатах, а мужчинам и женщинам жить в свободной любви. Слава так и не понял, о какой книжке толкует Даша, ему не верилось, что такая книжка существует, похоже, Даша чего-то напутала. — А я с этим несогласная, — сказала Даша с внезапно прорвавшейся горячностью. — Я мужа менять не собираюсь и сама буду растить своих детей, хоть бы вы выгнали меня за это из комсомола. — Пойми, это невозможно, чтоб комсомолка пошла венчаться в церковь, — повторил Слава. — Это ослабляет наши позиции. — А разве я смогу остаться на комсомольской работе, если меня будут называть гулящей и все девки будут держаться от меня в стороне? — возразила Даша. — На гору, Вячеслав Николаевич, не всегда поднимешься по прямой, иногда и кругаля приходится дать, чтобы подняться! Она возражала с такой убежденностью, что до Славы наконец дошло, что ему не удастся ее уговорить. — В таком случае придется тебя исключить, — упрямо повторил он. — Ваша воля, — повторила, в свой черед, Даша, но покорности в ее голосе не прозвучало. Оба молчали, говорить больше как будто не о чем. Даша натянула на голову платок и заговорила другим, более естественным и даже веселым голосом: — Я свое обещание помнила, и вы свое не забыли, спасибо и на том, только вы, должно быть, на мою свадьбу не останетесь? Слава развел руками… — Я понимаю, — согласилась Даша. — Вам-то уж никак нельзя на мою свадьбу остаться… А ночевать-то где будете? Ни у меня, ни у жениха… — Она вдруг нашлась: — Подождите здесь, пришлю сейчас Кузьмина, он вас устроит. Вы не беспокойтесь, он хорошо вас устроит, он у нас дошлый. — Только мне бы уехать пораньше, — предупредил ее Слава. — До света. Так лучше. — И это понимаю, — согласилась Даша. — Кузьмин вам и лошадь подаст. Поправила платок, застегнула жакет, протянула Славе руку. — Попрощаемся или… — На мгновение запнулась и со смешочком спросила: — Или погребуете? Слава пожал ей руку, несмотря на упрямство, она внушала к себе уважение. — Ну, пока, не обижайтесь. Даша исчезла. Лампа коптила. На душе было паршиво, миссия его провалилась, пережитки прошлого оказались сильнее его доводов. Слава вышел на лестницу. В замочной скважине торчал ключ. Слава запер дверь, внизу, в канцелярии, никого уже не было, одна сторожиха, бабка с очками в железной оправе, сидела у грубки и вязала чулок. Слава отдал ей ключ, сел рядом. — Вы к Даше приезжали? — спросила сторожиха. — К Чевыревой, — подтвердил Слава. — Сурьезная девушка, — сказала сторожиха. — Не поддалась? — А вы откуда знаете? — удивился Слава. — По вас видно, — сказала сторожиха. — Ведь вы ей начальство? — Допустим, — согласился Слава. — А то зачем бы вам приезжать? — сказала сторожиха. — Обламывать, чтоб не уклонилась. Слава промолчал. — А она уклонилась, — продолжала сторожиха. — Потому ей здесь жить. Их беседу прервал Кузьмин. Он улыбался, глаза блестели, родинка возле носа набухла, должно быть, успел уже выпить стакан-другой первача. — Пошли, Вячеслав Миколаич, — позвал он Славу. — Устроил я вам ночку что надо! Вышли на улицу. Мороз. Поздний вечер. Мигают звезды, одна голубей другой. Хрустит снег. Лают псы. Несмотря на мороз, на позднее время, доносятся взвизги гармошки, может быть даже от избы Чевыревой. Село еще не спит, слышны голоса, попадаются навстречу прохожие. — Хорошо, Вячеслав Миколаич? — спрашивает Кузьмин. — Что — хорошо? — Жить хорошо. — Кузьмин удовлетворенно усмехается. — Мороз, а нам тепло, и покушать найдется что… — Мы куда? — спрашивает Слава. — Куда надо. Да вы не беспокойтесь, в плохое место не отведу. — А все-таки? — Есть тут одна вдова — самое подходящее место. Идут некоторое время молча. — Погоди-ка, Кузьмин, а это не за тебя Даша выходит? — вдруг спрашивает Слава. — Да вы что? — Кузьмин даже как будто обижается. — Пойдет она за меня! — А чего ж ты у нее на побегушках? — При чем тут побегушки? — Обида уже явственно звучит в его голосе. — Первый помощник я у Дарьи Ивановны. — По какой же это линии? — По комсомольской! Очень уж беспечен Кузьмин для комсомольского работника. — Ты кем в волкоме? — Экправ. Экономическо-правовой отдел… Та же должность, какую занимал Саплин в Успенском. «Не везет нам с экправами, — думает Слава. — В Успенском Саплин, здесь Кузьмин. Несерьезный какой-то!» Впрочем, никаких грехов за Кузьминым Слава не знает. Разве только что приехал звать его на церковную свадьбу… — Батраков-то у вас не очень прижимают? — осведомляется Слава по долгу службы, хотя вопрос этот совсем не ко времени, да и без ответа Кузьмина он знает, что с охраной интересов молодых батраков у Чевыревой все в порядке. Кузьмин вздыхает. — Говорил я вам, что не поддастся наша Дарья Ивановна. Коли что решит, ее уже не свернуть. — А мы тоже решим, — жестко говорит Слава. — Исключим за такое дело из комсомола. — И глупо, — говорит Кузьмин. — У нас, знаете, как ее слушают? И бабы, и даже старики, вся в батьку. — А идет на поводу у отсталых элементов? — А она не идет, — объясняет Кузьмин. — Только в деревне гражданский брак еще преждевременное дело, сойдись она просто так, народ от нее сразу отшатнется. Вот и Кузьмин рассуждает так же, как Даша. Ее влияние, что ли? Идиотизм деревенской жизни. — Пришли, — объявляет Кузьмин. Аккуратный бревенчатый дом в два окна, на окнах занавески, за занавесками свет. — Кто такая? — спрашивает Слава. — Да есть тут одна, — неопределенно отвечает Кузьмин. — Мужа в войну убили, детей нет, живет помаленьку. Несильно стучит по стеклу. Гремит щеколда, приоткрывается дверь, звонкий голос: — Заходите, заходите! Их ждали, в избе тепло, светло, чистенько, стол накрыт рушником, тарелки с капустой, с мочеными яблоками, с накрошенным салом, зеленая склянка… — Вам будет здесь хорошо, — говорит Кузьмин. — Раздевайтесь. Да уж чего лучше! Все прибрано, все на месте, на окнах ситцевые занавески с цветочками, в углу над столом иконы, веселые, цветастые, на стене картинка, опять же цветочки, и портрет Луначарского. Но лучше всего сама хозяйка. Может, и вдова, но такую вдову всякий мужик любой девке предпочтет. Молода, красива, приветлива. Лет двадцать пять ей, ну, может, на год, на два больше. Кузьмин тоже раздевается. Хозяйка подает гостю сложенную лодочкой ладонь. — Будем знакомы. Кузьмин перехватывает взгляд Славы. — Аграфена Дементьевна, — называет он хозяйку. — Груша, — поправляет хозяйка. — Закусите… Достает из печки миску, щи заранее налиты и поставлены в печь, чтобы не остыли, наливает в тарелку, ставит перед гостем. — Горяченького, с морозцу. — С морозцу и покрепче пойдет! Кузьмин разливает самогон, и хозяйка без ломанья берет свою стопку. Слава свою отодвигает. — Я не пью. Хозяйка тянется со стопкой к Славе. — Со знакомством? — Нет, нет, не пью, — решительно повторяет Слава. Хорошо бы он выглядел, приехал по принципиальному делу и пьет после неудачи самогон! — Ну а мы выпьем, — радостно произносит Кузьмин, чокается с хозяйкой, и оба с аппетитом пьют. Кузьмин с хрустом разламывает яблоко. Ест он так аппетитно, что и Слава берет яблоко. — Кушайте, кушайте, — заботливо угощает хозяйка. — Сама мочила, у меня свой ото всех секрет. Но дросковский экправ пьет очень аккуратно, опрокидывает еще одну стопку и встает. — Отдыхайте, — говорит он Ознобишину. — Приеду завтра чуть свет. Кузьмин одевается и, подавая Ознобишину руку, как-то насмешливо вдруг говорит: — С гражданским браком! Слава не понимает, чему он смеется, да и Аграфена Дементьевна тоже, кажется, не понимает. — Будем стелиться, — говорит она, оставшись вдвоем с гостем. Кладет на лавку кошму, накрывает чистейшей простыней, стеганым одеялом, взбивает подушку. — Спите спокойно, свет можно гасить? Задувает лампу, уходит за занавеску, там у нее кровать. Слышно, как раздевается. Минута, другая… Тишину нарушает томный голос: — Вас звать… Вячеслав Николаич?… Вячеслав Николаич, захочется на двор, из избы не ходите, у порога ведро… Слава не спит, и хозяйка не спит. Тишина. Аграфена Дементьевна вздыхает. Тишина. — Вам не холодно, Вячеслав Николаич? До чего заботлива! — Нет, спасибо, Аграфена Дементьевна. Опять тянутся минуты. — А может, холодно? — еще раз осведомляется Аграфена. Далось ей! — Нет, — говорит Слава. — Мне хорошо. Молчание. — А то идите ко мне — слышит он зовущий хрипловатый голос Аграфены. — Вдвоем теплее. Слава не отвечает. Теперь понятно, почему Аграфена не постелила ему постель помягче, она и не рассчитывала, что он останется спать на лавке. — Вячеслав Николаич! — окликает его еще Аграфена. — Не заплутайтесь в темноте… Слава молчит. Тишина. Аграфена громко вздыхает. — Ну, бог с вами… Обиды в ее голосе нет, скорее равнодушие. Слава слышит, как она возится за занавеской, как затихает. Вот что значат слова Кузьмина — с гражданским браком! Как все просто и… противно. Не так все это просто, как кажется Кузьмину или этой… Аграфене. Красивая, молодая и… бессовестная. Не мог бы он жениться на такой женщине. Где-то в глубине сердца он начинает понимать Дашу. «Ты поступаешь неправильно, но все же я тебя понимаю». Как это она сказала? «В гору не всегда поднимаешься по прямой, иногда и кругаля приходится дать». Может быть, она и права. Славе не спится. А за занавеской — спит или не спит?… Славе сейчас очень одиноко. Позови его Аграфена еще раз, он пойдет к ней. Пойдет или не пойдет? Только Аграфена заснула. Сопит. Спит. Какие-то голоса доносятся до него, приближаются, нависают над ним… — Вячеслав Николаич! Вячеслав Николаич! Звонкий приятный голос называет его по имени. Он открывает глаза. Над ним наклонилась хозяйка… Чего она от него хочет? В комнате горит лампа. Сама Аграфена в платке и ватной жакетке. — Что вам? — Приехали за вами, пора. Хлопнула дверь, появился Кузьмин. — За вами, Вячеслав Миколаич, собирайтесь. Слава вскочил, торопливо привел себя в порядок. — Да, да, поехали. — Еще только светает, — певуче произносит Аграфена. — Позавтракайте. — Нет, нет, — отказывается Слава. — Спешим! — Хоть молочка выпейте. Только что подоила. Парного. Пользительно. Слава смущенно смотрит на Аграфену — сердится или смеется? Но не замечает ни того, ни другого, приветлива, ровна, даже ласкова. Кузьмин бросает испытующий взгляд на Аграфену, потом на Ознобишина. — Налей, налей, — говорит он Аграфене. — И мне, и ему. — А может, тебе погорячей? — весело спрашивает Аграфена. — Нет, — отказывается Кузьмин. — Молока. Дорога дальняя, в сон себя вгонять незачем. Напились молока с ржаным хлебом, оделись. Слава полез в карман: — Сколько с меня? Аграфена отмахнулась. — Да бросьте вы! Кузьмин потянул Славу. — Уж мы как-нибудь сами, не вы к нам, а мы вас звали… Слава подошел к Аграфене, протянул руку, она выглядела еще красивее, чем вечером, — черные глаза с поволокой, брови вразлет, нежный румянец… — Спасибо вам, Аграфена Дементьевна. Она ласково пожала ему руку. — Заезжайте еще. Перед домом все те же санки, запряженные все той же парой лошадей. Кузьмин взмахнул кнутиком, Слава его придержал. — Свадьба-то у Даши когда? — В обед. — А сейчас Даша где? — Где ж ей быть, дома. — Заедем к ней на два слова. — А вы не обидите ее? — забеспокоился Кузьмин. — Не надо бы в такой день. — Нет, нет, — заверил Слава. — Я ее не обижу. Подъехали к Дашиной избе — невзрачная у нее изба по сравнению с Аграфениной, Кузьмин забежал в дом, и тут же, кутаясь в плисовую жакеточку, выбежала из сеней Даша. — Что, Вячеслав Николаевич? — Ничего, — сказал он. — Я только хочу… Я понял… — Он совсем запутался. — Одним словом… будь счастлива! — Отвернулся и поторопил Кузьмина: — Поехали! Не слышал, что ответила Даша. А может, и вовсе не ответила? Кузьмин не спеша погнал лошадей. Слава оглянулся… Рассветало, розоватая кромка едва проступила на горизонте. Тоненькая девичья фигурка чернела с краю дороги. У Славы сжалось сердце, такой беззащитной и одинокой казалась Даша. Он подумал, что они никогда уже больше не встретятся. Хотя это было маловероятно. Придется же вызывать ее на заседание укомола. Что будет с ней дальше? Как сложится ее судьба? Ничего этого Слава не знал. Не дано это ему знать. Ну, то, что выйдет замуж, как и задумала, в этом он был уверен. Но он не знал даже, исключат ли ее из комсомола. Не знал, что родит она трех детей. Не знал, что через несколько лет Дашу выберут председателем сельсовета, а муж, как был, так и останется рядовым колхозником, что будет жить она с мужем в любви и согласии и что не пройдет двадцати лет, как муж Даши уйдет на войну и не вернется, и что, получив похоронную, Даша стиснет зубы и не проронит на людях ни слезинки, что немецкие полчища смерчем пройдут по орловской земле и Даша вместе с другими бабами, почерневшая и потускневшая от горя, сама будет впрягаться в соху и поднимать пласты обуглившейся земли, что выберут ее бабы председателем колхоза, что вырастит она своих детей на радость людям и что заблестит на ее груди Золотая Звезда… Ничего этого Слава не знал, и не дано ему было это знать, но такая нестерпимая жалость к Даше пронизала его сердце, что даже слезы навернулись на глаза и он варежкой смахнул их, чтобы Кузьмин не заметил его слабости. Утро вполне вступило в свои права, начинался один из последних дней зимы, когда мороз, веселый, свирепый и радостный, старался показать всю свою силу. В поле подувал ветерок и время от времени швырял в лицо иголочки снега. Да, играл еще мороз в поле, и ветер еще обжигал, но в порывах ветра веяло уже чем-то весенним. — А зря вы все-таки обидели Дашу, — неожиданно сказал Кузьмин. — Иногда обязательно надо со всеми согласиться, чтобы поставить потом на своем. — Да чем же я ее обидел? — спросил Слава. — Я же вижу, — сказал Кузьмин. — Только напрасно это. Дарья Ивановна у нас высоко летит, не девка, можно сказать, а орел. «Вот уж никогда не сравнил бы я Дашу с орлом, — подумал Слава. — Чем же белобрысая эта девчонка похожа на орла?» А ветер заметал в поле снежок, а лошадки бежали себе и бежали, все в жизни было сумбурно и непонятно, и вдруг каким-то внутренним взором Слава увидел нечто большее, чем дано было ему видеть, и мысленно согласился с Кузьминым, ведь и вправду в Даше Чевыревой было что-то орлиное. Нет, он не оправдывал ее, сразу не во всем разберешься, сейчас она низко опустилась, но она взлетит, взлетит, Слава верил в нее… — Иногда и орлам приходится спускаться на овины, — вслух продолжил Кузьмин мысли Славы. — Откуда ты это? — спросил Слава, в словах Кузьмина послышалось что-то знакомое. — В школе проходили, — сказал Кузьмин. — Забыл уже. А Слава вспомнил: орлам приходится иногда спускаться к земле, и куры уверены, что так летать могут и они. Слава верил, всей душой верил в Дашу: она еще поднимется, взлетит, «орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!». 22 Не находилось времени обсудить вопрос: будет ли и, если будет, то какой, семья в коммунистическом обществе. То батраков приходилось трудоустраивать, то налаживать занятия в школах, учителя не справлялись со всеми навалившимися на них обязанностями, то проводить с призывниками разъяснительную работу, то вести учет земельных угодий и урожайности: и земотделу, и военкомату, и прежде всего уездному комитету партии, — тут было не до отвлеченных споров о семье, множество повседневных практических дел не позволяло комсомольским работникам уделять внимание вопросам, представлявшим пока что только теоретический интерес, поскольку никто из работников укомола обзаводиться семьей еще не собирался. И все же вопросом этим пришлось заинтересоваться, его ставила сама жизнь, Даша Чевырева ставила, не за горами время, когда окружающие Ознобишина девчонки и мальчишки переженятся, и всем им придется подумать, как устроить свой быт, заняться не только самовоспитанием, но и воспитанием собственных детей. Слава спустился по деревянным ступенькам в нижний этаж общежития — здесь комнаты потемней и потесней, однако чище и уютнее, Эмма Артуровна редко заглядывала на нижнюю половину дома, и ее обитатели сами заботились о своем быте, — и постучал в дверь к Вержбловской; не очень-то он расположен к Фране, но в данном случае нелишне побеседовать с ней: что же такое семья. — Войдите! Чем она занималась? Как сидела на кровати, так и не встала. Она смутилась, увидев Славу, подогнула ногу, обдернула юбку. Розовое пикейное одеяло, комодик откуда-то достала с бронзовыми гирляндами, должно быть из помещичьих трофеев, что свалены на складе жилищно-коммунального отдела, зеркало на столике украшено бантами из марли, марлю она, конечно, выпросила в аптеке, в глиняном горшочке, в деревне в такие сметану наливают, букет бумажных цветов… — Можно? — Я рада тебе… Слава. Как это у нее хорошо получается: «Сла-а-ва»… Протяжно и нежно. — Хочу с тобой посоветоваться. По женскому, что ли, вопросу. — Садись. Она подвигается на кровати, освобождая место, однако Слава присаживается на краешек табуретки. — Скажи, Франя, ты читала книжку 6 том, какая будет семья? Она вновь удивлена: — Семья? — Какая семья будет в коммунистическом обществе? Мне говорила об этой книжке Дарка Чевырева. Ей в женотделе дали. — Ах… — На мгновение Франя задумывается. — Ну, конечно, читала! Слава не уверен, что Франя читала, но она ни за что не признается. — А какая семья будет в коммунистическом обществе? — А почему это тебя интересует? — вопросом на вопрос отвечает Франя. Слава смущен. — Это же всех интересует. Все мы когда-нибудь поженимся. Актуальная тема. Вот я и хотел тебя спросить, как ты представляешь себе семейные отношения при коммунизме? Лицо Франи заливает краска, бог знает что ей подумалось! — Ну, я не знаю… Будет полная свобода, — начинает Франя. — Не будут венчаться, никто даже знать не будет, что кто-то поженился, может быть, муж и жена будут жить даже на разных квартирах… — А дети? — спрашивает Слава. — Дети? — Франя краснеет еще больше и опять на мгновение задумывается. — Детей вообще не будет! — То есть как не будет? — А зачем дети? — запальчиво спрашивает Франя. — Но ведь человечество должно же как-то продолжаться? — Ах человечество… Она опять размышляет. «Дура, — думает Слава. — Добьешься от нее толку!» — Детей будут родить по очереди и воспитывать в детских садах… Вот все проблемы и решены! — Я к тебе вот по какому делу, — говорит Слава. — Возьми-ка еще раз эту книжку в женотделе. Вопрос интересует молодежь. Особенно переростков. Устроим в клубе диспут на тему о том, какая должна быть семья в коммунистическом обществе, и ты сделаешь доклад. Франя разочарована, кажется, она придала вопросам Славы иной смысл. — Какой из меня докладчик? — Все мы плохие докладчики, — соглашается Слава, хотя сам о себе так не думает. — Учись выступать — это тебе официальное поручение. Учти! Слава на работе шутить не любит, это Фране известно, и ей придется учесть… — Так что готовься. Поскольку диспут объявлен и докладчик назначен, Слава заходит в женотдел. — Вы там давали какую-то книжечку Чевыревой. Секретарю Дросковского волкомола. Что-то там о семье. Не можете ли и мне дать? Ему охотно дают, в женотделе полно этих брошюр, Слава берет несколько экземпляров, благодарит и уходит. «А.Коллонтай. Семья и коммунистическое общество». Он собирается выступить на диспуте, поэтому вечером садится за стол, берет тетрадь, карандаш, делает для себя выписки. «Какая уж это семейная жизнь, когда жена-мать на работе хотя бы восемь, а с дорогой и все десять часов!» «Ну и что из того? Мама ходила на работу, — думает Слава, — и воспитывала нас…» «Семья перестает быть необходимостью как для самих членов семьи, так и для государства…» Почему? Маленькая сейчас у Славы семья, только мама и Петя, а все равно ему тепло при одной мысли, что есть у него семья… «Или это пережиток, — думает Слава, — и не нужно мне ни мамы, ни Пети?…» И какая же ерунда дальше: «Считалось, что семья воспитывает детей. Но разве это так? Воспитывает пролетарских детей улица…» Ерунда! Нет ничего крепче рабочих семей, и какие отличные люди выходят из этих семей! Ленин тоже рос в семье, иначе он не стал бы таким хорошим человеком… И что же автор брошюрки советует дальше? «На месте прежней семьи вырастает новая форма общения между мужчиной и женщиной: товарищеский и сердечный союз двух свободных и самостоятельных, зарабатывающих, равноправных членов коммунистического общества… Свободный, но крепкий своим товарищеским духом союз мужчины и женщины вместо небольшой семьи прошлого… Пусть же не тоскуют женщины рабочего класса о том, что семья обречена на разрушение…» И дальше: «Сознательная работница-мать должна дорасти до того, чтобы не делать разницы между твоими и моими, а помнить, что есть лишь наши дети, дети коммунистической трудовой России… На месте узкой любви матери только к своему ребенку должна вырасти любовь матерей ко всем детям великой трудовой семьи… Вырастет большая всемирная трудовая семья… Вот какую форму должно будет принять в коммунистическом строе общение между мужчиной и женщиной. Но именно эта форма гарантирует человечеству расцвет радостей свободной любви…» Чудовищно! Даже собаки не обмениваются щенками! "Моя мама, — думает Слава, — очень хорошая женщина, и к тому же она еще учительница, она любит своих учеников, и все-таки я и Петя для нее самые дорогие и близкие. А как же иначе? Ведь это она нас вырастила и воспитала. Многое помогло мне стать коммунистом, но ведь и мама тоже помогла… Нет, что-то не то! Даша Чевырева умнее рассуждает, чем эта Коллонтай…" Неправота Коллонтай становится ему очевидной. Он вспоминает доклад Шабунина о Десятом съезде партии. Ведь эта же самая Коллонтай выступала на съезде против Ленина, это она утверждала, что пролетариат влачит в Советской России «позорно-жалкое существование», это она пыталась опорочить Ленина в глазах рабочих, а теперь пытается лишить работниц всяких нравственных основ… «Нет, такая мораль нам не нужна, — думает Слава. — Это не коммунистическая мораль…» Утром Ознобишина вызвал Кузнецов. Слава пришел к нему с книжкой Коллонтай в руках. — Что это вы за диспут затеяли? — О семье, — объяснил Слава. — Какая семья будет в коммунистическом обществе. — О семье! — Кузнецов поджал губы. — Самое время! Скоро налог собирать, а вы об отвлеченных материях… — На собраниях часто задают вопросы на эту тему. Кузнецов насмешливо смотрел на Славу. — И что же ты скажешь о семье? — Не знаю, — честно признался Слава. — В общем-то я за семью, хотя в книжке совсем обратное. Кузнецов прищурился. — Что еще за книжка? Слава протянул ему брошюру. — А!… — Кузнецов небрежно отбросил ее от себя. — Не очень-то доверяйте этой книжонке. — А как же быть? — возразил Слава. — Ведь это официальное издание. Госиздат… — Мало ли глупостей у нас издают… — Кузнецов рассердился. — Напорола вздорная баба невесть чего, а у нас и рады… — Он строго посмотрел на Ознобишина. — Садись, слушай и усвой то, что я тебе скажу. Раз уж затеяли, проводите свой диспут, но… Поменьше о свободной любви. Семья — это первичная ячейка общества. Говорите о воспитании подрастающего поколения, о нравственности, но увязывайте все это с нашей борьбой, с практической работой, не забывайте, что живем мы не в безвоздушном пространстве. Слава согласно кивал, но помнил ленинскую речь на съезде комсомола, и то, что советовал Кузнецов, отвечало тому, что говорил Ленин. — Кстати, кто докладчик? — осведомился Кузнецов. — Вержбловская. Кузнецов поморщился. — Что за выбор? Надо кого-нибудь посерьезнее. — Девушек тоже надо привлекать, — оправдался Слава. — Женская в общем тема… — Ну что она там начирикает? — Кузнецов поморщился, предложил: — Возьмись-ка лучше ты сам? — Я и так выступлю, — возразил Слава. — Поручи кому-нибудь другому, — предложил Кузнецов. — Хотя бы Ушакову, он сам у вас как девушка… Слава не согласился с Кузнецовым, ему хотелось, чтобы доклад делала девушка, — договорились, что будут два докладчика. По городу расклеили плакаты, рисовали их все работники укомола. — Семья и коммунистическое общество, — диктовал Слава. Ушаков переставил слова: — Коммунистическое общество и семья. Слава не придал перестановке слов большого значения. — Не все ли равно? Никто не ожидал, что на диспут придет так много народа, — пришла работающая молодежь, пришли школьники, много учителей, зал партийного клуба заполнен до отказа, хотя приходить не обязывали никого. Собрание вели Ознобишин и Железнов, для солидности пригласили в президиум директоров обеих школ, с опозданием появился Кузнецов, сел рядом с учителями. — Вступительное слово предоставляется работнику укомола товарищу Вержбловской. Раскрасневшаяся, смущающаяся, поднялась она на трибуну, в белой блузке с черным бархатным бантиком. Увы, Кузнецов не ошибся: Франя чирикала… На этот раз она действительно прочла брошюру Коллонтай, ее она и повторяла. Свободные чувства, союз двух, никакого принуждения ни по закону, ни по семейным обстоятельствам, дети ничем не связывают родителей, для детей построят тысячи интернатов… Диспут, может быть, и провалился бы, ограничься его организатор своей выдвиженкой… Но Ушаков — это уже другой коленкор! Его не занимал вопрос, какие обязательства накладывает на мужчин и женщин физическая близость… Он не зря переставил слова. Каким будет коммунистическое общество. Вот что его интересовало! И, лишь представив себе это отдаленное общество, можно представить, каковы будут его институты. Этот деревенский паренек был совсем не так прост, как казался, и начитан немногим меньше Ознобишина. — Мы не можем еще с большей достоверностью сказать, каким будет коммунистическое общество, — говорил Ушаков. — Мы можем лишь определить его главные особенности. Уже несколько столетий назад лучшие умы человечества думали о том, каким будет раскрепощенное человеческое общество, избавленное от власти собственности и эксплуатации человека человеком. Четыреста лет назад англичанин Томас Мор написал замечательную книгу «Утопия», столетие спустя итальянец Кампанелла написал «Город Солнца», через двести лет появились книги Фурье и Сен-Симона… Он называл имена великих утопистов. Откуда он их взял? Да из того же источника, из которого черпал свои познания Слава. В те годы Госиздат заполнил страну книгами прогрессивных мыслителей всех времен и народов. «Город Солнца» и «Утопия» лежали на столах у многих комсомольских работников… — Семья? — спрашивал Ушаков. — Что определяет общественные и семейные отношения? Прежде всего политический и экономический уклад общества. Представьте себе, упразднена частная собственность, устранено социальное неравенство, труд стал внутренней потребностью человека. Кампанелла мечтал именно о таком обществе! И написал книгу о городе, жители которого руководствуются этими принципами. А сто лет назад, когда декабристы пытались уничтожить в России самодержавие, французский мыслитель Фурье высказал предположение, что в будущем коммунистическом обществе развитие производительных сил сотрет грани между умственным и физическим трудом… Кузнецов улыбался, никогда Слава не подумал бы, что Кузнецов способен так счастливо улыбаться, и не замечал, что и сам он улыбается так же счастливо и радостно. Вот ради чего они все, собравшиеся в этом зале, жили и боролись, вот почему стремились на фронты гражданской войны, ловили дезертиров, искали запрятанный кулаками хлеб и экономили каждую каплю керосина! И слушали Ушакова совсем не так, как Франю. — А теперь представьте себе общество, о котором мечтали Маркс и Энгельс и которое мы теперь создаем, и подумайте, сохранится ли семья в таком обществе? Разумеется, сохранится. Счастливый человек не откажется от своего ребенка, не откажется же он от самого себя, потому что ребенок — это его собственное и более совершенное воплощение. А если человек любит своего ребенка, значит, любит и женщину, родившую этого ребенка, потому что гармонический человек будущего будет просто не способен искать легких и временных связей. Слава знал, что Никита Ушаков еще не ухаживает за девушками, ни в кого не влюблен, для него любовь еще отвлеченное понятие, но именно такие чистые и уверенные в себе люди и создают хорошие семьи. Ушаков категоричен, и, боже мой, какие же споры разгорелись в зале! Как будут воспитываться дети и какими должны быть отношения между супругами, имеет ли право мужчина разойтись с женой, если у нее от него дети, кто из супругов должен обеспечивать семью, какие обязательства возникают у общества по отношению к семье и, наконец, существует ли любовь и что такое счастье… И вдруг Славе открылось, до чего же все они выросли. Оказывается, не один Ушаков читал Кампанеллу… И вспомнился Славе разговор о будущем года два назад на крыльце Успенской школы. Как они тогда были наивны! А сегодня ребята так и чешут: какой будет труд, как повлияет на человеческие отношения покорение природы, что нужно для гармонического развития личности… Не все, но многие спорили вровень с Ушаковым, и многие из тех, что выступали сегодня в клубе, еще покажут себя! — Ты будешь выступать? — спросил Кузнецов. Слава пожал плечами: — Зачем? — А я скажу несколько слов. Кузнецов поднялся на трибуну, но заговорил не столько на семейные темы, сколько возвращал своих слушателей к заботам сегодняшнего дня: — Заглядывать в завтрашний день, конечно, надо, но не забывайте и о сегодняшнем, семьи надо не разрушать, а крепить, так легче и дружнее работается, а дел у нас по горло… Даже Кузнецов остался доволен диспутом и, что редко случалось, на прощание крепко и одобрительно пожал руки и Ушакову и Ознобишину. Никита и Слава вышли на улицу. — А ты, оказывается, много читаешь, — похвалил Слава Ушакова. — Я бы еще больше читал, да времени не хватает, — огорченно отозвался Никита. — Уж больно много у меня дома хлопот… И заторопился к себе в деревню, он никогда не оставался ночевать в городе. Слава услышал за своей спиной перебор каблучков, его догоняла Франя. — До чего хорошо прошло! — защебетала она. — Как ты думаешь, Кузнецову понравился мой доклад? Она принялась делиться впечатлениями, точно Ознобишин не был участником диспута. — Я зайду к тебе? — неожиданно предложила ему Франя. Она никогда не заходила к Славе, и ему польстило ее внимание. — Зайдем, — согласился он. Тихонько, чтобы не разбудить Эмму Артуровну, миновали зал, вошли в темную комнату. Слава повернул выключатель, лампочка осветила кое-как застеленную кровать и разбросанные по столу газеты. — Как у тебя неуютно! — пробормотала Франя. — Извини, — сказал Слава. — Не успеваю убраться. Франя присела на кровать. «Нет, все-таки она хорошенькая», — подумал Слава, посматривая то на Франю, то на обои. — Помнишь, как ты привез мне конфеты? — А зачем ты обманывала Сергея? — упрекнул ее Слава. — Чем же это я его обманывала? — А тем, что делала вид, будто влюблена в него, я сам это видел. — Видел то, чего не было! — Франя рассердилась. — И вообще, если хочешь, любить можно сто раз! — Любовь бывает только один раз в жизни! Франя пожала плечами. — Ты еще маленький и ничего не понимаешь. — И сколько же раз ты уже любила? — поинтересовался Слава. — Я? — Франя ласково ему улыбнулась. — Дурашка, представь, я еще ни разу никого не любила. Слава в смущении отвернулся к окну. — А меня ты мог бы полюбить? — неожиданно спросила его Франя. Он не знал, что ей на это сказать, диспут на такую скользкую тему куда легче было вести в клубе, он и в самом деле не знал, может ли он полюбить Франю, она ему нравилась и не нравилась, иногда он ею любовался, а иногда она чем-то ужасно его раздражала. — А ты сам любил кого-нибудь? — Нет, — признался Слава. — Когда же мне было… — И сейчас ни в кого не влюблен? — допытывалась Франя. — Нет, — с отчаянием повторил Слава. — А почему? — капризно спросила Франя. Тогда Слава повернулся к ней и, глядя в ее широко раскрытые овечьи глаза, нерешительно сказал: — Потому, что я… еще не понимаю… ну, понимаешь, я еще не понимаю, что такое любовь. 23 Никто в укомоле не приходил на работу к определенному часу, да и часов ни у кого не было, поднимались вместе с петухами, ели что придется и бежали на службу. Слава пришел к себе в кабинет… Кладовки у малоархангельских мещан побольше. А Железнов не прочь хоть на часок завладеть этим кабинетом. К нему тотчас вошла Франя, она пришла на работу еще раньше. — Вчерашняя почта. Положила перед Славой зеленую картонную папку с белыми, завязанными бантиком тесемками и перечислила наизусть: — Две инструкции, пять циркуляров, шесть заявлений и одно письмо. — От кого? — Личное, тебе. Редко кто получал в укомоле личные письма. Слава раскрыл папку, письмо лежало поверх остальных бумаг, серый конвертик без марки, письма чаще доставлялись с оказиями, чем по почте. «От какой-нибудь барышни», — подумал Слава, местные девицы писали иногда записочки Ознобишину. Надорвал конверт. Листок из ученической тетрадки. «Слава! Иван Фомич скончался. Похороны послезавтра…» Господи, Иван Фомич!… И дальше: «Ему хотелось бы…» Зачеркнуто. «Мне хотелось бы…» Зачеркнуто. И подпись: «Ирина Власьевна». Все письмо. Две строки. Слава провел рукой по глазам. — Когда пришло письмо? — Вчера. — Почему сразу не передала? — Разве что-нибудь срочное? — А кто принес? — Какой-то мужик. Слава побежал в соседнюю комнату к Железнову и Ушакову. — Ребята, я уезжаю… — Он не сумел бы объяснить, почему ему необходимо ехать. Не смог бы объяснить им, кто это Иван Фомич. Учитель из Успенского. Мало ли учителей… — Что-нибудь случилось? — Да… — Не мог объяснить. — Мама… — Поправился: — Мать заболела… — Болезнь матери уважительная причина. — Я вернусь через два дня… — Откуда ты знаешь, сколько ты там пробудешь, — сказал Ушаков. — Разве можно поручиться… Железнов предложил: — Достать тебе лошадь? — Не надо. Неудобно просить казенную лошадь для личных надобностей. Слава побежал на базар. Там не могла не быть приезжих из Успенской волости. Они и были. Из Каланчи, из Критова, из Козловки. За церковью шла небойкая торговля. Картофелем, холстом, коноплей, свининой. Торговали осторожно, как бы из-под полы, отвыкли уже от свободной торговли. Слава вглядывался в незнакомые лица. Не может быть, чтобы его никто не знал. Вот бабенка, курносая и, похоже, злая, с узкими поджатыми губами, в ситцевом платке в белый горошек. — Мотя! — Узнали? Мужики как-то обидели ее при дележе покоса, она нажаловалась Быстрову, и тот вместе со Славой заехал в Каланчу и восстановил справедливость. — Ты скоро домой? — Доторгую и поеду. — Захватишь меня? Расторговалась она не скоро, Слава терпеливо ждал, хотя внутри у него все кипело. Дотемна проехали только полдороги. Мотя боялась ехать в темноте, остановились у чьей-то избы, решили ночевать в телеге, однако холод загнал их в избу, на рассвете тронулись дальше. Славе хотелось спросить Мотю, слышала ли она о смерти Ивана Фомича, его знали во всей округе, но так и не спросил. В Каланче Мотя остановилась перед своей избой, пригласила: — Заходи, Миколаич, накормлю, пообедаешь. Звала от чистого сердца, но Слава спешил, спрыгнул с телеги, зашагал пешком — до Успенского оставалась самая малость. Только наедине с собой, посреди пустой проселочной дороги, он стал ощущать безмерность своей потери. Майское утро овевало и поля, и придорожные ветлы, и непросохшую от ночной сырости дорогу душистым влажным теплом. Парит, но не знойко, как в июле, а нежно, мягко, добро. Хорошо жить! А человека нет, нет большого, умного и доброго человека. Слава идет быстрее. У церкви стояло двое мужиков да несколько баб. Слава удивился, Никитина должны были хоронить все, кто его знал, жители всех окрестных деревень и сел. Бирюзовые купола над церковью, смертная вокруг тишина. Слава провел пальцем за воротом, душно, воздуха не хватает, обдернул курточку, подтянулся, — никто не пришел, так я пришел, — пришел сказать Ивану Фомичу спасибо за все, что от него получил и не получил, — поднялся на паперть, и, бог ты мой, как же это я мог подумать, что никто не пришел, — все пришли, пришли жители всех деревень, что разбросаны поблизости от Успенского. Церковь полным-полна — от притвора до алтаря — мужиков, баб, девок и ребят, ребят всех возрастов видимо-невидимо! Провожают Ивана Фомича! Лучший учитель… Льется дневной чистый свет, светлыми полосами растекается над головами, горят свечи, много свечей, пред тобой, Господи Иисусе Христе, пред тобой, Матерь Пресвятая Богородица перед всеми вами, святые наши заступники… Слава обдернул курточку и ступил в притвор. Вот он, Иван Фомич, в просторном, ладно сбитом дубовом гробу. Лежит головой к алтарю, гроб накрыт парчовым покровом, по углам четыре подсвечника, текут со свечей восковые слезы… Встал Слава справа, все глядят на него — пришел-таки отдать последний долг, а сам он не смотрит ни на кого. Отец Валерий, мужик мужиком, а дело знает, справляет похороны по наилучшему чину, не пожалел ни ладана, ни свечей, знай себе омахивает новопреставленного раба божия Иоанна серебряным кадилом, поднимает душистые облака, перед аналоем дьякон, отец Кузьма, возглашает вечную память, вторят ему на клиросе сестры Тарховы, все, кто пел когда-либо в церковном хоре, собрались сегодня отдать последний долг Ивану Фомичу, проводить его надгробным рыданием. «И ведь правильно, что Ивана Фомича отпевают в церкви, — думает Слава. — Простой русский мужик — и до чего же вознесся…» До чего же красиво отпевают директора деревенской гимназии… Отучил ты нас и алгебре, и геометрии, и литературе… Иван Фомич в мундире, плечи обтянуты черным сукном, зеленый кант вьется по вороту и прячется под черной бородой… — Вечная память, вечная память, вечная память, — возглашает отец Кузьма. — Вечная память, вечная память, вечная память, — вторит хор. Все, как положено, думает Слава. Торжественно шествует русский мужик по синим облакам в рай… Тысячелетие прошло с той поры, как Русь приняла христианскую веру. Многие города и страны объехали посланцы великого князя Владимира и нигде не нашли веры красивее, чем в Византии. Ныне кончается эта вера, на смену ей приходит другая, более совершенная — тысячу лет верили христиане в жизнь, которой не знали, а теперь, на смену ей, приходит жизнь познанная, красивая, жизнь на земле. Уходит Иван Фомич, ни до чего ему уже нет дела, все презрел, все оставлено — и просторный дом помещиков Озеровых, и деревенская гимназия, и постоянные тяжбы с мужиками, и откормленные свиньи, и собрание русских классиков… Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил… Он уважать себя заставил! Все село собралось хоронить Ивана Фомича, Коричневая старуха, которую Слава и в глаза-то никогда не видал, стоит обок и плачет. Устинов Филипп Макарович крестится размашисто, широко, истово, впрочем, ему можно, он беспартийный, ему подобает стоять в церкви и провожать Ивана Фомича, соблюдая установленные правила. Ирина Власьевна, опухшая и постаревшая, смотрит не на мужа, а куда-то вперед. Смотрит пристально, неотступно, скорбно. Попросят ее теперь выселиться из школы… Слава давно уже не видел Ирины Власьевны и не может отвести от нее глаз. На ней серая кофта и черная юбка, кофта поверх юбки. Попросят из школы! А куда она пойдет? Ни Митрофан Фомич, ни Дмитрий Фомич не возьмут ее, каждый сам за себя. Придется ей перевестись в какую-нибудь начальную школу, думает Слава. Надо будет сказать об этом Зернову. Ничего, не пропадет Ирина Власьевна. — Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Льются-переливаются женские голоса на клиросе. Отец Кузьма подает отцу Валерию кадило. Идет отец Валерий вокруг гроба, взмахивает кадилом. Не пожалел дьякон ладана. Синий дым клубится в воздухе. Взгляд Славы устремляется вверх, под самый купол. Как чудесна все-таки высота! Отец Валерий все машет и машет кадилом. — Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, праотец, отец и братии наших, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная! Жизнь бесконечная… Всякой жизни приходит конец. Пришел конец Ивану Фомичу. Отпоют, попрощаются, зароют… Как бы не так! Он будет жить! Школа никуда не денется, не пропадет. От помещиков Озеровы" воспоминания не останется, а школа будет существовать. Будут жить и действовать его ученики. Я буду жить. Зря, что ли, спорили мы с ним о Блоке! Не поспорили бы, не вступил бы я в комсомол… Как ужасно поет коричневая старуха! Все время фальшивит. Дочери отца Тархова поют чисто, радостно. 24 Слава совсем было отрешился от всего, что его окружало, как вдруг откуда-то из-под купола упал солнечный луч и коснулся его лица… Слава оглянулся как раз в тот самый момент, когда в церковь вошла Маруся Денисова. Она медленно шла по каменным плитам, прижимая к груди цветущие яблоневые ветви. Нежные бело-розовые цветы дышали весенней истомой, источали еле ощутимый сладковатый аромат, лепестки дрожали… Маруся медленно шла по церкви, прижимая к груди цветы, и вдруг — неожиданно, сразу, внезапно — Славу пронзила мысль, что он любит… Любит Марусю! Раньше он даже подумать не мог, что может кого-нибудь полюбить, любовь настигла его в тот момент, когда Маруся приблизилась к гробу. Она обошла аналой, поднялась на ступеньку, стала в ногах Ивана Фомича, чуть наклонилась вперед и положила цветы. Нет в мире ничего прекраснее этих розово-белых цветов. Слава сразу ощутил всю прелесть и красоту… Цветов или Маруси? Никогда не видел он ее такой… Такой красивой! Видел множество раз, но не замечал ни ее горделивой осанки, ни разлетевшихся к вискам коричневых бровей, ни узких больших глаз, ни синего их блеска, ни пушистых прядок на висках, ни строгих тонких губ, ни румянца на смуглых щеках, ни легких рук, обтянутых голубеньким ситцем… Румянец заливает щеки, но Слава этого не чувствует, товарищу Ознобишину не подобает краснеть. Как, впрочем, не подобает и обращать внимание на девушек… Да еще во время заупокойной службы! — Прощайтесь, — негромко произносит отец Валерий. Первой подходит Ирина Власьевна. В лице у нее ни кровинки. Но не плачет. Губы стиснуты, точно они на замке. Наклоняется к мужу. Вот и Дмитрий Фомич подходит, и Устинов, и Введенский… Кто-то смотрит на Славу, он понимает, его черед. Прощайте, Иван Фомич… Слава толкает кого-то, кто стоит позади него, но не оборачивается. — Простите, — говорит он и подходит к Марусе. — Здравствуй… — Здравствуй, Слава… Они рядом, как два школьника, как два ученика. Слава чуть касается ее руки. — Где это ты обломала яблони? — Возле школы, — шепчет Маруся. — Яблокам на них все равно не бывать, обдерут и ребята и телята. Она права, с тех покалеченных яблонь, что растут перед школой, никто еще не дождался ни яблока, не успеют появиться завязи, как ребятишки обобьют палками. Легкое замешательство, и вот уже плывет Иван Фомич на холстах в свой последний путь. Стоят Слава и Маруся у могилы… 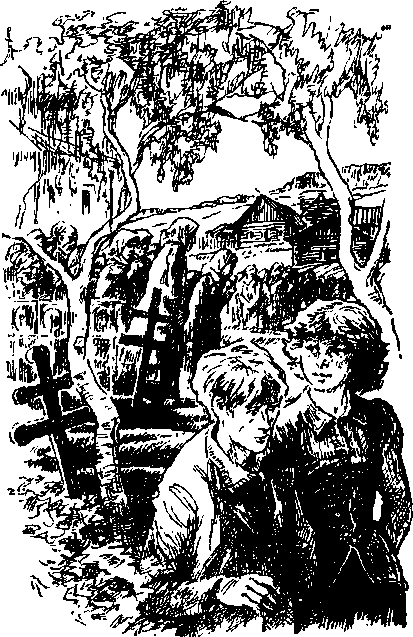 Последние возгласы певчих, последний взмах кадила, последний крик… Ирина Власьевна приглашает всех на поминки, поминальный обед братья устраивают у Митрофана Фомича, там уж загодя припасена не одна четверть самогона, наварено и нажарено столько, чтобы все разошлись со сладкой думой о покойнике. — Пойдем? — спрашивает Слава, и Маруся понимает, не к Митрофану Фомичу зовет он ее, они прячутся за березу и скрываются меж крестов, темных, обветренных, обветшалых. Где-то здесь закопан Полиман, деревенский дурачок, расстрелянный проезжим трибуналом. Но Слава о дурачке даже не вспоминает, иная мысль, острая и хмельная звенит в его голове. Как же не замечал он Марусю? Вместе учились, ходили в один класс, сидели неподалеку, и — не замечал, не замечал, а сейчас заслонила все на свете? — А знаешь, Маруся, я часто о тебе вспоминаю, — говорит Слава… Ни разу, ни разу не вспомнил он о ней в Малоархангельске! — Знаю, — говорит Маруся. Откуда она может знать? Они выбираются из частокола крестов, ноги тонут в густой траве. — Ты любишь стихи? — спрашивает Слава. — Не знаю, — отвечает Маруся. Не сговариваясь, переступают заросшую травой канаву. — Смотри, — говорит Маруся. — Как сильно цветет земляника. — А ты умеешь варить варенье? — спрашивает Слава. — Не знаю, — отвечает Маруся. — Дома у нас не варят варенья. — А у меня мама очень хорошо варит, — говорит Слава. — А она научит меня? — спрашивает Маруся. — Конечно, — говорит Слава. И опять молча бродят в березовой рощице. — Мне пора, — говорит Маруся. — А то заругаются, скоро корову доить. — Хорошо, — соглашается Слава. — Пойдем. — Нет, ты погоди, — говорит Маруся. — Пойдем порознь, а то неудобно… Она уходит, и Слава один уже слоняется между берез и думает, какое это странное чувство — любовь. 25 Слава еще спал, когда за ним притопал Григорий. Вера Васильевна разбудила сына: — За тобой из исполкома. — О, господи, — вздохнул Слава. — Не терпится, все равно ведь зайду… Надо возвращаться в Малоархангельск, но в исполком он обязательно зашел бы — Успенский волисполком для него все равно, что родной дом. — Кому я там понадобился, дядя Гриша? — Данилочкину, кому ж еще! Церковь идут грабить, вот и приглашает тебя разделить удовольствие. — Какую еще церковь? Слава не понял сначала, подумал, что собираются идти в церковь с обыском, такое случалось, — прятали в церквах и оружие, и хлеб, однако отец Валерий вряд ли на это способен, человек принципиальный, богу служит, но в грязные дела не ввязывается. Григорий снисходительно покачал головой: неужели непонятно? — Ценности идут отбирать. Серебро, золото. Да ты что, Вячеслав Миколаич? Неужели не знаешь? Слава хлопнул себя по лбу, как это он не сообразил: еще ранней весной опубликован декрет ВЦИКа об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих… Постепенно, от церкви к церкви, шло это изъятие. Слава сам читал секретные сводки о том, как оно проходило. Не обходилось без инцидентов, а местами так и серьезных волнений. Патриарх Тихон призвал верующих противиться изъятию ценностей из церквей, и всякие темные элементы пользовались случаем возбудить людей против Советской власти. Не без волнений проходило изъятие ценностей и в Малоархангельском уезде: в Куракине мужики избили милиционера, а в Луковце подожгли церковь, пусть все пропадет, а не отдадим… Солнце по-полуденному припекло землю, а окна в исполкоме закрыты, от духоты можно задохнуться, но почему-то никому не приходит в голову распахнуть рамы, не до того, должно быть, все в исполкоме побаиваются предстоящего испытания. Из-за стола, за которым еще не так давно сидел Быстров, навстречу Ознобишину ковыляет Данилочкин. — Что ж, Вячеслав Николаевич, церковь посетил, а исполком стороной обходишь? Слава подошел к Дмитрию Фомичу, тот сидел за своим дамским столиком грузный и сонный, впервые Славу поразило несоответствие этого стола и нынешнего его владельца; удивительно, как эта принадлежность дамского будуара выдерживает тяжесть мужицкой руки. Голова Никитина низко опущена. «Переживает смерть брата? — думает Слава. — Сразу не поймешь…» Тут Дмитрий Фомич скользнул по Ознобишину взглядом, глаза у него блестят, он не произносит ни слова и отводит глаза в сторону. — Получили указание изъять из церквей ценности, — продолжает тем временем Данилочкин. — Собирались позавчера, да не хотели мешать похоронам. Хотим попросить тебя, товарищ Ознобишин, поприсутствовать вместе с нами. Отказать Данилочкину Слава не может. — Пошли, комиссия уже там… В комиссию входили Данилочкин, Еремеев, который ввязывался во все дела, связанные с реквизициями и обысками, Устинов от сельсовета, Введенский от учителей — сын священника, он был как бы гарантией тому, что не будет допущено никаких злоупотреблений, и, наконец, Григорий, сторож волисполкома. — А Григорий от кого? — удивился Слава. — От общественности, — серьезно произнес Данилочкин. — Мужики ему верят больше, чем мне. Перед церковью множество старух, до них уже дошел слух об изъятии. Еремеев, Устинов и Введенский на паперти, старухи на лужке за оградой. Едва показался Данилочкин, старухи заголосили: — Господи, и на кого же ты нас покидаешь, батюшки мои родные, маменьки мои родные, осиротинил ты нас, беспомочных, обескрышил ты нас, детиночек… Причитали, как на похоронах. — Кыш, кыш, старухи! — прикрикнул на них Данилочкин. — Будя! Никто вас не обидит… Товарищ Куколев, пригласите гражданина Тархова! Что это еще за Куколев? Оказывается, Данилочкин обращается к Григорию, Слава и не знал, что его фамилия Куколев. Григорий пересекает лужайку, но не успевает дойти до Тарховых, как из дома показывается отец Валерий, в люстриновой рясе, с наперстным крестом, при всем параде, только из-под рясы торчат рыжие яловые сапоги. Тоже поднимается на паперть. — Гражданин Тархов, — громко спрашивает Данилочкин. — Вам известно, что Советская власть издала декрет о конфискации церковных богатств? — Какие у нас богатства… — Я спрашиваю, — строго повторяет Данилочкин, — известно вам о декрете? — Известно. — Перед вами комиссия волисполкома, — еще громче объявил Данилочкин. — Пришли произвести опись и конфискацию, ключи от церкви при вас? — Пожалуйста. — Ваше присутствие обязательно. — А я не уклоняюсь… Притихшие было старухи вновь заголосили, заплакали, запричитали. — Открывайте, — приказал Данилочкин… Не так уж они безобидны, эти старухи, голосить голосят, но смотрят свирепо, минута-другая и начнут браниться, а там, глядишь, и драться полезут. Многое зависело от отца Валерия. — Бабки, подойдите поближе! — подозвал их Данилочкин. — Чего галдите? Или уж совсем всякое понятие потеряли? Старухи медленно двинулись к паперти. Солнце припекало все сильнее. Данилочкин спустился на две ступеньки. Еремеев дернул его за рукав, он был противником лишних разговоров. Но Данилочкин только отмахнулся, его трезвый крестьянский ум подсказывал, что таиться от народа опасно. Старухи посматривали с недоверием, однако молчали, готовы были слушать. — Так вот, бабки, — начал Данилочкин. — По вкусу вам хлеб с лебедой? А на Поволжье такой хлеб посчитали б за пряник. Только там и такого нет, тот голод даже вообразить невозможно. Люди людей ели, это до вас доходит? Обязаны мы помочь тем, кто от голода пропадает? Мне можете не верить, но это не я, а товарищ Ленин написал в газете, что такой тяжелой весны у нас еще не было. Нам хозяйство надо восстанавливать, надо покупать зерно, хлеб, консервы. Все можно купить у капиталистов, только денег у нас нет, а купить нужно обязательно. Вот Советская власть и решила собрать по церквам золото и серебро на пользу народу… Он вбивал свои слова в глупые бабьи головы, но в разговор не вступал, чувствовал, может возникнуть перебранка, надо утомить слушателей, обезоружить, а потом оборвать речь и идти делать свое дело. Слава слушал и завидовал, так просто разговаривать он не умел. — А вы, батюшка, хотите что-нибудь сказать своим прихожанкам? — спросил вдруг Данилочкин, и Слава заметил, что Василий Семенович уже не называет священника «гражданином Тарховым». — Что я могу сказать? — сказал отец Валерий. — Никому не посоветую идти против государственной власти. Золота у нас нет, да и серебра мало, однако Христос учит делится со страждущими последней рубашкой… Тут одна из старух с лицом, сморщенным, как печеное яблоко, выскочила наперед. — Испужался? — завизжала она. — Пес ты после этого, а не поп! Крест отдашь, а чем благословлять будешь? Отец Валерий осенил старух крестным знамением. — Шли бы вы лучше по домам! Повернулся к ним спиной и решительно зашагал в церковь. Гражданин Тархов повел комиссию в алтарь, там хранились серебряные чаши и блюда, подавал Данилочкину, Данилочкин передавал Введенскому, и тот записывал в тетрадь название переданного предмета. — А золото? — спросил Еремеев. — Золота нет, — отвечал Тархов. — Откуда в нашей церкви быть золоту? Пошли вдоль иконостаса, с нескольких икон сняли серебряные ризы. — А вы слушали, батюшка, что патриарх Тихон запретил церковнослужителям сдавать государству ценности? — спросил Еремеев. — Как не слышать, — мирно отозвался отец Валерий. — Мы его воззвания по почте получили. — Не подчиняетесь, значит, начальству? — Не то, что не подчиняюсь, но и под суд идти нет охоты. Данилочкин посмотрел на него: — Значит, и об этом осведомлены? — Так мы, Василий Семенович, газеты читаем, я думаю, аккуратнее, чем, например, товарищ Еремеев. — А это что? — продолжал Еремеев, указывая на громадную книгу. — Евангелие. — А это что? — Переплет. — Из чего переплет? — Серебряный. — А что за украшения? — Бирюза, халцедоны. — Драгоценные камни? — Полудрагоценные. — Что это вы прибедняетесь? Есть верующие, есть неверующие, а полуверующих не бывает. Драгоценные или не драгоценные? — Ну, ценные камни. — Так и говорите. Придется забрать. — Не могу я отдать Евангелие, я без него службу справлять не могу. — А мы ваше Евангелие не заберем, серебро с него только снимем. И Еремеев рывком содрал серебряную ризу с Евангелия. — Что ж это вы… Отец Валерий даже всхлипнул. — Для голодающих! Отец Валерий тронул висевший у него на груди крест. — Тоже прикажете снять? Еремеев хищно взглянул: — А он серебряный? Но Данилочкин решил проявить великодушие. — Крест-то лично ваш или церковный? — Крест мне был пожалован… — Ну носите себе на здоровье! Немного ценностей наберется в обычной деревенской церкви, и пуда серебра не нашлось, ссыпали все в корзину, понесли в исполком, еще раз пересчитать и переписать. — Я на минуточку, — сказал Слава Данилочкину. — Сейчас вернусь… Огородами побежал домой. Покуда он ходил от иконы к иконе, ему все больше становилось не по себе. Голод, голод… Это не просто слова, это жизни людей, это благосостояние государства. Трудно, значит, правительству, если оно решилось собрать золото, хранимое в церквах. Ценности, накопленные церковниками, — это в общем-то пот и кровь множества людей, отрывавших от себя последние копейки в пользу церкви. А ведь сколько золота еще у людей! Если бы все собрать… Вот и у мамы лежит брошка, думал Слава. Воспоминание о свадьбе. Много, немного, но чего-то она стоит. А он знает и мирится с этим… В доме тишина. Нигде никого. Федосея с Надеждой Павел Федорович послал на хутор полоть капусту. Одна Вера Васильевна мыла на кухне посуду. Слава подбежал к матери, запыхавшийся, взволнованный. — Мама, где твоя брошка? — У меня. — Отдай ее мне! — Погоди, Слава, объясни. — Видишь ли, мамочка, собирают золото для голодающих… — Ты очень щедр! А если с нами что случится? Это все, что у нас есть на черный день. — Он уже пришел, черный день. Не для нас. Для таких, как мы… Вера Васильевна могла затеять разговор надолго, а Слава торопился, брошка нужна немедленно. — Если ты не отдашь брошку, я уеду и ты никогда, — слышишь? — никогда уже меня не увидишь! Из корзиночки с бельем достала Вера Васильевна металлическую коробочку с пуговицами, в этой коробочке и хранилась пресловутая брошка, завернутая в папиросную бумагу. Так же стремительно, как бежал домой, Слава понесся в исполком. Члены комиссии окружили стол, на котором разложены вещи из потускневшего серебра, дароносица, чаша для причастия, кадило, оклады с икон… Введенский начисто переписывал акт об изъятии ценностей. Данилочкин строго посмотрел на Славу. — Где это ты пропадал? Теперь следовало незаметно присоединить ко всем этим церковным вещам мамину брошку. Он выбрал себе в соучастники Данилочкина и быстро положил брошку в дароносицу. — Василий Семенович, тут еще какая-то брошь. Похоже, что с бриллиантами. Данилочкин догадался, кто ее принес, и вступил в игру. — Отнес небось кто-нибудь попу на сохранение, а теперь пойдет на доброе дело… Упомянули в акте и брошь: «женское украшение из золота пятьдесят шестой пробы с прозрачными белыми камнями». Однако Данилочкину хотелось знать, откуда взял ее Слава. Отвел Славу к окну. — Откуда она у тебя? Слава замялся. — Все ясно, — догадался Данилочкин. — Изъял у своего дяди? — Какого дяди? — удивился Слава. — Как какого — у Астахова. — Какой же он мне дядя? — возмутился Слава. — Да я тебя не корю, — примирительно сказал Данилочкин. — Правильно поступил, об этом даже написано: грабь награбленное, ведь не для себя взял, а для государства. 26 Всего три дня отпущено товарищу Ознобишину на поездку в Успенское, а сколько уже событий позади: похороны Ивана Фомича, встреча с Марусей, участие в изъятии церковных ценностей… Только для родной матери нет времени! Накануне отъезда он пришел домой с твердым намерением провести остаток дня с Верой Васильевной и Петей. А Вере Васильевне просто необходимо поговорить с сыном. — Все бегаешь, не посидишь, — упрекнула его мама. — А мне ведь не с кем посоветоваться… Слава порывисто обнял мать. — Я удивилась, что ты приехал, — призналась она. — До Малоархангельска неближний путь. Как это ты узнал о похоронах? Смотрю, подходишь прощаться… — Ты разве была в церкви? — Ох, Слава, Слава… Где ты только витаешь? Ничего не замечаешь. А потом исчез. Ты что, ходил на поминки? — Ну что ты! Меня известила Ирина Власьевна. — Для нее это страшный удар, да она еще на сносях. Однако смерть Никитина удар не для одной Ирины Власьевны, это удар для всего Успенского, школа держалась Иваном Фомичом. — А где ты сейчас пропадал? — Гулял. Он не хотел говорить, что ходил повидаться с Марусей. — Ты голоден? Она накормила сына, на кухне у Надежды одни щи, но Вера Васильевна нашла в кладовушке несколько яиц. — Поживешь дома? Слава виновато развел руками. — Завтра обратно, ты не представляешь, какая у нас там горячка. Вечер он провел с мамой и с Петей. Все трое не могли наговориться. Вера Васильевна мельком, почти не жалуясь, обронила несколько слов о том, что ей с Петей жить становится все труднее. Если бы Петя не работал наравне с Федосеем, пришлось бы еще хуже. Перед сном Слава не выдержал. — Мама, а Маруся Денисова еще учится? — спросил безразличным тоном. — Ей на будущий год кончать? — Что это ты ее вспомнил? — удивилась Вера Васильевна. — Встретил в церкви, — объяснил Слава. — Как похорошела! — А ты заметил? — Вера Васильевна улыбнулась. — Первая на селе невеста. — А за нее сватаются? — с тревогой спросил Слава. — Уже не раз, — сказала Вера Васильевна. — Но она не торопится. — И не надо, — поспешно согласился Слава. — Зачем бросать школу? Но дальше он о Марусе говорить не захотел, принялся расспрашивать Петю о всяких деревенских новостях. Утром пришла Надежда, позвала завтракать. Вера Васильевна удивилась, Павел Федорович и Марья Софроновна ели отдельно от Веры Васильевны и Пети. — Павел Федорович наказывали непременно… Не иначе, их звали за общий стол по случаю приезда Славы. Так оно и оказалось. Для обеда рановато, но по обилию блюд ровно бы и обед: куриная лапша и отварная курица, жареная свинина на сковородке, пшенная каша, творог. Давно Слава не видел такого стола, да и Вера Васильевна с Петей отвыкли от подобного изобилия. — Ну, Вячеслав Николаевич, с приездом, — приветствовал Славу Павел Федорович. — Твоя мамаша чего-то от нас отгораживается, а мы всегда рады посемейному… Даже Марья Софроновна улыбнулась. — Садитесь, садитесь. — Садитесь и вы, невестушка, и ты, племяшок, — пригласил Павел Федорович Веру Васильевну с Петей. Марья Софроновна придвинула к себе тарелку, поставила меж собой и Славой. — Не побрезгуешь со мной с одного блюда? Лапшу черпали из общей миски, а курицу Марья Софроновна положила себе и Славе отдельно, выбрала самые хорошие кусочки. — Ешь, ешь, заголодовал небось в своем Малоархангельске. Тебе жениться пора, Вячеслав Миколаич. Коль пошел в самостоятельную жизнь, без женщины тебе невозможно. — Ему еще восемнадцати нет, — вмешалась Вера Васильевна. — Даже по закону нельзя. — Они сами себе законы определяют, — возразила Марья Софроновна. — Когда захочет, тогда и женится. Доели курицу, принялись за кашу. — Медку сейчас принесу подсластить, — расщедрился Павел Федорович. Принес в кувшинчике меду, взглянул испытующе на Славу. — А может, чего покрепче? — Я не пью, — отказался Слава, он и вправду с тех пор, как расстался с Быстровым, забыл даже запах самогонки. — Оно и правильно, — согласился Павел Федорович. — Божий дар зря переводить незачем. Съели кашу. — А я тебя вот что хочу спросить, Николаевич, — кафтан-то по всем швам трещит? Слава сперва не понял: — Какой кафтан? Павел Федорович усмехнулся. — Наше вам с кисточкой! Не понимаешь? Не может того быть! Ежели Быстров на кафтане главная пуговица, так не на что застегиваться… Тут до Славы дошло, на что намекает Павел Федорович. — Пуговица-то он, может, и пуговица, да теперь в пуговицах недостатка нет, найдется, что пришить. — А может, мне тебя к своей бекеше пришить? — спросил Павел Федорович. — Не продернется ваша нитка сквозь меня, Павел Федорович! — Говорят, в Орле теперь вся торговля в частных руках. Сперва лавочка, потом магазин, а, глядишь, и все магазины твои. Мои родители по деревням ездили, пеньку скупали, а эвона какое хозяйство вымахали! — Вы это к чему? — Давай, парень, без обиняков, — сказал Павел Федорович. — Я мужик честный, а ты парень умный, чего тебе искать в твоем Малоархангельске? Быстров куда как силен был, а во что его превратили? Твоя партия похуже всякого помещика, дудишь в ее дуду, честь тебе и место, а запел на свой лад, сразу в тычки. — И что же вы предлагаете? — Покамест под ружьем шли, я сам тебе советовал держаться партии, а теперь можно бы ее и побоку. У тебя в уезде влияние, помоги отбить мельницу, а потом ко мне в компаньоны, мне без помощника не обойтись. — На что это вы сманиваете Славу? — испуганно спросила Вера Васильевна. — А на то, чтобы Вячеслав Николаевич побоку свою службу, — объяснил Павел Федорович. — Одному мне мельницу, может, и не отдадут, а в компании с вашим сыном мы ее заполучим, образуем какое-никакое трудовое товарищество по размолу муки высшего сорта, я на себя производство, а сына вашего в бухгалтера… — А дальше? — А дальше — вторую мельницу. Власть будет отступать, а мы подталкивать… — Павел Федорович облизал ложку. — Думаешь над моими словами? Побаловался, пошумел… На то и молодость! Однако взрослому человеку требуется что-то более прочное… Слава молча собирал в миску куриные кости. — Куда это? — удивленно спросил Павел Федорович. — Для Бобки, — объяснил Слава. — Давно с ним не виделся. Пойду отнесу. — Напрасно, — сказал Павел Федорович с усмешечкой. — Почему напрасно? — Пристрелили, — сказал Павел Федорович не без ехидства. — Невзлюбил свою хозяйку, вот Марья Софроновна и не захотела его кормить… — Пойдем, мама… — Я даже не знала, что Бобку собираются застрелить, — виновато сказала Вера Васильевна, выйдя в сени. — Я бы отдала его кому-нибудь… — Она никого не пожалеет, держись ты от них подальше. — Ты уедешь сегодня? — Обязательно. — Я хотела тебя попросить… — О чем? — Зайти к Ирине Власьевне. — Это я и думаю сделать… В тысячный раз перешел он по камням Озерну, поднялся в гору, садом пошел к школе. Сад все такой же общипанный и ободранный. Шелестят лиственницы, привезенные откуда-то издалека помещиками Озеровыми. Цветут яблони, ветки на яблонях обломаны… «Это Маруся обломала», — подумал Слава, только ей и могло прийти в голову проводить Ивана Фомича яблоневыми бело-розовыми цветами. Слава вошел в школу. Пусто и чисто. Как всегда. Ступил на лестницу. Деревянная ступенька чуть скрипнула. — Кто там? — Это я, Ирина Власьевна. Она узнала его голос. — Слава? Вышла из своей комнаты, но к себе не позвала, пошла в класс, тот самый класс, в котором еще недавно занимался Слава. Полуденное солнце заливало класс неистовым светом, парты, окрашенные яркой охрой, ярко сияли, и даже черная классная доска блестела. — Я была уверена, что вы зайдете, — звонко сказала Ирина Власьевна. До чего же не соответствовали звонкому и ровному ее голосу тоскливые и пронзительные глаза! Слава заставил себя заговорить: — А как… как же все произошло? — Сперва думали, простуда. Привезли из Покровского врача. Оказалось, брюшной тиф. Врача привезли слишком поздно, да у него и не было лекарства. Прободная язва… — Он очень страдал? — почему-то шепотом спросил Слава. — Не знаю… И вдруг Слава понял, что ему следовало приехать раньше. Он ничем не мог помочь, зато Иван Фомич мог бы ему помочь. В чем? Он не знал, в чем… Ирина Власьевна стала рассказывать о последних днях Ивана Фомича. — Сперва мы не думали, что он так тяжело болен. Он много говорил о школе. О ремонте, о покупке новых учебников. Говорил, что попросит вас выписать из Москвы какие-то пособия… Никитина не стало, а пособия и учебники, о которых он беспокоился, все равно нужны… — А что вы собираетесь делать? — спросил Слава. — Может быть, нужна моя помощь? — Нет, спасибо, — отказалась Ирина Власьевна. — Я уеду. Евгений Денисович какую-нибудь школу мне, конечно, даст, но все это уже не то. — Хотите, я поговорю с Шабуниным? — предложил Слава. — Вас оставят здесь. — Но Ивана Фомича я не заменю! — возразила Ирина Власьевна. — Нет, уеду… — Она вопросительно взглянула на Славу. — А сами-то вы что собираетесь делать? — Ближайшие годы я посвящу комсомолу… — А учиться? — Конечно, — неопределенно ответил он. — Учиться тоже… Ирина Власьевна испытующе смотрела на Славу. — Вот что я хочу еще вам сказать… Не от себя. Вспоминая вас, Иван Фомич говорил лишь одно: все бы ничего, но ему не хватает образования. Иван Фомич и после смерти подталкивал его к университету. 27 Слава постучал, ему не ответили, за дверью голоса, о чем-то спорят, постучал снова, и снова не ответили, приоткрыл дверь, заглянул — как всегда, у Шабунина народ, вошел, встал у стены. Шабунин ребром ладони стучал по столу. — А ты достань, достань, — твердил он, со злой усмешкой глядя на стоящего перед ним мужика с обвислыми рыжими усами. — Налог вы соберете, о том разговора нет, а остальной хлеб? На базар? Вы торговать научитесь! — Девки румяна спрашивают, кольца… — Вот я и говорю: достань! — Дык откуда ж взять? — спросил рыжеусый с отчаянием. — "Дык, дык", — передразнил Шабунин. — Поезжай в Орел, на складах полно этой дребедени… Тут, перебивая рыжего, в разговор встрял пожилой мужчина в тужурке из синего сукна. — А нам чего? — А вам керосин давно пора вывезти с Верховья, — отрезал Шабунин. — Провороните хлеб, вызовем в уком… Шабунин заметил Славу, он все замечал, только притворялся иногда, что не замечает. — Тебе чего? — Я попозже. — Пришел — говори. Шабунин никогда ничего не откладывал на «попозже», его слова прозвучали как приказ. — Я насчет Колпны… — Что там? — Нет базы для пропаганды. Жалуются ребята, негде собираться, говорят. Везде народные дома, читальни, библиотеки, а у нас только околицы да завалинки, говорят. — А вы чего смотрите? Езжай в Колпну, найди помещение и оборудуй нардом. Есть же там какие-никакие помещички. Поставь вопрос перед волисполкомом — помещиков выдворить, дом забрать… — А куда выдворить? — Это уж их забота. Грабь награбленное. Я, конечно, шучу, но не может быть, чтобы в Колпне не нашлось подходящего помещения. Да не на один день поезжай, а подольше, возьми кого-нибудь себе в помощь. Чтобы не просто ткнуть пальцем: вот вам дом, а осмотрись, привлеки народ, поищи в местных учреждениях мебель, обойдутся в исполкоме и без кресел. Поищите книги из помещичьих библиотек, заинтересуйте учителей, словом, чтобы все честь по чести, людям надо не указывать, а помогать. — Значит, ехать? — Иди на конный двор. Верхом-то ездил? — Спрашиваете! — Пусть тебе оседлают коня — обойдешься без пролетки, и сыпь в Колпну. На конном дворе дали иноходца, крупного, в яблоках. Слава собрался за полчаса; в укоме договорился, что днем позже выедет в Колпну Ушаков, вдвоем они всю волость расшевелят; ремнем привязал к седлу портфель и поскакал вроде как бывалый кавалерист — ноги в стременах, пришпорил бы, да нет шпор! Миновал последние дома, дорога потянулась меж овсов, зеленые кисти клонились к земле, среди зелени лиловел мышиный горошек. До чего ж хорошо в поле! Впереди небо и позади небо, и сам он летит в неведомые края! Если бы не конь! Споткнулся о выбоину, и тупой болью отдалась та выбоина, передняя лука трет и трет, хоть слезай и иди пешком… Слава попридержал лошадь, качнуло вправо, качнуло влево — ох, дьявол, до чего больно! — оглянулся, нигде никого, только коршун висит в небе, да свистят в поле кузнечики. Перекинул ногу через седло, свесил ноги на одну сторону, как амазонка, никто не видит, а так легче, и подумал, что «до Колпны еще ой-ой как далеко». Впереди телега, на телеге баба в желтом платке. Снова ноги в стремена, даже рысью промчался мимо бабы. То вприскочку, то еле-еле тащась, то боком затемно добрался Слава до Колпны. Торчали старые ветлы, а за ветлами лежало село, тускло светились окна, и в отдалении повизгивала гармошка. Слава медленно двигался по сельской улице. Мимо, хихикая, прошли девки. Выбежал из подворотни пес и тут же скрылся. Двухэтажный дом волисполкома, низ кирпичный, верх деревянный, сразу видно, строен торговцем, внизу три больших окна закрыты ставнями, а наверху все окна освещены. Слава соскочил с коня, привязал повод к столбу, поднялся по неосвещенной лестнице на второй этаж. Он нашел Заузолкова, председателя Колпнянского волисполкома, они встречались в Малоархангельске, и Заузолков тоже сразу узнал Ознобишина. — По молодежным делам или еще что? — спросил он, пожимая гостю руку. — Можно сказать, и так, и эдак, — отозвался Слава. — Жалуется на вас молодежь. Нет у них крыши… — На нас, а не на вас? Дитя не плачет, мать не разумеет… — Он снисходительно смотрел на Ознобишина. — Покалякаем завтра утром. Сегодня у нас исполком заседает. Делим косилки и жатки… — Между кем делите? — поинтересовался Слава. — Собрали по волости, у кулачков отобрали лишнее, в помещичьих экономиях кое-что осталось. Вот и раздаем сельсоветам, чтоб помогли бедноте. Куда ж нам тебя определить на ночевку? — задумался он. — Тут у нас разговоров до утра! — Да я здесь где-нибудь, — предложил Слава. — Зачем? — возразил Заузолков и поманил к себе человека в солдатской фуражке. — Товарищ Крептюков, председатель сельсовета, Иван Афанасьевич, — представил. — А это молодежный секретарь с уезда товарищ Ознобишин. Будь ласков, Иван Афанасьевич, отведи товарища Ознобишина… К Федорову. Пожалуй, так сподручней всего. Попроси Евгения Анатольевича принять гостя как положено. Крептюкову, должно быть, не впервые приходилось водить приезжих по указанному адресу, он выжидательно посмотрел на гостя из Малоархангельска, а Заузолков тут же отошел и вмешался в чей-то спор. Слава вновь очутился на улице. — Ваш? — спросил провожатый, указывая на коня. — Забирайте с собой. Свернули в проулок в сторону от села, Крептюков вывел приезжего на широкую аллею, в темноте Слава не мог рассмотреть таинственно шелестящие деревья. Шли долго, Слава успел и звезды пересчитать, и лермонтовские стихи вспомнить… Наконец спросил: — А Федоров — кто он такой? — Как вам сказать… Помещик, — ответил Крептюков. — Помещик? — испугался Слава. — Зачем же к нему? — А мы у него часто ставим приезжих, — равнодушно пояснил Крептюков. — Евгений Анатольевич не хотят с нами ссориться, приезжие остаются довольны. — И что ж это за помещик? — спросил Слава. — Обыкновенный, — продолжал объяснять Крептюков. — Десятин сто было, сад, коров с десяток. Землю забрали, коров тоже, а дом и сад пока при нем. За деревьями показался дом, не то, чтобы очень большой, однако заметный, с широким балконом, с колоннами, с полукруглыми высокими окнами, слабый свет лился из-за опущенных штор. Крептюков постучал в окно, штора тотчас отдернулась, мелькнуло чье-то лицо, отворилась дверь. — Кто там? — послышался хрипловатый голос. — Это я, Евгений Анатольевич, — отозвался Крептюков. — Принимай гостя. — Пожалуйте. — Да нет, я пойду, — сказал Крептюков. — Привел к тебе человека. Из Малоархангельска. Слышал небось про комсомол? А это у них самый главный. Приюти на пару дней. — Разумеется, — приветливо отозвался хозяин. — Милости просим. — А я пошел, — сказал Крептюков. — Дела еще. Бывайте! Он сбыл приезжего с рук и скрылся в темноте. — Заходите, — пригласил гостя хозяин и шире распахнул дверь. — Не споткнитесь о порог… Слава переступил порог. «Логово врага», — мысленно и не без иронии произнес он. Но логово оказалось таким милым и привычным, что на него сразу пахнуло чем-то знакомым, давнишним и домашним. Настоящая столовая, в каких ему приходилось бывать в довоенной Москве. Обеденный стол, стулья с высокими спинками, старинный буфет, картины, круглая висячая лампа под белым стеклянным абажуром, скатерть на столе, блеск самовара, вазочки с вареньем и печеньем… Самому Федорову за пятьдесят, вдумчивые глаза, седая бородка. Супруга помоложе, пышные волосы, легкий румянец, приветливая улыбка. Две барышни-погодки лет по двадцати. Дочери, конечно… Нравилось ему и как Федоровы одеты — и серая тужурка на хозяине, и темный капот на хозяйке, и ситцевые платья на девушках. — Давайте знакомиться, — сказал хозяин дома. — Меня зовут Евгений Анатольевич. А это моя супруга, Екатерина Юрьевна. А это Оля и Таня. Как у Лариных. А вас как? — Вячеслав. — А по батюшке? По отчеству его редко называли, только незнакомые мужики да Федосей с Надеждой в Успенском. — К чему это? — Лет вам мало, но вы уже начальство. — Какой я начальник! — А к нам только начальников и приводят. — Николаевич. Иронии в тоне Федорова Слава не уловил, и если она имела место, то относилась больше к собственной незавидной участи принимать всех, кого ему ни пошлют. — Со мной лошадь, — нерешительно сказал Слава. — А мы ее в конюшню. Овса, извините, нету, а сена сколько угодно. — Присаживайтесь, — пригласила хозяйка. — Позволите чаю? «Какая милая семья», — думал Слава. Легко завязался разговор: о газетах, о новостях, о том, как трудно налаживается мирная жизнь… Узнав о том, что Ознобишин родом из Москвы, заговорили о столице, вспомнили театры, музеи. Федоровы, и отец, и мать, пожаловались, не знают, как быть: дочери Тане надо продолжать образование, и боятся отпустить одну; выяснилось, что Оля — племянница, недавно приехала из Крыма, тоже собирается в Петроград или в Москву; барышни поинтересовались, собирается ли учиться Слава… Такой разговор мог возникнуть в Москве с любыми родственниками Славы, окажись он среди них: все вежливы, тактичны, доброжелательны. Федоров посетовал на свое положение. — Помещик, — сказал он с иронией. — Представитель дворянского оскудения. Разорился еще его отец, оставалась какая-то земля, но и с той пришлось расстаться. Слава богу, сохранился дом. Он всегда был лоялен к новой власти. Теперь вся надежда на университетское образование. Он филолог. — Буду проситься в учителя. Если возьмут. Федоров достал из кармана часы, нажал пружинку, часы тоненько прозвонили четверть двенадцатого. — Поздно, — сказала Екатерина Юрьевна. — Устроим вас в кабинете. В резных шкафах стояли книги, не какие-нибудь редкие старинные книги, обычная библиотека среднего русского интеллигента начала двадцатого века. Издания Вольфа, Девриена, Маркса, литературные приложения к «Ниве», Шеллер-Михайлов, Писемский, Гарин, Гамсун, Ибсен, Куприн, сборники «Просвещения», «Шиповника», томики Блока, Гофмана… Славе расхотелось спать. — Можно посмотреть? — Сколько хотите! Постелили ему на диване, поставили на письменный стол лампу, пепельницу. — Курите? — О нет! — Тем лучше. Слава остался один. Спать не хотелось. Он чувствовал, что влюбляется… Таня нежнее, серьезнее, Оля непосредственнее, веселее, смелее. Он выбрал Ольгу. И еще подумал, что обеих принял бы в комсомол. Таких девушек не хватало в комсомоле. Они могли бы участвовать в спектаклях и даже руководить какими-нибудь кружками. На какое-то время Слава забыл о том, что ночует в помещичьем доме и, возможно, среди классовых врагов. Взгляд его рассеянно скользил по книжным корешкам, на краю стола лежала раскрытая книжка. Стихи. Кто-то их недавно читал. Посмотрел на обложку: "Н.Гумилев. «Жемчуга». Слава не помнил, попадался ли ему когда-нибудь такой поэт. Нет, не попадался, такие стихи он запомнил бы… На полярных морях и на южных, По изгибам зеленых зыбей, Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель, Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы и мель, Чья, не пылью затерянных хартий, - Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь… И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорт, Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыплется золото с кружев, С розоватых брабантских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, - Ни один пред грозой не трепещет. Ни один не свернет паруса. Разве трусам даны эти руки, Этот острый уверенный взгляд, Что умеют на вражьи фелуки Неожиданно бросить фрегат, Меткой пулей, острогой железной Настигать исполинских китов И приметить в ночи многозвездной Ослепительный свет маяков? До чего красиво! Разделся, лег. Никогда в жизни не приходилось ему спать на таких тонких льняных простынях, чуть подкрахмаленных, чуть шуршащих… Он прочел стихи еще раз, еще и… заснул, осыпаемый золотой пылью, сносимой ветром с драгоценных брабантских кружев. 28 Ярко светило солнце, и кто-то негромко, но настойчиво стучал в дверь. Слава вскочил, книжка упала с постели, он поспешно поднял, натянул брюки, рубашку, подбежал к двери, распахнул — за дверью стояли Оля и Таня. — Умывайтесь скорее и приходите завтракать. Утром все Федоровы выглядели еще приятнее, чем вечером, и завтрак казался еще вкуснее, чем ужин, и чай с топленым молоком, и мягкий черный хлеб, и кислое домашнее масло, и сваренные в мешочек яйца. Все было удивительно вкусно, хозяева радушны, погода великолепна, а из открытого окна в комнату врывался ветер далеких морей. И вместе с ветром заглянул Панков. — Славка! — Васька! Василий Панков — секретарь Колпнянского волкомола. Он строг, строг во всем, строг к принимаемым решениям, строг к сверстникам, строг к себе. И ленив. Не отступится от принципов, но и не торопится с их осуществлением. — Здравствуйте, — небрежно поздоровался Панков с хозяевами, тут же о них забыл и упрекнул Славу: — Чтобы сразу ко мне, у меня бы и переночевал. Ну, идем, идем! Панков презрительно посмотрел на рюмку для яйца, над которой склонился Ознобишин. — Да брось ты эту подставочку, дозавтракаешь у меня картошкой! Слава виновато встал из-за стола, — прищуренные глаза Панкова контролировали каждое движение Ознобишина, — и пошел в кабинет за вещами. Следом за ним вошли Евгений Анатольевич и Оля. — Задержитесь, приходите ночевать, — пригласил Евгений Анатольевич. — Не обращайте внимания на своего приятеля, Заузолков лучше знает, что можно и что нельзя. Слава торопливо запихнул в портфель полотенце, мыльницу, зубную щетку, окинул прощальным взглядом комнату, и глаза его остановились на недочитанной книжке. Он переложил ее с края стола на середину и провел по обложке ладонью. В этом движении Евгений Анатольевич уловил оттенок грусти. — Что за книжка? — спросил он, обращаясь скорее к племяннице, чем к гостю. — Стихи, — быстро проговорила Оля. — Гумилев. — Понравилась? — спросил Евгений Анатольевич. — Ах, очень! — вырвалось у Славы. — Я их ночью читал… — Ну, если эти стихи вам так нравятся… — сказал Евгений Анатольевич, — можно бы… — Это моя книжка! — перебила его Оля. — Вот я и говорю, — продолжал Евгений Анатольевич. — Ты могла бы подарить ее нашему милому гостю… Оля колебалась лишь одно мгновение. — Ну что ж, я дарю вам эту книжку, возьмите! Слава был не в силах отказаться от такого подарка. — Большое спасибо, — сказал он, пожал руку Евгению Анатольевичу, поклонился Оле и заторопился навстречу ожидавшему его Панкову. Обратно шли той же аллеей, по которой ночью вел его Крептюков, таинственные деревья оказались липами, солнечные блики падали сквозь листву, и все в мире пело, жужжало, звенело. Заузолков сидел у себя в кабинете и что-то писал. — Ага, это вы, — сказал Заузолков, не поднимая головы. — Хорошо выспался, Ознобишин? Покормили тебя? Ну, давай, давай, выкладывай, с чем ты к нам? — У меня поручение от укомпарта, — строго произнес Слава. — Куда это годится, товарищ Заузолков? Во всех волостях народные дома, повсюду разворачивается самодеятельность, а у вас по вине волисполкома активность молодежи на очень низком уровне. Заузолков оторвался от своих записей, поплотнее уселся в кресле, с усмешкой поглядел на секретаря укомола. — Валяй, валяй, товарищ Ознобишин, — одобрительно отозвался Заузолков. — Только в каком-нибудь сарайчике самодеятельности не развернешь. — А вы потесните помещиков. — Да помещики-то у нас ледащие, нет ни Давыдовых, ни Куракиных. А впрочем, увидишь сам. — Он вышел из-за стола, позвал Панкова. — Пошли, Панков, искать вам резиденцию! — Стремительно затопал по лестнице. — Нет у нас сурьезных помещиков, — на ходу объяснял Заузолков Ознобишину. — Хотя бы Кульчицкие. Хозяйство у них было крепкое. Но живут… Сам увидишь! Есть еще графиня Брюхатова. Та действительно была богата, настоящая помещица. Но пришла в полный упадок. Да Федоровы, у которых ты ночевал. Тоже не развернуться, сам видел… Начали с Кульчицких. Прямо-таки подмосковная, кое-как сколоченная тесная дачка с мезонином. В мезонин Ознобишин даже не пошел. Грязь такая, какой ни в одной избе, где хозяева живут вместе с телятами и поросятами, видеть не приходилось. Два брата с женами, сестра с мужем, множество детей, сопливых и никогда, видимо, не умывающихся, какая-то еще родственница, женщины в капотах, мужчины в запачканных блузах. Встретили Кульчицкие пришедшее начальство подобострастно. — Товарищ председатель, — не один раз повторил один из Кульчицких, обращаясь к Заузолкову. — Позвольте нам объединиться в земледельческую коммуну… Заузолков гавкнул на него: — А на что вам коммуна? — А как же? — улыбнулся бывший помещик. — Вернут скот, инвентарь, окажут помощь семенами… Слава не чаял, как поскорее вырваться от Кульчицких на свежий воздух. — Годится? Ответа не требовалось. — Ну а теперь к графине… Усадьба Брюхатовых отстояла верстах в двух от села — вышли за околицу, с версту прошли полем, свернули в березовую рощу, и сразу за рощей, на взгорке, открылась нарядная колоннада, ведущая к большому дому с высоким фронтоном. Стены пожелтели от времени, штукатурка облупилась, из-под штукатурки выступали бурые пятна кирпичей, но в общем-то дом как дом. Лепные гирлянды до сих пор украшали большие удлиненные окна. Правда, стекла в окнах повыбиты, но эта беда поправима. — А чем не нардом? — воскликнул с восхищением Ознобишин. — В нем и сцену, и зал, и все на свете можно устроить! — Можно-то можно, да только кишка у нас тонка… — Заузолков не договорил. — Пусть уж пока ее сиятельство здесь живет. — А не велика ли квартира для сиятельства? — Иди, иди, смотри… Чем ближе подходили к дому, тем более странным он становился. Точно за кулисами очутился Ознобишин! Поднялся по широким ступенькам, потянул за бронзовое кольцо дверь, переступил порог, и взору его предстали остовы комнат без полов и потолков, обломки столбов и досок, мусор и пыль. Точно вспугнутая летучая мышь, метнулось к ним навстречу какое-то живое существо, при ближайшем рассмотрении оказавшееся крохотной старушкой в сером, под цвет стенам, длинном пальто и в соломенной шляпе с широкими полями, украшенными выцветшими лиловыми лентами. — Ах, господи… — произнесла старушка низким грудным голосом, который удивительно не соответствовал ее фигурке. Она протянула Заузолкову руку для поцелуя и удовлетворенно кивнула, хотя он и не подумал ее целовать. — Вы от их величеств? — пролепетала она. — Но я не могу их принять, у меня в настоящее время живут разбойники, хотя они и уехали на турнир… — Мужики весь дом разобрали по кирпичику, — объяснял Заузолков. — Но ведь она… — Сам видишь! — Заузолков с досадой махнул рукой. — Мы ее в Орел возили, в сумасшедший дом. Не принимают. Говорят, свихнулась окончательно и бесповоротно, но неопасна для окружающих. Вот и содержим. — А где же она… — Пробовали устроить у добрых людей… Куда там! Сюда удирает. Есть при доме чуланчик, приказал дверь навесить и окно прорубить, Не в воду же ее, как котенка! А графиня Брюхатова продолжала: — В департаменте герольдии одни немцы, не разбираются в русских родословных, а Брюхатовы по прямой линии от Ярославичей… Оставили в покое и графиню. По дороге в село Заузолков свернул в знакомую уже Ознобишину липовую аллею. — И вот еще Федоровы… Ознобишин не пожелал к ним идти. — Там мне смотреть нечего, я там сегодня ночевал. Поговорим лучше в исполкоме. Заузолков хотел что-то сказать, но промолчал. — Пойдемте, — нехотя согласился он. — Мы к разговорам привычные. В исполкоме Ознобишина ждал Ушаков, он появился в Колпне, когда Заузолков и его спутники осматривали дома помещиков, приехал на попутной подводе. За два или три часа пребывания в исполкоме Ушаков развил бурную деятельность, собрал работников волкомола и учителей и принялся разрабатывать с ними планы внешкольной работы, на бумаге у него возникли и хор, и драматическая труппа, и политшкола, и даже семинар по внешней политике, Ушаков интересовался международными событиями и всегда был не прочь о них потолковать. — Ну вот, — сказал он, не здороваясь, не отвлекаясь от дела, протянул Славе исписанные листки. — Мы тут разработали программу, можно начинать. — Где? — раздраженно произнес Слава. — То есть как где? — озадаченно спросил Ушаков. — Ты нашел помещение? — В том-то и дело, что не нашел. — А помещики? Мне сказали в Малоархангельске, что графиня Брюхатова до сих пор проживает в собственном доме… — Вот ты с ней вместе и поселись, — зло сказал Слава. — Графиня есть, а дома нет, хотя она в нем и живет. — Давайте обсудим положение… — Слава обернулся к Заузолкову. — Кульчицкие отпадают, Брюхатова отпадает… — Как видите, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — мягко заметил Заузолков. — Не будем торопиться, дайте время, подыщем что-нибудь… Время, время! Заузолков не мог сказать ничего более неподходящего. В том и работа Ознобишина, чтоб подгонять время. С чем он приедет к Шабунину? Ничего не сделали, нужно время… Именно такие ответы и тормозили развитие нового общества. Голубые глаза Ушакова потускнели. — Говорят, есть еще какие-то Федоровы? — Свободно можно выселить, — предложил Панков. Слава вопросительно взглянул на Заузолкова. — А зачем? — спросил Заузолков. — Как есть они бывшие помещики, — пояснил Панков. — Вполне. — Дом-то у них хороший? — поинтересовался Ушаков. — Для одной семьи, — сердито ответил Заузолков. — У нас молодежь танцы любит, а там двум парам не разойтись. — А если все равно выселить? — сказал Панков. — А зачем? — еще сердитее повторил Заузолков. — Тебе-то какая польза? У нас на Федорова свои виды. Не наказывать же его за то, что отец у него был помещиком? Человек приличный, с белыми ни в какие контакты не вступал. Зачем же образованными людьми бросаться? Учителей по всему уезду не хватает, а из него, знаешь, какой учитель получится? — А как же быть с помещением? — задумчиво спросил Ушаков. — Соображайте, — сказал Заузолков. — Для этого вас и прислали из Малоархангельска. Найти выход из безвыходного положения? Не хотелось Славе ни с чем возвращаться к Шабунину. Комсомолец обязан найти выход из любого положения. У Федоровых, конечно, не разгуляешься, да и казнить их не за что, они еще пригодятся. «А не говорит ли во мне ненужная жалость? — мысленно спросил себя Слава. — Приняли меня душевно, я и размяк. Однако не я, а Заузолков их защищает…» Слава думал, думал, прикидывал обстоятельства и так и эдак… — Знаешь, все зависит от тебя, — обратился он к Панкову. — То есть не от одного тебя, а от комсомольской организации. Панков не понял: — То есть как это? Вместо ответа Слава обратился к Заузолкову: — Брюхатовская домина совсем никуда не годится? — Как сказать… — Заузолков догадался, куда клонит Ознобишин. — Остов есть, но из чего стены ставить, печи складывать? Ни леса, ни кирпича… — Амбары какие-нибудь, сараи найдутся? Заузолков почесал карандашиком в волосах. — Вижу, куда ты клонишь, товарищ Ознобишин. Ну, найдем один-два амбара, а кому строить? — Нам, комсомольцам! — воскликнул Слава. — Панков будет строить, ему народный дом нужнее всего. Ушел разговор от Федоровых… Снова пошли в усадьбу Брюхатовых. Фундамент не пострадал. Стены кое-где лежат, а где и стоят. Балки провисли… — Ох, и задал ты нам задачку, товарищ Ознобишин, — пожаловался Заузолков. — Как, Панков, осилишь? Панков озадачен, но ведь самолюбие тоже не скинешь со счетов? Вернулись обратно в исполком, собрал Заузолков президиум, позвали комсомольцев, прикидывали, судили, рядили, вчера еще никому в голову не приходило восстанавливать разрушенный дом, но стоило подбросить людям идею, как они загорелись, принялись спорить, считать, мечтать… Невозможное становилось возможным. Трое суток провели Ознобишин и Ушаков в Колпне, а на четвертые выяснилось, что нужно возвращаться в Малоархангельск. Требуется решение уездного исполкома, одобрение отдела народного образования, согласие финотдела… Со сметой, с ходатайством волисполкома собрались Ушаков и Ознобишин домой. — Отправлю вас к вечеру, скорее доберетесь по холодку, — решил Заузолков. — Пошлю с вами Панкова, пусть тоже похлопочет. — Я же на лошади, — напомнил Слава. — Лошадь отправим обратно с оказией, — сказал Заузолков. — Дам свою пролетку, на ней Панков и вернется. Пролетку, запряженную парой лошадок, подали задолго до захода солнца, а отъезд затянулся, что-то не было еще решено, что-то не договорено, отъехали уже в сумерках, кучер, молодой, веселый, уверенный, утешил седоков: — Домчу еще до полуночи, спать будете в своих постелях! Проехали верст шесть-семь. Стемнело. Кучер шутил не переставая. Панков его хорошо знал, двадцати пяти ему нет, а успел и в дезертирах побывать, и на фронте, женат, двое ребятишек, любит возить начальство, жалованья ему не платят, но он надеется на поблажки по налогу… — Что тебя из дому гонит, Николай? — спросил Панков больше для гостей, чем для себя. — Ндрав такой! — весело, хоть и без особой ясности, объяснил Николай. — Знакомства люблю заводить. Ехали полем, с одной стороны тянулись овсы, с другой — подсолнухи, в стороне синел лес. — Семечек хотите? — спросил Николай, придерживая лошадей. — Эвон какие подсолнухи! Можно бы, конечно, пощелкать семечки, две-три головки никому не убыток, но положение обязывало отказаться. — Нет уж, не надо… Проехали еще с полверсты. Николай остановил лошадей. — А я все же наломаю подсолнухов, — сказал он, соскакивая с козел. — Да не надо! — крикнул Ушаков. Но Николай уже скрылся, слышно было, как трещат стебли. — Неудобно, — пробурчал Слава. — Увидит кто… Панков согласен с Ознобишиным, не в убытке дело. — Пойду позову… Выпрыгнул из пролетки, побежал следом за Николаем. Хоть и вызвездило, все равно ничего не видно. — Только время теряем, — заметил Слава с досадой. И вдруг — выстрел! Откуда бы это? Еще! Стреляют… Панков побежал обратно, перескочил канаву… Ушаков перегнулся через козлы, схватил вожжи и погнал лошадей. — Н-но! Сам потом не мог объяснить, испугался ли он или его подтолкнула предусмотрительность. Лошади понесли. — А Панков? — крикнул Слава Ушакову. Панков на ходу вскочил в пролетку. А со стороны подсолнечников — выстрелы. Один, другой, третий… — Где Николай? — Слава схватил Ушакова за плечо. — Стой! — Гони! — заорал Панков. — Гони! — Да ты что, очумел? — закричал Слава. — Николай-то остался… — Ничего, не пропадет, — пробормотал Панков, переводя дыхание, — на своем поле не заблудится. — На своем? — Ну, на нашем, на колпнянском. — А если убьют? — Не убьют, — зло сказал Панков. — За две хворостины не убьют. Дадут по затылку в крайнем случае. Сам виноват, не мы его, а он звал за подсолнухами… Отнял вожжи у Ушакова и погнал лошадей. Слава не соглашался с Панковым, но тот так свирепо гнал лошадей и так свирепо молчал, что с ним было лучше не связываться. Выстрелы стихли, лошади пошли ровнее, и летняя безмятежная ночь вступила в свои права. — Нет, я не согласен, — сказал Слава. — Может быть, повернуть? — На-кась, выкуси, — буркнул в темноте Панков, и было непонятно, что именно он предлагал выкусить. — Лучше было бы, если б вас перестреляли? Изумление прозвучало в голосе Ушакова: — А ты думаешь… — Ничего я не думаю, — уже спокойнее отозвался Панков. — Черт-те кто там стрелял, может, и вправду стерег подсолнухи, а может, и нарочно ждал, чтобы полезли мы за подсолнухами. 29 Вспоминая о Колпне, Слава упрекал себя за то, что взял в подарок книжку, узнай о подарке Панков, он вполне бы мог вообразить, что именно книжка и побудила Славу сохранить Федоровым дом. Слава показал книжку в укомоле. Железнов обнаружил полное равнодушие, а вот Ушакову стихи понравились. «Такие же трогательные, как некоторые романсы», — сказал он. Отчасти вроде наставления Фране Слава выразительно прочел: Лучшая девушка дать не может Больше того, что есть у нее. — Как, как? — воскликнула Франя. — Дай мне это переписать! И вдруг книжка пропала! Слава вернулся вечером домой и перед сном хотел почитать стихи. Протянул руку за книжкой и не нашел. Поднял с подушки голову — книжки нет. Куда она запропастилась? Вскочил с кровати… Нету! Перерыл все на столе. Нет! Лежал и злился, дождался утра, отправился к Фране. — Ты у меня взяла «Жемчуга»? — А я и не знала, что у тебя есть жемчуга! — Книжку, книжку, не остри, помнишь, я тебе читал? — Не нужны мне от тебя ни жемчуга, ни бриллианты! Обидно, что книжка исчезла, но прошло несколько дней, и Слава примирился с пропажей. И тут в укомол поднялся Селиверстов и передал Ознобишину, что его разыскивает Семин. Слава позвонил: — Ты чего, Василий Тихонович? — Зайди к нам… Вызов не удивил Славу, время было еще тревожное, то тут, то там происходили события, требовавшие вмешательства следственных и карательных органов, возникали обстоятельства, при которых Семину приходилось иногда обращаться к Ознобишину. Уездная Чрезвычайная комиссия помещалась в маленьком кирпичном особнячке, и особнячок этот мрачных ассоциаций у жителей города не вызывал, заподозренных в серьезных преступлениях отправляли в Орел, а местная ЧК преимущественно занималась сбором всякой информации, скромные масштабы ее деятельности огорчали Семина, и при первой возможности он старался проявить себя во всем блеске. У входа в особнячок сидел солдат и щелкал от скуки семечки. Ознобишина он знал и пропустил, даже не выписав ему пропуск. — Ну вот я, — сказал Слава Семину. — Пришел. — Я вызывал тебя, — поправил его Семин. — То есть просил зайти, — поправил его Слава. — Я вызывал тебя, — повторил Семин. Он вступал в игру, потому что Семину нравилось играть роль следователя, даже если это и не требовалось обстоятельствами. — Что у тебя ко мне? — спросил Слава. — Опять где-нибудь кулаки избили батрака? Семин выжидательно молчал. — Ты не очень-то важничай, — пригрозил Слава. — А то поднимусь и уйду. Тогда Семин выдвинул ящик своего стола и выложил на стол знакомую книжку. Как она к нему попала?! — Кто это? — ледяным тоном спросил Семин, похлопывая книжкой по столу. — Не кто, а что, — поправил Слава. — Книжка. И во-вторых, как она к тебе попала? — А я спрашиваю: кто это? — повторил Семин. — Да брось ты дурака валять! Ты все-таки скажи, как она к тебе попала? Но Семин твердит свое: — Я спрашиваю, тебе известно, кто это? — Поэт, — говорит Слава, — Гумилев. Что дальше? — Не поэт, а контрреволюционер, — холодно произносит Семин. — Вот это кто такой! — Откуда тебе это известно? — недоверчиво спрашивает Слава. — Махровый контрреволюционер, — повторяет Семин. — Расстрелян в прошлом году Питерской ЧК за участие в офицерском заговоре. Нет, так фантазировать нельзя! — Откуда ты это знаешь? — Навел справки. Слава чувствует себя неуютно. — А какое отношение это имеет к стихам? — Не понимаешь? Если контрреволюционер пишет стихи, значит, и стихи он пишет контрреволюционные. «Осыпается золото с кружев… — размышляет Слава. — С розоватых брабантских манжет…» В чем здесь контрреволюция?" Он уходит в оборону: — А как все-таки попала к тебе моя книжка? Но Семин не уступает: — Лучше ты скажи, как к тебе попала эта книжка? — Был в Колпне, ездил подыскивать помещение для народного дома. Отвели меня ночевать к Федоровым, есть там такой бывший помещик, попалась мне эта книжка на глаза, и они ее мне подарили… — То есть пытались тебя подкупить? Слава искренне смеется. — Хорош подкуп, если я едва не отобрал у них дом! — Это мне известно, — говорит Семин. — Но этот подарок я не могу рассматривать иначе как попытку дать тебе взятку. — А ты полегче, — обрывает его Слава. — Я вот пожалуюсь Шабунину! Как ты со мной разговариваешь? — А как? — удивляется Семин. — Разве я не обязан выяснить все обстоятельства, связанные с этим Гумилевым? — Все-таки ты скажи, как попала к тебе эта книжка? — настаивает Слава. — Изволь, — соглашается Семин. — Проходил мимо вашего общежития, зашел посмотреть, как вы живете, заглянул к тебе, увидел на столе книжку, она меня заинтересовала… — А какое ты имеешь право брать у меня что-нибудь без спросу? Впервые за весь разговор Семин снисходительно улыбается. — Но я же не для себя, а для дела. — Для какого это дела? — Распространение контрреволюционной литературы. — Шутишь? — Нет. — Семин кладет перед собой лист бумаги. — Давай уточним, при каких обстоятельствах попала к тебе эта книжка. — Это что — допрос? — Если хочешь — допрос, дело серьезней, чем ты думаешь, даже досадно, что ты сам не разобрался во вражеских происках. — В чем же это я не разобрался? — Отвечай лучше по существу, так мы скорее доберемся до истины. Слава начинает нервничать, впрочем, он давно уже нервничает, — что за странная и глупая история! Семин записывает вопрос: — Значит, тебе эту книжку подарили Федоровы! — Да. — Кто именно? А кто, правда, подарил ему эту злосчастную книжку? Федоров? Нет, все-таки не он, зачем же его подводить, тем более что Слава не сомневается в невинном характере подарка. — Оля. — Что за Оля? — Племянница. Племянница Федорова. — Это еще что за племянница? — Обыкновенная племянница. Приехала к ним погостить. — Откуда? — Что — откуда? — Откуда приехала? — Не знаю. Кажется, из Крыма. — Из Крыма? — Как будто они сказали, что из Крыма. — А ты читал эти стихи другим? — Читал. — Вот видишь, не только сам, но и другим читал контрреволюционные стихи. — А что в них контрреволюционного? — А это не нашего с тобой ума дело, я тебе уже сказал, что этот поэт расстрелян за контрреволюцию. — Очень жаль. — Тебе его жаль? — Жаль, что поэты занимаются контрреволюцией. — Это тоже не нашего ума дело. Семин берет новый лист. — А зачем тебе эта Оля дала книжку? — Я уже сказал, мне понравились стихи… — А она не просила тебя передать кому-нибудь эту книжку? — Для чего? Семин слегка отодвигается от стола и проникновенно смотрит в глаза Славе. — Ты честно разговариваешь, Ознобишин? — Да ты что?! — Слава вспыхивает. — Какие у тебя основания… — Не ерепенься, не ерепенься, — останавливает его Семин. — Тебя тоже можно было бы привлечь, но Шабунин велел тебя не трогать. Ах, так вот почему Семин беседует с ним так снисходительно, это Афанасий Петрович верит Славе, Афанасий Петрович, а не Семин… — Значит, она никому не просила передать книжку? — Нет. — А теперь возьми ее и внимательно посмотри на обложку. Слава смотрит… Нет, он не видит ничего, что могло бы привлечь его внимание. — В каком году издана книжка? — В тысяча девятьсот двадцать первом. — Где? А ведь не обратил внимания ни на дату, ни на место издания! — Берлин. — Вот то-то и оно-то! Как могла эта книжка попасть в Россию? Только через белогвардейцев. Откуда приехала твоя Оля? Соображаешь? Была в Крыму, где находились врангелевцы. Там ее и завербовали. Получила от них книжку, а зачем привезла — предстоит еще докопаться… Перед Ознобишиным открывается бездна, Славе и самому уже не приходит в голову, что книжка к Оле попала из нейтральных рук или куплена в магазине… — Вполне возможно, что она прибыла сюда с определенным заданием, — продолжает Семин. — Может быть, это шифр. Может быть, в стихах этих что-нибудь заключено… — Что же ты собираешься делать? — робко спрашивает Слава. Он уже верит Семину, уже не допускает иного толкования! — Начнем следствие, заставим сознаться… Слава уже забыл, что он только что возмущался тем, что Семин без спроса забрал у него книжку. — А книжка? Семин не спеша потянул книжку из его рук. — Это же материал для следствия… Он снисходительно смотрит на Славу. — Что ж, можешь идти. Впредь тебе наука. Подписывай показания, и — никому ни слова. Слава даже высказывает Семину свое удивление: — Как это ты до всего докопался? — А у нас, как в аптеке, точность и быстрота, — самодовольно констатирует Семин. Растерянный Слава бредет в укомол. — Созидающий башню сорвется, — вспоминается ему строка из книжки… И как-то, сначала смутно, а потом все явственнее вспоминаются другие стихи, из-за которых у него тоже были неприятности. Он помнит эти стихи. «Двенадцать». Поэма малознакомого Блока. Он поссорился тогда со своими одноклассниками. Но не захотел им уступить и не уступил. В белом венчике из роз - Впереди — Исус Христос… Казалось бы, какое отношение имее. Исус Христос к Революции? Однако же Слава почувствовал, что этого Христа гонит вперед ветер Победившей Революции! А в стихах, о которых с ним говорил Семин, было что-то вычурное. За эти стихи он не посмел вступить в бой. И правильно, что не посмел. Он даже рад, что избавился от этих стихов. Жаль только Олю, милую девушку, на которую обрушилась такая беда. Может быть, Семин тоже не хочет неприятностей Оле, а вынужден причинять… А Семину не жаль ни Олю, ни Славу, он вообще никого не жалеет, Семин выполняет свой служебный долг. 30 На этот раз Ознобишина вызвал не Шабунин, а Кузнецов, Афанасий Петрович в отлучке, опять уехал в Куракинскую волость, не могут там угомониться эсеры, все время будоражат мужиков, едва не сорвали весенний сев, «чего, мол, зря сеять, все равно все отберут», и теперь мужики грозили неуплатой продналога: «Не уплатим, и баста, ныне отряд с винтовками против мужиков не пошлют, а пошлют, так у нас обрезы недалеко запрятаны». К тому же у местных эсеров сохранились связи с Москвой. Чуть где перегиб, сразу письмо, а то так и телеграмму в Москву, и оттуда строжайшее указание: «Не допускать, исправить, наказать виновников беззаконий». У всех еще в памяти тамбовское восстание, Антонов убит, а кулацкие шайки еще бродят в тамбовских лесах. Шабунин часто ездит в Куракино — Слава всегда удивляется этому человеку: как бы он ни был возмущен или разгневан, никогда не поднимет голоса, не пригрозит, говорит мягко, убедительно, даже ласково, этот наставник посерьезней Быстрова. А что касается Кузнецова… Кузнецов резче, категоричнее, чем Шабунин, с Кузнецовым говоришь, и все время такое ощущение, точно он мысленно смотрит на часы. Впрочем, Слава и Кузнецова уважает, человек начитанный, справедливый, зря не накричит. — Садись, Ознобишин, — скороговорочкой роняет Кузнецов и сразу же: — Что это там у вас происходит в Луковце? А в Луковце, в Луковской волости, ничего не происходит, в том-то и беда, что ничего не происходит, совсем вяло движется работа, слабая организация… О том и говорит Кузнецов: — Что-то не слышно боевых голосов в Луковце, живут, как в девятнадцатом веке. — Мы собираемся туда, — оправдывается Слава. — Примем меры, расшевелим… — А удастся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то я сомневаюсь! — Почему же? — бодро возражает Слава. — Мы их расшевелим, сменим руководителей, найдем более инициативных… — И опять ничего не получится. А ты не обращал внимания, что в Луковце повысилась смертность среди молодежи? Протасова знаешь? — Это который был секретарем комсомольской ячейки в школе? — Он самый. — Так он уже утонул. — А о Водицыне слышал? — Нет. — Вот то-то что нет. Был в Луковце такой комсомолец, не ахти какой активный, но честный парень, принципиальный… — Почему был? — А потому, что тоже умер. Врача не вызвали, поболел три дня и помер. Слава не улавливает связи между этими случаями. — А сколько всего комсомольцев в Луковце? — Слабая организация, человек тридцать. — А было? — В начале года человек шестьдесят. — Куда ж половина подевалась? — Кто уехал, кто женился, а кто просто не захотел больше состоять. — А связи между этими покойниками и выбывшими ты не улавливаешь? Слава думает, мучительно думает: один утонул, другой умер от неизвестной болезни, а половину организации будто корова языком слизнула. — Так вы думаете… — Я ничего не думаю, — коротко отрезал Кузнецов. — Если бы хоть малейшее подозрение, расследованием занялись бы ЧК или милиция. Но утонул — это утонул, а болезнь… Люди умирают от болезней? И все-таки что-то нас тревожит. Опять же, ехать с каким-либо обследованием бесполезно, да и не скажут никогда луковские мальчишки мне или Афанасию Петровичу, к примеру, что они на самом деле думают. Вот и решили попросить тебя съездить в Луковец. Ты комсомольский руководитель, приехал по делам, клуб посмотреть, школу… Пообщайся с ребятами, поинтересуйся, чем дышат, вернешься, поделишься с нами своими впечатлениями. Маловероятно, чтобы смерть двух парней могла побудить их сверстников бежать из комсомола… — Хорошо, я съезжу в Луковец, — послушно говорит Слава. — Завтра. — Хорошо, — говорит Слава. — А оружие у тебя есть? — заботливо спрашивает Кузнецов. — Есть у меня наган, — говорит Слава. — Только я не очень… Хотел сказать, что не умеет стрелять, но постеснялся. — Все-таки захвати револьвер с собой, — советует Кузнецов. — Мало ли что… На том и закончился разговор, а наутро Слава отправился на конный двор, сказал, что надо в Луковец, запрягли ему в таратайку пегую кобылку, заскочил на минуту домой, прихватил портфель с наинужнейшей литературой, сунул вниз под книжки наган, сверху на сменку чистую рубашку и затрусил по заданному маршруту. Село тонуло в зелени. Садочки, садочки, мелькнет в купах деревьев бурая солома крыши, и опять садочки, проулки заросли травой, тишина, спокойствие, какая уж там работа, какое там кипение страстей, живи себе потихоньку и не мешай жить другим… На отлете, за церковью, домик, над крыльцом вывеска вязью, оранжевым по белому: «Волостной комитет РКП(б)», а ниже приколочена гвоздиком картоночка: «Волком РКСМ». В обоих волкомах ни души, на двери увесистый замок, как на амбаре с зерном, и вокруг крыльца невытоптанная трава. Потрусил Слава на своей таратайке искать сельсовет — палисадник с кустами давно отцветшего жасмина, в палисаднике выбеленный известью домишко, на крыльце три мужика, все трое дымят цигарками. — Мне бы председателя… — А вы кем будете? — Из Малоархангельска я, из уездного комитета комсомола. — Это вы насчет чего? — Да больше по части просвещения. Спектакли там, библиотека… — Спектаклев у нас давно уже не было. — А комсомольцев у вас много? — Ну, этих много, человек десять, должно. — Как бы мне их найти? — А вы сами лично кем же являетесь? — Я секретарь. Секретарь уездного комитета. — Значит, приехали направлять наших? — Вообще. Познакомиться с жизнью. Поговорить. — Понятно. — А пока бы мне на квартиру куда-нибудь. — И это можно. Один из мужиков поехал с ним по селу, остановил лошадь перед белым-белым домом, еще более белым, чем сельсовет, окна в нем чернели, как проруби. — Заходите, а лошадь сейчас заведем во двор. — Спросить бы сперва… — Вам говорят, заходите. Хозяев оказалось всего двое, муж с женой, благообразные старички. — Никому вы у нас не помешаете, вся наша поколения разлетелась. Провожатый из сельсовета распрощался: — Отдыхайте, соберем вам на завтра комсомольцев… Славу покормили: щи, каша, молоко. — Не прогневайтесь, не ждали гостя. — Не знаете, комсомольцев на селе много? — Какие у нас комсомольцы! От деда и бабки толку мало. — Пойду пройдусь. — В садочек пройдитесь, у нас там благодать. Слава осматривает двор, а за сараем сад, не садочек с четырьмя яблоньками и рядком вишневых кустов, а настоящий большой сад со множеством обсыпанных плодами яблонь, с высокими вишневыми деревьями, со старыми липами вдоль канав. Жара спала, а медовый аромат плывет еще над курчавой травой. Хорошо бы полакомиться вишнями, созрели, должно быть… Слава вдохнул в себя пряный медовый запах и пошел через двор на улицу. — Вы куда? — услышал он сипловатый голос. Хозяин избы в ситцевой рубахе и суконных синих портках, притулясь у двери, посматривал на гостя с неодобрением, да и в сиплом его голосе тоже звучало неодобрение. — Хочу пройтись. — Отдохнули бы лучше, постелили бы мы вам постельку, утро вечера мудренее. — Да вы что! — снисходительно возразил Слава. — Я с курами вместе не ложусь. — Как знаете, как знаете… Слава шел по малонаезженной деревенской улице. Навстречу деваха, в белой кофте с оборочками, в широкой раздувающейся юбке. — Здравствуйте! — Здрасьте… — Не знаете, комсомольская ячейка у вас есть? Слава знает, что есть, но это на всякий случай, знает ли девушка, что есть у них на селе ячейка. — Чего ж ей не быть! — А поблизости кто из комсомольцев живет? Пытливый взгляд. — А вы сами откудова? — Из уезда я, из уездного комитета. — У нас много комсомольцев. — А сама не комсомолка? — Нет… — Оглянулась по сторонам, негромко: — Комсомолка. — А тебя как звать? — Давыдова я, Стеша. — А меня — Слава. Ознобишин. Может, слышала? — Нет. — Куда ж торопишься? — На ганок. — Какой ганок? — Ну, в хоровод, на выгон. — А мне можно? — Кто вам не велит! — Опять оглянулась по сторонам. — Только вы сами по себе… — А комсомольцы там тоже собираются? — Отчего ж! Так и дошли до выгона: впереди мелким шажком Стеша Давыдова, а чуть поодаль Слава. На буром бревне, брошенном на лугу, сидели, прижавшись друг к другу, девушки — восемь? десять? — Слава не успел сосчитать, они разом вскочили навстречу Стеше, засмеялись, принялись тараторить; парни стояли в стороне, их поменьше, один из них лениво перебирал лады двухрядки. Слава пошел к парням, не очень-то хорошо умел он затевать разговоры, однако деваться некуда. Поздоровался, спросил: — Комсомольцы среди вас есть? — А вам к чему? — поинтересовался гармонист, потом ответил: — Ну, скажем, я, и что? — Да ничего, — сказал Слава. — Приехал проверить, как тут у вас культурная работа ведется. Кто-то из парней засмеялся. — Здесь самое место для проверки, — сказал гармонист. — Каждый вечер танок, сперва припевки, а потом танцы. — А мне можно в компанию? — Почему ж нельзя, коли не скучно, — сказал еще кто-то из парней. — Вона сколько девок на выданье! Девушки частили припевки, гармонист лениво подыгрывал. Не ходи, маманя, в баню, Мой миленок тут как тут, Пока сходишь, мама, в баню, Меня со двору сведут! Слава сел на край бревна. Ближние избы тонули во мраке, месяц серебрился в облаках, от садов несло свежестью. К Славе подсел худенький паренек, похоже, еще более застенчивый, чем Слава. — Вы зачем к нам? — Проверить культурную работу, — отвечал Слава. — Библиотеку. Драматический кружок… — Нет у нас культурной работы, — тихо сказал паренек. — И не будет. — Почему не будет? — спросил Слава. — Тебя как зовут? — Василий, Вася, — назвался он. — Давыдовы мы, брат я Стешке Давыдовой. — А почему не будет? — Старики не позволят, — сказал Вася. — Нашей Стешке не миновать уходить из комсомола. Не уйдешь из комсомола, говорят родители, никакого приданого за тобой не дадим. — Ну и пусть не дают, — сказал Слава. — Обойдется и без приданого. — Нельзя, — жалостно сказал Вася. — Кто ж возьмет без приданого? Девки все пели и пели, не столько даже пели, сколько выкрикивали отдельные слова. Слава вдруг решился, обстановка к тому располагала, сидели они с Васей в стороне, никто им не мешал. — А с чего это Прохоров утонул? А потом Водицын… — Не знаю. Судьба. Гармонист заиграл веселее, с переливами, девушки танцевали краковяк, отводя локти назад, притопывая каблучками. — Знаете что? — сказал вдруг Вася. — Поезжайте-ка вы завтра обратно, а? — Чего так? — удивился Слава. — Я у вас поживу. Он поежился от ночной сырости. — Пойду, — сказал он, на душе у него стало вдруг тревожно и смутно, и он пожалел, что оставил наган в портфеле. — Одному тут идти неопасно? — Зачем, ребята у нас добрые, — сказал Вася. — Я вас маленько провожу. Месяц скрылся в облаках, по сторонам шелестели деревья. Слава пытался расспрашивать своего спутника, кто и как живет здесь, в Луковце, почему такая вялая у них организация, но Вася не знал или не умел объяснить, отделывался короткими ответами «не знаю» да «не знаю», и неожиданно, ни с то ни с сего сказал: — В темноте у нас не убьют, ночью смерть вроде убийства… — Помолчал минуту-другую и сказал: — У нас если убьют, так при солнце, чтоб ни на кого ничего не подумали… — И оборвал разговор: — Вон ваша изба, идите. — И отстал, свернул в сторону. Не хотелось Славе возвращаться в избу, а куда денешься? Постучал. Открыл дед. — Загулялись… Зачиркал спичкой, засветил лампу, постель гостю постлана на нетопленой лежанке, на столе крынка и тарелка, прикрытые рушником. — Поужинайте молочком с оладьями. Есть не хотелось. Слава поблагодарил, положил под подушку портфель, лег, старик тут же задул лампу, Слава осторожно сунул руку в портфель, наган на месте, стало поспокойнее. А тоска все не проходила, чудилась опасность, казалось, кто-то сидит в углу… Проснулся он от яркого света, раннее летнее солнце лило сквозь стекла радостное розовое сияние, от ночных страхов не осталось следа, старики хозяева еще спали, и сейчас Слава понимал, что никакой многозначительности в покашливаниях старика не было. Спать не хотелось, уж очень великолепно сияло утро. Слава тихо спрыгнул с лежанки, вышел в сени, умылся под рукомойником, пошел в сад, сейчас, пока не наступил рабочий день, хорошо побыть с природой наедине. Липы распушились в небе, и под сенью царственных красавиц тянулись вверх высокие вишневые деревья, на верхушках которых заманчиво алели крупные ягоды. Невозможно сдержать искушение, да и кто в шестнадцать лет удержится от такого соблазна! Слава забыл, что он ответственный работник уездного масштаба… Мальчишка, которому в пору обтрясывать чужие яблоки и общипывать чужие вишни! Да и не так уж он накажет своих хозяев, если нарвет горсть-другую… А как залезть? До веток с ягодами с земли не дотянуться, стволы тонковаты, полезешь — обломятся, а ягод хочется! Полез Слава на липу, выбрал, что поближе к вишням, с ветки на ветку: выгнулся, зацепить, притянуть… Жужжат пчелы, чирикают невидимые птахи, солнце льется сквозь зелень, такой замечательный день, все хорошо и светло… И вдруг — голоса! Мужские бранчливые голоса. Откуда они доносятся? Из-за сарая?… Еще заглянет кто-нибудь в сад! Вот когда Слава вспомнил, что он секретарь укомола. Залез в чужой сад рвать вишни… Лишь бы не заметили! Слава подтянулся повыше, спрятался в листву, благо она густая-густая… Даже дыхание сдерживает, точно могут услышать! Так и есть, идут… Пятеро или шестеро, солидные дядьки, бородатые, усатые, серьезные такие, и с ними старик хозяин. У двух или трех веревки в руках… Чего они ищут? Идут между яблонь, заглядывают в канаву… — Да здеся он, здеся, куды ему деться, — бормочет дед. — Не ходил он на улицу, я б уследил… О ком это он? «Да это же обо мне, — думает Слава. — Зачем я им понадобился?» — Да где же он? — сердится один из мужиков на хозяина. — Язви тя в душу, не мог присмотреть! — Да здеся он, в саду, куды ж ему деться, убей меня бог. Слава прижимается к стволу. Он начинает понимать Кузнецова: Прохоров утонул, Водицын помер от неизвестной болезни, на селе тишина, комсомольцы боятся назваться комсомольцами, нападет какая-нибудь хворь и на Славу… «А если меня найдут?» — думает он. Надо было захватить с собой наган, хоть какая-то все же защита… У двух мужиков в руках оброти. — Да где ж ён? — А ты за кусты глянь! — Вот тебе и добыли! — Была бы оброть, а коня добудем! Это его ищут, и оброти для него припасли, накинут через голову, и конец тебе, товарищ Ознобишин…  Его ищут по всему саду, заглядывают через забор, но никто не догадывается поглядеть вверх, поискать меж ветвей. Молчи, Ознобишин, не дыши! — Упустил ты его, старый черт, — говорит кто-то. — Куда он денется! — говорит другой. — Лошадка его на месте. Гурьбой уходят обратно за сарай, голоса стихают… Но ты молчи, молчи, не шевелись, можешь не можешь, а продержись до вечера, ночью выберешься… Однако он не белка, не так-то просто прокуковать на ветке весь божий день! Время тянется медленно, не слышно больше ничьих голосов, должно быть, ушли, ищут по другим местам. Кузнецов как в воду глядел. Мешал этим мужикам Прохоров, мешал Водицын, теперь приехал будоражить людей какой-то ферт из Малоархангельска… Кто-то прыгает с забора! Да это Васька! Тот самый Василий, что провожал его ночью… Слава не дышит. Васька осторожно слоняется по саду. — Эй, ты… Как тебя… Ознобишин! Славка!… Покажься… Зовет, но совсем негромко, точно сам таится. — Да не бойся ты… Эх, была не была, нельзя всем не верить! Слава осторожно раздвигает ветви, просовывает сквозь них голову. — Чего тебе? Васька замирает, кажется, он перепуган еще больше, чем Слава. — Убивать тебя приходили! — Я пережду. Не надо бы это говорить, вдруг выдаст? — Ты что? Найдут, догадаются, уходить надо. — А как лошадь вывести? — Догонят тебя с лошадью… Василий Давыдов… Вчера секретарь укомола понятия о нем не имел, а с сегодняшнего дня запомнит на всю жизнь. — Убьют они нас с тобой… Василий боится, по нему видно, он и не скрывает этого, и все же пришел спасать. — Что же ты предлагаешь? — Покуда те по селу рыщут, конопляниками до ложбинки, а там в рощу — и давай бог ноги! — Запутаюсь… — А я тебя провожу. Василий рискует головой. Стеной стоит конопля, темно-зеленая, густая, укрытие для ухажеров и дезертиров! Страх подгоняет, а осторожность придерживает, пробираются не спеша, заметить их в зарослях конопли невозможно. Ложбинка. Вся на виду, да ничего не поделаешь. — Теперь беги… Василий хлопает Славу по плечу и уползает подальше в коноплю. Слава бежит, открыто бежит, самое опасное перебежать ложбину, но вот и поросль молодых дубков, и орешник, и, продираясь сквозь кусты, бежит Слава, Луковец позади, уже далеко позади, а в соседнюю деревню охотники за черепами не сунутся. Все-таки он старался держаться в тени, страх сильнее разума, старался идти не по самой дороге, а по обочине, чуть что — и в кусты! Слава проходит какую-то деревеньку, доходит до Губкина. Здесь ни прятаться, ни скрываться незачем, здесь его знают, и он всех знает, ему находят подводу, и к вечеру он въезжает в Малоархангельск. Сразу в уездный комитет партии! Идет к Кузнецову, заглядывает по пути в приемную, там посетители, суета, значит, Шабунин вернулся, но посылал Славу Кузнецов, перед ним и нужно отчитаться о поездке. Кузнецов за столом, обложенный книгами, сочиняет очередной доклад. — Вернулся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то скоро? Ознобишин улыбается — сейчас улыбается, а утром было не до улыбок. — Пришлось поторопиться. — Так много неотложных дел в укомоле? — не без иронии спрашивает Кузнецов. — Да, пожалуй, что и в укомоле, — соглашается Слава. — А что в Луковце? — интересуется Кузнецов. — Удалось что-нибудь прояснить? Что говорят? — А ничего не говорят. — Так-таки ничего? — Ничего. — Похоронили и забыли? — Похоронили, но не забыли. Молчат. — Что-то ты загадками говоришь. — Убили Прохорова и Водицына. Кузнецов недоверчиво смотрит на Ознобишина. — Ты рассказы о Шерлоке Холмсе читал? — Читал. — Суток не провел в Луковце, а уже во всем разобрался. — Чего уж разбираться, коли меня самого убить хотели. — Тебе не показалось? — Чего уж казаться. Пришли душить. Открыто, утром… Кузнецов обе руки на стол, вонзил глаза в Ознобишина: — Ну-ка, ну-ка… Слава рассказал все, как было. Кузнецов помрачнел. — Значит, не обмануло нас наше чутье… — Он ласково посмотрел на Ознобишина. — Молодец! Что думаешь дальше? — Завтра посоветуемся, пошлем туда человек четырех, свяжемся с волкомом партии, пусть займутся… — Правильно, — одобрил Кузнецов. — Мы тоже подскажем волкому. — А что касается гибели Прохорова… — Что касается Прохорова и Водицына — это уж не твоя забота. Ваше дело — наладить массовую работу, а по части преступлений найдутся специалисты покрепче. Посоветуемся еще с Афанасием Петровичем, а пока иди к себе, поговори с ребятами… Слава взялся за ручку двери. — У меня там лошадь осталась. — Лошадь не пропадет. Слава замялся. — Ну что еще? — И наган. — Разве он не при тебе? — В портфеле остался, у этого самого старика, где я ночевал. — Как же это ты? — упрекнул Кузнецов. — Придется тебе объясняться с Семиным. В крохотном кабинетике Ознобишина собрались работники укомола: Железнов, Ушаков, Иванов, Решетов. — Где ты пропадал? — спросил Железнов. — Ты ведь утром еще уехал из Луковца? — А ты откуда знаешь? — удивился Слава. Ушаков усмехнулся: — Слухом земля полнится. — Потому что часа два назад приходил парень с конного двора, — объяснил Железнов. — Привели, говорят, лошадь, на которой ваш секретарь ездил в Луковец, сам куда-то уехал, а лошадь и портфель оставил, вот они и прислали твой портфель. Слава схватил портфель, щелкнул замком и облегченно вздохнул — наган на месте. — Как съездил? — спросил Железнов. — Рассказывай. А Слава не знал, что рассказывать и что не рассказывать. Кузнецову он изложил все, что было, укомпарту он обязан был все рассказать, а сейчас его вдруг покинула уверенность в том, что Прохоров и Водицын убиты и что собирались убить его самого, не поспешил ли он свои предположения выдать за действительность? Истину установит Семин, и стоит ли заранее настораживать своих товарищей? — Выпал у нас Луковец из поля зрения, захирела организация, надо туда направить крепкого работника, завтра обсудим… — А зачем откладывать? — сказал Коля Иванов. — Пошлите меня! — Завтра, завтра, — повторил Слава, прижимая к себе злополучный портфель. — А сейчас по домам, жрать хочу… Иванов вышел вместе с Ознобишиным, все уговаривал послать его поработать в Луковце. Поужинали неизменной картошкой, да еще Эмма Артуровна расщедрилась, угостила Славу, а заодно и Колю киселем из купленных на базаре вишен. Коля сидел у окна и делился со Славой впечатлениями от своих поездок по уезду, а Слава разбирал содержимое портфеля. — На книги налегаем, а владеть оружием не учим ребят, — упрекал себя Слава. — Сколько комсомольцев погибло во время антоновщины из-за собственного неумения… За окном стемнело, тускловато светилась лампочка, покачиваясь на засиженном шнуре, на столе, на стульях и даже на кровати валялись газеты и брошюры, на подоконнике черствые ломти недоеденного хлеба, над столом зеркало, в которое никто никогда не гляделся, пахло прелой травой, должно быть, в отсутствие Славы Эмма набила матрас свежим сеном. — Действуем от случая к случаю, — сказал Коля. — А многое можно предусмотреть, комсомольские работники должны обладать даром предвидения. Коля и не предполагал, что говорит о своем будущем, что именно он много лет спустя станет работником Госплана, этого он не знал, просто мечтал о будущем. А Слава вертел в руках револьвер, и мысли его все чаще возвращались к утреннему происшествию. — Не очень-то все предусмотришь, — возражал он Коле. — Неожиданно перед тобой появляется враг, ты целишься и не имеешь права промазать… И, положив палец на гашетку, направил дуло пистолета на Колю… Он не понял, как сорвался у него палец. Грохот выстрела слился с внезапно наступившим мраком. Лампочка лопнула, треск разбитого стекла слился с грохотом выстрела… Сердце остановилось в груди Славы. — Коля… — тихо позвал он в тишине, — Ты жив? Страшная тишина. Коля растерялся — и от выстрела, и от темноты. И вдруг засмеялся… От неожиданности, от чувства облегчения, от сознания того, чего он только что избежал… Смеялся все громче и громче, и ни он, ни Слава долго не слышали, как в дверь стучит Эмма Артуровна. — Что случилось? Вячеслав Николаевич, что случилось? Товарищ Ознобишин, что случилось? — Ничего страшного, перегорела лампочка. Найдется у вас запасная? Скупая Эмма с перепугу отыскала где-то лампочку, и свет вновь вспыхнул. Обоим, и Славе, и Коле, было не по себе, одному потому, что едва не был убит, а другому потому, что едва не стал убийцей. — Ты прости меня, — сказал Слава. — Ничего, — сказал Коля. — Случается. Он охотно сказал бы Славе, что с оружием надо обращаться осторожнее, однако считал, что инструктору неудобно читать нотации секретарю. Зато сам секретарь читал себе нотации всю ночь. Он не понимал, как решился направить револьвер на Колю. Ведь это только счастливый случай, что тот остался жив. А если бы не остался? Как тогда жить, сознавая, что ты убийца, что ты убил своего товарища… «Боже мой, до чего несерьезно мы ко всему относимся, — думал Слава. — Играем в игрушки, которые вовсе не игрушки». Чувство ответственности, ответственности перед собой, перед товарищами, перед обществом, возникло в глубинах его сознания. Он упрекал себя за то, что при нем не было револьвера, когда луковецкие мужики искали его в саду; если они действительно намеревались его убить, он мог бы оказать сопротивление, а сейчас, после происшествия с Колей, он думает совсем иначе. Хорошо, что он был безоружен, без револьвера его, конечно, легче было убить, ну а если бы убил он сам? Приехал в деревню представитель Советской власти и убил пришедшего к нему мужика — это убийство обязательно изобразили бы так, а не иначе. Какой резонанс вызвало бы это во всем уезде! Револьвер — это уже атрибут власти, а власть страшная и подчас разрушительная сила, ею надо уметь пользоваться. Надо уметь пользоваться даже игрушками! Утром Слава отправился к Семину. — Я уже все знаю, — сказал тот. — Меня вызывали в уком, разберемся. Ты лучше скажи, где это ты Оставил свой револьвер? Слава вытащил наган из кармана. — Для этого я и пришел, возьми его у меня. — То есть как это возьми? — удивился Семин. — Ответственный работник не может обходиться без оружия. — Уж как-нибудь обойдусь, — настойчиво повторил Слава. — Все равно я не умею стрелять. 31 Слава ушел подальше, выбрал место в саду, где трава выкошена не слишком старательно, лег и устремил взор на вершины берез, купающихся в голубом небе. По щеке пополз муравей. Слава смахнул муравья. Так что же есть долг? Ему предстоит проверить донос. Никуда не денешься. Это тоже входит в круг его обязанностей. До чего тягостно… — Ты забываешь о своем долге! Кто это? Перед ним стоит Никита Ушаков. — О каком таком долге? — Подавать всем пример… — Да в чем дело? — Секретарь укомола ворует яблоки! — Ты в уме? — Я-то в уме, а ты свой растерял! — Иди-ка ты… То, что Слава принял за палку, угрожающе нацелилось в него. — Перестань безобразничать с ружьем! — крикнул Слава. — Тоже мне собственник! — А я требую, чтобы ты немедленно убрался из сада! — И не подумаю! — Тогда я буду стрелять! — Ну, посуди сам, завполитпросветом укомола стреляет в своего секретаря? — В данный момент я не завполитпросветом. — А кто же ты? — Арендатор! — Это ты арендатор? — Да, арендатор, член садовой артели, совладелец сада. — Ты владелец сада? Ушаков смутился. — Ну, не сада, а урожая. Совладелец урожая. Слава засмеялся: — Ох, Никита, Никита! Ну что нам с тобой делать? Собираешься торговать яблоками, грозишь убийством… — Иди к черту! — завопил Ушаков. — Оно у меня не заряжено! Но все равно я заставлю тебя уйти… Слава нисколько не сердился на Ушакова, даже любил его, звонкоголосый Ушаков только делал вид, что всерьез охраняет сад, а на самом деле всем мальчишкам позволял воровать яблоки, бедность заставляла кричать, он рассчитывал после продажи урожая поправить свои дела и отремонтировать дом матери. Странный человек Никита! Удивительно правдив, ради идеалов, о которых он говорит, не пожалеет жизни, в этом уверен не один Слава, а с другой стороны — крохобор, хватается за каждый мизерный приработок, не успеет получить паек, сразу же уносит домой… Товарищи смотрели на его странности сквозь пальцы, но когда-нибудь должен же прийти им конец! Теперь такой повод появился, потому-то Слава и выбрал для своих раздумий сад, охраняемый Ушаковым, впрочем, сад тоже один из поводов для решительного разговора. В кармане у Славы полученное накануне письмо — увы, анонимное, — в котором неоднократно повторялись «доколе», «до каких пор» и «сколько можно», обращенные в адрес Ушакова. Письмо принесла Франя, оно было адресовано «Укому РКСМ» — ее обязанность отвечать на письма, однако, уяснив его важность, она тотчас пошла к Ознобишину. — Дождались! — с сердцем воскликнула Франя, и Слава согласился, что «дождались». Некий доброжелатель, отдавая должное работе Ушакова на ниве политического просвещения, недоумевал, как можно совмещать эту работу «со всякими нечестными», так значилось в письме, «заработками»: Ушаков «состоит в артели, снимающей фруктовый сад с целью выгодной продажи урожая», Ушаков «за вознаграждение обслуживает зажиточных хозяев в своей деревне» и, наконец, «получает плату за участие в церковном хоре»; в заключение неизвестный адресат спрашивал: «Совместимы ли эти проступки с высоким званием комсомольца?» Теперь, после анонимки, нельзя было мириться с участием Ушакова в аренде сада, а разоблачение других проступков предвещало явный скандал. — Что делать? — задали себе один и тот же вопрос и Ознобишин и Железнов. Договорились обсудить анонимку на ближайшем заседании комитета. — А не лучше ли, — предложил Железнов, — посоветоваться сперва с Афанасием Петровичем? К Шабунину Слава и отправился с анонимкой. — Почитайте… — Ну а сами-то вы верите Ушакову? — неожиданно спросил Шабунин. Это был ответственный вопрос, решалась не только судьба Ушакова, но и определялось отношение Ознобишина к людям. Слава с надеждой посмотрел в глаза Шабунину. — Я-то верю… Шабунин слегка улыбнулся. — В таком случае вместе с Ушаковым проверь обвинения по всем пунктам и только тогда уже выходи на комитет. Шабунин и побудил Славу размышлять о своем комсомольском долге, и в укомоле, и дома, и в саду… — Ты уйдешь? — спросил Ушаков дрожащим голосом. — Я тебя честью прошу! — Отвяжись! — рассердился Слава. — Нужны мне твои яблоки! — Пойми ты, — взмолился Ушаков. — Сегодня мой черед сторожить. Зайдет кто из артели, увидит тебя, подумают, что я или на сторону продаю, или товарищей угощаю. — Ну и пусть! — Выгонят меня из артели! — Черт с ней, с твоей артелью! — огрызнулся Слава. — На вот, читай! — И протянул злополучное письмо. Слышно было, как стукнулось о землю упавшее яблоко. — Это правда? — жестко спросил Слава. — Сам знаешь, что правда, — отвечал Ушаков и вдруг задумался. — А впрочем, что именно? — Ну об артели я знаю, — сказал Слава. — А вот насчет хора и на кого это ты работаешь у себя в деревне? — В хоре я действительно пою, — признал Ушаков, — а в деревне вскопал огороды двум хозяевам. Слава не понимал: умный, интеллигентный, может быть, самый интеллигентный юноша в Малоархангельске — и гонится за каждой копейкой! — Ну на что тебе деньги? Ты же получаешь жалованье… Ушаков насупился. — На дом. — Какой дом? — Надо поставить дом. — Так уж не терпится стать собственником? — Ладно, пойдем! — Куда? — Ко мне. Хотя жил Ушаков в двух верстах от города, никто у него не бывал, ходить к нему было незачем, все дни он проводил в городе, в укомоле, а выпадало свободное время, тратил его на свои проклятые приработки. — Подожди, — попросил Ушаков… Скрылся меж деревьев. Слава догадался — побежал звать сменщика. Вернулся в сопровождении какого-то малоархангельского мещанина, пожилого, угрюмого, в черном картузе и потрепанном пиджаке. — Неотложное дело, Парфен Лукьянович, — объяснил он в присутствии Славы. — Часа через два вернусь, отдежурю за вас ночь… Пыльное шоссе — до деревни рукой подать, и все же надо быть энтузиастом, чтобы каждую весну и осень по два, а то и по три раза на день месить на этой дороге грязь… Слава по дороге расспрашивал: — Дома у тебя мать? — И сестра. — Большая? — Тринадцать. — А мать старая? — Не такая уж старая, больная, не может работать в поле. — А отец? — Завалило в шахте. — И вы вернулись сюда? — Маме нечего делать в Горловке… Ушаков не любил говорить о себе. Деревня появилась как-то внезапно. Невзрачные избы, редкие деревца, колодец с журавлем. — Пришли, — сказал Ушаков. Он неуверенно посматривал на бурый стожок. — Вот и мой дом… Нет, это не стожок, а жилье. Несколько вкопанных в землю бревен, поверх конусообразная крыша, крытая бурой соломой, и, только внимательно всмотревшись, заметишь над самой землей два крошечных оконца. — Это твой дом? Ушаков потянул на себя низенькую дверь, сбитую из трухлявых досок… Такой бедности Слава еще не видывал! Небольшой стол, скамейка, полка на стене, обмазанная глиной печь, на которой кто-то спит, и между окон сундучок на земляном полу. Но стол выскоблен, доски золотятся, на земляном полу ни соринки, стекла в окнах протерты до блеска, занавеска над полкой бела… Со скамейки привстала старушка, на редкость аккуратная, в чистом ситцевом платье. Ушаков тоже ведь всегда в белоснежной рубашке, всегда тщательно подстрижен, всегда его голубоглазое лицо открыто и ясно. И не то удивительно, что он тщательно следит за собой, а то, как ему удается, живя в такой каморке, соблюдать эту необыкновенную чистоту, да и вообще непонятно, как могут жить в такой тесноте три человека. — Это, мама, мой товарищ, — сказал Никита, — вместе работаем, — повернулся к Славе. — Видишь? Обязательно нужно построить дом, дольше здесь зимовать нельзя. Возвращаясь в город, Ушаков вслух занялся арифметическими выкладками: урожай в саду предполагается такой-то, на двенадцать человек членов артели придется по столько-то; двум хозяевам у себя в деревне он действительно вскопал огороды, работал по ночам, а двум помог убрать огурцы и капусту, заплатили досками и кирпичом, материалы лежат у старых хозяев; в хоре поет потому, что платят. Относительно хора замялся, понимает, комсомольцу негоже петь в церкви… Сестра Ксеня присматривает за соседскими ребятами. — Я уже собрал половину того, что нужно. Не могу оставить сестру и маму в такой халупе. — А где будешь ставить дом? — На этом же месте. — А успеешь к зиме? — Постараюсь, а не успею, задержусь еще на год. — Как задержусь? — удивился Слава. — Разве ты куда собираешься? — Конечно, поеду учиться. — А как же мама? — За мамой присмотрит сестра, большая уже девочка, а я буду помогать… Только сейчас Слава понял, как трудно жилось Ушаковым. Он мысленно упрекал себя, что не поинтересовался раньше жизнью Никиты. Все работники укомола получали паек, но Никита на свой паек содержал трех человек, да еще собирался строить для матери дом, и при этом никогда не жаловался, ничего не просил, надеялся только на себя… Нет, сейчас погоня Никиты за приработками выглядела совсем иначе! — Куда же ты собираешься? — В Москву. — А куда хочешь поступать? — В Институт восточных языков. — Чего это тебя туда несет? Ушаков смутился. Слава, однако, смотрел на него так требовательно, что Ушакову пришлось объяснить. — Жалко… — Кого? — удивился Слава. — Угнетенных. Особенно на Востоке. Я думаю, что революционеры всего мира должны бороться против эксплуатации… Ушаков часто пересыпал такими фразами свои выступления, но кто бы мог подумать, что для него это не только фразы! — Ты знаешь, я уже изучаю английский язык, — похвастался Ушаков. Слава сегодня только и делал, что удивлялся. — С кем же это ты его изучаешь? — Самостоятельно… — Удивил ты меня, Никита, — признался Слава. — Только не понимаю, почему ты такой скрытный? Вот сходим еще в церковь, выясним с этим хором… — А чего выяснять? — воспротивился Ушаков. — Платят, вот и пою… — Как ты не понимаешь, это самый щекотливый вопрос. В Малоархангельске имелись две церкви, при въезде в город и на базарной площади, которая называлась собором. — Ты поешь в соборе? — осведомился Слава. — Попа там как зовут? — А зачем тебе поп? — Ты же с ним договаривался? — С регентом, с регентом, регент хором заведует, а не поп. — А где его искать? — В церкви небось торчит, он любит церковь. — Что он — верующий? — Какой там! Верит в одну музыку! Василий Савельевич Крестоположенский, регент Малоархангельского собора, и в самом деле был человек замечательный. Сын дьячка из глухого бедного прихода, недоучившийся семинарист, призванный в царскую армию, он попал на турецкий фронт и потерял там обе ноги. Вернувшись в родное село, создал в селе хор, после чего настоятель Малоархангельского собора переманил его в город. В незапертой церкви полумрак, полосы рассеянного света врывались в верхние окна, тускло блестела позолота. Крестоположенского нашли у левого клироса, безногий человек на ступеньке алтаря сортировал рукописные ноты, лицом он походил на старого солдата, а разговором на старого учителя. — Мы к вам, Василий Савельевич… — Ушаков представил своего спутника. — Секретарь уездного комитета комсомола товарищ Ознобишин. — Тоже по примеру своего коллеги хотите поступить в хор? — пошутил Крестоположенский. — Вроде бы нет, — усмехнулся Слава. — Наоборот, хочу изъять своего коллегу из вашего хора. — Ни в коем разе! — встрепенулся Крестоположенский. — Сами не понимаете, чего хотите. — А как вообще-то он к вам попал? — Простее простого, — объяснил Крестоположенский. — Смотрю как-то во время всенощной, стоит молодой человек. В другой раз смотрю, опять он. И не то, чтобы молится, все внимание хору, и даже будто подпевает. Подозвал, спрашиваю — пением интересуетесь или барышнями, у нас барышни тоже в хоре поют. Нет, говорит, пением, я пение очень люблю. А попробовать не хотите? Колеблется. Пришел на спевку, еще раз пришел, потом точно чего-то испугался, а я поговорил с протоиереем, назначили ему вознаграждение… — А вы понимаете, что это такое? — перебил Слава. — Комсомолец поет за вознаграждение в церковном хоре! — А он не за вознаграждение, — возразил Крестоположенский. — Из любви к искусству. — Но ведь деньги получает? — Не столь это важно, поет потому, что не может не петь, потому что талант. — Уж и талант? — усомнился Слава. — Редчайший голос, высокий тенор, тенор-альтино, такие голоса один на тысячу. — Да поймите же, комсомолец поет в церкви за деньги! — Так пусть поет бесплатно, — предложил Крестоположенский. — Если это вас больше устраивает. — Нас это вообще не устраивает. — Но ему хочется петь, — настаивал Крестоположенский. — Тебе хочется петь? — спросил Слава Никиту. — Нет, бесплатно я петь не буду, — мрачно пробормотал Ушаков. — И вообще больше я не буду петь… Выйдя из церкви, Слава с недоумением уставился на Ушакова. — А как же он дирижирует? Ведь он же вам по колено? — А его ставят на табуретку, — объяснил Ушаков. — Человек может приспособиться к чему угодно. Слава повел Ушакова ужинать, и хотя над ним нависла угроза исключения из комсомола, говорил он не о себе и даже не о музыке, он заговорил о Востоке. Политическая история народов Индии, Индокитая, Индонезии увлекала его, оказывается, еще больше, чем музыка. За окном шелестели малоархангельские липы и клены, кто-то играл на гармошке, а Ушаков рассказывал о забастовках в Калькутте и Бомбее, об учиненной англичанами бойне и, с уважением отзываясь о махатме, — он знал, «махатма» — значит «великая душа», так индийский народ называл Ганди, — говорил, что нет надежды на то, что кампания гражданского неповиновения освободит Индию от колонизаторов… Внезапно оборвав себя на полуслове, Ушаков сказал, что ему пора, и ушел. А Слава, оставшись один, долго не засыпал, дивясь тому, как раскрылся перед ним за один день Никита. Трудно было представить как сложится его жизнь… А Никиту Ушакова ожидала удивительная судьба! Он хотел поступить в Институт востоковедения и поступит туда. Подружится с обучающимися в Москве индусами, и они уговорят его уехать в Индию, где он будет преподавать русский язык, обучать индийских юношей читать Ленина. Потом вступит в Индийскую коммунистическую партию и очутится в самой гуще политической борьбы. Иногда от него будут приходить письма — матери, сестре, товарищам по институту. Потом переписка оборвется, и лишь спустя много лет станет известно, что он погиб в борьбе за освобождение Индии. Удивительная судьба крестьянского паренька из-под Малоархангельска! А пока что уездный комитет комсомола обсуждает персональное дело Ушакова. Его осуждают за то, что он связался с артелью мещан, арендующих фруктовый сад у горсовета, что за плату вскапывал огороды, за участие в Церковном хоре… Впрочем, согласен с этим и сам Ушаков. Ознобишин тоже осуждает Ушакова, но говорит и о том, какой это ценный и талантливый человек… Франя Вержбловская даже пожалела Никиту: — А почему бы не создать хоровой кружок при клубе? Железнов пошел дальше: — Попросим отдел народного образования оплачивать Ушакову из средств, ассигнованных на внешкольную работу… Ушаков сидел расстроенный и счастливый, выговор он заслужил, но снисходительность товарищей говорила о многом. И только в конце заседания Коля Иванов спросил: — А все-таки, ребята, кто же написал эту анонимку? — А ты как думаешь? — обратился Железнов к Ушакову. — Не знаю, — искренне признался Ушаков. — Ни на кого не могу согрешить. — А все-таки? — настаивал Иванов. — Неужели у тебя нет врагов? Ушаков задумался. — Пожалуй, что и есть… И дал достойный и правильный ответ: — У меня те же враги, что и у Советской власти. 32 Точно руки обиженных женщин, тянутся хрупкие ветви кленов, трепещут в воздетых кверху руках желтые и розовые платочки, а ниже поникли кусты шиповника, листва облетела, но еще блестят на солнце покрытые лаком оранжевые ягоды, будто кораллы развешаны на ветвях, а еще ниже островки повядшей серо-зеленой травы, пахнущей зверьем, лесом, изморозью. Последние причуды осени. Федосей приколачивает у крыльца отставшую дощечку — тюк-тюк по гвоздику, тюк-тюк по гвоздику… Вот уж кто заботится о сохранности астаховского дома, будто век ему в нем коротать! Нет, чтобы подумать о себе, — полураздет, полуразут, ведь зима на дворе… — Боишься, Федосыч? — Кого? — Зимы, Федосыч. — А чего ее бояться? Смена времен… Слава в Успенском, получил недельный отпуск «по семейным обстоятельствам» — «надо повидаться с мамой, тысячу лет не видел», — да и, кроме мамы, есть с кем еще повидаться, а сам все говорит и говорит с Федосеем… Вошел в дом, в комнату, где жили мама и Петя, мама сидела за столом, проверяла тетради. — Откуда ты? — Приехал повидаться с тобой. — Но ведь и не без дела? — Без дела! Он приник к матери, поцеловал руку, потерся головой о ее волосы… — Надолго? — На неделю. — Ты давно не баловал нас с Петей своим присутствием… Какая мама хрупкая и трогательная! Он давно уже перерос маму, впрочем, не так давно, — давно ли он вместе с мамой цеплялся за вагонные поручни, и мама умоляла пассажиров пожалеть замерзшего ребенка… — Ну а как вы? — Как видишь, живем. Мама не вдавалась в подробности. Достал из портфеля коробку конфет и бутылку сухого крымского вина — скромные дары нэпа, появлявшиеся иногда в Малоархангельске. Мама укоризненно покачала головой: — Ты бы лучше купил себе носки. — Петя на хуторе? — Как всегда. — Кто вместо Ивана Фомича? — Евгений Денисович, сразу же занял его квартиру. — Ирина Власьевна уехала? — Еще летом. — А как он с тобой? — Вежлив и равнодушен. Разговаривали обо всем и ни о чем, перескакивали от предмета к предмету. — Мама, я пройдусь? — Ну вот, а говорил, что приехал к нам. Заходит к Тарховым. Отец Валерий возится в огороде. Соня играет на старом клавесине. Нина читает. Идет навестить Введенского. Дверь забита крест-накрест досками. Уехал? Слава об этом еще не слышав. Не выдерживает и заходит в исполком, хотя дал зарок не появляться попусту в исполкоме. Там мало что изменилось, за своим дамским столиком Дмитрий Фомич, а за столом Быстрова Данилочкин. — Прибыл порастрясти наш молодятник? — спрашивает Данилочкин. — Да нет, Василий Семенович, — отвечает Слава. — Отпуск, приехал повидаться с мамой. Погуляю немножко, отосплюсь. — Добро, — соглашается Данилочкин. — Да и за девками пора уже тебе бегать, эвон как вымахал, был воробьем, а стал соколом. — Ну какой из меня сокол, — смеется Слава. Однако он не избегает встреч, нет, не с девками, а со старыми товарищами, заходит к Ореховым, к Елфимовым, к Кобзевым, все уже повзрослели, у каждого свои интересы, но с Ознобишиным говорят охотно и откровенно. Вечером мама отпраздновала приезд Славы, вернулся с хутора Петя, сели за стол втроем, откупорили вино, разлили по чашкам. — Я даже вкус вина забыла, — сказала мама. Утром Петя позвал Славу на хутор: — Походим по саду, поможешь перебрать яблоки. — Попозже, — сказал Слава. — У меня в Успенском дела. Павел Федорович выглядел пришибленным, еще сильнее пожелтел лицом. Зато Марья Софроновна располнела еще больше. — Завтракать с нами, — пригласила Марья Софроновна. Слава отказался: — Меня Сосняков ждет. Соснякова помянул ради отговорки, но тот сам неожиданно пожаловал к Астаховым. — Слав, чего ж ты, второй день здесь, а в волкомол не заходишь? Волкомпарт и волкомол помещались уже в разных комнатах, дядя Гриша нашел себе вдову, переселился, в его половине расположился волкомпарт, а волкомол остался в старом помещении. — Просторно стали жить, — похвалил Слава. — Полный порядок, — самодовольно подтвердил Сосняков. Новый стол в волкомоле, новые стулья и незнакомая девица с русой косичкой и в белой блузочке. — А это кто? — Технический секретарь. — Откуда? — Из Коровенки, Таня Савичева. — Что-то не помню. — А мы ее недавно приняли в комсомол. При Ознобишине технического секретаря не было, сам справлялся со всей канцелярщиной, волкомол при нем часто бывал на замке, а теперь, видно, девчушка эта сидит здесь весь день. — На какие шиши ее содержите? — За счет волнаробраза, числится уборщицей школы. — Дела наши хочешь посмотреть? — Соснякову явно хотелось похвастаться своей канцелярией. — Дай-ка, Таня, папочку с протоколами. Таня распахнула дверцы шкафа, этого, должно быть, и хотел Сосняков, все дела разложены по полочкам, по папочкам, полный порядок. Протоколы Слава не стал смотреть, заговорил о том, что его больше всего волновало. — Что-то от тебя комсомольцы бегут? — упрекнул он Соснякова. Тот хмыкнул. — Случайные люди, настоящие никуда не денутся. И в чем-то прав, те, кто держится за комсомол, не будут манкировать собраниями или месяцами не платить членские взносы, Сосняков наводит в своем хозяйстве порядок. — Ты надолго? — спросил Сосняков. Слава соврал: — Завтра или послезавтра уеду… — Значит, у тебя к нам ничего? — обрадовался Сосняков. — Видимо, так… Вечером Слава добрел до избы Денисовых, на крыльцо выбежала девчоночка лет десяти, худенькая, белобрысенькая, сестра Маруси, нетрудно угадать. — Вам чего? — Тебя как зовут? — Верка. Так же, как маму, хорошее предзнаменование. Он решился: — Маруся дома? — Корову доит. — А ты можешь ее позвать? Хихикнула. Смешливая какая. Нырнула в сени, и Слава с ужасом услышал, как она еще в сенях закричала детским пронзительным голоском: — Маруська, слышь, тебя жених спрашивает! Слава готов сквозь землю провалиться, и убежать невозможно… И вот появилась Маруся. На ней розовая кофта, черная юбка и черные туфли, значит, принарядилась, летом женщины в селе ходили босыми. Слава смотрел на нее во все глаза. Нельзя сказать, что очень красива. Узкое лицо, высокий лоб, коричневые вразлет брови, карие глаза, прямой нос, тонкие бледные губы… Нет, не особенно красива, но чем-то так мила, что Слава не представляет себе, что другая девушка может нравиться ему сильнее Маруси. — Ты что сегодня делаешь вечером? — Ничего. — Может, пойдем… в избу? — Там отец с матерью. — А куда ж… Вечер вступил в свои права, все погрузилось в тень, в темь, только на выгоне пела-разливалась гармошка, и девки, взвизгивая и вскрикивая, тараторили частушки. — На реку, что ли, — сказала Маруся. — Там, кроме лягушек, никого. Спустились к Озерне, нашли валун и полночи просидели на камне. У ног журчала река, постанывала вдалеке гармошка, лениво лаяли на селе собаки. Слава решил поразить Марусю немыслимо красивыми стихами о жемчужных морях, быстрокрылых кораблях и дерзких капитанах, однако Маруся осталась к ним равнодушна, и тогда Слава осмелился ее поцеловать, Маруся ответила, Слава целовал Марусю, как маму, осторожно, нежно, почтительно, а Маруся целовалась отрывисто, торопливо, едва прикасаясь губами, как целовала иконы, когда, будучи девочкой, прикладывалась к ним в церкви. Когда они поднялись к избе Денисовых, розовая кромка зари занималась уже над горизонтом. Маруся закинула руки за голову, потянулась. — Ой, до чего ж мы с тобой… — Не договорила, поднялась на крыльцо. — Иди, заря. Скоро мне корову выгонять. Дома его встретил Петя… На этот раз он увел Славу с собой. До Дуровки, деревни, где находится хутор Астаховых, две версты, хозяйничает там Филипп Егорыч, двоюродный брат Павла Федоровича. В Успенском он не показывается, он у Астаховых вроде приказчика, ничто ему не принадлежит, но за хозяйство радеет, как за свое собственное, а Федосей и Петя — работники при нем. — Что ж, так и будешь весь век батрачить на Павла Федоровича? — спрашивает Слава. — Зачем? — рассудительно говорит Петя. — Годик погожу, поеду учиться. — А в комсомол не думаешь вступать? — Погожу еще… Петя не любит спешить. Филипп Егорыч встречает братьев у плетня. — Здоров, Николаич, пришел пособить? Пустынно на хуторе Астаховых, в прежние годы осенью народа здесь бывало полным-полно, а сейчас и землю поурезали, и скота поубавили, теперь втроем все дела переделать можно. — Ты, Петь, яблоками займись, — распоряжается Филипп Егорыч. — Что в лежку, что в мочку, а что свиньям. Яблоки уже обобраны, редко-редко где засветится среди красно-желто-бурой листвы золотое яблочко, эти яблоки самые вкусные, самые спелые, Петя стряхивает такое яблоко и дает брату. Такие яблоки колются на зубах, и брызжет из них сладкий душистый сок. Во всем мире сейчас осенняя тишина, в воздухе носятся паутинки, и лишь воробьи кричат за забором. — Скучно без тебя, — вдруг признается Петя. — Разведет нас с тобою жизнь… Пойдем, однако, а то Филипп заругается. Вернулись на широкий двор, больше похожий на луг, так он огромен, в глубине тяжелые рубленые амбары, в одном из них даже печь сложена для обогрева, в этот амбар прячут на зиму ульи, и во всех амбарах грудами навалены яблоки. Яблоки надо перебрать, отобрать лучше, без пятен, без вмятин, одно к одному, настелить соломы, уложить в зимнюю лежку. Пошли за соломой, Слава выхватил из копны два снопа, еле донес, а Петя усмехнулся, растянул по земле сложенную вдвое веревку, наложил видимо-невидимо снопов, связал петлю и волоком притащил полвоза. Сели в разных углах, — яблоко за яблоком, ряд за рядом — пошла работа. Перебрали румяный штрейфлинг, взялись за антоновку, золотисто-зеленую, душистую, — нет лучше яблока в средней полосе России! И антоновка легла ряд в ряд… Слава перебирал яблоки и посматривал на Петю. Хорошего брата послал ему бог! Папа и мама у них честные и добрые, и брат у него такой же. — А есть ты хочешь? — спрашивает Петя. Ведет Славу в сторожку к Филиппу Егорычу, сам достает из печи чугунок, нарезает хлеба, наливает в миску похлебку, — он и накормил Славу, и напоил чаем с медом и яблоками, и все с Петей было так хорошо и ладно, как редко бывает в жизни. А к вечеру, собираясь обратно в Успенское, Слава набил полную пазуху самыми красивыми, самыми сладкими яблоками. Возле Денисовых остановился. — Ты иди, — сказал он Пете. — Я задержусь. Взбежал на крыльцо, и опять навстречу выскочила Верка, но не спросила уже ни о чем, и тут же вышла к нему Маруся. — Тебе, — сказал он, выкладывая из-за пазухи яблоки. Она вернулась в избу, угостила сестер, а потом они опять сидели у реки и целовались. Так Слава и провел время — день с Петей, вечер с Марусей… А потом… потом приходилось уезжать в Малоархангельск и возвращаться к борьбе за дело пролетариата. Он уже совсем собрался в дорогу, когда пришел Сосняков. — Что ж ты меня обманул? — упрекнул он Славу. — Знай я, что ты здесь, мы бы тебя использовали… Запряженная в тарантас, стояла у крыльца лошадь, отмахиваясь хвостом от осенних жигалок. Побежали назад клены, взмахнули желтыми и розовыми платочками… Последним, кого Слава видел в Успенском, были не мама, не Петя, не Маруся, а неприветливый хромой Сосняков. «Горе с ним расхлебывать можно, — думал Слава о Соснякове, — а счастье прячь от него в себе…» Как счастье медленно приходит, Как скоро прочь от нас летит! Блажен, за ним кто не бежит, Но сам в себе его находит! 33 Ознобишин оглядел говорливую толпу делегатов перед зданием укомпарта, как полководец осматривает перед боем свои когорты. Да он и был полководцем! Пятьдесят человек! Чем не армия? И к тому же Ознобишин и его армия находились в достаточно воинственном настроении. Было о чем поспорить на губернском съезде! Выбирали делегатов по норме, и оказалось, что это будет самая представительная делегация. В Малоархангельской организации комсомольцев насчитывалось столько, сколько во всех других, вместе взятых, уездах Орловской губернии. Ехали все — Ознобишин, Железнов, Ушаков, руководители всех волостных организаций, и в их числе Сосняков, возглавлявший молодежь Успенской волости, Даша Чевырева, и, увы, Франя Вержбловская, ей бы и незачем ехать, но девушек маловато, и пришлось посылать Франю. Для ведения текущих дел в Малоархангельске остался Коля Иванов. Предстояло добраться до полустанка, отстоявшего от города в десяти верстах, погрузиться в поезд и к утру прибыть в Орел. Когда Железнов обратился к заведующему конным двором с просьбой доставить делегатов на станцию, заведующий, грузный, рыхлый, страдающий одышкой мужчина, только засмеялся: — Вас сколько — пятьдесят? Да у меня и лошадей на всех не найдется! Ничего, дотопаете до станции пешком. После долгих споров заведующий уступил: — Ладно, даю экипаж для ответственных товарищей, Ознобишина и вас отвезем, а остальные пусть топают. Ознобишин кинулся к Шабунину: — Представляете, Афанасий Петрович? Ознобишин в пролетке, а делегаты догоняют его на своих двоих. В таких обстоятельствах я могу быть лишь замыкающим! Шабунин, не дослушав, снял телефонную трубку и приказал: — Отвезти на станцию всех до одного, все экипажи забрать вместе с моим, а нет лошадей, вези сам. Лошади сразу нашлись, и все средства передвижения мобилизованы — и пролетки, и тарантасы, и дрожки, и даже допотопная линейка, оказавшаяся на конном дворе. Шума, смеха, криков! Вечерком, по холодку, доехали до станции, дождались поезда, билеты делегатам начальник полустанка не выдал, хоть и было написано требование, столько билетов просто на нашлось, в вагоны их пускать не хотели, тем более что все ломились в один вагон, разместились с грехом пополам, и - Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Сброшен в море белый враг, Вейся, вейся, красный флаг! Так, с прибаутками, песнями, частушками, кто сидя, а кто и стоя, допыхтели до Орла. Вышли на привокзальную площадь. Приземистые домишки тонули в предутреннем тумане, воздух наполнен густой, вязкой, промозглой сыростью. Ребята точно птичья стая, прибитая ветром к земле, невесело поглядывали на грязный и хмурый вокзал. Хотелось вернуться под крышу, на скамейки и хоть чуть подремать… — Товарищи, пошли, пошли! Доберемся до города, напьемся чаю… Вот и губкомол! На лестнице мрак и тишина, двери не заперты, но в серых, неподметенных комнатах тоже тишина и пустота. — Эй, кто есть? Сонная безлюдная канцелярия. «Неужто придется спать на столах, как два года назад? — подумал Слава. — Не может того быть!» В политпросветотделе кто-то спал на столе, закутанный в солдатскую шинель. — Проснись, проснись, товарищ, пора идти на бой!… Шинель сползла медленно на пол, и перед малоархангельцами предстал худой носатый юноша, влажные темные глаза сердито смотрели на делегатов. Слава узнал Каплуновского, два года назад он назывался завхозом, а теперь — шутки в сторону! — начальник административно-хозяйственного отдела! — Принимай гостей! Каплуновский, кажется, еще не совсем проснулся. — Откуда вы? — С вокзала! — Ну и надо было там дожидаться. — Чего? — Когда все проснутся. — А ты что здесь делаешь? — Я ответственный дежурный. — Вот и устраивай нас. — Придется подождать. Неприветливо встречал их Орел! Даша и Франя пристроились возле подоконника, сдвинули стулья и, положив головы друг другу на плечи, пытались задремать. — Где общежитие? — Общежитие отведено, но я не могу покинуть губкомол. — Куда ж нам деваться? — Подождите здесь… — А селедки ты будешь раздавать? — спросил Слава, вспоминая свое первое посещение губкомола. — Какие селедки? — высокомерно переспросил Каплуновский. — На этот раз вы будете питаться в столовой. У Каплуновского все было предусмотрено: когда делегатам появляться, у кого регистрироваться, где обедать и ночевать, не предусмотрено было только, что поезда редко ходили по расписанию и люди были мало расположены ждать… — Ну вот что, Каплуновский, веди нас в общежитие, — сказал Слава. — Мы устали. — И не подумаю, — твердо заявил Каплуновский. — Я тоже устал, однако не покидаю свой пост. — Ну и черт с тобой, — сказал Слава. — Скажи-ка тогда адрес Шульмана. — Зачем тебе Шульман? — Не ты, так Шульман отведет нас в общежитие. — Секретарь губкома поведет вас в общежитие? — А что он за персона? — Не дам я вам адреса, не для чего его беспокоить! Но тут Слава призвал на помощь Тужилина, механика малоархангельской типографии и лучшего организатора занятий по Всевобучу. — Семен, помоги! Слава и сам не знал, как Тужилин может помочь, но сила у Тужилина такая, что с ним не справиться никому. Тужилин не раздумывал: — Скажешь? — Нет. Схватил Каплуновского за руку, завел за спину и слегка выкрутил. — Что за шутки? Брось, больно! — Скажешь? — Я уже сказал… Брось руку! Хулиганы… Тужилин нажал покрепче. — Я буду жаловаться! — Это я буду жаловаться, — сказал Слава. — Говори адрес… Простейший способ борьбы с бюрократизмом. — Бро… Бросьте! Ой! Вы мне руку сломаете! — Нажми, Сеня… — Свиньи! Два… Дворянская, Третья Дворянская… — Какая еще там Дворянская? — Ну, Гражданская. Гражданская теперь. — А номер? — Не знаю номера. Мать у него зубной врач. Там вывеска… Тужилин разжал руку. — Вы ответите! — завопил Каплуновский. — Я этого так не оставлю… Мужики проклятые! Но Слава уже манил за собой Ушакова. — Ребята, мы сейчас. К Шульману и обратно. Не расходитесь… Кинулись искать Третью Дворянскую. На их счастье, зубной врач Шульман — «удаление без боли, коронки из золота», — догадалась повесить вывеску на углу улицы. Неприветлива она, эта улица. Все дома неприязненно отодвинулись друг от друга, а кусты в палисадниках подернуты однообразной блеклой пеленой. Но вот и вывеска на двери: «Зубной врач Р.А.Шульман». Ушаков постучал. — Ты же видишь — звонок! Звонок тоненько продребезжал за дверью, в доме еще спали, долго никто не открывал, и лишь после второго звонка раздались шлепающие шаги. Защелкали замки, дверь распахнулась, должно быть, здесь привыкли к неожиданным посетителям. — Вы не могли прийти раньше? В дверях пожилая женщина в домашнем халате из розовой фланели. — Нам Зяму, — неуверенно сказал Слава. — Товарища Шульмана. — Я понимаю, если бы у вас болели зубы, — заспанным голосом произнесла женщина. — Но к товарищу Шульману вы могли бы прийти попозже. — Мы по делу, — объяснил Ушаков. — Все по делу, — сказала женщина. — К нему только и ходят по делу и никогда не дают мальчику выспаться. Наступая на нее, Ознобишин и Ушаков очутились в передней, на вешалке висело множество пальто и кофточек, а из многочисленных дверей выглядывали непричесанные женские головы. — Он спит, спит, спит, — шептали они, и это «шпит, шпит, шпит» звучало как заклинание. — Так что же вам нужно? — спросила женщина в халате. — Зяму, — виновато повторил Слава. — Понимаете, мы только что приехали и нам просто некуда деваться, а товарищ Каплуновский… — Вечно этот Каплуновский! Босяк, а не завхоз, никогда ничего не может обеспечить! — Вы лучше скажите, — спросил он, — Зяма дома? И снова изо всех дверей понеслось «шпит-шпит-шпит». — Зямка! — закричал Слава. — Где ты там?! — Можно в этом доме выспаться или нет? — услышал Слава из-за двери недовольный Зямкин голос. — Мама! Но маме, увы, не дано было уберечь свое детище — Ознобишин и Ушаков протиснулись в комнату. По-видимому, это была столовая, потому что широченную тахту, на которой возлежал товарищ Шульман, загораживал обеденный стол, на котором валялась разбросанная Зямина одежда. Но больше всего Славу поразило голубое атласное одеяло, под которым изволил почивать товарищ Шульман! Множество мыслей пронеслось у Славы в голове, и хотя Зямка закутался в одеяло по самую шею, оно обнажало истинную природу Шульмана. Революционер не имеет права спать под таким одеялом! Чего стоили речи Шульмана о классовой непримиримости в сравнении с атласным одеялом! Когда тысячи беспризорников ночуют в котлах… Сердитое личико с вьющимися, как у барашка, черными волосами высунулось из-под одеяла и строго уставилось на вошедших: — Это ты, Ознобишин? Точно это мог быть кто-то другой! Худенькая рука пошарила на стуле возле тахты и водрузила на костлявый нос неизменное металлическое пенсне. Шульман еще раз пытливо посмотрел на вошедших, соскочил с тахты, быстро натянул на худые волосатые ноги брюки, затянул ремень и, как римский патриций, величественным жестом запахнул на себе широкую, не по размеру толстовку. В пенсне и толстовке он снова стал деловитым и непреклонным товарищем Шульманом. — Здравствуйте, ребята, это хорошо, что вы сразу пришли ко мне, сейчас позавтракаем… Он даже не обернулся к матери, дома его должны были понимать с полуслова. Нет, нет, какой там завтрак! Они — завтракать, а ребята — ждать! Это не в их понятиях, все поровну: и завтраки, и ночевки на вокзалах, и дежурства на боевом посту! Слава наскоро рассказал Шульману о том, как встретил их Каплуновский. — Босяк! — пренебрежительно отозвался Шульман. — Ему только селедки делить, в таких делах он незаменим. И Шульман тут же собрался в губкомол, обычаи того времени не позволяли им ни медлить, ни отделяться от товарищей. — Мама, я пошел! — А завтрак? — Я должен! Металлический язык того времени! И не успел Шульман появиться в губкомоле, как Каплуновский тут же преобразился из ответственного дежурного в обыкновенного расторопного завхоза. Приезжих поместили в бывшем епархиальном училище. Кто не выспался, мог выспаться, а кто выспался, мог заняться делами. Орловская губерния была исконно крестьянской, ее богатство — земля, торговала хлебом и пенькой, все население ее в прошлом делилось на тех, кто хлеб производил, и тех, кто хлеб продавал, поэтому из уездов на съезд понаехала преимущественно крестьянская молодежь, а город Орел представляла молодежь учащаяся, вчерашние гимназисты и реалисты. Не успел Слава оглядеться, как его разыскал парень — копна рыжих волос, дерзкое лицо, отрывистая речь. — Ознобишин? Из Малоархангельска? А я Рыжаков, из Ельца. Елец единственный в губернии город, где существовала хоть какая-то промышленность, табачные фабрики и небольшой машиностроительный завод, поэтому Елец считался в губернии кузницей пролетарских кадров. — Вам губкомол много помогает? — Слава пожал плечами, а Рыжаков продолжал: — Сыты мы ихними бумажками, менять их надо, как ты на это смотришь? Слава смотрел положительно. — Может, и надо, — согласился он. — Не знают они, почем пуд хлеба. — А вот это ты ошибаешься, — возразил Рыжаков. — Очень хорошо знают, и купят, и продадут с выгодой, а вот каким трудом и потом хлеб добывается, им невдомек. Они легко договорились — покомандовали гимназисты, и хватит, подлинные нужды молодежи от них ох как далеки! Говорунам из губкомола не приходилось ни вступать в борьбу с кулаками, ни собирать продразверстку, ни засевать солдаткам пустые поля. Признанный трибун губкомола Кобяшев ораторствовать умел, и в его докладе в общем-то содержалось все, что нужно. Отдал дань недавнему прошлому. Бессмертны подвиги комсомольцев в боях с полчищами Деникина. Голод и разруха не остановили движение трудящихся к победе. Ни кулацкие мятежи, ни эпидемии тифа не смогли нас сломить… Взволнованно говорил о задачах, стоящих перед комсомолом. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Активное участие в субботниках. Создание товариществ по совместной обработке земли. Пропаганда агротехнических приемов земледелия. Создание кружков ликбеза. Шефство над неграмотными. Культурно-просветительная работа в избах-читальнях и библиотеках. Подготовка кадров. Учеба на рабфаках… Нет, ничто не было упущено, и ельчане, и малоархангельцы искренне аплодировали Кобяшеву. А сам он, круглолицый, розовощекий, уверенный в себе, стоял на трибуне, снисходительно посматривал на сидящих перед ним мужичков и учил их уму-разуму. Съезд катился по проторенной колее, а малоархангельцы и Рыжаков вкупе с ельчанами вели между собой переговоры, кого избрать и кого провалить при выборах губкомола. И вдруг перед заключительным заседанием объявляют: члены и кандидаты партии — на заседание фракции! Коммунистов собрали в обыкновенном классе с партами и школьной черной доской. — Садитесь! За учительским столиком — типичный гимназический учитель, только что не в вицмундире, с черной, аккуратно подстриженной бородкой, в черной тужурке, в черных брюках — Попов, заведующий агитпропом губкомпарта. — Итак, товарищи, предстоит обсудить состав губернского комитета. Называйте кандидатов. Шульман назвал Кобяшева, а Кобяшев Шульмана. Поднял руку Шифрин: — Я бы предложил взять за основу старый состав и добавить к нему… Рыжаков оглянулся на Славу и тоже поднял руку. — А у вас что? — Список… — Давайте! Собрание Попов вел железной рукой. Называл фамилию и строго смотрел в зал. — Есть отводы? Тщетны были попытки малоархангельцев и ельчан изменить состав губкомола. — Шифрин? Тут уж Слава не выдержал. — У меня есть… Он приезжал к нам в уезд накануне Десятого съезда партии. Выступал против платформ Ленина… Вместе с Сосняковым выводил он Шифрина в Корсунском из школы. — Но ведь он подчинился решениям съезда? — спросил Попов Ознобишина и тут же обратился к самому Шифрину: — Вы на какой позиции сейчас, товарищ Шифрин? — На партийной, — торопливо отозвался Шифрин. — Ознобишин передергивает! — Вот видите? — укоризненно сказал Попов и представил слово Кобяшеву. — Шифрин порвал с отцом! Понимаете, товарищи? Порвал с родным отцом, которого захлестнула мелкобуржуазная стихия! Нашел в себе силы уйти из семьи… Затем стал рассказывать о том, как Шифрин, выехав с отрядом для усмирения кулацкого восстания, был послан с особым заданием на станцию Змиевка, встретил по пути обоз с оружием, убедил крестьян разоружить белогвардейцев и доставил оружие в расположение Красной Армии. Слава слушал и не верил своим ушам, а Шифрин скромно сидел за партой. — Один, безоружный, не побоялся белогвардейского конвоя, — продолжал Кобяшев. — Что еще добавишь?! А что касается дискуссии о профсоюзах, он действовал в рамках партийного Устава, и те, кого он поддерживал, остались в рядах партии… — Дискуссия закончена, — сказал Попов. — Шифрин неплохо редактирует газету, и губком партии рекомендует оставить его в списке. Слава опять поднял руку. — Что еще? — Шифрин не пользуется нашим доверием, — упрямо повторил Слава. — А что он порвал с семьей, нисколько его не украшает. Как же это он бросил на произвол судьбы своих сестер и братьев? — "Нашим доверием"! — передразнил Попов, обрывая Ознобишина. — Мы знаем Шифрина… Да, Попов далеко не Шабунин и даже не Кузнецов, те тоже умеют приказать и настоять, но предпочитают убедить и доказать, а этот не очень-то заботится о том, что могут о нем подумать те, кому думать, по его мнению, не положено. — Кто за то, чтобы оставить Шифрина? — спросил Шульман. — Кто против? Слава не ожидал, что после выступления Попова против Шифрина проголосует чуть ли не половина присутствующих. — Что за недисциплинированность! — Попов досадливо поморщился. — Вы — коммунисты, и губком предлагает вам голосовать за… За! За! — несколько раз повторил он. — В порядке партийной дисциплины! — Так как, товарищи, переголосуем? — спросил Шульман, скромно потупив глаза. — Кто за Шифрина, поднимите руки еще раз! И Слава нехотя поднял руку и проголосовал и за Шифрина, и за Шульмана. 34 — К вам тут заходили двое, — сообщила Эмма Артуровна, вопросительно взглядывая на Славу. — Обедать будете? Он пораньше вернулся домой, чтобы выспаться, наутро ехать в Жерновец — малознакомое село, где комсомольцы арестовали попа, заперли в церкви и никого к нему не пускают. — Что за люди? — Пожилые. Должно быть, по делу, серьезные очень. Сказали, зайдут еще. — Ладно, Эмма Артуровна. У меня еще дел… — Он выложил из карманов всякие бумажки. — Выспишься тут, — сказал самому себе Слава и принялся читать инструкцию губкомола о проведении недели сближения союзной и несоюзной молодежи. Эмма Артуровна потопталась и ушла, Слава поглядел ей вслед, перевел взгляд на окно и залюбовался узорами мороза на стекле. Была у него такая дурацкая манера: заметит какой-нибудь пустяк и рассматривает — звезду за окном или воробья на подоконнике, а то так и задумается над тем, как это морозу удается рисовать такие симметричные узоры. Сидел и рассматривал заиндевевшие стекла, пока не услышал, как за его спиной стукнула дверь. Обернулся — Степан Кузьмич!… И Пешеходов… Кузьма… Кузьма… Слава не помнил его отчества… Директор Моховского конесовхоза. Оба в валенках, в полушубках, замерзшие, злые. — Принимаешь гостей? Слава вскочил, засуетился. — Раздевайтесь. Откуда? Вот не ждал… Оба облегченно вдохнули в себя теплый воздух, побросали на кровать полушубки и принялись рассматривать Славу. — Что вы так смотрите? Пешеходов выглядит вполне благополучно, хотя на лице у него недовольное выражение, а вот Степан Кузьмич совершенно несчастен: мертвенно-серое лицо и до невозможности тусклые глаза. — Смотрю, кем ты тут стал, — хрипло говорит Быстров. — Кем же я могу стать? — Бюрократом. Как и все тут. — А здесь все — бюрократы? Быстров приказывает Пешеходову: — Расскажи, Кузьма… Не было у Быстрова существа дороже, чем его Маруська, для него она была лучшей лошадью в мире. Когда Быстрова сняли с работы, он увел Маруську к себе в Рагозино. Некоторое время никто о лошади не вспоминал. А неделю назад в Рагозине появился милиционер из соседней Покровской волости, привез предписание забрать у Быстрова лошадь и сдать в Моховский совхоз. Быстров было заартачился, потом хотел застрелить Маруську, но не поднялась рука, кинулся к Пешеходову. «Кузьма, пойми…» — «Я бы рад оставить тебе кобылу, да не в моей власти дарить государственных лошадей». — «Кузьма!…» — «Хлопочи в Малоархангельске». Быстров всегда был в добрых отношениях с Пешеходовым, тот согласился поехать вместе с Быстровым в Малоархангельск, сказать, что совхоз обойдется и без быстровской кобылы, однако в уездном исполкоме стояли на той же позиции, на какой всегда стоял сам Быстров: нельзя оставлять кровных лошадей у частных владельцев. «Это я-то частный владелец?» — «А кто же вы? Это же злоупотребление — пользоваться такой маткой для разъездов». Не помог и Пешеходов! Степан Кузьмич оттолкнулся рукой от стены. — Мне без этой лошади жизнь не в жизнь… Нет, это не тот Быстров, который на митингах зажигал мужиков революционным огнем, жизнь сломала его. — А с Афанасием Петровичем говорили? — Сказал, что не вправе дарить лошадей. — Но ведь он действительно не вправе… — Попроси он меня еще год назад, я бы ему десяток лошадей предоставил! Быстров все еще жил в восемнадцатом году, а шел уже двадцать второй… — Я сейчас… — Слава побежал к Эмме Артуровне, попросил сходить к Прибыткову, единственный частный магазинчик на весь Малоархангельск, взять бутылку вина, какого угодно, и приготовить чего-нибудь закусить. «Рассчитаюсь из первого жалованья…» Быстров и Пешеходов говорили о чем-то между собой, когда Слава вошел, они замолчали. Тягостное молчание. Даже более чем тягостное. Слава не знал, что это его последнее свидание с Быстровым, но сознание того, что им не о чем говорить, наполнило его тревожным предчувствием. Так они и молчали, тревожно, долго, все трое, пока не вошла Эмма Артуровна. На деревянном подносе внесла бутылку вина, селедку, украшенную кольчиками лука, нарезанную кружками домашнюю колбасу, три сваренных вкрутую яйца, хлеб. — Я взяла портвейн, — сказала она. — Селедочка… Кажется, она готова была присоединиться к компании. — Хорошо, идите, — оборвал ее Слава. Эмма Артуровна обиженно удалилась. — Портвейном угощаешь? — Степан Кузьмич выговорил «портьвейнем», обернулся к Пешеходову и насмешливо продолжал: — А мы вина не пьем, мы самогон употребляем. Обуржуазился ты здесь… До чего дошел… Кровать ковром покрыл, мягкую мебель завел, барышню какую-то в шелковой рамочке на стенку по весил… Нет, не тому я тебя учил. Слава смотрел на него со все нарастающим смятением. Кровать у него действительно застелена, но не ков ром, а дешевым покрывалом Эммы Артуровны. «Мягкой мебелью» был один-единственный стул, обитый пунцовым, давно просалившимся шелком, забытый владельцами дома, давно уже покинувшими Малоархангельск А «барышней в шелковой рамочке» была Вера Васильевна, снятая совсем-совсем молодой, еще до замужества, и чистота, какой веяло от нее, обязывала Славу вести себя так, чтобы ни папа, ни мама ни в чем и никогда не могли его упрекнуть. Резким движением Быстров отставил бутылку в сторону. — Знаешь, кого ты должен повесить над своей головой? — воскликнул он срывающимся голосом. — Маркса! Карла Маркса! Великого учителя пролетариата! А ты держишь над головой какую-то… Слава не мог позволить ему продолжать: сорвись с языка Быстрова слово, которое готово было сорваться и которое Слава никогда бы ему не простил, могло бы произойти что-то такое безобразное, чему нельзя будет найти оправдания. — Дурак! — крикнул Слава. — Сам не понимаешь, что говоришь! Степан Кузьмич откинулся на спинку стула, точно его ударили. Ознобишин, Слава Ознобишин назвал его дураком… Поднялся, протянул полушубок Пешеходову. — Пошли, Кузьма, нам с ним говорить не о чем. Негромко стукнула дверь. Если бы Слава знал, что видит Быстрова в последний раз! Пешеходов и Быстров шли по заснеженному Малоархангельску и нехотя поругивали Славу, дошли до дома с фуксиями на подоконниках, где они остановились, поужинали холодными блинами и салом, допили остатки самогона, еще раз ругнули Советскую власть и легли спать, а Слава долго еще сидел на кровати и думал то о Быстрове и Пешеходове, то о жерновском попе, которого завтра ему предстоит освобождать из-под какого-то дурацкого ареста. 35 Славе не хотелось открывать глаза, покуда спишь, все хорошо, а как проснешься, сутолока и тревога сразу ворвутся в жизнь, и так до вечера. В комнате холодно, Эмма Артуровна еще не затопила печь. Слышится ее хриплый со сна, недовольный голос: — Спит он еще… Сколько мороза нанесли! Кто вы им будете? Надо вставать! Румяный старичок держал в руках снятые варежки и похлопывал одну о другую. Не сразу узнал его Слава… Герасим Егорович, брат покойной Прасковьи Егоровны… Все такой же суетливый и веселенький. Зато он сразу признал Славу. — Миколаич, наше вам с кисточкой. Заехал вот к тебе по дороге. Чайком напоишь? Пришлось распорядиться. Неудобно не принять гостя. — Заходите, раздевайтесь. — Значит, тут квартируешь? — Егорыч оглядел комнату. — Что ж так? Ни креслов у тебя, ни занавесов… Эмма принесла чайник, Слава расставил посуду, на этот раз у него нашлись и хлеб, и даже немного сахара. Егорычу ничего не нужно, кроме чаю. Он деликатно отгрызал самую малость от куска сахара, прихлебывал с блюдца чай, отдувался. — Чай-от малиновый? Фабричный? Малину суши для души, а распаривай для здоровья. Как ты тут? Еще не обженился? Ну, я шутю, шутю, покеда бородой не обзаведешься, не женись. Давно я не был в Успенском, сестра на погосте, вот и не еду в гости… Слава томился, пора на службу, и выпроводить неудобно. — Вы сюда по делам или как? — Неужли без дела? — весело отвечает Егорыч. — Жмых привез продать, обвиднеется, пойду на базар. — И много? — С пуд. А к тебе с новостью. Уж такая новость, такая новость… Мужик был, конечно, не всем по нутру, но лихой был вояка. — Это кто же? — Лихой был и, можно сказать, справедливый, — продолжал Егорыч. — Только вот сбили его… — Да вы о ком? — Царствие ему небесное, завтра, должно, уже и похоронят. Слава раздражается: — О ком вы? Егорыч на секунду замолкает в уверенности, что своим сообщением он поразит Славу. — Быстров… Степан Кузьмич… скончались. Он прав. Слава замирает… Не может быть! Туман застилает ему глаза. — Не может быть, — вслух повторяет Слава. — Отчего же не может быть? Вчерась его нашли… — Где нашли? — В роще. В Рагозинской роще. Повесимшись. Ребятишки пошли натрясти желудей и обнаружили. Висит на дубу… — Как — висит? — Ну, как висят? Самостоятельно висит. Я ж тебе докладаю. Такому человеку трудно без власти жить Пил без просыпу, перебрал и… Где наша не пропадала, а кончать когда-нибудь надо! Нет, Слава не может поверить тому, что Степана Кузьмича не стало. Не может, не может Быстров умереть, да еще повеситься. Не того он десятка. Пил, конечно, пил, с горя пил… Но он же борец, такие люди не кончают с собой. Это сплетни, слухи. Слава на мгновение приободрился. — Ерунду вы говорите, не может Быстров повеситься, не такой характер у него… — Характер! — Егорыч всплеснул руками. — Да я точно говорю. Из-за того и заехал, подумал, что не может сердце в тебе на евонную смерть не отозваться. Слава сжался весь, совсем как в те минуты, когда выполнял самые важные, самые опасные поручения Быстрова. — Ну расскажите, расскажите по порядку… — А я и говорю по порядку, — обиделся Егорыч. — Ушел позавчерась из дому, сказал бабе: «Я тут, недалече, скоро вернусь». На дворе ночь, а его нет, с ним такое случалось, пропадал не на один день, а вчера в роще его нашли, висит, сердешный, на суку, перепужал ребятишек… — Вы-то откуда узнали? Сами видели? — Зачем мне видеть? Я в Козловке был проездом, дела у меня там, а тут приезжает из Рагозина Выжлецов — слышал? Семен Прокофьич, мельник, говорит: Быстрову конец, не выдержал… У Славы на сердце тоже тоска. Что-то надо делать, а что? — Хоронят когда? — Завтра, как от милиции известию получат, делать вскрытию аль нет… — Вам чаю еще налить? — Налей, налей, милок… Егорыч потягивает чаек и потягивает, греется. И все смотрит, смотрит на Славу, не отводит от него глаз… Так ли уж его интересует, какое впечатление произвело сообщение на Славу? Посмотрит, опустит глаза к блюдцу и опять посмотрит… Нет, чего-то Егорыч недоговаривает. Ставит блюдце на стол, наклоняется к Славе. — Слушай, Миколаич, чего скажу… А что, ежели это… убивство? Слава не очень-то понимает Егорыча. — Убийство? — Оченно просто. — Зачем? — А у него много, у твоего-то Степана Кузьмича, ненавистников было, люди обид не прощают… — Да нет, не может быть… Не может быть, чтобы Степана Кузьмича убили… Да и кто решится на это? Нет, нет… — Глупости… — Глупости-то оно глупости, да ведь люди просто так руки на себя не накладают, а такой орел и подавно… Слава встает. — Вы тут сидите, захочется, Эмма Артуровна вам еще чайничек вскипятит, а мне, извините, пора. — Торопишься по начальству докладать? — догадывается Егорыч. — Мне тоже на базар… Обычно Слава бежит на работу, а сейчас не торопится, идет и раздумывает, как же это могло случиться, что он потерял Быстрова? Впрочем, Быстрова он давно потерял, но теперь, когда человек вообще уже не существует, мысль о непоправимости происшедшего давила с непереносимой силой. Возле укома Славу нагнал Ушаков. — Что это ты такой невеселый? — Да нет, ничего, — безучастно отозвался Слава. — Голова болит… Он пошел не к себе наверх, на антресоли, а к взрослым, в уездный комитет партии. Шабунин был не один, у стола сидели начальник уездной милиции Дегтяренко, как всегда суровый и молчаливый, и Пересветов, директор Каменского конесовхоза. Слава остановился на пороге. — Афанасий Петрович, можно? — Заходи, заходи… Дегтяренко и Пересветов замолчали. — Что у тебя? — спросил Шабунин. — Афанасий Петрович, вы знаете… — Голос Славы сорвался. — Умер Быстров. — Знаю. — Шабунин сочувственно посмотрел на Славу. — Мне еще вчера вечером сообщил Семин. — А вы знаете… — Да, не выдержал, сорвался, — подтвердил Шабунин. — Жаль, но… — Сам виноват, — досказал Дегтяренко. — Нет, не то, — не согласился Шабунин. — Виноват, конечно, но мы тоже недоглядели. — Он помолчал и поставил точку. — Недоглядели за человеком. Слава не очень понимал, что ему нужно от Шабунина. — Как же теперь… — Похоронят без нас, — опять жестко вмешался Дегтяренко. — Быстрова фактически списали еще год назад. Тут Шабунин сам догадался, что от него нужно Славе. — Хочешь поехать? — Шабунин задумчиво постучал пальцами по столу. — Что ж, поезжай. Успеешь на похороны. Только учти: ни речей, ни митингов. Слава с отчаянием смотрел в окно, стекла оттаяли, на подоконник наползали тяжелые мутные капли. — А вы не думаете, что не сам он себя убил? Его многие ненавидели! — Конечно, не сам, — мрачно согласился Дегтяренко. — Самогон, вот кто его убийца. — Нет, не думаю. Кому он сейчас мог быть опасен? Семин выяснял — собственная слабость, — ответил Шабунин. — Иди на конный двор, передай, чтоб запрягли тебе мои ползунки, а твоим товарищам я сам скажу, что отпустил тебя дня на два домой. 36 В ползунках Шабунин ездил, когда спешил, — маленькие такие саночки, от силы на двух человек, с неширокой полостью и невысокой спинкой. На конном дворе удивились: Шабунин свои санки никому не давал, а тут — нате! — предоставил ползунки Ознобишину, которому вообще не положено личного выезда… Ничего не поделаешь, приказ есть приказ. Запрягли в ползунки Урагана, могучего аргамака в яблоках, не запряжешь в беговые санки какую-нибудь клячу, — часа не прошло, как Слава выехал из Малоархангельска. Понукать Урагана не приходилось, только снег да комья мерзлой земли летели из-под копыт, легкие санки для такого коня неощутимы, зато на сердце Славы давила такая тяжесть, какой он, кажется, еще никогда не испытывал в жизни. Разговор с Шабуниным и особенно неприязненные реплики Дегтяренко развеяли подозрения Славы, не перенес Степан Кузьмич одиночества, отверженности, безвластия… Эх, Степан Кузьмич, Степан Кузьмич… Мороз свирепел, ветер завивал снежок, Слава не замечал мороза, так торопился, да и тулуп спасал, что дали ему на конном дворе конюхи. Поворот за поворотом, деревня за деревней, ветла за ветлой, без передышки донесся до Успенского, выехал чуть ли не в сумерки и приехал чуть ли не в сумерки, завернул домой, побежал на кухню к Федосею, попросил подбросить Урагану сенца — не распрягать, а только подбросить, пошел в дом, Вера Васильевна не ждала сына, однако появлению его не удивилась. Слава поцеловал мать, устало опустился на стул. Вера Васильевна, вероятно, подумала о том же, о чем Слава думал всю дорогу. — Ты знаешь… — начала было она. — Знаю, — коротко отозвался Слава. — Не надо. — Ты надолго? — Нет, отдохнет лошадь и сразу в Рагозино. — Есть будешь? — Дай чего-нибудь… Пошли на кухню, Вера Васильевна налила горячих щей и, пока Слава ел, пригорюнившись, смотрела на сына. — А не опасно? — вдруг спросила она. — Какая может быть опасность? — Слава хмыкнул. — Дорога известна, до ночи далеко, волков нет… Вера Васильевна покачала головой. — Я не о том… — А о чем? — Как ты думаешь, Степан Кузьмич погиб своей смертью? Вот и мама что-то подозревает. Слава доел щи, отодвинул тарелку, строго посмотрел на мать. — А кому он сейчас нужен? — Ну, не говори… — Мама стала совсем грустной. — Убили Александру Семеновну. Может быть, те же… — Какая тут связь? — возразил Слава. — Там — грабители, да и тому скоро три года. — Ну, не знаю, не знаю, — согласилась Вера Васильевна. — Это я так. Ползут всякие слухи… — Не всякому слуху верь… Такие сказки сочинят, что спать ночью не будешь! В Рагозине он сперва заехал к Жильцову, тот распорядился накормить и поставить на ночь лошадь, а сам отправился разыскивать избу Быстрова. Изба небольшая, ладно сбитая, но старая, серая от времени, за годы пребывания у власти Степан Кузьмич так и не удосужился построить своим детям жилище поновее и попросторнее. Сравнительно поздно, деревня спит в такое время, но навстречу Славе из сеней кто-то вышел и кто-то вошел. Ярко горят две лампы, не из тех, какими пользуются обычно мужики, а принесенные, должно быть, из школы или из сельсовета. Большой, сбитый из тяжелых темных досок стол в правом углу, на столе гроб из только что обструганного дерева, в углу над гробом косо висит икона божьей матери, а в гробу на белой подушке… Только глаза уже не блеснут стальной искрой, веки набрякли, и серые круги возле глаз… Сперва Слава ничего больше и не видел: Быстров, один Быстров, Степан Кузьмич… Как же это так? Как же это мы с тобой больше никогда не увидимся? Свет бил в глаза. Слава огляделся. Скамейки по стенам. Две старухи у гроба. Женщина у печки. Так стоят, когда замерзнут и греются. Жена Быстрова, догадался Слава. Красивая женщина. Была красивой. Слава подошел к ней. — Елена… Елена… — Ее называл как-то Быстров, но Слава запамятовал ее отчество. — Простите… Вас как по отчеству? — Константиновна, — отчетливо произнесла она. — А вы? — Ознобишин. — Знаю, — сказала женщина. — Приехали хоронить? — Только сегодня утром узнал, — сказал Слава, как бы оправдываясь. — Боялся, опоздаю… Он не умел утешать, да и не знал, нуждается ли эта женщина в утешении. — Вы где остановились-то? — осведомилась она с необидным безразличием. — Лошадь оставил у Павла Тихоновича, у Жильцова, а сам сюда. Жена Быстрова повела подбородком в сторону гроба. — Отгулял… Старухи у гроба перекрестились и зашаркали прочь из хаты. — Чего это они? — спросил Слава. — Прощаться приходили. — Похороны завтра? — И так затянули, хотели вскрытие производить, да я не позволила… Тут внимание Славы привлек чей-то непрекращающийся шепот, жена Быстрова заметила, что Слава прислушивается, и слегка отдернула занавеску над запечьем — две русые головенки склонились с печи. — Дети ею, дочка и сын, — отчужденно пояснила она, точно это не ее, а одного лишь Быстрова дети. Славе показалось, дети похожи на Быстрова, такие же тонкие черты лица, такие же светловолосые, голубоглазые. «Как это он смог их оставить? — с отчаянием подумалось Славе. — Даже ради Александры Семеновны…» — Идите, отдыхайте, — строго сказала жена Быстрова и опять повела подбородком в сторону гроба. — Завтра с утра повезем на погост. — Я побуду еще? — просительно сказал Слава. — Недолго, а? — Поздно, не отдохнете, — сказала жена Быстрова. — А впрочем, как хотите. Никогда не испытывал Слава к Степану Кузьмичу большей нежности, Быстров часто был и строг и суров, а вот сейчас сердце Славы захлестывала безграничная нежность. «Степан Кузьмич… дорогой… хороший… — мысленно произносил Слава. — Как же все это произошло?… Почему мы перестали понимать друг друга?… Ты же мне родной…» Слава боялся посмотреть на Быстрова ниже подбородка, боялся увидеть след петли и, разумеется, скользнул взглядом — и ничего не увидел, воротник кителя подтянут и наглухо закрывает шею. «Ах, Степан Кузьмич, Степан Кузьмич…» А Степан Кузьмич молчал, уже ничего не мог он сказать Славе Ознобишину, лицо спокойно и строго, исчезли морщинки со лба, губы стиснуты, и никогда уже ни на кого не посмотрит, не взглянет… Слава стоял у гроба, у печки стояла овдовевшая женщина. Слава услышал ее вздох, понял, что она не приляжет, пока хоть кто-то из посторонних находится в избе, и пошел к двери. — Зачем же его… — Он взглянул на икону. — Зачем его под образа? Ведь он не признавали… — Старухи принесли, — равнодушно объяснила Быстрова. — Сам-то он не позволял держать икон в xaтe. — А отпевать завтра? — спросил Слава с тайной надеждой отговорить ее от церковных похорон. — Хотели, да отец Николай отказался: самоубийцев, говорит, отпевать не положено. Горе терзало Славу, и все-таки он обрадовался, что Степана Кузьмича не будут отпевать, сам Быстров не позволил бы хоронить себя по церковному обряду. Слава шел заснеженной, пустынной улицей, мерцали звезды, поблескивал снег, где-то одиноко брехал неунывающий пес. У Жильцовых все спали, Слава постучался, ему быстро открыли. — Мы думали, останетесь у Быстровых до утра. Ужинать будете? — Нет, нет, — отказался Слава. — Мне бы соснуть пару часиков, если можно… Ему постелили на лавке, перина не умещалась, свешивалась до полу, и Слава всю ночь подтягивал ее. Утром встал чуть свет, позавтракал вместе с Жильцовыми и только собрался идти к Быстровым, как за ним прибежал вихрастый визгливый паренек. — Дядя Паша, где у вас тут этот, как его… Ну, приехал вчера, у вас остановился? — Чего тебе? — спросил его Слава. — Ванька зовет. Давай быстро! Ну, Сосняков. Ванька Сосняков. — Да разве он дома? — Приехал на зорьке. Давай, давай! — А где он? — В школе. В школе — комната, отведенная для Корсуновской комсомольской ячейки. У школы возня, игра в снежки, занятия еще не начались. Многое изменилось за три года в доме Корсунских, сделали коридор, залы разделены перегородками. — Здравствуй, Иван, с чего это ты в такую рань? — Узнал, что вы приехали в Рагозино, и вот следом за вами. Сосняков официален, важен, строг, обращается на «вы» — Слава ничего не понимает. — А что стряслось? — Хочу предотвратить ваше ошибочное поведение. — Мое поведение? — Полагаю, вы приехали на похороны? — А тебе какое дело? Впрочем, и тебе стоило бы принять участие в похоронах. — Мне? — Тебе. Сосняков искренне удивлен: — Да вы понимаете, что предлагаете? В свою очередь, изумляется Слава: — Да ведь это он устанавливал Советскую власть в нашей волости, он делал революцию… — А потом эту революцию предал? Тут только до Славы доходит смысл неожиданного появления Соснякова. — Ошибся и наказан за это, но он остался революционером. — Товарищ Ознобишин, вы недостаточно принципиальны. Значение этого слова Сосняков уже знает и знает, что обвинение в беспринципности способно задеть Ознобишина сильнее всего. — Не тебе меня учить, я секретарь укомола. Это я рекомендовал тебя в секретари волкомола! И вообще, брось этот тон… — Ты орешь потому, что не прав. — Быстров — мой учитель, — решительно заявил Слава. — Оно и видно, раз ты собираешься действовать во вред партии. Я для того и приехал, чтобы тебя остановить. Прошу тебя, не ходи на похороны, мы все сделали, чтобы в похоронах не участвовать. — Что?! — Пусть хоронит жена или какая родня, но комсомольцы и коммунисты должны воздержаться. — Поп отказал в погребении, коммунисты тоже отказывают, кому ж его хоронить — кулакам? Сосняков усмехнулся: — Ну, кулаки его собакам скормили бы… — Признаешь? — Ты же партийный работник, а он критиковал партию. Что скажут люди, если увидят тебя? Все, значит, прощено? — Так, если хочешь знать, мне Шабунин разрешил поехать, даже свою лошадь дал… У Соснякова задергалась под глазом жилка, теперь уже он начал злиться. — Никогда не поверю, чтобы руководитель уездной партийной организации разрешил тебе хоронить врага партии. — Иди к черту, — сказал Слава. — Ты за это ответишь, — сказал Сосняков. — Ты вообще не можешь быть примером для молодежи. Слава встал. — Ты куда? — К Быстровым. — Смотри… Но Слава уже не слышал, что говорил Сосняков. В коридоре стояла тишина, из-за дверей слышалось приглушенное гудение, шли уроки, здесь никому не было дела до похорон Быстрова. Перед избой Быстрова стояли розвальни, старухи переминались у крыльца. Дверь в избу распахнута, трое мужичков приколачивают крышку гроба, сама Быстрова в полушубке и в шерстяном платке, как и накануне, стоит у печки, детей нигде не видно. Мужички поднатужились, подняли гроб, вынесли, поставили на розвальни. — Трогай, — сказал один из них. Старухи закрестились… «Да что же это такое? — подумал Слава. — Он всей волостью верховодил, на волостных съездах был главным оратором, скольким людям помог разобраться в происходившем, да и просто жить помогал, и — никого, никто не пришел, прав, оказывается, Сосняков, сделали все, чтобы никто не пришел отдать Быстрову последний долг». Сани медленно скользили по снежному насту, один из мужичков держал в руках вожжи, другие два шли рядом, поодаль тащились старухи, да за санями шли Быстрова и Ознобишин. «Как же пустынно вокруг и одиноко, — думал Слава. — Неужели никому уже нет дела до Степана Кузьмича?» Пустая дорога, молчаливые избы, холодное небо… Он оглянулся. Нет, шагах в пятидесяти позади шло еще несколько человек. Шел Жильцов, Павел Тихонович, председатель сельсовета, и Василий Созонтович Жильцов, первый богач в Корсунском, и Дегтярев Тихон Андреевич, еще несколько человек, всех Слава не знает или не помнит, двое парней в теплых суконных пиджаках, и еще кто-то в городском полупальто, отороченном мехом, лицо его как будто знакомо, Слава видел его, но не может припомнить где. Он еще раз оглянулся. Да ведь это же самые зажиточные хозяева во всем Корсунском… Славе стало даже не по себе. Что им нужно? Кулаки провожают Быстрова в последний путь! Так и двигалась эта процессия — сани с гробом, три мужичка, соседи Быстровых, за санями жена покойного и Слава, подальше старухи и еще дальше те, кто всегда трепетал перед Быстровым при его жизни, у кого он проводил обыски и безжалостно отбирал найденное зерно. Спустились в лощину, миновали церковь… Кладбище все в снегу, снег на воротах, на изгороди, на крестах. Протоптана лишь одна дорожка, должно быть, все те же трое мужичков протоптали, когда накануне ходили копать могилу. Лошадь остановилась. Гроб сняли, понесли. Последнее прибежище Степана Кузьмича Быстрова. Ни пола с молитвой, ни стрелка с ружьем для салюта. Мужички покряхтели, один чуть не оступился, и принялись опускать гроб. Не до речей, здесь последнее «прости» не перед кем сказать. Быстрова отступила от Славы на шаг, а один из мужичков, наоборот, приблизился к Славе. — Кидайте, — просипел он и сунул Славе в руку лопату. Слава склонил голову, поднял лопату, земля смерзлась, не слушалась, все же он поддел, комья земли стукнулись о крышку гроба, и мужички следом принялись быстро забрасывать могилу… Быстрова, Слава, старухи идут обратно, у ворот стоят Жильцовы и их дружки, и среди них тот, в полупальто с меховым воротником, которого Слава где-то все-таки видел. Они точно не замечают ни женщин, ни Ознобишина, смотрят в сторону новой могилы и вздыхают… Соболезнуют?… Вот тебе и «скормили бы его собакам». Все так просто и буднично, что Славе очевидна несостоятельность слухов и подозрений, о которых говорили и Егорыч, и Вера Васильевна. Надо бы как-то утешить Быстрову, но у Славы нет нужных слов. Он доходит с ней до ее избы. — Прощайте, — говорит Слава. — Если что понадобится ребятам… — Может, зайдете? — приглашает Быстрова. — Помянем Степана Кузьмича… «Недоставало только, чтобы я поминал Степана Кузьмича со всем этим кулачьем», — думает Слава. Обращается к Павлу Тихоновичу Жильцову: — Лошадь моя у вас, Павел Тихонович? — У нас, у нас, — подтверждает тот. — Да куда вы спешите? — Не могу, — отказывается Слава. — Прикажите запрячь. — Мигом. — Жильцов кивает одному из парней. — А то остались бы? Парень чуть не бегом покидает компанию. Слава подает руку Быстровой и Жильцову и уходит вслед за парнем. Тот выводит из конюшни Урагана, запрягает в ползунки, протягивает гостю вожжи, Слава забирается под полость, с места пускает коня рысью и летит по распахнутой ему навстречу солнечной зимней дороге. 37 Славе хочется изгнать из памяти эти жалкие похороны, Быстров достоин лучших похорон, но забыть их ему не удастся никогда. На околице какой-то прохожий вышел на дорогу. Не натяни Слава вожжи, Ураган подмял бы его. Мужчина в меховом полупальто, имя которого Слава тщетно пытался вспомнить на кладбище! — Вы в своем уме?! — сердито крикнул Слава, останавливая коня. — А что, испугались? — задорно спросил незнакомец, улыбаясь Ознобишину. — Тоже ушел с поминок, жду вас, подвезете до Черногрязки? Слава подвинулся. — Садитесь… — Не узнаете? — все так же весело спросил незнакомец. — Нет. — Я сразу заприметил, что не узнаете. Выжлецов я, мельник из Козловки. Помните, приезжали ко мне с Быстровым… Оружие отбирать. Господи… Да как же он мог забыть эти рыжие усики и бегающие голубые глазки?… Выжлецов! Он, правда, подобрел, лицо лоснится, глазки заплыли жирком, но все такой же вертлявенький, и Слава не понимает, почему на кладбище он казался и выше, и осанистее. — Забыл, — признался Слава. — Ведь это когда было? Года три уже… — А я не забыл, — весело продолжал Выжлецов. — Никогда ничего не забываю. И как чай вы у меня пили, и как пулемет встребовали… Славе стало не по себе. — А пистолетик сейчас при вас? — ласково осведомился Выжлецов. — Какой пистолетик? — Какой положен вам при вашей должности. Для охраны себя и государства. — Нет у меня никакого пистолетика, — сердито сказал Слава. — Да и не нужен он мне. — И напрасно, с пистолетиком завсегда спокойнее, — наставительно возразил Выжлецов. — А при мне пистолетик, и в случае надобности я могу его и применить. Славе понятно, Выжлецову хочется его попугать. — Пугаете меня? — По возможности, — отвечал Выжлецов, улыбаясь. — Три года назад вы меня пугали, теперь мой черед. — Не получится, — сказал Слава, хотя на душе у него неспокойно. — Я не из пугливых, я школу прошел не у кого-нибудь, а у Степана Кузьмича. — А мы и его угомонили, — вдруг зло и противно сказал Выжлецов. Теперь уже Слава отодвинулся от своего соседа. — То есть как угомонили? — А очень просто: привели приговор в исполнение. — Какой приговор? — Видишь ли, парень, удайся Антонову восстание, — принялся неторопливо рассуждать Выжлецов, — установилась бы в России наша, мужицкая, власть, и я бы при этой власти обязательно стал председателем трибунала. — И что же бы ты делал? — насмешливо спросил Слава, тоже переходя на «ты», как и его собеседник. — Что бы ты делал, председатель трибунала? — Вешал бы таких, как ты. — Значит… — Правильно, правильно, — подтвердил Выжлецов. — Приговорили мы твоего наставника и… И выразительный жест подкрепил слова Выжлецова. — Так вы… — Славе трудно произнести это слово. — Убили его? — Зачем убили? — поправил Выжлецов. — Казнили, а не убили. И жестоко в подробностях рассказал. Лишь спустя много месяцев из рассказа Выжлецова и отдельных подробностей, запомнившихся разным людям, встречавшим Быстрова незадолго до смерти, Слава смог понять, как погиб Быстров. …Очутившись не у дел, Быстров старался не сидеть сложа руки. С утра справлял всякие хозяйственные нужды: колол дрова, замешивал корове резку, поправлял домашние постройки. Иногда шел в читальню и бегло просматривал газеты. Разговаривать о текущих событиях не любил, все, что писалось в газетах, было ему, видимо, не по нутру. Редко, но случалось, заходил в сельсовет. Там тоже ни с кем и ни о чем не говорил. Постоит, послушает, что говорят другие, и уйдет. Кое-кто в Малоархангельске дивился, что он не уехал обратно в Донбасс работать на шахте. Но Славе, еще когда он жил в Успенском, казалось, что Быстров болен, износился, хотя сам он никому на здоровье не жаловался. К вечеру, когда Степаном Кузьмичом очень уж, должно быть, овладевала тоска, он доставал самогон. В общем, после исключения из партии жил он бездеятельно и скучно. Он и в то утро встал, как обычно, спозаранку. Пообещал жене съездить в лес, нарубить дров. Деревья он рубил безнаказанно, для лесников он по-прежнему оставался начальством, и никто не осмелился бы задержать Быстрова в лесу. Дети ушли в школу. За женой прибежала соседская девчонка, позвала к соседям. Жена вскоре вернулась, сказала, что Выжлецов, мельник из Козловки, хочет с Быстровым поговорить. Он удивился: «Что ему от меня надо? — и сказал: — Пусть приходит». Жена сказала, что Выжлецов будет ждать его в роще. Быстров сказал, что ни в какую рощу не пойдет, если нужен, пусть приходят к нему. Тогда жена ушла снова и, возвратясь, сказала, что Выжлецов хочет показать Быстрову место, где зарыто оружие. Время борьбы с Советской властью кончилось, и Выжлецов хочет разоружиться. От такого дела Быстров отмахнуться не мог, оно было в характере Быстрова: самому разоружить, самому принять капитуляцию… В нем вспыхнул прежний Быстров. Он оделся, бросил жене на ходу: «Я скоро вернусь» — и ушел. Подходя к роще, Быстров насторожился, Выжлецов стоял на опушке, вид у него был неуверенный, сконфуженный, один Выжлецов не мог быть опасен для Быстрова. Легким шагом Быстров приблизился к невзрачному человечку. — Ну, что там у тебя, показывай. — Добрый день, Степан Кузьмич, — вежливо поздоровался Выжлецов. — Чуть подальше. Идемте. Незащищенно повернулся к Быстрову спиной, пошел в глубь рощи. И вдруг из-за поросли молодых дубков показались Василий Созонтович Жильцов, Фролов, Купавин… Быстров тут же понял, что его ждет, повернись он и побеги, он мог от них уйти, вряд ли они рискнули бы стрелять, стрельба днем в роще вызвала бы в деревне переполох. Но гордости Быстрову было не занимать стать, именно классовой, революционной гордости. Не промедли он, спас бы себе жизнь! Но он продолжал идти за Выжлецовым, навстречу корсунским богатеям, для которых был олицетворением той самой бедноты, что порушила все хозяйственные устои и грозила самому их существованию. А через минуту на прогалину выбежали те самые кулацкие сынки, которых тот же Быстров беспощадно преследовал за дезертирство. Выжлецов повернулся, махнул им рукой, и они скопом навалились на Быстрова. Как псы, что вцепляются в затравленного медведя, повисли эти парни на Быстрове, схватили за руки, за ноги, теперь уж им никак нельзя было его упустить. — Приторачивайте, приторачивайте его! — Выжлецов указал на ближний дуб. — Веревками. Покрепче! Веревки у них были припасены, все было рассчитано заранее. Быстрова привязали к стволу. 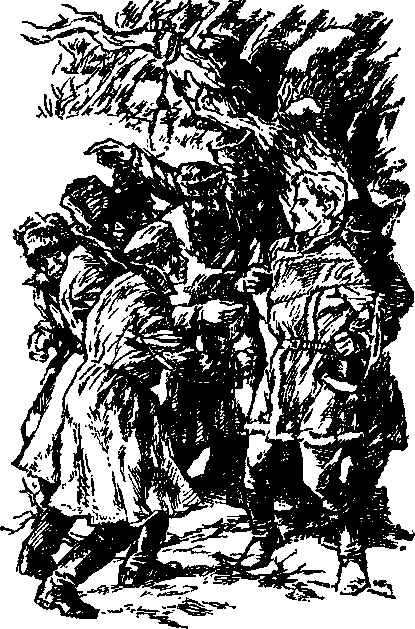 Подошли отцы этих парней, молча встали напротив Быстрова. — Ну а дальше что? — хрипло спросил Быстров, сглатывая слюну. — А дальше мы тебя судить будем, собака! — крикнул Выжлецов. — Ты нас, а мы тебя! Степан Кузьмич всегда был не трусливого десятка, а кулаков этих не боялся совсем. — Это вы-то судьи? — насмешливо произнес он. — А кто ж мы, по-твоему? — заносчиво спросил Выжлецов. — Гниды вы, вот вы кто. Я с вами и говорить-то считаю ниже своего достоинства. Один из парней кинулся к Быстрову. — Толька, прочь! — осадил Выжлецов. — Ты у меня не самоуправничай, не давай воли рукам, пусть все идет по закону… — Он оборотился к Жильцову. — Судить будем, Василий Созонтович, или как? Тот промолчал, и Выжлецов опять обратился к Быстрову. — Так слушай же, предаем мы тебя нашему мужицкому суду. Он и впрямь затеял игру в суд. — Василий Созонтыч, выскажись, что у тебя отнял Быстров? — Двух коней реквизировал, это еще до Деникина, а опосля хлеб. — Сколько? — спросил Выжлецов. — Одиножды сто пудов из амбара, а двести пудов в риге откопал. — А у тебя, Парфен Иваныч? — А у меня овец на мясо забрал, в город отправил. Выжлецов понуждал высказаться каждого, кто находился в роще, и у каждого нашлось, что поставить Быстрову в вину. Выступил и Выжлецов, припомнил Степану Кузьмичу и ружья, и пулемет, отобранные в одну из туманных ночей в Козловке, и муку, вывезенную на станцию в счет гарнцевого сбора… Все эти люди были обижены на Советскую власть, и за все обиды отвечать сегодня приходилось Быстрову. Выжлецов высказался и развел руками. — Что можете сказать в свое оправдание, гражданин Быстров? — А только то, что жалею сейчас, — сказал Быстров, — что не арестовал тебя в ту ночь, когда отбирал оружие, тебя судить надо было, а я пожалел тебя, прохвост ты эдакий! — На ваши оскорбления отвечать не нахожу нужным, — с достоинством ответил Выжлецов. — Мы здесь не какие-нибудь бандиты… Выжлецов повернулся к соучастникам. — Что ж, мужики, какое будет ваше постановление? — И сам ответил: — А постановление будет такое: за разорение крестьянства предать Быстрова Степана Кузьмича смертной казни через повешение. — Он посмотрел в глаза каждому из судей. — Как, мужики, возражениев нет? — И опять сам ответил: — Нет. — Поманил рукой двух парней. — Толька и ты, Ваня, заберитесь вон на тот дуб, завяжите петлю и перекиньте через тот сук. — Гражданин Быстров, последнее желание у вас будет? — Будет, — сказал Быстров. — Дай напоследок закурить. — Это мы можем, — согласился Выжлецов. — Подайте-ка мне кисет… Ему подали кисет, он аккуратно свернул козью ножку, послюнил, насыпал махорки и поднес цигарку к губам Быстрова. Но Быстров вдруг отрицательно мотнул головой. — Нет, не хочу, — сказал он. — Не хочу табаку из твоих поганых рук… Он бешеными глазами посмотрел на своего палача. — Вешай! — закричал он. — Вешай, мать твою, все равно не уйти тебе от наших пролетарских рук! — Мужики, мужики, сюда, — скомандовал Выжлецов и всех до одного заставил подойти и взяться за конец веревки — страховался на всякий случай. — Ну, Степан Кузьмич, извини… Никто не знал, кто тянул веревку, получалось, тянули все. Постояли с полчаса возле Быстрова. — Теперь расходись, — приказал Выжлецов. — А кто проговорится — вздернем на том же суку. Ураган шел ровной иноходью, солнышко холодно сияло над головой, слепило белизной снежное поле, а рядом сидел убийца Быстрова, и Слава ничего не мог с ним сделать. — Вы палач. — Водиться с палачами — не торговать калачами, — загадочно отозвался Выжлецов. — Кому негодный, а кому годный, все люди живут по одному закону, и кому-то надо воздавать им по заслугам. — Как же вы не боитесь? — спросил Слава. — Вернусь, сразу сообщу о вашем преступлении. — А ничего у вас не получится, — уверенно сказал Выжлецов. — Почему? — Никто не поверит, а и поверит, так ничего не доказать. Лови ветер в поле, ничего я вам не говорил, мало ли что придумали вы по злобе. А впрочем, могу себя еще верней обезопасить. — Это как же? — насмешливо спросил Слава. — Да по тебе веревка тоже давно плачет, — зло сказал Выжлецов. — Крысенок обязательно крысой вырастет, отправлю тебя туда же, куда учителя твоего отправили, и вся недолга. Слава попытался придать своему лицу беспечное выражение, но в сердце у него затрепетал мерзкий холодный комок. — В Малоархангельске знают, куда я поехал, будут искать, придется висеть еще кому-нибудь, кроме меня, — сказал он как можно равнодушнее. — Так что бросьте свои штучки. — А ну, вылезай! — истерически взвизгнул Выжлецов. — Какие там штучки! Будешь до весны в сугробе валяться, покуда собаки не найдут! — Иди к черту, — сказал Слава, чувствуя себя совершенно беспомощным. — А ты вроде своего Быстрова, не из трусливых, — с уважением сказал Выжлецов. — Даю тебе еще полчаса жизни, проедем Черногрязку, тогда… Но в деревне Выжлецов соскочил с ползунков. — Так я ж шутю! — выкрикнул он с напускным весельем. — Езжай себе с богом, спасибо за компанию, мне отседова домой… Слава дернул вожжами, Ураган перешел на рысь, оглядываться не хотелось, у Славы не было уверенности, что Выжлецов не выстрелит ему в спину. Ползунки миновали колодец посреди деревни, теперь вправо на Успенское… Слава оглянулся. Пусто. В отдалении стоят двое ребятишек, а Выжлецова след простыл, растаял, растворился в слепящей белизне солнечного морозного дня. 38 В Малоархангельске прежде всего следовало сдать коня, Слава завернул на конный двор и, не заходя в укомол, отправился к Шабунину. — К нему нельзя, пишет, — сказал Селиверстов. — Но у меня совершенно, совершенно безотлагательное дело… — У всех безотлагательное, — проворчал Селиверстов и сжалился: — Ладно уж, иди. Шабунин, как и было сказано, писал, но тут же оторвался от бумаг. — Как съездил? — Хорошо. Впрочем, что хорошего было в этой поездке?… — Ничего не поделаешь. Всем нам приходится терять близких людей. Важно уметь расстаться с тем, что когда-то жило, радовало, светило, а потом отжило, превратилось в обузу, стало затемнять свет. Закон развития. Приходится иногда оглядываться, однако оглядываться оглядывайся, а больше смотри вперед. Прошлое может послать пулю в спину, но если далеко ушел вперед, пуля не достигнет цели. Быстров для тебя вчерашний день. В нем было много хорошего, но — вчерашний. А впереди новые дни, много дней борьбы и света, которые тоже станут когда-нибудь вчерашними… В общем-то — слова, но слова эти успокаивали Славу, ставили все на свое место. — Я вам должен сказать… — Слушаю. — Быстрова убили… Он рассказал Шабунину о слухах, какие ходили в связи со смертью Быстрова, и, главное, передал свой разговор с Выжлецовым. — Ты точно передаешь разговор? — Афанасий Петрович! — У тебя есть склонность к преувеличениям… Трудно допустить, чтобы человек решился на такое саморазоблачение. Впрочем, это пустой разговор. Может, он придумал все это для того, чтобы отравить тебе жизнь? Если ты поверишь, это надолго оставит в тебе осадок… Слава видел: Шабунин не верит в насильственную смерть Быстрова. Слава умоляюще смотрел на Шабунина, а тот смотрел на Ознобишина, и чем горячее тот настаивал на своей версии, тем понятнее становилось ему состояние души Ознобишина. Слишком многим был Быстров для этого парня, и потому вопреки фактам он не позволит развенчать своего героя. Иллюзия?… Дай бог ему пронести эту иллюзию сквозь всю свою жизнь! И, однако, суровый долг учителя — кем иным должен быть Шабунин для Ознобишина? — повелевал Шабунину иллюзию эту разрушить. — Семин мне иначе докладывал, а он человек осведомленный… Впрочем, не мешает тебе самому поговорить с Семиным. Расскажи ему обо всем, он поможет тебе разобраться. Слава с горечью подумал, что Быстров Шабунина уже не интересует, — «спящий во гробе мирно спи»… На другой день после работы Слава пошел к Семину. Кирпичный особнячок в три окна с железными решетками на окнах. Недавно здесь помещалась УЧК, уездная чрезвычайная комиссия, теперь вывеска сменилась — «Уполномоченный Государственного Политического Управления». Семин и стал этим уполномоченным. Тесный кабинетик, на столе школьная чернильница-непроливайка, школьная ручка, промокашка. — Здравствуй, Василий Тихонович. — Здравствуй… товарищ Ознобишин. — Мне велел зайти… — к вам? к тебе? к тебе! — зайти к тебе Афанасий Петрович… — Да, товарищ Шабунин звонил, — подтвердил Семин и откинулся на спинку стула. — Так что у тебя? — Был в Рагозине, и, видишь ли… Быстрова, оказывается, убили! — Почему же ты так решил? — Сказал человек, который сам участвовал в убийстве… Он не мог говорить с Семиным с той непосредственностью, с какой говорил с Шабуниным, поэтому и сосредоточился, чтобы возможно точнее передать подробности встречи с Выжлецовым. — Погоди, пожалуйста… Семин достал из стола пачку чистой бумаги и приготовился записывать. Слава сосредоточился еще больше, слово не воробей, говорить надо ответственно, только то, что запомнил на самом деле. Он рассказал, как происходили похороны, как вернулся с Быстровой, как Выжлецов попросил подвести, рассказал даже о разговоре с Сосняковым. Семин все записывал и записывал, иногда жестом показывал, чтобы Слава говорил медленнее, и писал, писал, покрывая четким размашистым почерком листок за листком. Слава надеялся, что Семин проявит хоть какое-то волнение, ведь он знал Быстрова не меньше Славы, возможно, именно Быстров давал Семину рекомендацию в партию, но Семин остался безучастным до конца рассказа. — Все? — спросил Семин. — Все, — сказал Слава. — Пустое дело, — сказал Семин. — Что — пустое дело? — Все, что ты сейчас рассказал, — сказал Семин, — все это маловероятно. Слава не верил своим ушам. — Зачем же Выжлецову наговаривать на себя? — Чтоб напугать тебя, — снисходительно объяснил Семин. — Участвуй он на самом деле в убийстве, никогда и никому бы об этом не рассказал. Думаешь, ему следом за Быстровым в петлю захотелось? Подтвердись твой рассказ, Выжлецову высшей меры не миновать. — А все эти подробности? Семин поиграл школьной ручкой, ловко покрутил, обмакнул перо в чернильницу и сделал на листке пометку. — Послушай, Ознобишин, ты читал писателя Достоевского? А я читал. Не положено рассказывать о совещаниях в ЧК, но тебе скажу. Голикова знаешь? Кто в Орле не слышал о Голикове? Это был, фигурально выражаясь, карающий меч пролетарской революции, а проще — недавно председатель Орловской губчека, а ныне начальник губернского отдела ГПУ. — Так вот, Яков Захарович, — ну как же, для Семина Голиков просто Яков Захарович! — говорил нам на совещании: очень советую обратить внимание на писателя Достоевского, прочтете не без пользы, выдающийся криминалист. Поверишь ли, я пять ночей читал… — С чем тебя и поздравляю. Только при чем тут Достоевский? — А при том, что это только у Достоевского преступники приходят в следственные органы и сами каются в содеянных преступлениях. Выжлецов оказался прав, не верил Семин Ознобишину. — Но ведь Быстрова вынули из петли? — Нервишки не выдержали, спился. У меня на эту тему множество донесений. — Василий Тихонович, ты же знал Быстрова, разве он способен был полезть в петлю? — Способен. Характерный случай перерождения. Оторвался от масс. Опустился. Что ему еще оставалось? Славе вспомнилась остренькая мордочка Выжлецова. Нет, Выжлецов не врал, он почувствовал свою силу… Сердце Славы раздирала жалость к Быстрову. Пропасть так бессмысленно, зазря… Глухое раздражение нарастало в нем против Семина. Он указал на пачку исписанной бумаги. — Для чего же ты записал мой рассказ? — Для архива, — любезно объяснил Семин. — На всякий случай. Может, когда-нибудь и пригодится. Слава зло посмотрел на Семина. — Значит, Выжлецов останется безнаказанным? — Не было преступления, не будет и наказания. — А я уверен, что Выжлецов преступник. — С нашей, классовой, точки зрения, безусловно, преступник, — согласился Семин. — Пойми, Ознобишин, неужели ты думаешь, у меня в Рагозине и в Корсунском нет своих людей? Да и случись убийство, Афанасий Петрович не позволил бы оставить его безнаказанным. — Значит, Выжлецова не за что судить? — Почему не за что?! Я бы в первую очередь судил его за то, что он заморочил тебе мозги. Ведь вон как он к тебе подобрался! Вывел из равновесия, понадеялся, что сорвешься. Хорошо, что у тебя есть возможность прийти ко мне. Я же тебе объясняю: за сказки мы еще пока не судим. — Но ведь самые что ни на есть мироеды шли за его гробом, я сам видел! — Потому и шли, что не убивали. Ты психологически рассуди: если бы убили, сидели бы по своим закуткам и носа бы не казали, умер и умер, нас, мол, это дело не касается. — А почему они его на кладбище провожали? — А потому, что они его и мертвого боялись, своими глазами хотели видеть, как его закопают. Семин убедительно рассуждал, Слава засомневался, неужели Выжлецов хотел на нем отыграться? Но если Выжлецов не убивал, тем хуже для Славы, Выжлецову удалось его обмануть, значит, Слава плохо разбирается в происках классового врага. — Но ведь Выжлецов — враг? — о отчаянием спросил Слава. — Враг, — согласился Семин. — Придет время, доберемся и до него, но пришивать ему убийство Быстрова даже политически вредно. Зачем превращать Быстрова в объект классовой ненависти кулаков и тем самым поднимать авторитет человека, изгнанного из рядов партии? Семин оставался верен себе, точно он не с людьми имел дело, а в шахматы играл. — Я пойду, — сказал Слава. — Счастливо, — сказал Семин. — Если еще что-нибудь узнаешь, заходи. — Ты какой-то бесчувственный, Василий Тихонович, — сказал Слава. — Я был о тебе лучшего мнения. — А чувства и политика вещи несовместимые, — холодно ответил Семин и дал Ознобишину совет: — На твоем месте я бы с комсомольской работы ушел, при такой фантазии тебе лучше податься в писатели. Все-таки у Славы создалось впечатление, что Семин чего-то недоговаривает. Он нехотя повернулся к двери, и вдруг Семин его окликнул: — Погоди-ка… Слава остановился. — Ну? «Чем-то он меня сейчас огорошит?» — подумал Слава. — Садись, садись, — приказал Семин, указывая на стул, сам встал из-за стола, поставил поближе к столу стоявшую в углу табуретку, заглянул в коридор и позвал: — Егорушкин! На пороге появился красноармеец. Семин прошептал ему что-то на ухо. — Быстро! — вслух сказал Семин. — Во дворе не задерживайтесь, из двери в дверь. Егорушкин исчез. — Куда это ты его послал? — полюбопытствовал Слава. — В КПЗ. — Это что еще за КПЗ? — Камера предварительного заключения. — А кто там у тебя, в этой камере? — Есть там один… С него точно сдуло всякое благодушие. — Ладно, не буду тебя мучить. Преждевременно привлекать тебя к следствию, однако медлить тоже рискованно, можно упустить… Слава ничего не понимал. — Что упустить? — Ниточку… — Семин хитро прищурился. — Ты, Ознобишин, не удивляйся, я решил провести очную ставку. — С кем? — Сейчас увидишь. В дверь аккуратно постучали. — Можно! — крикнул Семин… Дверь отворилась, и в сопровождении Егорушкина в комнату вошел Выжлецов. Вот уж кого Слава никак не ожидал увидеть! — Входите, гражданин Выжлецов, — произнес Семин безучастным голосом. — А ты можешь идти, — обратился он к Егорушкину. — Постой пока в коридоре. Семин преобразился. Оказывается, Слава плохо его знал, это был совсем уже не тот Семин, который только что хоть и снисходительно, но доброжелательно разговаривал с Ознобишиным, он разом превратился в холодного, настороженного и расчетливого следователя, который если и не все знает, то обязательно все узнает. — Садитесь, — пригласил он Выжлецова, как бы вовсе его не замечая. — Покорно благодарим, — сказал Выжлецов. — Садитесь, — повторил Семин так непререкаемо, что Выжлецов тут же сел, настороженно уставившись на Семина. — Итак, гражданин Выжлецов… Рыжие усики топорщатся не вверх, а вниз, и голубые глазки поблескивают не так уж весело, в них и наглость, и страх. — Гражданин Выжлецов, вы знакомы с этим человеком? — спрашивает Семин, указывая на Славу. — Как же, как же! — соглашается Выжлецов. — Товарищ Ознобишин. Кто ж его в волости не знает! — Он вам не товарищ, а гражданин, — поправляет Семин. — Сколько вас учить? — Пускай гражданин, — соглашается Выжлецов. — А вам известен этот человек? — обращается Семин к Славе. — Встречались. — Между вами проводится очная ставка, — поясняет Семин. — Гражданин Выжлецов находится под следствием по обвинению в хищении гарнцевого сбора, — Семин загибает палец, а Выжлецов слегка кивает, — раз, в незаконном хранении огнестрельного оружия, — Семин загибает второй палец, а Выжлецов кивает, — два, в агитации против выполнения продналога — три, и четыре — в убийстве гражданина деревни Рагозино Быстрова… — Ни в коем разе! Выжлецов вскакивает. — Сидите… Быстрова Степана Кузьмича на почве политический мести, — договаривает Семин. — Ни в коем разе! Откуда такой поклеп? Новости… Выжлецов только что не кричит. — К нам поступило заявление товарища Ознобишина, что вы совместно со своими сообщниками совершили убийство. — Да что ж ето деется?! — Выжлецов вытягивает руку в сторону Славы. — Побойтесь бога, товарищ Ознобишин, откуда вы это только взяли? — Гражданин Ознобишин. — Ну, нехай гражданин. Но зачем такую напраслину… — Вы же сами рассказывали мне об убийстве Степана Кузьмича. — Кто? Я? Да вы не в себе, товарищ… извиняюсь, гражданин Ознобишин. — Подождите, — останавливает Семин обоих. — Давайте уточним. Гражданин Выжлецов, вы были на похоронах Быстрова? — Не был. — Как не был? Вас же там видели? — Я в Корсунское совсем по другому делу прибыл — сбрую купить, не приезжал я на похороны, а тут мужики говорят, Быстрова Степана Кузьмича хоронют, пойдем, поглядим, ну я и пошел. — А на обратном пути просили Ознобишина подвезти вас? — Просил. — Дорогой вы и рассказали ему, как произошло убийство. — Ни в жисть. — Что ни в жисть? — Не рассказывал. — А что рассказывали? — Ничего не рассказывал. — Так всю дорогу и молчали? — Зачем молчать, обсуждали. — Что обсуждали. — Ну, про налог, какое теперь облегчение крестьянам вышло. — Товарищ Ознобишин, а вы что скажете? — Он мне дорогой подробно рассказал, как произошло убийство Быстрова. — Ни в жисть. — Да как же вы… Вы подробно рассказывали. Врете вы сейчас! — Неужто я уж такой дурной, чтоб на самого себя наговаривать? — Значит, не признаетесь? На глазах Выжлецова выступают слезы. — Гражданин… Гражданин начальник! Ладно, позвольте мне признаться… — Да я же того и добиваюсь! — Не хотелось обижать товарища Ознобишина, но, если настаивают, я скажу, как все было. Семин приготовился записывать. — Пьяненькие они были. — Кто? Кивок в сторону Славы. — Выпимши были после похорон, всю дорогу плакали, убили, говорят, убили они его… — Кто они? — А это уж вы товарища Ознобишина спросите. — Значит, не сознаетесь в убийстве? — Да я рад бы, но ежли не убивал… Семин повысил голос: — Егорушкин! Тот тут как тут. — Увести. Выжлецов остановился в дверях. — Когда отпустите, гражданин начальник? Дверь за Егорушкиным и Выжлецовым закрылась. Семин побарабанил пальцами по столу, вздохнул и сразу подобрел: — Убедился? — Но он же мне рассказывал! — А он утверждает, что не рассказывал. Да еще контробвинение тебе предъявил. Хорошо, я знаю, что ты не пьешь. — Но как же быть? — Искать, выяснять, проверять. Не так-то все просто, Ознобишин, как тебе кажется. Может, он тебя разыграл, а может, и правду сказал. Обнаглел от радости, что Быстрова похоронили, и решил растоптать в тебе душу. Обрез у него нашли. Допросим его дружков, может, кто и расколется. Тут, брат, посерьезней дела могут открыться, чем это убийство. Слава ушел от Семина подавленным. Действительно, не так-то все просто, и даже не только не просто, а очень даже сложно. Нет, не хотел, бы он быть на месте Василия Тихоновича Семина! 39 Так, ни шатко ни валко, наступил срок очередной уездной конференции, полтора года без малого проработал нынешний состав укомола. Ознобишина, Железнова и Ушакова водой не разольешь, не подберешь лучшего президиума, и не то чтобы их скрепляла личная дружба, они разные люди и по стремлениям, и по характерам, но для работы лучшего сочетания не найдешь: один порывист, горяч, честен, до крайности принципиален, загорается сам и умеет зажечь других; другой деловит, сдержан, трудолюбив, обладает здоровой крестьянской сметкой, помогающей ему трезво решать возникающие задачи; третий фантазер и скромник, постоянно заглядывает в завтрашний день, к тому же оратор и музыкант; секретарь, заведующий орготделом и заведующий отделом политического просвещения. Нет, эти ребята не подкачают, не подведут, расшибутся в лепешку, кровь из носу, а дело сделают; когда такие ребята попадали на фронт, они умирали, но не оставляли позицию. Нельзя сказать, что у них нет личной жизни, работа — главное содержание их жизни, но личные отношения с людьми заставляют каждого идти своею дорожкой. Железнов собирается жениться. Да, жениться! Он старше Ознобишина на три года, по деревенским понятиям у него критический возраст; о том, что он хочет жениться, знают все, а на ком — не имеют понятия, знают только, что невеста из родной деревни Железнова, что он с нею встречается уже третий год и что после свадьбы она переедет к нему в Малоархангельск. У скрытного Ушакова дела посложнее. Дом для матери он построил или почти построил. Хоровым кружком в клубе руководит, кружок дрянной, малочисленный, девушкам хочется петь романсы, а он заставляет их петь революционные песни и обязывает посещать кружок в порядке комсомольской дисциплины. Ушаков хочет заниматься серьезной музыкой, а они не хотят; Крестоположенского переманить в клуб не удалось, не может клуб платить столько, сколько платят попы; учиться Ушакову не у кого, после выговора он обходит собор за версту, все идет к тому, чтобы забросить музыку. Но речи он говорит по-прежнему пламенно, английский язык продолжает изучать и в международных делах разбирается не хуже Чичерина. Сложнее всего дела обстоят у Ознобишина. В иные дни у Славы появлялось ощущение, что со смертью Быстрова кончилась его собственная молодость, озаренная огнем, зажженным неистовым Быстровым. Смерть Степана Кузьмича на какое-то, время обособила его. Он редко бывал в Успенском, с мамой и Петей виделся всего несколько раз, а с Марусей и того меньше. Слишком много было забот о множестве мальчишек и девчонок, искавших свой путь в жизни. Слава готовился к отчетному докладу. Перед ним заметки Железнова и дневники Ушакова, отчеты инструкторов, сводки, справки и сведения, продукт творчества Франи Вержбловской и других сотрудников укомола. Они неплохо поработали, никто не сидел сложа руки. Но иногда Слава задумывался: а что же все-таки составляет суть комсомольской работы? Работала партия, уездный комитет, волкомы, сельские ячейки отвечали за все, за деятельность Советов, за сельское хозяйство, народное просвещение, уборку, налоги, школы, избы-читальни, торговлю, кооперацию… Невозможно перечислить все объекты, которые находятся в сфере внимания партийных организаций. А что делали комсомольцы?… Помогали партии! Так в большой рабочей семье главная забота о семье лежит на плечах родителей, они ходят на работу, приносят в дом заработки, занимаются хозяйством, кормят, одевают и воспитывают детей. А подросток в такой семье, если он любит родителей и вырастает человеком, помогает родителям — и дров наколет, и печь истопит, и посуду помоет, и с младшими сестренками и братишками займется, все мимоходом, почти незаметно, и так оно и должно быть. Но вот уезжает подросток из дома — то ли учиться, то ли зарабатывать кусок хлеба… И как же пусто становится в доме, как невозместима незаметная работа, которую ему удавалось делать, как трудно без него. Вот так же трудно, пожалуй, пришлось бы партии без комсомола! Поэтому-то Слава, должно быть, и испытывает глубокое удовлетворение, сознавая себя помощником Шабунина. До конференции всего два дня, и Слава сидит дома и не отрываясь пишет отчетный доклад. За окном май, цветут яблони, нежный аромат наполняет воздух, жужжат умницы пчелы… Опять обновляют изгородь малоархангельские мещане, горсовет, опять сдал им в аренду сад, только на этот раз Ушаков уже не вступил в артель. Слава просматривает дневники Ушакова, тот отмечает все, что связано с его деятельностью, посещения школ, лекции в клубе, занятия кружков, книги, которые успел прочесть… Эмма Артуровна дважды уже приносила Ознобишину кофе в граненом стакане, вставленном в мельхиоровый подстаканник, она болтлива как сорока и как сорока любит блестящие вещи. — Выпейте, — заботливо говорит она. — Кофе вас подбодрит. Кофе желудевый, куплен в потребиловке, но все же кофе. Под вечер под окном появляется Ушаков. — Пишешь? — спрашивает он, приподнимаясь на цыпочках и заглядывая в окно. — Пишу. Он охотно пошел бы с Никитой погулять по городу. — Тебе помочь? — Кончаю уже. — Ну, пиши, пиши. Позднее к Славе заходит Коля Иванов, посоветоваться, кого из волостных работников выдвинуть в состав уездного комитета. И уже совсем поздно вечером, когда не помогает даже желудевый кофе, в дверь осторожненько стучат. Кого еще несет? — Войдите! Франя Вержбловская. Кудри перетянуты голубой лентой, голубой фланелевый халатик. — К тебе можно? — Что спрашивать, раз вошла. Тебе чего? Не ответила, прошла от двери к окну, бросила взгляд на стол, похоже, не знала, с чего начать разговор. — Написал свой доклад? — Написал. — Воспользовался моими материалами? — Воспользовался. Ведь не за этим она пришла? — Разложил все по полочкам? Это уже что-то новое. — Не понимаю тебя… Она опять прошлась по комнате. Что-то нужно, раз пришла, да еще в такое неурочное время. — Скажи, Слава, Чевыреву вы снова выберете в уездный комитет? — Конечно. Даша отлично работает. Дросковская организация вообще… Как это говорится?… На подъеме. — Везет же! Франя только что не выкрикнула это слово, вырвалось оно у нее с надрывом. — То есть как это везет? — Все у нее есть, и работа, и семья… На мгновение Франя замолчала. — А у тебя чего нет? — Замуж вышла не по-комсомольски, а вы простили, — продолжала Франя, точно не слыша вопроса Славы. — Дашу обстоятельства вынудили венчаться, — не в первый раз попытался Слава оправдать Чевыреву. — В том-то и противоречие! Мы с Дашей тогда серьезно поговорили. Религия в деревне еще ох как сильна! Не обвенчайся она в церкви, мы бы потеряли ее как комсомольского работника. Сойдись Даша со своим мужем без венчания, да еще роди ребенка, знаешь, как бы она выглядела в глазах людей? — Вот вы все: Даша, Даша… — упрекнула Франя, нет, не Славу, а, похоже, весь укомол. — А вам не Дашу убеждать, а людей… Вы как за одного уцепитесь, так и не отстанете, а люди у вас в стороне… — Слушай! Ведь не о Чевыревой ты пришла со мной разговаривать на ночь глядя? О Даше вопрос решен, а не согласна — выступай, давай отвод Даше, мне, кому угодно… — Ты ничего не понимаешь! О чем она? Чего Слава не понимает? Нет, она пришла не о Чевыревой говорить. Тут что-то не то. Когда Франя вошла, в халатике, с голубой ленточкой, она показалась такой миленькой, нежной, даже легкомысленной, а на самом деле она чем-то встревожена, ей не по себе… — Ты помнишь диспут? — Какой диспут? — Ну… о свободной любви. О семье, о браке. О том, какой должна быть семья в коммунистическом обществе? — Что это ты вспомнила о диспуте? — Дура я разнесчастная, вот почему! Она вдруг бросилась на кровать, ткнулась носом в подушку и заплакала. Слава даже испугался. — Что ты делаешь? Встань, встань, могут увидеть в окно… Но это ее, кажется, мало волновало, она села и, все еще жалобно всхлипывая, сказала: — Ну, почему, почему у нас в укомоле, кроме меня, нет ни одной девушки? Один ты как девушка, вот потому я к тебе и пришла. Слава молча проглотил это сравнение, хотя Франя говорила будто и в похвалу ему. Девушка… Он давно уже мужчина, а она — девушка! У него самого есть девушка. Может быть, это свойство характера, может быть, сказывалось влияние матери, но грязные мысли не появлялись у него в голове, не то, чтобы он не знал темных сторон жизни, знал, что существуют и горечь, и боль, и смерть, сталкивался с несчастьями и разочарованиями, но темное и мрачное не оборачивалось в его глазах грязью и пошлостью. Зачем Франя к нему пришла? Очень ее тревожит, написал он свой доклад или не написал! Да у него самого доклад выскочил сейчас из головы. — Ты успокойся, успокойся, ты просто устала, мы все устали, сколько всяких бумаг перед конференцией… Он сочувствовал Фране, вся статистика лежала на ней, учетные карточки, членские взносы. — Вам мало дела до людей, а Даша, если и пошла против себя, так только из-за людей… Опять она помянула Дашу, а думала о себе, о себе она сокрушалась. Лента сползла, волосы растрепались, войди кто сейчас в комнату, зареванное лицо Франи вызвало бы самые рискованные предположения. — Что скажут люди? Что скажут люди? — только что не закричала Франя, хватая Славу за руку. — О чем ты? — Да я же в положении, — тихо произнесла Франя. — Только ты никому… — В каком положении? — строго спросил Слава. — Ты о чем?! Все-таки он был наивен и для своих лет, и для должности, какую занимал, на минуту подумал, что у Франи нехватка членских взносов, все эти ленточки и халатики большой соблазн, но предположение это как пришло, так и ушло, истина вдруг дошла до него, — оказывается, вот почему Франя напомнила Славе о диспуте! Какой будет семья в коммунистическом обществе… А до коммунистического общества еще очень даже далеко. Ей будет сорок, а может быть, и пятьдесят лет, когда она будет жить в коммунистическом обществе. А до тех пор… — Я боюсь людей, понимаешь, боюсь людей, — шептала Франя. — Что они обо мне подумают? «Черт побери, можно ли быть таким недогадливым! — упрекнул себя Слава. — Неприятная история! А впрочем, почему неприятная? Естественная история. И самое правильное, что должна сделать Франя, — выйти поскорее замуж. Есть же у ребенка отец? Вот пусть она за него и выходит. Самое милое дело. Вечно эта Франя что-нибудь да выдумает!» — А почему бы тебе не выйти замуж? — мягко произнес Слава. — Самое естественное дело. Но тут Франя залилась слезами еще сильнее. — Он не может, он не может, я не могу выйти за него… — То есть как это не может? — возмутился Слава. — Что за ерунда! Кто это? В самом деле, кто это? Слава не замечал, чтобы за Франей кто-нибудь ухаживал. Никто к ней не ходит, да и сама она большую часть свободного времени проводит дома, разве что изредка сбегает в клуб. Просто не на кого даже подумать. Франя замотала головой. — Нет, нет… — Что — нет? — Я его не могу назвать. — Франя! — Я его никогда не назову! Слава начал сердиться. — Не веди себя как круглая дура! В конце концов я секретарь комитета, я твой руководитель, я обязан тебе помочь. Я не из пустого любопытства спрашиваю, я реально могу помочь. Франя опять отрицательно замотала головой. — Нет. — Что — нет? — Ты мне не поможешь. Слава обиделся: — То есть как это не помогу? Франя наклонила голову. — Ты не можешь. Слава возмутился: — Да мы его в порядке комсомольской дисциплины… — «Впрочем, что это я? А если он не комсомолец? Да нет, не может быть!» — А если не комсомолец, все равно обяжем. Знаешь, что такое сила общественного мнения? Франя горько улыбнулась. — Заставите любить в порядке комсомольской дисциплины? Слава придвинул стул, сел прямо против Франи, взял ее руки в свои, ему жалко ее, ей надо помочь… А Франя молчала. Слава поглаживал ее руки, а Франя молчала и только изредка всхлипывала. Должно быть, было уже очень поздно, из-за окна не доносилось никаких звуков, лишь слабый ветерок шелестел в деревьях, да откуда-то, из яблоневого сада, из какой-нибудь низинки в саду, доносилось кваканье лягушек. — Назови имя своего обидчика, — продолжал уговаривать Слава. — Все будет хорошо, обяжем его на тебе жениться, у твоего ребенка будет отец. А если станет артачиться, знаешь, что мы с ним сделаем? — Ах, ничего ты не сделаешь, — уныло сказала Франя. — Не можешь ты с ним ничего сделать, да я и не хочу… — Хорошо, я не буду поднимать шума, — сказал Слава. — Но можешь ты мне его назвать? — Бесполезно, — сердито произнесла Франя, обрывая разговор, который сама же затеяла. — Бесполезно называть. Он женат, у него есть ребенок, и он ничего мне не обещал. Лучше поскорее его забыть и думать только о себе. — Но как же ты могла… — Это был даже не упрек, Слава действительно недоумевал, как могла Франя совершить такой опрометчивый шаг. — Что тебя толкнуло… — Ты и толкнул! — По-моему, сейчас не до шуток. — А я не шучу… — Франя говорила вполне серьезно, она выплакалась, и теперь, похоже, была даже недовольна тем, что разоткровенничалась. — Кто мне говорил: сделай доклад, сделай доклад… — При чем тут доклад? — Вот я и сделала! «Сердечный союз двух членов общества…» — передразнила она не то самое себя, не то Славу. — «В свободном обществе матери не будут воспитывать своих детей…» — Розовым кулачком ударила себя в грудь. — А куда я с ним денусь? Вы сами будете коситься, что я без мужа нагуляла ребенка. «Действительно, что она будет делать с ребенком?» — подумал Слава. Еще одна жертва этого Коллонтая! Жертва легковесных, наскоро написанных брошюр о любви. Впрочем, автор пресловутой брошюры о семье, кажется, женщина. Тем хуже, если женщина способна так легкомысленно высказываться о семье. Слава понимает отчаяние Франи, ребенок ей действительно ни к чему. А что ей делать? Что делать ее товарищам по укомолу? Усыновить всем коллективом и воспитывать сообща? Он слыхал, что в гражданскую войну красноармейцы воспитывали в своих частях сирот. Славные из них получались барабанщики! Но не может же он так, с бухты-барахты, сказать Фране, что ее ребенок будет у них вроде как бы сын полка. А если, не приведи бог, родится девочка? Вот они, реальные последствия диспута… — Ну я пойду, — уныло сказала Франя. — Ты извини, у тебя доклад, а я к тебе со всякими пустяками. Хороши пустяки, подумал Слава. Всем им, и Фране в первую очередь, не обобраться хлопот. Д-да, теория и практика. Он думал о Фране, а на ум опять пришла Даша Чевырева. Что бы все они делали, если бы она согласилась на свободный союз мужчины и женщины? Стеной стали бы на защиту Даши, но вряд ли спасли бы ее от пересудов, а может быть, и от чего похуже. — Не расстраивайся, — сказал Слава. — Как-нибудь я тебе да помогу. — Ну как ты поможешь? — сказала Франя. — У меня безвыходное положение. — Я посоветуюсь с Шабуниным, — пообещал Слава. — Афанасий Петрович подскажет. — Да ты что! — воскликнула Франя. — Ни в коем случае! Он сразу же выгонит меня из комсомола. Ты обещал… — Не хочешь, как хочешь, — успокоил ее Слава. — Иди отдыхай, что-нибудь придумаем… 40 Таблицы, тезисы, списки… Слава совсем закрутился, впрочем, как и остальные работники укомола, разговаривал с Франей в течение дня несколько раз, но все о комсомольских делах, о том, что терзало Франю, вспомнил лишь к вечеру. Все-таки открыться больше некому, как Шабунину. Слава спустился вниз, заглянул к нему в кабинет. У Шабунина сидели посетители. Спустился через полчаса — посетители. Спустился еще раз — опять посетители. Досада! В третий раз хотел закрыть дверь, но Шабунин сам окликнул: — Заходи, заходи, вижу! Как там конференция? Написал доклад? Слава вошел бочком, не хотел надоедать. — Вы уж извините меня, — обратился Шабунин к двум понурым посетителям, вызывал их, должно быть, для разноса. — После договорим, а пока усвойте то, что вам сказано. Юноша этот ко мне уже третий раз приходит, а у него конференция — дело серьезное, нам тоже есть о чем поговорить. Слава остался с Шабуниным наедине. — Доклад написал? — Написал. — О людях, о людях побольше. Цифры цифрами, но покажи людей. Примеры. Хорошие. И плохие. Посоветуйся с Кузнецовым. На просвещение, на просвещение делай упор… — Да я, Афанасий Петрович… — Новых людей надо ввести в комитет. Прикидывали — кого? Я бы хотел заранее знать, на ком вы остановите выбор. — Да я, Афанасий Петрович… — Не суетись. Ты — руководитель. Солиднее держись, ты уже не мальчик… — У меня к вам особое дело, Афанасий Петрович… — Что еще? — Да с Франей, Афанасий Петрович, с Вержбловской. Авария. — Какая еще там авария? Она, кажется, неплохо работает? — Работает она честно… — Так чего с ней стряслось? — Вот то-то, что стряслось… — Слава рассказал Шабунину о признании Франи. — Прямо ума не приложу. — А от кого? — Не говорит. — Ну и пусть не говорит. Значит, не хочет. Значит, нечем хвалиться. — А как быть? — Вот я и сам думаю, как быть. Задал ты мне, парень, задачу. В таких делах, брат, я тоже не очень силен. Вот что: рабочий день кончился, пойдем-ка ко мне домой. Кстати, и пообедаешь у меня. Пропустил вперед Славу, остановился возле Селиверстова. — Пошел домой, вернусь часа через два, меня не ждите. Славе еще не приходилось бывать у Шабунина дома. Афанасий Петрович повел его переулком, мимо крохотной типографии уездного исполкома. — Совсем рядом. Афанасий Петрович указал на типографию. Слава не понял. — Рядом с типографией живем, — пояснил Афанасий Петрович. — Жена у меня здесь работает. Наборщицей. Слава не знал, что жена у Шабунина работает. Домишко, в котором жили Шабунины, через дом от типографии, в сенях, как в любой деревенской избе, всякая рухлядь, метлы, ведра, скребки. Быстров любил устраиваться на жительство с комфортом, селился в помещичьих домах, занимал лучшие комнаты, а Шабунина комфорт, кажется, мало заботил. Комната Шабуниных не лучше комнаты Ознобишина, стол, стулья, две железные койки, застланные суконными солдатскими одеялами, книжный шкаф с бронзовыми гирляндами, привезенный, должно быть, из чьего-то имения, и невзрачный шкаф для одежды. И жена у Шабунина под стать ему. — Варюша, покормишь нас? — обратился Шабунин к жене. — Это Ознобишин, знакомься. — Накормить накормлю, — приветлива сказала Варюша. — Только угощать нечем, щи да каша. — А чего еще? — в тон ей отозвался Шабунин и даже подмигнул Славе: — Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи. Щи и каша — не велики разносолы, да предложены от души, давно Слава не обедал с таким аппетитом, как у Шабуниных. — А теперь, — сказал Афанасий Петрович после обеда, — покопайся в моих книгах, а я с Варварой Никитичной чуток посекретничаю. Но никуда Варвару Никитичну не увел, присел с ней на койку, обнял за плечо рукой и зашептал. Слава старался не слушать, рассматривал книжки, у Шабунина все больше политическая литература — Ленин, Маркс, Бебель, Плеханов, Каутский, но невозможно ничего не услышать, до Славы несколько раз донеслось имя Франи, должно быть, Шабунин советовался с женой, как помочь девушке. — Ну вот что, товарищ Ознобишин, — заговорил Шабунин в полный голос, — скажи своей Фране, чтоб пришла к Варваре Никитичне. Конференция через два дня, пусть после нее и приходит, поговорю с врачами, а Варюша сведет в больницу. — Зачем в больницу? — удивился Слава. — Еще рано… — Не рано, а как бы не поздно, — усмехнулся Шабунин. — Прервут, и никто ничего знать не будет. — Что прервут? До Славы не сразу дошел смысл этого слова. Шабунин покачал головой. — Беременность. Какой ты еще ребенок! Беременность — вот что прервут. Ребенок ей сейчас ни к чему. Слава смутно представлял, как можно прервать беременность, ему приходилось слышать об этом разговоры. Ему вдруг жалко стало ребенка, жизнь которого собирались прервать… — А вам не жаль? — неуверенно спросил Слава. — Девчонку прежде всего жаль, — сказал Шабунин. — Что ей с ребенком делать? Вам учиться надо, а потом уж семьей обзаводиться. В общежитие Слава вернулся к ночи. Темно во всех окнах, все спали. Слава прошел через зал, повернул выключатель, лампочка засветилась желтым светом. Комната прибрана, постаралась в его отсутствие Эмма, книги сложены на столе аккуратной стопкой, стулья расставлены вдоль стены, кровать постелена, и — это еще что такое? — подушку украшает голубая лента. Что за лента? У Франи вчера волосы были перевязаны этой лентой! А Эмма нашла. Что она вообразила? И положила ленту на подушку. Сувенир, Сейчас нельзя отнести ленту. Эмма заметит… Слава сунул ленту в карман. Отдаст завтра. Утром в укомоле вызвал Франю к себе в кабинет. — Возьми. — Где ты ее взял? — Не надо быть растрепой. — Забудь все, о чем я тебе говорила. — Не только не забыл, но сказал о тебе Афанасию Петровичу. — Да ты что… Франя опустилась на стул. — Я тебя просила? — А с кем еще советоваться? Афанасий Петрович сказал, чтоб ты зашла к его жене, как только закончится конференция. Она отведет тебя в больницу. — Зачем? — Знаешь его жену? — Встречала. — Сходи, ее зовут Варвара Никитична, она объяснит. — А при чем тут Варвара Никитична? — Не волнуйся, никто и никому, ты что, Афанасия Петровича не знаешь? Франя уже догадалась, при чем тут Варвара Никитична, лицо ее сморщилось, вот-вот заплачет, и вдруг улыбнулась: — Так говоришь — сходить? — Не сейчас, разумеется, а вечером, завтра или послезавтра, — строго сказал Слава. — А сейчас готовь таблицы и о возрастном составе, и о занятиях в кружках… — Да, да, — отвечала Франя. — Я все сделаю, не беспокойся, я уже всему подвела итог… — Ладно, — отпустил он Франю. — Иди. Его участие в личных делах Франи Вержбловской закончено, теперь можно опять сосредоточить свое внимание на конференции. 41 Как и все другие съезды и собрания в Малоархангельске, конференция проходила в партийном клубе. Съехались двести делегатов, к открытию подошли Шабунин и Кузнецов, но, к разочарованию Славы, с приветствием от укомпарта выступил Кузнецов. А потом на трибуну вышел Ознобишин и по вниманию, с каким его слушали, понимал, что доклад у него получается. Настроение у него все улучшалось и улучшалось. Он говорил и о политике, и об экономике, и о пропаганде, приводил цифры, сколько допризывников в организации, сколько школьников и сколько батраков, сравнивал работу волкомов, перечислял, какие и где действуют кружки, где народ посещает избы-читальни, а где не посещает, сколько женщин вовлечено в школы ликбеза, сколько комсомольцев избрано в сельсоветы… И когда закончил, ему долго и весело хлопали. Потом начались прения, в речах все выглядело гладко и благополучно, и настроение Славы стало падать. Слава знал, что в Луковской волости молодежь, кроме как в хоровых кружках, нигде больше не занимается, а в Скарятине кулацкие сынки пролезли даже в волкомол. — Ты доволен? — спросил Слава Железнова, возвращаясь вечером в общежитие. — Да вроде бы ничего. — Фактов мало приводят ребята. — Ну, факты мы будем рассматривать в оперативном порядке. — Ладно, спокойной ночи. — Бывай! Но Славе не спалось, что-то его тревожило. Сделал доклад, охватил, кажется, все стороны комсомольской жизни, и все-таки что-то упустил… Что? Он не знает. Товарищи хвалили доклад, зря он к себе придирается. И все же он испытывал глубокую неудовлетворенность. Афанасий Петрович указал направление, а Слава не то что пренебрег, Слава не понял его совета. Разве суть в том, что двести или триста школьников вступили за отчетный период в комсомол? Каждый вступал в комсомол по каким-то своим, одному ему важным причинам. Надо не отсчитывать их десятками, а уметь видеть каждого из тех, кто составляет эти десятки. Пишут же, что Наполеон знал в лицо каждого солдата своей армии! Неповторимо складывается судьба всякого человека, и серьезное рассмотрение одной судьбы может стать уроком для многих. Надо было рассказать о Даше Чевыревой. В каком сложном сплетении обстоятельств очутилась она! Отец ее, коммунист, был убит кулаками, и Даша оказалась достойной дочерью своего отца, ее сердце принадлежало комсомольской работе. Не верит она ни в какого бога! А венчаться пришлось в церкви, иначе никто в деревне не признал бы законность ее замужества, а теперь ни одна сплетница не посмеет оказать ей ни одного позорного слова. А Франя обошлась и без церкви, и без загса. Вняла соблазнительным призывам отдаться радостям свободной любви! А на поверку как была, так и осталась одна и больше всего боится родить ребенка! Вспомнилась Славе даже девушка из Луковца, с которой он душным летним вечером шел на танок. Ее брат вызволил тогда Славу из беды. Давыдов… Давыдова! Звали ее… Стеша. Не выйти Стеше замуж, если будет состоять в комсомоле… Что ни девушка, то своя судьба, и ни для одной из них нет простого решения жизни. А Ушаков? Такого узла противоречий поискать! Может быть, Ушаков самый идейный комсомолец во всем уезде. Бессребреник, а вынужден строить избу. Голос — хоть в Большой театр, а учиться негде, кроме как в церкви. Отдаст товарищу последнюю рубаху, а вступил в артель прасолов и в свободное время работает на кулаков. Как с ним поступить? Подняться на трибуну и предложить делегатам всем миром решить задачки, какие приходится решать президиуму укомола? Спросить: может быть, мы были слишком добры? Солнце поднимается выше, наполняет комнату неистовым светом, и Слава в ней, как рыба в аквариуме, виден сам себе со всех сторон. Однако нелепостью было бы обнажать даже перед товарищами по комсомолу личную жизнь Даши или Франи, они бы никогда не простили Ознобишину такой откровенности, да она и не нужна. Не понял Слава Шабунина. «О людях, о людях побольше. Цифры цифрами, но покажи людей…» Сам Шабунин в своих речах редко поминает чьи-либо имена. Однако всегда остается впечатление, будто он назвал множество людей. В этом-то и секрет политики. Не перечислять людей, но знать, о ком и для кого говоришь. Думай о Даше, а говори об атеистической пропаганде. Дело ведь не в Даше, а в том, что все вокруг нее верят в бога. Убеждать надо не Дашу, а тех, среди кого она живет. И не приехать и выступить перед ними с докладом, а работать с людьми изо дня в день. Даша делает много полезного, а воспитывает окружающих ее людей недостаточно. Разве можно рассказать кому-нибудь о том, что случилось с Франей? Но предупредить то, что случилось, вполне было возможно. Разъяснительная работа с девушками ведется из рук вон плохо. Надо, чтобы врачи беседовали с девушками до того, как они кинутся к ним за медицинской помощью. А девушки в Луковце должны знать, что комсомол за них вступится, должны чувствовать себя за комсомолом как за каменной стеной… Не бойся цифр, цифры помогают осмысливать действительность, только за цифрами надо видеть Дашу и Франю, говорить о всех, а представлять себе каждую в отдельности. На утреннее заседание никто из укомпарта не пришел, конференция двигалась проторенной колеей, приняли резолюцию по отчету Ознобишина, заслушали доклад Железнова об экономическо-правовой работе, объявили обеденный перерыв. Члены президиума направились в укомпарт, еще раз обсудить кандидатов в состав нового укомола. Ни Шабунин, ни Кузнецов никого комсомольцам не навязывали, выбирайте кого хотите, но неуклонно требовали объяснений — почему оказано предпочтение тому или иному кандидату, что сделал он или, по крайней мере, может сделать, придирчиво оценивали способности и возможности каждого. — Остерегайтесь говорунов, кто хорошо работает, тот скуп на слова, — предупреждал Шабунин. — Хлеб у того родится, кто пахать не скупится. А потом, указывая на список, Шабунин вдруг задал вопрос: — А скажите-ка мне, кто из ребят высказывал намерение учиться? — Какое это имеет значение? — возразил Железнов. — Выберем и будем работать. — Э, нет, — сказал Шабунин. — Сейчас у вас самые золотые годы, чтобы учиться. Тех, кто хватается за книгу, отпустим в университет. Надо уже сейчас думать о том, кто будет работать и через десять лет, и через двадцать, нашему государству понадобятся тысячи специалистов. Афанасий Петрович заглядывал далеко вперед, Быстров недаром как-то сказал Славе, что у Шабунина государственный ум. На том и расстались, все заторопились в столовую, один Слава задержался в дверях. — У меня вопрос к вам, Афанасий Петрович. — А обедать ты не собираешься? — Черт с ним, с обедом! — А я, брат, проголодался… — Шабунин улыбнулся. — Ладно уж, идем со мной, авось Варвара Никитична не посетует, что я нашел ей нахлебника. Он опять привел Славу к себе, и Варвара Никитична опять встретила Славу так, точно ждала его к обеду, опять были щи да каша, и опять Слава вдыхал воздух согласия, который заполнял тесную комнату Шабуниных. Сели за стол, Шабунин покряхтел, поглядел на жену. — Что-то, мать, уморился я, надо бы… Он не сказал, что ему надо, но Варвара Никитична достала из шкафа бутылку водки, налила полстакана, поставила перед мужем и тут же убрала бутылку обратно, на гостя она даже не взглянула, рано еще угощать его водкой. — Ну, за успех… Шабунин крякнул, закусил водку щами. — Теперь ешь, — сказал он Славе, — а вопрос свой прибереги на после обеда. А после обеда они вместе пошли в клуб, и тут-то между ними состоялся разговор, будто и незначительный, но который во многом определил судьбу Славы. — Афанасий Петрович, как вам… Как вам мой доклад? — Ну… Ничего доклад. Все на месте. А что? — забеспокоился Шабунин. — Я не был у вас утром… Отчет одобрен? — Одобрен. — Без трений? — Без трений. — Так чем ты не удовлетворен? — Самим собой. Шабунин пошутил: — Неудовлетворенность собой — это путь к самосовершенствованию. — Нет, я серьезно. Доверие мне оказано большое, только я его не оправдываю. — Как не оправдываешь? — Шабунин даже остановился, насторожился. — Виноват в чем? Говори. — Вы не поняли. Плохого я ничего не сделал. У меня нет уверенности в самом себе. — Куда это тебя клонит? — Нет у меня права учить других! Вы вот уверены в себе, а я учу, учу, а нет во мне уверенности в том, что дано мне такое право. — Так разве во мне дело? — возразил Шабунин. — На чем основана моя уверенность? Не на каких-то личных моих достоинствах — я стараюсь вникать в указания партии, а мы с тобой состоим в мудрой партии, в этом наши с тобой счастье и сила… Шабунин задумался. Слава старался шагать с ним в ногу, у Афанасия Петровича шаг широкий, размашистый, походка Славы торопливее, чем у Шабунина, Слава часто сбивается с ноги. — Так что ты хочешь сказать? — спрашивает Шабунин. — Теряюсь я иногда в выборе. — В выборе чего? — Направления. — Тебе не хватает чувства ориентации. — А как его найти? — Учиться. — В Малоархангельске? — А чем тебе плох Малоархангельск? Учиться, брат, можно везде. Революционеры и в тюрьме учились! Славе показалось, Афанасий Петрович обиделся за Малоархангельск. Скопище приземистых домишек, закрывающих на ночь окна ставнями. Улицы в буераках, дощатые тротуары, вытоптанная бесчисленным множеством человечьих и лошадиных ног базарная площадь? Палисадники с подсолнухами и мальвами и разросшийся яблоневый сад посреди города? Нет! Домики могут сгореть, их можно снести или перестроить, а сад вырубить или, напротив, растить… Значит, люди, населяющие тихий этот городок, все эти Успенские, Корсунские, Большие и Малые Колодези? Да, и люди, и городок этот, и окружающие его деревни, и нечто большее, что доверено попечению Афанасия Петровича Шабунина на отпущенный ему жизнью срок. — Да не мне плох Малоархангельск, — вырвалось у Славы, — а я плох для Малоархангельска! И, должно быть, Афанасий Петрович Шабунин не столько понял, сколько угадал тревогу, владеющую душой только-только становящегося на свои ноги юноши, — мальчишка шагает своей дорогой, но еще слабо различает цель, к которой идет, к которой надо идти. — Пожалуй, я понимаю тебя, — задумчиво произнес Афанасий Петрович. — Ты еще не созрел для самостоятельной работы, но уже достаточно повзрослел для того, чтобы всерьез учиться. Жаль с тобой расставаться, но ничего не поделаешь… Что-то ёкнуло в сердце Славы, до него еще не дошла суть принятого Шабуниным решения, хотя решение это определяло дальнейший жизненный путь Славы Ознобишина. — Ничего не поделаешь, — повторяет Афанасий Петрович. — Придется тебя отпустить. Пошлем мы тебя учиться. Шабунин как будто не торопится, а Слава едва поспевает за ним. Улица пустынна. Одноэтажные домики с голубыми почему-то везде ставнями… Да, потому, что, кроме синьки, другой краски в Малоархангельске не достать! Пружинит под ногами дощатый тротуар, немощеная улица в рытвинах, выбоинах, ухабах, и посреди улицы цветет татарник. Редкие прохожие идут, загребая пыль, и ты точно в необитаемом городе, а Шабунин еще обижается за свой Малоархангельск… Слава возвращается к повседневным делам. — Вы как будто даже хвалите мой доклад, все, говорите, на месте, а в нем на самом деле одни слова. — Да нет, — возражает Афанасий Петрович. — Есть в нем и кое-что дельное, иначе тебя не держали бы на твоей должности. Слава пробует пошутить: — А если хорошо, зачем же учиться? Глаза Шабунина веселые, а отвечает серьезно: — А затем, что ничто не стоит на месте. Даже Малоархангельск. Думаешь, вечно он будет таким? Все переменится, иначе и работать не стоит. Для того и учимся. Я сам учусь каждый день. Руковожу мужиками и сам у этих же мужиков учусь. Разве укомол не был тебе школой? А теперь пора переходить в следующий класс. — Афанасий Петрович! Сейчас выборы… — Ох, как непросто высказать свой вопрос: — Я сниму сейчас свою кандидатуру? — Ду-у-рак ты… Рассердился Шабунин?… Нет, глаза все такие же, укоризненные и ласковые, на него нельзя обижаться. — Ни в коем случае. Никаких отводов. Работа укомола одобрена, а ты заявишь о своей непригодности? Отчет одобрен, а секретаря не выбрали! Прямой упрек укомпарту. Пусть тебя выберут честь по чести, а там… Дошли до клуба. — А там поглядим, — сказал Шабунин и пошел на второй этаж по узкой деревянной лестнице, на две ступеньки опережая Ознобишина. Славе стало жалко себя. Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — самого убьют… А Шабунину жаль было отпускать этого паренька, иногда неуверенного, а иногда слишком самоуверенного. Не всегда и не все у него получалось, но старался он честно. Афанасий Петрович любил Ознобишина, как, впрочем, любил всех этих мальчишек и девчонок, которые собрались сейчас в клубе на выборы. Они хорошо нам помогают, думал о них Шабунин. Нам… Он не знал слова «мне». Нам, мысленно говорил он, думая об укоме, о малоархангельских коммунистах, о партии. Поэтому и приходится иногда расставаться даже с теми, кого жалеешь и любишь, думал он, для дела, ради завтрашнего дня… На верхней площадке, перед тем как войти в зал, Шабунин остановился и еще раз заботливо посмотрел на Ознобишина. — Тут уж не обижайся, — сказал Афанасий Петрович. — Провожать тебя будем без музыки. Это важно не только для тебя, но и для других, все следует обращать на пользу делу. 42 Минутное дело провести организационный пленум укомола, избрать секретаря, президиум, назначить заведующих отделами… Полчаса, от силы час, и можно вздохнуть, позволить себе передышку. Окончание конференции приурочили к обеду, чтобы делегаты успели засветло разъехаться, добраться к ночи до дому, а кому путь немалый, с ночевкой, так хоть на другой день обязательно прибыть домой. Только членам укома придется задержаться, пока то да се, глядишь, еще день со счетов. — Пошли, пошли, товарищи! Новоизбранные члены уездного комитета собираются в тесном кабинетике Ознобишина. Рядом со Славой Железнов и Ушаков. Что ж, им еще долго работать вместе… У двери Коля Иванов, рядом с ним Даша Чевырева, впрочем, теперь она не Чевырева, а Уфимцева. «Как хорошо, что мы простили ей свадьбу, — думает Слава. — Как развернула работу в волости! Волком партии не нахвалится сейчас комсомольцами. Ее заслуженно выбрали в уком…» Глаза у Даши поблескивают, энергия в ней так и бьет ключом. А вот Сосняков… Его, конечно, нельзя было не избрать, один из самых серьезных комсомольских работников во всем уезде. Но в излишней скромности его не упрекнешь, этот не сядет у стены, садится у стола, в центре, точно он невесть какое значительное лицо. Он и в город приехал за два дня до конференции, зашел на минутку к Ознобишину, небрежно поздоровался: «Как ты тут? Работаешь? Ну, работай, работай…» — и исчез. За два дня Слава его больше не видел, были у того свои дела в Малоархангельске. У Славы складывается впечатление, что Сосняков рвется на работу в укомол. «Не рановато ли? — думает Слава. — Конечно, когда-нибудь он попадет в Малоархангельск. Когда-нибудь…» Позади Соснякова Вержбловская. Славе не очень по сердцу, что ее выбрали кандидатом. Но девушек, девушек не хватает… Впрочем, учет у нее в порядке, все по полочкам. Открывается дверь, входит Кузнецов. Это и хорошо, и плохо. Если все пойдет, как намечено, Шабунину не для чего терять здесь время, достаточно и Кузнецову выразить согласие уездного комитета партии с принятыми решениями. А если возникнет какая-нибудь заминочка… Опять же Кузнецов быстрей, чем Шабунин, примет решение, никого не будет переубеждать, как это делает Афанасий Петрович, сразу оборвет — нельзя, мол, не так, скажет, а то и прикажет… Кузнецов у окна. — Все в сборе? Давай, Ознобишин, начинай. Слава чувствует себя в своей стихии. Все, о чем он вчера говорил с Шабуниным, вылетело из его головы, да и что, собственно, он сказал? О том, что хочет уйти с комсомольской работы? Просит отпустить учиться? Ничего определенного не вкладывал он в свои слова. Слава обводит глазами собравшихся, нет еще Хорькова и Бутримова, побежали небось на базар за махоркой. — Еще двоих нет. «С этими ребятами придется мне еще поработать, — думает Слава. — Не отпустят меня…» Года два еще быть ему в Малоархангельске, если за это время не возьмут в Орел. В щель из-за приотворенной двери протискиваются двое запоздавших. — Товарищи, первое заседание вновь избранного уездного комитета разрешите объявить открытым. Прежде всего надо избрать секретаря. Какие будут предложения? Железнов, упираясь локтем в стол, поднимает руку с полусогнутой ладонью, как это делают неуверенные в себе школьники. Утром его вызвал к себе Афанасий Петрович, Не Славу вызвал, а Железнова. «Сейчас он назовет меня, — думает Слава, — и дальше все пойдет как по маслу». — Товарищи, я предлагаю решить сперва другой вопрос. Среди нас есть товарищи, которые давно рвутся на учебу. Мы не можем пренебречь таким законным желанием, тем более что эти товарищи хорошо потрудились в нашей организации… Это он об Ушакове. Никита давно уже просит отпустить его учиться. Слава возражал, но, как видно, Никита уговорил Железнова вынести вопрос о нем на пленум. — Поэтому, я думаю, мы не можем не уважить просьбы, — негромко, но твердо произносит Железнов, — и отпустим с комсомольской работы товарищей Ознобишина и Ушакова. Да, Слава просил его отпустить, и все-таки он не ждал, что его отпустят так быстро! Участники пленума с удивлением смотрят то на Железнова, то на Ознобишина. Сам Слава смотрит на Кузнецова, но тот равнодушно глядит в окно. Слава с горечью, пожалуй даже с обидой, — а ведь обижаться ему не на что, сам об этом просил, — понимает, что решение принято. Коля Иванов тоже удивлен, а вот Даша воспринимает все происходящее как естественный ход событий. Слава молчит, и тогда Железнов перехватывает у него председательские обязанности. — Как, товарищи, будем обсуждать? — Будем, — громко отвечает Сосняков и встает. — Я не согласен с предложением товарища Железнова, прошу слова. Неужели Сосняков посоветует не отпускать Славу? Железнов морщится. — Слово имеет товарищ Сосняков. — Я не согласен с формулировкой товарища Железнова, — заявляет Сосняков. — Ознобишина отпустить надо, но я не согласен с формулировкой. Сосняков становится за свой стул, опирается руками на спинку, похоже, собирается долго говорить, и если слова Железнова прозвучали для Ознобишина громом, сейчас для него заблещут молнии. — Скажу откровенно, не годится Ознобишин в руководители, — с вызовом говорит Сосняков. — Недостаточно принципиален. Работает он в организации сравнительно давно, и поэтому позвольте поподробнее. Разобрать его, как говорится, по косточкам. Начинал он у нас, в Успенском. Там вступил в комсомол, там принят в партию. Я тоже оттуда, родился в Корсунском, что от Успенского в двенадцати верстах, вступил в комсомол одновременно с Ознобишиным и наблюдаю его вот уже в течение четырех лет. Срок немалый, и я понимаю, что ко мне может быть обращен упрек: а где же ты был до этого времени, неужели понадобилось четыре года, чтобы распознать Ознобишина? Я отвечу. Да, в Ознобишине разберешься не сразу. Парень начитанный, интеллигентный, за словом в карман не лезет, поэтому его не так-то просто раскусить. И второе обстоятельство, почему у меня не сразу сложилось правильное мнение об Ознобишине. Собственное мое невежество и политическая неподготовленность. Вступая в комсомол, я был недостаточно развит, но с того времени сильно изменился и, скажу без ложной скромности, вырос до секретаря волкомола. Политическая подготовка помогла мне разобраться в недостатках Ознобишина… «Сосняков несправедливо судит обо мне, — думает Слава. — Да он и не может судить обо мне справедливо, мы слишком разные люди. Убеждения у нас одинаковые, но слишком разные характеры, иные мои поступки он просто не способен понять…» — Однако перейдем к фактам, потому что общая оценка без фактов не значит ничего, — продолжает Сосняков. — Я уже сказал, что Ознобишина приняли в партию в Успенской волости. Рекомендовал его в партию Быстров. Вам эта фамилия мало что говорит, но населению Успенской волости говорит очень много. Этот человек в первые годы революции работал у нас председателем волисполкома и немало сделал для того, чтобы поссорить крестьянство с Советской властью. Самочинные обыски, аресты, реквизиции, произвол стали при нем постоянным уделом успенских мужиков. Под непосредственным влиянием и руководством этого человека и воспитывался Ознобишин. Между прочим, заняв ответственный пост, Быстров бросил свою жену с двумя маленькими детьми и сошелся с генеральской дочкой, которую устроил в нашей же волости учительницей. А Ознобишин завел с этой генеральской дочкой близкую дружбу и даже некоторое время жил у нее на квартире. Быстров покровительствовал местным помещикам Пенечкиным, одному из Пенечкиных поручил даже заведовать успенским Народным домом, и Ознобишин, идя по стопам своего наставника, с этим носителем чуждой идеологии тоже завел дружбу и поощрял его культурную деятельность… Можно ли так искажать факты?! Это Степан-то Кузьмич ссорил мужиков с Советской властью? Он действительно был грозой для кулаков, но не будь он грозой, еще неизвестно, что выпало бы на долю беднякам и какие кулацкие выступления он предотвратил. Покровительствовал Пенечкиным! Да он их работать заставил! Говорить так об Александре Семеновне! Да, дочь генерала, но генерала, повешенного деникинцами, и зверски убитая кулаками. Сосняков не осмелился бы выступить с такими нападками, не будь он уверен в том, что уход Ознобишина предрешен, он еще утром инстинктивно почувствовал, что предстоит какая-то перемена, забежал в укомпарт, покрутился там, что-то услышал, о чем-то догадался, и в нем вспыхнуло, может быть, не вполне даже осознанное желание подняться на гребне беспощадной критики. Слава не выдерживает, встает. — Позволь, позволь… — Нет, это уж ты позволь сказать все, что я о тебе думаю, — перебивает Сосняков бывшего секретаря укомола, потому что Ознобишин уже бывший секретарь, это он и сам понимает. — Позволь нам на весах нашей совести взвесить твои поступки! Сосняков увлекается, повышает голос, и… его слушают. Слушают настолько внимательно, что с первого этажа доносятся голоса посетителей укомпарта. — Хоть мы и далеко от Луковца, но кое о чем наслышаны, — продолжает Сосняков. — Неприятно об этом говорить, но некоторые поступки Ознобишина не украшают его как комсомольца. Труслив наш уважаемый Слава! Поехал в Луковец и постыдно бежал от кулаков. Спрятался где-то в саду и удрал огородами, точно незадачливый ухажер. Начисто забыл о том, как следует вести себя коммунисту в подобных обстоятельствах. Нужно иметь смелость встречать врага лицом к лицу! Опасно? Могли убить? Но сохранить свое достоинство важнее, чем показывать кулакам пятки. Мужественная смерть воспитывает своим примером других, а кого может вдохновить бет на карачках через огороды? «Получается, что мне место на кладбище? — думает Слава, и жалость к себе просачивается в его сердце. — Соснякову хотелось бы моей смерти! Своей смертью я бы принес пользу общему делу… А может, мне и вправду нужно было умереть? Стать, так сказать, примером… Примером чего? Того, как умирать?» — Может, я грубо выражаюсь, — голос Соснякова звучит глухо, — но Ознобишин прячет свою голову, как страус в песок! «При чем тут страус? — думает Слава. — И от кого я прячусь? Откуда у Соснякова такая ко мне ненависть? Он готов меня в порошок стереть…» Слава смотрит на Кузнецова, но Кузнецов смотрит в окно. Движением головы Франя привлекает к себе внимание Славы. Она хочет его утешить. За спиной Соснякова она пренебрежительно машет рукой: не обращай, мол, внимания… — А в Колпне того хуже, — продолжает Сосняков. — Проявил мягкотелость, нашел какого-то помещика, оставил ему дом. Привез книжку подозрительных стихов, принялся читать их комсомольцам… — Он патетически протянул руку в сторону Ознобишина. — Отдаете ли вы себе отчет, товарищ Ознобишин, в своих поступках? Кого вы пропагандировали? Кого? Фамилию поэта он не знал или не запомнил. — Гумилева, — подсказал Слава, он не видел большого греха в том, что показал стихи своим товарищам. — Вот именно! — воскликнул Сосняков. — Стихи белогвардейского офицера! А кого вы должны пропагандировать, товарищ Ознобишин? — Ну кого, кого? — раздраженно переспросил Слава. — Демьяна Бедного, вот кого! — воскликнул Сосняков, торжествуя. — Нашего советского поэта Демьяна Бедного! Сосняков всегда недолюбливал Славу, а тут появилась возможность показать свою принципиальность, он распалялся все сильнее и настолько увлекся, что уже и не думал, возвысит ли его эта критика, ему просто доставляло удовольствие принижать такого удачливого, незаслуженно удачливого человека, каким представлялся ему Ознобишин. — А теперь позвольте вернуться к Успенской волости, именно здесь ярче всего выявилась беспринципность Ознобишина. — Ироническая улыбка скривила губы Соснякова, главные свои козыри он приберег напоследок. — Год назад в Успенском умер Никитин, неплохой учитель, но в общем-то отсталый человек. Хотя, может быть, я его напрасно виню, может, виноват не он, а его родственники. Короче, хоронили Никитина по церковному обряду. И что же вы думаете? Ознобишин приехал на похороны и отстоял в церкви всю заупокойную службу. Какой пример для молодежи! Вместо того, чтобы увести молодежь из церкви, сам участвовал в церковном обряде. Вот вам и атеистическая пропаганда! Потом приехал осенью. Повидаться, как он сказал, с матерью. Пожалуйста, видайся. Я лично у него осведомился, надолго ли приехал. На два дня. А сам провел дома целую неделю. Но времени для того, чтобы прийти помочь волкомолу, у секретаря укома не нашлось. Ему, видите ли, было не до того. А когда этой зимой умер изгнанный из партии Быстров, у Ознобишина нашлось время, он специально приехал в Корсунское проводить своего друга на кладбище. Никто не пришел хоронить, ни один комсомолец, ни один коммунист, а член укома партии Ознобишин, всем на удивление, демонстративно хоронил этого ренегата. Это что, не антисоветская демонстрация? — О моей поездке знал укомпарт! — не выдержал, закричал Слава. — Мне разрешили поехать! Сосняков немедленно повернулся к Кузнецову. — Вы давали ему разрешение, товарищ Кузнецов? Кузнецов медленно покачал головой. — Лично я не давал… — Спросите Шабунина! — Конечно, спросите того, кого здесь нет! — Сосняков весь разговор с Ознобишиным взял на себя, точно остальным было не под силу справиться с Ознобишиным. — Хочешь оправдаться? — Только не перед тобой! — Думаю, достаточно того, что я сказал, — закончил Сосняков. — В лучшем случае поступки Ознобишина можно объяснить политической близорукостью. Ему бы руководить какими-нибудь карбонариями, а не комсомольской организацией… «Господи! Он и карбонариев приплел! Что ему известно о карбонариях? Вероятно, прочел „Овода“, отсюда и эрудиция». — Будем обсуждать? — спрашивает Железнов. «А что тут обсуждать? — думает Слава. — Был в церкви, когда хоронили Ивана Фомича? Был. Ездил на похороны Степана Кузьмича? Ездил. Ни от того, ни от другого не откажешься». Слава мучительно ждет — найдется ли у кого-нибудь хоть одно слово в его защиту? Слово просит Ушаков. — Я еще в прошлом году просился учиться. Думаю, что и Славе полезно… Переносит огонь на себя, объединяет себя с Ознобишиным. — Хочет кто-нибудь высказаться? — повторяет Железнов. «Может быть, нужно мне? — думает Слава. — Вон как Сосняков все перевернул! Нельзя же согласиться с его обвинениями…» А в глубине души удерживает бес гордости — оправдываться перед Сосняковым? Славу опережает Даша Чевырева: — Позвольте уж мне… — Она не ждет, чтобы Железнов предоставил ей слово. — Ты много тут чего насказал, — обращается она к Соснякову. — Один ты у нас такой… такой… — Она ищет слова. — Такой правильный. Все рассмотрел, все собрал, про меня только забыл. А это, может, самая большая ошибка Ознобишина. Позволил венчаться в церкви. — Она даже делает шаг в сторону Соснякова. — Что же ты, товарищ Сосняков, про меня ничего не сказал? — А что про тебя говорить? — Сосняков снисходительно усмехается. — Тебя уже обсуждали, не такая ты примечательная личность, чтоб к тебе двадцать раз возвращаться. — Да не обо мне разговор, а об Ознобишине, — с вызовом ответила Даша. — Секретарь укомола — и стерпел церковный обряд! Даша вызывала Соснякова на спор, и тот от спора не уклонился. — Впрочем, ты права, и в этом случае проявилась беспринципность Ознобишина. — Больно уж ты принципиальный! — воскликнула Даша. — По-твоему, проще сказать: иди, товарищ дорогой, все прямо и прямо, не сворачивай никуда… А ежели впереди болото, или лес, или гора? Бывает, приходится свернуть — то болото обогнуть, то гору обойти. Или, по-твоему, при напролом, покуда не завязнешь в болоте? — Ты это к чему? — А к тому, что не пойми тогда Ознобишин моего положения, он бы разом покончил со мной. Не пойди я в церковь, меня бабы за гулящую бы посчитали, а исключи меня из комсомола, сразу бы обрубили мне руки. — Значит, бегай в церковь, и все в порядке? — Не бегай, но считайся с обстоятельствами. Своего сына я окрестила в церкви, а второго уже не понесу, бабы понятливее стали, сейчас меня этим никто уж не попрекнет. — Ты, Чевырева, все о себе, а мы говорим об Ознобишине, — прервал ее Железнов. — Давай по существу. — А по существу не согласна я с оценкой Соснякова, — отрезала Даша. — Не верю и никогда не поверю, что Ознобишин струсил, а ежели убежал из Луковца, так неужли надо было ему самому по дурости в петлю залезать? Сосняков, однако, не унимался. — Послушать тебя, выходит, у Ознобишина вовсе нет недостатков? — Да уж, во всяком случае, поменьше, чем у тебя… — Даша посмотрела на Славу и тоже усмехнулась, но не так, как Сосняков, а ласково, точно вспомнила о чем-то хорошем, и обратилась уже непосредственно к Ознобишину: — Знаешь, Вячеслав Николаевич, почему у тебя все так… — Что так? — тут же спросил ее Железнов. — Что — так? — Что-то иногда не получается… Тебе доброты в себе поубавить, Вячеслав Николаевич, и не то, что я против доброты, а только жалость в тебе часто перевешивает все остальное. — Так ты что же, предлагаешь оставить его секретарем? — поинтересовался Железнов. — По мне — оставить… — Но тут Даша догадалась, что вопрос об Ознобишине решен, и отступила: — Однако, если сам просится, можно и отпустить… — Какие же будут предложения? — заторопился Железнов. — Отпустить? — Снять, — жестко сказал Сосняков. — Снять с работы как несправившегося. А дальше уж его дело — учиться или жениться. Внезапно Кузнецов оторвался от окна, через которое все время смотрел на улицу. — Позвольте и мне, — сказал он, укоризненно глядя на Соснякова. — Зачем уж так… Несправившегося! Ведь вы сами только что одобрили работу укомола. А личные недостатки… У кого их нет! Быстрова нельзя ставить в вину Ознобишину, он сам с ним порвал. А что поехал на похороны… Поехал проститься. Быстров для него не случайный человек. Убежал из Луковца? Зачем же отдаваться в руки врагу? Не надо так железобетонно. Федорова в Колпне оставил? Так это местный Совет его амнистировал, а не Ознобишин. Нечего вешать на него всех собак… Все время смотрел на улицу, а не пропустил мимо ушей ни слова. — Переборщил ты, Иван, — вторит Железнов Кузнецову. — Сформулируем так: удовлетворить просьбу товарища Ознобишина… направить на учебу? У Славы замирает сердце… Проститься со всеми, кто будет сейчас голосовать? Не так-то просто оторваться от всего того, что его окружает. Что окружало… Железнов стучит карандашом по столу. — Кто — за? Слава передвигается со своим стулом к окну, садится рядом с Кузнецовым, берет себя в руки, обижайся, не обижайся, надо высидеть заседание до конца. Постановляют направить на учебу Ушакова. Избирают президиум. Железнов — секретарь, Коля Иванов — заворготделом и Сосняков — да! Сосняков — завполитпросветом. Дорвался-таки Иван Сосняков до укомола! «Ничего, — думает Слава, — после следующей конференции придется Железнову уступить ему свое место!» Железнову явно не по себе. — Все, можно расходиться. Слава приближается к столу и невесело усмехается. — Ну что ж, ребята, прощайте. Берет со стола портфель и идет к двери. — Постой! — слышит он за своей спиной окрик. Чего еще нужно от него Соснякову? — А портфель? Куда? — вызывающе спрашивает Сосняков. — Положь на стол! — То есть как это — положь? Это мой портфель. — Почему же это он твой? — Моего отца портфель, — говорит Слава. — Я его из Успенского привез. — Что ж, он его тебе с того света прислал? — насмешливо спрашивает Сосняков. — Оставь, — говорит Железнов. — Пусть берет. — То есть как это пусть? — возражает Сосняков. — Портфель казенный, теперь он ему ни к чему. Унизительно спорить с Сосняковым из-за портфеля. — Да, если хочешь — с того света, — негромко, но зло произносит Слава. — Это с того света прислал мне отец свое благословение! — Так ты ко всему еще и в загробную жизнь веришь? — насмешливо спрашивает Сосняков. — Ты идеалист. — Да, идеалист… Совсем не так, как Сосняков, понимает это слово Слава. Идеалист. Человек, верный своим идеалам. Такой, каким был его отец. — Ты чужой нам. — Тебе — может быть. Но не идеалам. Слава даже помыслить не может о том, что подлые руки Соснякова будут копаться в отцовском портфеле. Это все равно, что позволить Соснякову залезть в собственную душу. Сосняков закусывает удила! — Не смей спорить! Гнев вспыхивает в Славе. Неистребимый. Неукротимый. В такие моменты человек многим рискует. И добивается своего. Или погибает. — Да я тебя… Слава слышит, как бьется его сердце. Он не знает, что он сделает. Ударит? Нет, драться он с Сосняковым не станет… — Иван, он тебя застрелит! — испуганно восклицает Железнов. Железнову и Соснякову передается напряжение Ознобишина. Слава держит руку у кармана, и Железнов вспоминает, что у Славы есть револьвер. — Да ты что? — внезапно обмякает Сосняков. — Да ты что, Слав? Нужен нам твой портфель. Бери, пожалуйста, если он так тебе… Больше Слава не произносит ни слова. С портфелем в руке покидает он свой кабинет. Навсегда. Со своим трофеем, завоеванным им в такой тяжелый для него день. 43 Расчет, полный расчет! А ведь сколько отдано сил, сколько душевных сил… С какой легкостью его отпустили! Он не мог поверить… А впрочем, почему не мог? Молодости свойственна душевная легкость — легко находят и легко теряют. Да и не так ли поступал он сам? А теперь чувствует себя старше своих сверстников. Славе ужасно одиноко. Только что был со всеми, а теперь один. Неожиданно вспомнился Степан Кузьмич. Может быть, так же чувствовал себя Быстров, когда его исключили из партии? Но его никто и ниоткуда не исключал. Очень хотелось поговорить с кем-нибудь по душам, услышать слова утешения… В трудную минуту хорошо обратиться к отцу. Тот понял бы и сказал что-то такое важное, что помогло бы все понять и… все простить? Только прощать-то нечего и некому! Отца Слава потерял в детстве. Отец был хороший, только его давно уже нет. Степан Кузьмич тоже был близким человеком, понял бы и поддержал, но и Степана Кузьмича нет. Остался один Афанасий Петрович. В одно мгновение Слава очутился внизу. Нет, так уйти он не сможет. С Шабуниным у него другие отношения, чем с Быстровым, у Быстрова он был один, а у Шабунина таких, как Ознобишин, десятки. Все равно. Слава открыл дверь в приемную. Селиверстов за своим столом. Сухой, злой, больной. И Клавочка за своим. Машинистка, телефонистка. Не надо ее обижать, ей здесь тоже несладко. С утра до вечера в канцелярии. То бумажку перепечатать, то соединить по телефону. А чуть что — кто виноват? — Клавочка. А она поплачет — и опять за машинку. Селиверстов не поднимает головы. «Знает или не знает? Потому, что не поднимает, знает. Пустит он меня или не пустит, — думает Слава. — Теперь я здесь посторонний». — Афанасий Петрович у себя? — спрашивает Слава. — Заходи, — цедит Селиверстов, не отрываясь от бумажек. Слава открывает дверь. Шабунин за столом. Он один в кабинете. Смотрит прямо в лицо Славе, точно ждал его. — Можно, Афанасий Петрович? — Заходи, заходи. Попроси кто описать Шабунина, Слава не смог бы. Обыкновенное лицо. Самое обыкновенное. Без особых примет. Первое, что он сказал бы о нем, солдатское лицо. Русское солдатское лицо. Большой лоб. Белесые брови. Пытливые серые глаза. Прямой и все-таки неправильный нос. Бесцветные щеки и бесцветные губы. Небритый, конечно. Во всяком случае, сегодня он не брился. И в то же время лицо это нельзя забыть. Незабываемое лицо. — Садись. Шабунин идет к двери, говорит что-то Селиверстову, плотно закрывает дверь, садится за стол, смотрит на Славу. — Ну? Чуть вопросительно, чуть задумчиво, чуть ласково. И это все, что он может ему сказать? Но именно так обратился бы к нему, должно быть, отец, приди к нему Слава. Молчит Слава, молчит Шабунин. Славе тягостно это молчание, он мучается, не знает, как начать разговор, а Шабунина оно как будто даже забавляет. — Ну и как, долго будем играть в молчанку? — нарушает молчание Афанасий Петрович. Слава молчит. — Потерял речь? — спрашивает Афанасий Петрович. — «В молчанку напивалися, в молчанку целовалися, в молчанку драка шла?» Слава улыбается. — Откуда это? — Не помнишь? Однако уроки Ивана Фомича не прошли даром. — Некрасов? — Он самый. Как там у вас? Все в порядке? Внезапно Славой овладевает обида. — Афанасий Петрович, нехорошо получилось, — говорит он. — Укомпарт как будто не имел ко мне претензий? — А он их и не имеет, — согласился Шабунин. — Мы лишь пошли тебе навстречу. Афанасий Петрович выходит из-за стола, подходит к Славе, придвигает стул, садится с ним рядом. — Давай поговорим… Кладет руку на плечо Славе и по-отечески притягивает к себе. — Политика… Как бы тебе это объяснить… Особый вид общественной деятельности. Прямое участие в жизни общества и государства, обеспечение их интересов… Ты меня понимаешь? Слава кивнул, он пытался уловить мысль Шабунина. — А люди, направляющие деятельность государства и общества, определяющие ее развитие, это и есть политики. Шабунин снял руку с плеча Славы и принялся медленно прохаживаться по комнате. — Как бы тебе объяснить… Для кого он говорит? Для Ознобишина? А может быть, для себя? Жизнь у него неспокойная, времени в обрез, но на Славу он тратит время с непонятной щедростью. — Знаешь, что не нравится мне в тебе? Мне иногда кажется, что ты старше меня… У нас молодая страна. В ней все молодо. Молодая экономика. Молодые идеи. Конечно, мы строим не на голом месте, у нас богатое прошлое, история наша уходит в глубь веков. Все это так, и в то же время мы безбожно молоды. У нас много чего позади, но еще больше впереди. Война далеко не закончилась. Война умов, война идей долго еще будет продолжаться. Только, увы, старые солдаты не ведут войн. Это все сказки, старая гвардия Наполеона! Когда Наполеона сослали на Эльбу и он попытался вернуться в Париж, не помогла ему старая гвардия. Старая гвардия хороша для того, чтобы хранить традиции и предаваться воспоминаниям. А сражаться… Кто видел, чтобы старые солдаты выигрывали сражения? Старость и движение вперед несовместимы. А к тому же иногда приходится не идти, а бежать. В экономике нам надо нагонять западные страны, нам уже нельзя остановиться в своем движении. А ты… Растерялся, что ли?… Улыбаешься? А Слава и не думал улыбаться, он слушал Шабунина со всевозрастающей тревогой. — Я хочу, чтобы ты сохранился для живой жизни, для нашего движения, — продолжал Афанасий Петрович. — Если ты почувствовал, что можешь расстаться с организацией, значит, тебе надо с нею расстаться. В чем-то ты, значит, перестал понимать товарищей, а они перестали понимать тебя. Ты часто отдаешься во власть эмоциям. Стесняешься самого себя. Мне рассказывали: когда изымали церковные ценности, ты там какой-то крестик или колечко принес, постарался незаметно подбросить, стыдно стало, что зря валяется золотишко, а на него голодных накормить надо. Крестик у матери взял? И может, даже зря взял, может, это у нее память была, или берегла колечко про черный день. И твое колечко ничего не решало. Изъятие ценностей — государственное мероприятие, а колечко — филантропический порыв. Но уж если захотелось отдать колечко, надо отдавать без стеснения. А у тебя и в работе так. Колечко за колечком. Порывы прекраснодушия. А сейчас надо землю долбить. Скучно, тоскливо, утомительно, а ты долби и долби… Упоминанием о брошке, которую Слава взял у матери, Шабунин отвлек Славу от горестных размышлений. Откуда ему известно? Слава воображал, что всех обманул, а на самом деле обманули его. И как деликатно обманули. Шабунин откинулся в кресле, уперся бритым затылком в карту уезда, заслонил какой-то Колодезь. — Удивлен моей осведомленностью? Э-эх, милый! Шила в мешке не утаишь, а мы и иголку в стоге сена найдем, это и есть особенность молодого государства. Тем и сильны. У тебя впереди большая жизнь, и молодость твоя далеко еще не прошла. В дверь постучали. Слава с досадой, а скорее с испугом подумал о том, что ему так и не дадут дослушать Шабунина, однако Шабунин сам поспешил к двери и заглянул в приемную. — Онисим Валерьянович, я же предупреждал, — сердито сказал Шабунин. — Меня ни для кого… Позже, позже, — сказал он еще кому-то и захлопнул дверь. — Перебили мысль, — пожаловался Шабунин. — О чем я?… Да, о том, что я тебя переоценил, — вспомнил он. — Не ждал я, что ты захочешь от нас уйти. Я уже говорил: мы как на войне. И вот представь, во время боя один из бойцов заикнулся об отдыхе… Слава возмущенно поднял руку. — Вы меня не поняли, Афанасий Петрович… — А как тебя следовало понимать? — Отпустить можно было не так… — А как? — Натравить на меня Соснякова… — А его никто на тебя не натравливал, он сам на тебя набросился. Да и при чем тут Сосняков? Ты просил отпустить тебя на учебу? Вот уездный комитет партии и решил уважить твою просьбу. А Сосняков… Не с музыкой же тебя провожать, не на пенсию уходишь, а учиться. Это тебе первый урок. Жестковато? Приятней, когда гладят по шерстке? А жизнь гладит против шерстки и гладить так будет не один еще раз. Учись, брат, принимать критику. — Но ведь он не прав? — Как тебе сказать, и прав, и не прав, — задумчиво протянул Шабунин. — Я знаю тебя лучше Соснякова. Ты был искренен, оставался во всяких перипетиях коммунистом. Но по причине своей чувствительности позволял людям истолковывать свои поступки не в свою пользу. Только сейчас проникает в сознание Славы не мысль даже, а тревожное ощущение утраты… Чего? Он не отдает себе в том отчета. — Почему вы меня не остановили, Афанасий Петрович? — вырывается вдруг у Славы упрек. — Не поправили? — А я не нянька тебе, — жестко отвечает Шабунин. — Жизнь шутить не любит. Суровая это, брат, штука. Учись решать сам за себя. Он подходит к шкафу, где на полках стоят десятка три книг, вытягивает одну, в серой бумажной обложке, листает, ищет. Слава тоже заглядывает в книгу — школьная привычка увидеть текст своими глазами. — Одиннадцатый съезд, — поясняет Шабунин. — Стенографический отчет. Тут яснее ясного. «История знает превращения всяких сортов, полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо». Шабунин испытующе смотрит на Славу. — Это обо мне? — простодушно спрашивает тот. — Если хочешь — и о тебе, — подтверждает Шабунин. — Потому что дело не в том, кто убежденнее и преданнее, а в том, кто более полезен и нужен сейчас для дела. Он кладет книгу на стол. Молчит. То ли сам думает, то ли дает время подумать Славе. — Вот так-то, — говорит Афанасий Петрович и спрашивает: — Понял? — Понять-то понял… — неуверенно отвечает Слава. «Вот, значит, в чем дело, — думает он. — Чему меня учит Афанасий Петрович? „Обходятся не слишком вежливо“. Может, так и надо, как со мной обошлись?…» — Понял, Афанасий Петрович. Пожалуй, что и понял, может быть, не вполне, однако до него доходит смысл прочитанного. Прощается с ним Афанасий Петрович, жалеет, отпускает в большую жизнь, хочет поддержать, помочь, ведь через минуту этот юноша останется один, весь свой суровый опыт хочет Афанасий Петрович передать Славе, сколько еще придется ему перенести толчков и ударов, — хороша ласка, а бывает нужнее таска. Грустно Славе, заплакать бы, но какие уж там слезы в кабинете секретаря укомпарта! — До свиданья, Афанасий Петрович. Извините… Но и Шабунина не всегда поймешь, он вдруг берет Славу за плечи, притягивает к себе, заглядывает в глаза. — Не торопись. Подумаем. Вместе. Что теперь тебе делать. — Учиться, — уверенно отвечает Слава. — А что же еще, — соглашается Шабунин. — Только где и чему. — Марксизму, — стремительно говорит Слава. — Буду изучать общественные науки. Мне надо подковаться… — Подковаться? — переспрашивает Шабунин. — Подковал кузнец блоху, та и вовсе прыгать перестала, прикипела к одному месту. Марксизму, брат, везде можно учиться, без марксизма ни землю не вспашешь, ни автомобиля не соберешь. Ты лучше скажи, кем ты собираешься быть? — Как кем? Общественным деятелем! — На мое место нацелился? — пошутил Шабунин. — Только на моей должности тычков достается еще больше, чем на твоей. — Поступлю на исторический факультет. Может быть, на юридический… — А иди-ка ты, брат… Иди-ка ты во врачи. — Почему во врачи? — пугается Слава, — Какой из меня врач! — Какой? — Шабунин засмеялся. — Да тебя сам бог слепил врачом. Ты к каждому нараспашку, готов все отдать, твое прекраснодушие гибель для политика, а для врача в самый раз! Врач без душевных порывов — это не врач, а политику нужно уметь сдерживать свои чувства. Перебери-ка в памяти свои ошибки… Ведь были ошибки? А будь ты врачом, твои недостатки сразу обернутся достоинствами. Слишком неожиданно для Славы это предложение, он не знает, что сказать… — Что молчишь? Из тебя получится доктор. Я тебе плохого не посоветую. Езжай-ка ты, парень, домой, впереди у тебя месяца два, поживи под крылом у матери, обдумай все, повтори пройденное в школе, а я обещаю через месяц-другой достать для тебя в губкоме путевку. Что еще сказать? — Прощайте, Афанасий Петрович… Губы Славы кривятся. Как подумать, что все здесь для него кончилось! Шабунин протягивает ему руку. — Ничего, не расстраивайся. Будут еще и тычки, и щелчки, всего в жизни напробуешься. Но главное у тебя есть, а что главное, ты и сам знаешь. Выше голову, парень, не теряйся! В последний раз глядит Слава на карту за спиной Шабунина. Вот они — Пьяные и Ясные Колодези, Черемуховые и Гнилые Плоты, и всякие — несть им числа — Выселки! Прости-прощай… Среди них прошла юность Славы Ознобишина. В последний раз видит он эту карту. Прости-прощай, Малоархангельск! В последний раз видит он Шабунина. Больше уже не увидимся, не встретимся… Прости-прощай, моя юность! 44 Город одноэтажных домиков, зеленых лужаек, мягких дорог. В воздухе легкий запах горящего торфа. Борщи и супы, что варят малоархангельские хозяйки, тоже попахивают торфом. Но и цветами пахнет с полей, окружающих город… Не хочется Славе отсюда уезжать. Идет он знакомой уютной улицей и только сейчас, вот в эту минуту, понимает, какой это милый городок. Вот и дом, где живут комсомольские работники. Надо как можно быстрее закончить все дела. Навстречу метнулась Эмма Артуровна и исчезла. Знает или не знает? Хотя откуда ей знать! Впрочем, Эмма Артуровна всегда узнавала о том, что произошло, за две минуты до происшествия. А впрочем, ну ее к черту! Не знает, так узнает. Слава прошел к себе в комнату. На его кровати сидел Петя. Вот уж кого Слава не ожидал! — Откуда ты взялся? — Мама… — Что мама? Слава испугался, не случилось ли чего с мамой. — Прислала. — Она не больна? — Нет. — А что же случилось? — Да ничего… Петя повел плечами. Он не знал, зачем нужно было его посылать. «Так дольше продолжаться не может», — сказала мама. Что продолжаться? Все шло, как и шло. «Поезжай к Славе, — сказала мама. — Попроси приехать, пусть вырвется на один день, мне необходимо с ним посоветоваться». Слава чмокнул брата в щеку. Они дружны, но нежностей избегали — мужчинам они ни к чему. Что-то насторожило Славу, Петя был не такой, как обычно. — Что же все-таки мама велела передать? — Просит тебя приехать, — повторил Петя. — Иногда она плачет… потихоньку от меня. — Так в чем же дело? — добивался Слава. — Марья Софроновна кричит на нее… — Петя исподлобья взглянул на брата. — Ты когда приедешь? — А ты-то сам как отсюда? — поинтересовался Слава. — Чижов поехал за товарами для потребиловки, мама и попросила меня взять. Туда возьму, сказал, а обратно не рассчитывайте, товара много, не довезу. Обратно тебя как-нибудь Слава отправит, сказала мама. — Да что с тобой? — перебил Слава брата. — Какой-то ты сонный. Не выспался? — Просто болит голова, — пожаловался Петя. — И немного знобит. Слава приложил руку ко лбу брата. — Да у тебя жар! — воскликнул он. — Ты простудился! — Нет, — сказал Петя. — Ехали ночью, и просто я очень замерз. — Разденься… Слава настоял, уложил Петю в постель, накрыл одеялом. — Надо бы измерить температуру, да, по-моему, градусника нет ни у кого. Он не помнил такого случая, когда кто-нибудь в общежитии измерял температуру, никто не болел, а если болел, старался этого не замечать. — Сейчас принесу тебе чаю… Эмма Артуровна! Это мой брат… — Знаю, знаю, он сказал, потому и пустила. — Ему нездоровится, можно его напоить чаем? Эмма принесла чай, у нее нашлось даже малиновое варенье, раздобыла где-то термометр, сбегала в аптеку за аспирином. — Вы никогда еще так не хлопотали, — поблагодарил ее Слава. — Прямо как родной человек. — В последний ведь раз… Кажется, Эмма готова прослезиться. — Почему в последний? — Но вы же от нас уезжаете? — А вам откуда известно? Эмма потупилась. — Франечка еще вчера сказала. — Да, уезжаю, — подтвердил Слава и занялся братом. Температура выше тридцати восьми, пьет с трудом, болит горло. Слава пытался выяснить, когда Петя заболел. Оказывается, ночью шел за телегой, разгорячился, напился из колодца холодной воды, замерз и вместо того, чтобы идти, залез на телегу и промерз окончательно. Ему становилось все хуже, он дремал, временами впадал в забытье… Слава ходит по комнате, посматривает на Петю, собирает вещи. Вещей немного, верхние рубашки, смена постельного и нательного белья, куртка, валенки, валяющиеся с весны в углу, и книги; книг, правда, порядочно, то купит, то выпросит в Центропечати, набралось два свертка. Еще одна ночь, и он покинет Малоархангельск! И вдруг странное ощущение охватывает Славу. По вечерам он обычно работал. Читал, писал, готовился к следующему дню, а то шел в клуб или возвращался работать в укомол. А сегодня работы нет. Пустой вечер. Можно бы посидеть и поговорить с братом, но Петя то дремлет, то постанывает. — Прими-ка еще аспирину… Однако Славу не оставили одного. Пришли Железнов и Ушаков. Как обычно, вошли без стука, такие церемонии у них не водились. — Ну как ты, ничего? — Ничего. — А это кто? — спросил Железнов. — Брат. — Разве у тебя есть брат? Мало они знали друг о друге, перебирались в Малоархангельск, отрывались от семей. — А что с ним? — спросил Ушаков. — Простудился. Напился холодной воды и остыл. — Может, вызвать врача? — Обойдется, я дал аспирина. — Ты на меня не обижаешься? — спросил Железнов после некоторого молчания. — Что ж на тебя обижаться, — сказал Слава. — Ни ты мне, ни я тебе не мешал. — Я и сам только сегодня утром узнал, что тебя посылают учиться, — объяснил Железнов. — Ты не думай, я вовсе не стремился в секретари. — А я и не думаю, — сказал Слава. — Зря вы только Соснякова избрали в президиум. — Да нет, он парень способный, — виновато сказал Железнов. — Из него будет толк. — Толк-то будет, — согласился Слава. — Да уж больно он… Слава не сумел найти слова, которые выразили бы то, что он думал. — Он хотел вместе с нами зайти, да постеснялся, — сказал Ушаков. — Может, пойти позвать, он внизу… — Не надо, опять к чему-нибудь придерется. — Напрасно, — сказал Ушаков. — Он парень неплохой, только чересчур старательный. — Ты когда думаешь ехать-то? — поинтересовался Железнов. Слава усмехнулся. — Гонишь уже? — Ну что ты? — Железнов сконфузился. — Я без всякой задней мысли. — Завтра, чего же зря околачиваться, — сказал Слава. — Ты в мою комнату переберешься? — Мне и у себя хорошо, — отказался Железнов. — На твою халупу Сосняков нацелился. «Значит, был даже такой разговор, — подумал Слава. — Сосняков своего не упустит». — Может быть, тебе чем помочь? — осведомился Железнов. Слава отрицательно покачал головой. — А чего помогать? Они еще посидели, поговорили. — Не будем беспокоить, пойдем. «Вот и все, — подумал Слава. — Полтора года вместе, а завтра мы уже посторонние люди. Может быть, я в последний раз вижу и Железнова, и Никиту. А ведь он изменился за эти полтора года, — подумал Слава о Железнове. — Такой же круглолицый и спокойный, но и не такой. Постарел за это время, румянец пропал, глаза смотрят равнодушнее, резкая складочка появилась у носа. Жениться ему пора, сильно ощутим в нем поворот к взрослости. А Никита всю жизнь останется юношей. Нежное, тонкое лицо, льняные длинные волосы, даже заикается, застенчив. С Никитой мы еще, может, встретимся в Москве. Он учиться, и я учиться. Чему-нибудь и научимся…» Слава сходил еще раз к Эмме, получил стакан горячего молока, дал Пете аспирину, напоил молоком, глотать было еще труднее, чем днем, расхворался он не на шутку. Лег Слава рядом с Петей, лечь больше негде, всю ночь Петя метался, горел, бредил, Слава гладил брата по голове, тот затихал, вероятно, думал, что это мама, мама не отходила от них, когда они заболевали. Под утро сквозь сон Петя на что-то пожаловался: — Дай мне, ну дай, я тебя прошу… Что дать, он так и не сказал. Слава обнял брата, жалко было его ужасно, младший ведь брат. Слава пробовал его баюкать, даже запел: «Спи, мой маленький коток…» Утром Слава опять измерил Пете температуру, поднялась уже до тридцати девяти градусов, — опять напоил молоком, оставил Петю на попечение Эммы, хотелось с утра покончить со всеми делами и пораньше уехать из города, он боялся остаться с больным Петей в Малоархангельске, хорошо бы поскорее вернуться к маме, мать, как наседка, пригреет его под своим крылом, и Петя сразу начнет поправляться. Он пришел в уком, в оба укома, снялся с партийного и комсомольского учета. Селиверстов сказал, что звонил Семин, просил Ознобишина обязательно зайти, Слава подивился — зачем он Семину, надо было еще зайти на конный двор, попросить до Успенского лошадку. Семин мил, вежлив, добродушен, щеки его не в пример Железнову по-прежнему пухлы и розовы, и улыбка не изменилась, такая же снисходительная и приветливая. — Зачем я тебе? — Оружие. — Какое еще оружие. — Верни оружие. Тебя освободили? Уезжаешь? Вот и верни оружие. Револьвер выдан был при вступлении в должность? Теперь полагается вернуть. — Да я же давным-давно вернул! Помнишь, пришел к тебе и отдал револьвер, о чем же ты спрашиваешь? — Все-таки тебе свойственно легкомыслие, Ознобишин! — Семин удовлетворенно засмеялся. — Вернул, вернул, отлично помню. Но ведь мы тогда так и не оформили возвращение. Я же о тебе забочусь. Переведут меня, придет другой, спохватится — где оружие, и потребует с тебя. А ты иди доказывай, что вернул. Пиши заявление: «Прошу принять обратно выданный мне револьвер системы наган, номер…» Сейчас я тебе скажу номер. — Вышел и тут же вернулся, назвал номер, дела у него в образцовом порядке. — А я тебе, в свою очередь, расписочку: такого-то числа сдан и принят… Со стороны Семина это и предусмотрительно, и любезно, ведь и вправду могли возникнуть неприятности. — Ну, желаю тебе, — сказал Семин. — На кого же ты едешь учиться? — На прокурора или на судью, — сказал Слава. — На юридический факультет. — На прокурора? — Семин захохотал. — Какой из тебя прокурор! Иди лучше в учителя, литературу преподавать. — Считаешь, ни на что другое не пригоден? — Почему, литература тоже приносит пользу. — Какую же? — Не скажи, я уважаю Достоевского, хороший криминалист, в иных тонкостях очень даже помогает разобраться. — Спасибо за совет. Слава протянул Семину руку, но тот не отпустил Славу, указал на стул — посиди, посиди еще. — Я тебе другой совет дам… Выжлецова не забыл? — Что-нибудь выяснилось? — Многое выяснилось. — Так Выжлецов тогда врал мне или не врал? — Тут не все ясно, дело сложное. Он не только хлеб у себя на мельнице воровал, поковарней дела творились. Следствие еще не закончено, подключился Орел. Я другой совет хочу тебе дать. Посерьезней надо жить. Людей слушай, да не всему верь, что можешь, проверь и к нам, а мы уж… Понял? Он искренне наставлял Славу. — Ладно, — сказал Слава. — Учту. — Я не для твоей только пользы говорю, я беспокоюсь о государстве, — серьезно произнес Семин. — Учти, классовая борьба еще впереди. Последний визит — на конный двор. — Мне бы лошадку. — Далеко? — В Успенское. — Надолго едете? — Насовсем. — Это как понимать? У заведующего маленькие, заплывшие глазки и нос в синих прожилках — любит, должно быть, выпить. — Обратно к себе, кончилась моя работа в Малоархангельске, возвращаюсь к родным пенатам. — К пенатам?… Это кто же они будут? — Родственники. Заведующий пожевал нижнюю губу. — Не полагается. — Что не полагается? — Домой на казенных лошадях возвращаться. — Не пешком же? У меня вещи, брат еще заболел… — Не знаю, не знаю. — Может, сходить к Афанасию Петровичу, принести от него записку? Заведующий пожевал верхнюю губу. — Зачем же Афанасия Петровича беспокоить? Что-нибудь найдем. Приходите часа через два, приготовлю вам экипаж, есть тут у меня одна лошаденка на примете, так ее оформить надо. — Ладно, через два, так через два. Слава пошел к себе. Петя лежал на кровати сонный, вялый, температура у него как будто сползла, равнодушными глазами смотрел на сборы брата. Пришла Эмма Артуровна. — Как, Вячеслав Николаевич, когда едете? — Часа через два, должно быть. — Брата вашего напоила чаем, яичко всмятку сварила, отказывался, глотать, говорит, больно, но кое-как скушал. — Доберемся мы с тобой? Петя утвердительно закрыл глаза. — Не бес-по-кой-ся, — выдохнул он. — До-е-дем. Слава обвел комнату глазами, не забыть бы чего, и Эмма тут же перехватила его взгляд. — Не беспокойтесь, Вячеслав Николаевич, я помогу, соберу и белье, и постель. Она вынесла в зал пачки с книгами, ушла и вернулась с креслом, с усилием втащила в комнату Славы дубовое кресло с высокой спинкой, обитое тусклым зеленым сафьяном. — Это еще для чего? — удивился Слава. — Для товарища Соснякова, — радостно объяснила Эмма. — Строгий, говорят, не в пример вам. Кресло… Что-то напомнило оно Славе. Какое-то кресло проступало сквозь дымку времени. Корсунское, комсомольское собрание и Сосняков, несущий на своих плечах кресло. Другое. Но все-таки кресло. Вот когда оно вернулось к нему! — А без кресла он не обойдется? — спросил Слава. — Как можно, Вячеслав Николаевич, это вам все безразлично. Сосняков вправду другой человек, Эмма ни обкрадывать его не осмелится, ни по душам он с ней никогда не поговорит. Серьезный товарищ. Ну да простится это ему, лишь бы укомол не сдавал своих позиций. Вслед за креслом Эмма принесла ситцевые занавески на окно. — Помогите, Вячеслав Николаевич, гвоздики приколотить. — А это откуда? — Франечка велела повесить. Чудеса, да и только! Выслуживаться Франечка не любила. — Ей это зачем? — Поручение ей такое товарищ Сосняков дали, нежелательно, говорит, чтобы с улицы ко мне в окно засматривали, обеспечь меня, говорит, с этой стороны. — А где она их взяла? — Сняла со своего окна. «Силен! — снова подумал Слава. — Сосняков им себя еще покажет». — А как вы думаете, Вячеслав Николаевич, товарищ Сосняков не могут меня уволить? — С чего бы? Эмма потупилась: — Так я же беспартийная. — Ну и что с того? — А они, говорят, только партийных уважают. — Не волнуйтесь, полы можно и беспартийным мыть. — Я к вам так привыкла, Вячеслав Николаевич… — Пойду за лошадью, — оборвал ее Слава. Заведующий конным двором его ждал. — Приготовил я вам коня… Это был тот еще одер! Старая, изнуренная кляча, и под стать ей ветхий полок, доски которого стянуты проволочками и бечевками, — толкни и тотчас рассыплется. Слава посмотрел в мутные, унылые глаза… — Да вы не смотрите, что конь неказист, довезет как миленький, — поспешил заведующий утешить Ознобишина. — Дай я коня получше, надо посылать кучера, гнать лошадь обратно, а кучеров лишних у меня нет. А этого можете не возвращать, я его только что актировал. Доставит вас до Успенского! — А дальше что с ним делать? — Отдадите кому-нибудь, обдерут, шкура в хозяйстве всегда сгодится. «Сходить к Шабунину, пожаловаться, — подумал Слава и махнул рукой. — Все равно…» На полок навалили соломы, Слава взгромоздился на грядку, ухватился за вожжи. — Счастливо! — закричал заведующий. — Доедете, разлюбезное дело. Петя, уже одетый, сидел на стуле. Слава помог ему выйти, поправил солому, расстелил одеяло, подложил ему под голову подушку, уложил пачки с книгами. Эмма вынесла сверток с носильными вещами. — Простыни с постели я не положила, — честно предупредила она Славу. — Зачем везти грязное белье? Вашей маме лишняя стирка… — Поехали? — спросил Слава брата. — Поехали, — шепотом согласился Петя. Слава пожал руку Эмме. — Эмма Артуровна! — Вячеслав Николаевич, я вас никогда-никогда не буду забывать, — проникновенно сказала Эмма. — Вы были хороший человек. Слава сел рядом с Петей, дернул вожжами, ветеран конной тяги переступил с ноги на ногу и медленно побрел по залитой солнцем улице, мимо яблоневого сада… — Вячеслав Николаевич! Вячеслав Николаевич! Слава обернулся. По улице бежала Эмма Артуровна. Она протянула мельхиоровый подстаканник. — Возьмите, Вячеслав Николаевич, это вам за все хорошее, что имело место между нами. И Слава взял, нельзя было обидеть Эмму. Потихоньку выехали за околицу. И — долго-недолго — пропал наконец за холмом городок, потянулись нескончаемые поля, и как последний привет Малоархангельска порыв теплого летнего ветра донес до Славы сладковатый запах торфа, тлеющего во всех печах покинутого города. А конь шел и шел, все медленнее и медленнее… Петя тронул брата за рукав. — Не жалей меня, — прошептал Петя. — Подгони, а то мы и к завтрему не дотащимся. Пете было плохо, его томила не только болезнь, но и дорога, он все чаще поднимал голову. — Да что там у тебя? — с раздражением спросил Петя. — Лошадь тебя совсем не слушается! — А тебя послушается? — Ты вожжи держать не умеешь, — рассердился Петя и с трудом сел. — Дай-ка… — Лежи! Языком еле ворочает, а туда же… Кнута не было. Слава спрыгнул, сорвал с придорожной ракиты ветку, подал Пете, к удивлению Славы, скорость их Росинанта заметно возросла. Шаг за шагом уходила в прошлое малоархангельская жизнь. — Мало тебя уважают… — вырвалось у Пети. — Порядочному человеку не дадут такого одра. Слава только сейчас сообразил, Петя ведь не знает, что он уже не секретарь укомола. — А ты знаешь, я уже не работаю в укомоле, — сказал он возможно равнодушнее. — Подал заявление, хочу учиться, мою просьбу уважили. — Так ты насовсем к нам! К вечеру Петю опять стало клонить в сон, и Слава взял вожжи. — Давай нигде не останавливаться? — предложил он Пете. — Все будет ближе к дому. — Как хочешь, — безучастно пробормотал Петя, температура у него опять поднялась. Слава не мог понять, спит он или теряет сознание. Над головами у них неслись сизые свинцовые облака, порывы ветра налетали все чаще, ночь обещала быть знобкой, гнулись придорожные кусты. Слава выпростал из-под Пети одеяло, укрыл, сверху еще укутал курткой, поежился сам и плотнее застегнул пиджачок. Наступила ночь. Птицы свиристели за придорожными канавами, брехали вдалеке собаки, и все время казалось, будто кто-то плачет, а кто и где — не понять. Поднялись на взгорок, миновали редкий лесок, потянулись опять поля, налево посевы, в темноте не разобрать чего, направо поросшие травой пары. Конь точно почуял корм и остановился, Слава задергал вожжами, хлестнул — ни с места. — Дьявол! Дьявол встал намертво. Пришлось будить Петю, он лучше разбирался в лошадях. — Что делать? Петя схватил себя за горло. — Не могу дышать. — Встал этот черт! — Распряги, — с трудом произнес Петя. — Пусть пасется. Слава стреножил коня, и тот, мягко шлепая губами, побрел в поле. — Будешь есть? Петя покачал головой, выпил несколько глотков воды. Слава стал взбивать на полке солому. — Под телегу, — прохрипел Петя. — Там теплее, и на случай дождя. Легли под повозку, солому застелили попонкой, сверху накрылись одеялом, Слава прижался к брату, обнял, тот опять впал в забытье. Ветер усиливался. Слава выглянул из-под повозки — небо черное, нигде ни проблеска, ни одной звездочки, по земле полз тускло-серый туман, летели и шуршали сорванные с деревьев листья. Вдали грохотал гром. «Дождь, — подумал Слава. — Только бы не над нами». Вспыхнул свет и погас, и опять гром. Молния. Это уж совсем близко. Молнии сверкали одна за другой, гром громыхал не переставая. Славе становилось все страшнее от непрерывных ослепительных вспышек. В свете молнии он увидел старую раскидистую ветлу. Растолкал Петю. — Укроемся! Потащил Петю за руку. Ветер несся с бешеной скоростью, швырял в лицо листья, молнии ослепляли. Слава прижался к стволу ветлы и прижал к себе брата. — Петенька… — Где мы? — хрипло спросил Петя. — Под ветлой! — крикнул Слава. — Здесь поспокойнее! — Дурак! — вдруг выкрикнул Петя и теперь уже сам потащил Славу в открытое поле. — Что ты делаешь? — закричал Слава. — Ты сошел с ума! Петя бежал и тащил за собой брата. Какая-то сумасшедшая молния еще раз прорезала небо, грохнул гром, и на них обрушился неистовый ливень. — Видишь, что наделал! — закричал Слава, дергая Петю за рукав. А Петя в ответ закашлялся, на мгновение подавился и неожиданно произнес обычным своим голосом: — Что за черт, во рту какая-то дрянь! Петя плевался, а сверху лило и лило. — Петенька! — радостно закричал Слава. — У тебя же ангина! Прорвало, прорвало! — Кого прорвало? — громко спросил Петя. — Да нарыв, нарыв! У тебя уже было так… Петя часто болел ангинами, Слава сообразил, что нарыв в горле мешал ему говорить. — Бежим под телегу, — сказал Петя, и они побрели под дождем к своему укрытию, черневшему в нескольких шагах. И едва залезли под полок, как дождь сразу прекратился. — Тебе не будет хуже? — с тревогой спросил Слава. — Нет, мне лучше. Они закутались в одеяло и стали ждать рассвета, и рассвет не замедлил окрасить землю сперва в серые, потом в лиловые, а потом в розовые и, наконец, в лимонно-золотистые тона. Братья выползли из-под своего укрытия, мокрые, жалкие, замерзшие, только солнце могло их обогреть и обсушить. Неподалеку пасся их пепельный конь. Ветлы не было — на ее месте торчал обугленный пень. Молния угодила прямо в это несчастное дерево. — В грозу нельзя стоять под деревьями, — сказал Петя. — Вбило бы тебя в землю. Многое Петя знал лучше Славы: когда и как укладывать в лежку яблоки, когда пожалеть коня, как уберечься от молнии… Как хорошо, что Петя выздоровел! Он заметно пошел на поправку, он и говорил уже внятно, и коня смог запрячь, и даже усмехнулся, глядя на промокшего брата. Покорно и безрадостно шагал конь в лучах разгорающегося летнего дня, обдуваемый ветерком, сушившим серую шерсть. — Как поступим с конем? — спросил Слава. — Отдали насовсем, а куда его девать? — Давай сперва доедем, доберемся, а там будем решать… Потихоньку, верста за верстой, двигались они сквозь бесконечные поля пшеницы, ржи и овса, мимо ракит и ветел, оставляя в стороне деревни и деревушки. Вот и знакомое кладбище, и золотой крест в синем небе. Петя оживился, и конь зашагал бодрее, точно и его ожидал родной дом. Первым встретился им во дворе Федосей, всклокоченный, в застиранной холщовой рубашке, в таких же застиранных синих холщовых портах. Увидел братьев и заулыбался: — Молодым хозяевам! Окинул оценивающим взглядом коня: — С таким конем только по ярманкам ездить! Слава указал Федосею на коня. — Получай, Федосыч. — Куды ж это его? — забеспокоился Федосей. — Отдали коня насовсем, а куда девать, не приложу ума. Отдай кому-нибудь, может, пригодится еще… — Зачем отдавать? — возразил Федосей. — Некормленый, вот и плохой, а конь добрый, еще послужит… Взял Росинанта под уздцы, повел в глубь двора, за сарай с сеном, а братья побежали здороваться с матерью. 45 Началось лето, последнее лето, проведенное Ознобишиным в деревне. Вера Васильевна обрадовалась возвращению сына так, точно он заново для нее родился. — Ох, Слава, как же ты мне нужен! Провела рукой по лицу, пригладила волосы, даже поесть не предложила, просто посадила перед собой, смотрела и не могла наглядеться. Даже Петю не сразу заметила, так обрадовалась Славе, минуты две-три всматривалась в старшего сына и лишь потом перевела взгляд на младшего. — Как ты плохо выглядишь! — воскликнула она. — Уж не заболел ли? — Он не заболел, а болен, — сказал Слава. — Было совсем плохо, а сейчас лучше, вчера я весь день давал ему аспирин, смерил температуру, осмотрел горло, уложил в постель, хотя Петя и пытался сопротивляться. Вера Васильевна устроилась пить чай возле больного и сама точно обогрелась и даже похорошела. — Как я тронута, что ты отозвался на мою просьбу, Петя еще мал, и мне просто необходимо с тобой посоветоваться. Слава ни о чем не расспрашивал, мама сама все скажет. — Ты не представляешь, какая невыносимая обстановка сложилась в этом доме. Нас с Петей только терпят. Павла Федоровича мало в чем можно упрекнуть, но супруга его совершенно невыносима. Она считает, что мы объедаем ее. — Погоди, мама, — остановил ее Слава. — Все, что ты говоришь, очень неясно… — То есть как неясно? Они терпят меня только из-за Пети, превратили мальчика в батрака, без него им трудно обойтись… Действительно, Петя не проболел и двух дней, на третий встал раньше всех, наскоро позавтракал отварной картошкой и отправился на хутор к Филиппычу. Дел на хуторе хватало всем троим — Филиппычу, Пете и Федосею, хотя Федосей в последнее время пытался отлынивать от работы; если Надежда по-прежнему неутомимо суетилась у печки и кормила кур, свиней и коров, то Федосей частенько о чем-то задумывался, подолгу раскуривал носогрейку и не спешил на работу. — Поговори с Павлом Федоровичем до своего отъезда, — попросила сына Вера Васильевна. — Он считается с тобой… — А я никуда и не собираюсь уезжать, можешь считать, что я вернулся к тебе под крыло. — Как? — испугалась Вера Васильевна. — Ты что-нибудь натворил? — Почему ты так плохо обо мне думаешь? Просто меня отпустили. Решили, что мне надо учиться. — Тебе действительно надо учиться, но так неожиданно… Вера Васильевна растерялась, раньше ей не хотелось, чтобы сын переезжал в Малоархангельск, позднее смирилась с его отъездом, начала даже гордиться тем, что Слава чем-то там руководит, и вдруг он возвращается обратно… Она и верила сыну, и не верила, превратности судьбы Вера Васильевна узнала на собственном опыте. И потом — третий рот! Как отнесутся к этому Павел Федорович и Марья Софроновна? На каких правах будет жить Слава в Успенском… — Ничего не понимаю, что же ты будешь делать? Может быть, вообще пора подумать о возвращении в Москву? — Ну, до Москвы еще далеко, — сказал Слава. — Я поговорю с Павлом Федоровичем… Хотя сам не знал, о чем говорить! Вопреки ожиданию разговор получился легкий и даже, можно сказать, дружелюбный. В первые дни по возвращении Славы они обменивались лишь ничего не значащими репликами о том о сем, о здоровье, о погоде, о мировой революции… — Ну, как вы там, не отменили еще свою мировую революцию? Наконец Слава улучил момент, Марья Софроновна ушла на село, и он поймал Павла Федоровича в кухне. — Хочу с вами поговорить. — Как Меттерних с Талейраном? — Я не собираюсь заниматься дипломатией. — В таком разе выкладай все, что есть на душе. — Жалуется мама, при Федоре Федоровиче проще было, а теперь складывается впечатление, что мы вас тяготим, и, право, я не знаю… — Чего не знаешь? — перебил Павел Федорович. — Очень все хорошо знаешь, потому и говоришь со мной. Понимаешь, что не ко двору пришлась твоя мать, тут уж ничего не поделаешь. Женщина нежная, французские стихи читает, а у нас бабам нахлобыстаться щей и завалиться с мужиком на печь. Что тебе сказать? В тягость вы или не в тягость? В деревне каждый лишний рот в тягость, и когда брат мой вез вас сюда, он понимал, что в тягость, и мы с мамашей принимали вас в тягость, шли на это, потому что жизни без тягости не бывает. Но и тягость имеет свою пользу. Федор погиб, а нам из-за него льготы, и прежде всего льготы вам, уедете вы — и льготам конец. Затем брат твой, тоже полезный мальчик, помогает в хозяйстве, никак уж не зря ест свой хлеб. И, наконец, ты сам. Пользы от тебя хозяйству ни на грош, но при случае и ты можешь сослужить службу. Пока ты в доме, наш дом будут обходить. Так что вы мне не мешаете, и тот хлеб, что я могу вам уделить, можете есть спокойно. Хотя бы уже потому, что братнюю волю я уважаю, и в нашем астаховском хозяйстве есть и ваша законная доля. — Вы правильно рассуждаете, — согласился Слава. — Дать Марье Софроновне волю, она не то, что жрать, она жить нам здесь не позволит, ее не перебороть даже вам. Павел Федорович засмеялся совсем тихонечко. — Чего ты хочешь? Дура баба! Ее ни в чем не уговоришь, как и твою Советскую власть. Коли зачислит кого во враги, будет на того жать до смертного часа. — Что же делать? — Смириться и не обращать внимания! — Все ясно, только как убедить маму? — Пойдем на улицу, — пригласил Павел Федорович. — День — дай бог! Сели на ступеньку крыльца. В пыли копались куры, дрались молодые петушки. Из-под горы доносился размеренный стук вальков, бабы полоскали на речке белье. — Как думаешь, будет война или нет? — спросил Павел Федорович. — Нет, не будет, — твердо сказал Слава. — Не допустит войны Советская власть. — А как же ультиматум? Павел Федорович имел в виду ультиматум Керзона, о котором писали в газетах, лорд Керзон направил Советскому правительству ноту с непомерными требованиями, угрожая разрывом отношений. — Подотрутся, — безапелляционно выразился Слава. — Думаешь, так уж сильна твоя власть? — Сильна-то она сильна, но и не в ней одной дело, — разъяснил Слава. — Рабочий класс не позволит. В той же Англии, да и в Германии, и во всей Европе. Читали протест Горького? — А чего этот Керзон бесится? — Чует свой конец, вот и бесится. Воровского убили. Запугивают нас! — А чего англичанам надо? — Двух ксендзов приговорили к расстрелу. Не сметь! Корабль ихний задержали, незаконно в наших водах рыбу ловил. Отпустить! Посол наш в Афганистане им не нравится. Отозвать! — А не велик ли аппетит? — Им и сказали, что велик. Два петушка взлетели на дороге и ну клеваться. Павел Федорович махнул на них рукой: — Кыш, кыш! «Впрочем, он все это знает не хуже меня, — подумал Слава. — Может, он меня экзаменует?» — А священников разве полагается стрелять? — поддержал Керзона Павел Федорович. — Смотря за что, — неумолимо сказал Слава. — За то, что богу молятся, нельзя, и если других призывают молиться, тоже нельзя, но ведь их не за это приговорили, а за шпионаж, а шпионство в священнические обязанности не входит. — Эк, какой ты непримиримый, — одобрительно сказал Павел Федорович. — За это тебя в Малоархангельске и держат. — А меня в Малоархангельске уже не держат. — Как так? — удивился Павел Федорович. — Отпустили, поеду учиться, — объяснил Слава. — А не проштрафился ты в чем? — насторожился Павел Федорович. — У вас ведь чуть оступился… — Нет, я сам захотел. — А на кого ж учиться? — На прокурора. — Ох, до чего ж ты, парень, умен! — восхищенно воскликнул Павел Федорович. — Понимаешь, у кого в руках сила! — И деловито осведомился: — А куда? — В Москву. — А когда? — Поближе к осени, к экзаменам надо подготовиться. — Так вот что, Вячеслав Николаевич, слушай, — серьезно сказал Павел Федорович. — Наперед говорю, не тревожься, если кто на тебя или на мать не так взглянет. Ешь, спи и готовься. Все возвращается на круги своя. Деды твои были интеллигентами, и тебе самому быть интеллигентом от роду и до века. Многое простится Павлу Федоровичу за эти слова, Слава получал передышку, без которой ему подъема в гору не осилить. А подъем предстоит крутой, Слава это отлично понимал. В Москве никто с ним не будет тетешкаться. В той буре, какой была русская революция, его нашлось кому опекать, — нежная заботливость Быстрова и строгая требовательность Шабунина помогли ему устоять на ногах, а теперь надейся на самого себя. Вот когда Слава ощутил отсутствие Ивана Фомича, вот кто ему был сейчас нужен. Слава пошел в школу. Тот же ободранный сад, та же знакомая дверь. В квартире Ивана Фомича жил Евгений Денисович. Все то, да не то. Лестница так же чисто вымыта, стены так же выбелены, и то же солнце льет в окна свой свет. И что-то неуловимо изменилось. Евгений Денисович вышел на стук, пригласил Славу к себе, чего, кстати, Иван Фомич никогда не делал, был разговорчив, любезен. Слава попросил одолжить учебники для старших классов. «Предстоят экзамены, надо повторить…» Теперь на его долю выпала зубрежка. Он брал учебник и уходил подальше от чужих глаз. Миновав Поповку, где у Тарховых неизменно бренчали на фортепьяно, выходил на дорогу, добирался до кладбища, перешагивал канаву, опускался на чей-нибудь безымянный холмик и погружался в чтение. В исполком он старался не ходить, не то, что боялся воспоминаний, хотя все в исполкоме напоминало Быстрова, — избегал вопросов о своем будущем. Пришлось, конечно, повидаться с Данилочкиным — визит вежливости, никуда не денешься, — но говорить ни о чем не хотелось и особенно о себе. — Вернулся? — приветствовал его Данилочкин и, как всегда, бесцеремонно спросил: — Что, не выбрали тебя, парень, на этот раз? — Почему? — обиделся Слава. — Выбрали, только я сам попросил отпустить меня на учебу. — Ну, это другое дело, — одобрительно отозвался Данилочкин. — Тогда не будем тебя тревожить, а то уж я собрался подыскать для тебя какую ни на есть работенку. В то лето партийные собрания в Успенском собирались нечасто, Слава старался их не пропускать, а на одном даже сделал доклад о фашистском перевороте в Болгарии. В волкомол не заглядывал, там он невольно чувствовал себя разжалованным офицером, а когда услышал, что приехал кто-то из укомола, нарочно скрылся на весь день в Дуровку. Но была еще Маруся Денисова. Под вечер он шел к Денисовым, стараясь прийти, когда все дела по хозяйству уже справлены. Маруся его ждала, но одновременно ждали и сестренки Маруси, они замечали его издали и стремглав неслись в избу, возвещая о появлении жениха детскими писклявыми голосками. Но не только денисовские девчонки признавали Славу женихом — Слава ходил к Марусе, не прячась, Маруся открыто гуляла с ним по вечерам, и в селе считали, что так вести себя могут только люди, намеревающиеся вступить в брак. Маруся выходила, и они шли к реке, или в школьный сад, или даже просто уходили в поле. Если бы кто слышал со стороны, то подивился бы их разговорам, Слава рассказывал о книгах, какие ему запомнились, читал наизусть стихи, Маруся умела слушать, хотя ей и не всегда нравилось то, что читал Слава, и сама, в свою очередь, рассказывала о всяких деревенских происшествиях. Позже, когда встречи вошли в привычку, они робко заговорили о том, как Слава уедет в Москву, как позже приедет к нему Маруся, и уж совсем робко и неуверенно мечтали о том, как сложится их совместная жизнь. А когда на землю падала ночь и в темноте тонули деревья, сараи и даже ветряки за огородами, они, прячась от самих себя, находили среди этой темноты еще более темное место и целовались, пока золотисто-розовое сияние не разгоняло их по домам. 46 Слава подошел к матери. Опять шьет! Все время она что-нибудь шила. Не шила — перешивала. Все трое, и Слава, и Петя, и сама Вера Васильевна, совсем обносились. Слава выступал на митингах, ездил по заседаниям, произносил речи, и все ему невдомек, что выступать-то было бы не в чем, если бы не забота матери, то штаны перешивает ему из своей юбки, то куртку шьет из старого одеяла. Он приезжал домой, задумчиво останавливался среди комнаты, небрежно произносил: — Что бы мне надеть? — А я тебе куртку сшила, померь… Он и на этот раз не оценил ее труда. — Скоро ты, мамочка, совсем отвыкнешь от чтения, все шьешь и шьешь… Слава не знал, как начать разговор, а начать надо, иначе все его слова, сказанные Марусе, не будут иметь никакого веса. Он смотрел на стол, сотни раз смотрел он на этот стол и лишь впервые заметил, что поверхность его покрывает тонкий слой ссохшейся грязи, сквозь которую едва просвечивает вишневый лак. Он все-таки решился: — Мама, я хотел бы… Мне хотелось бы… Тебе надо сходить к Денисовым. — Зачем это? Вера Васильевна подняла в недоумении брови. — Как бы это тебе объяснить? Дело в том… Дело в том, что я решил жениться. — Что-о? — То, что ты слышала. Шитье валялось на полу, ни Вера Васильевна, ни Слава не заметили, как оно упало. — На ком же это? — У Маруси две сестры. Одной тринадцать, другой одиннадцать. Не на них же! — Слава, тебе нет восемнадцати! — Мы любим друг друга. — Что же тебе нужно от меня? — Мы не можем пожениться, пока ты не сходишь к Денисовым. — Это с какой же целью? — Пожалуйста, не представляйся наивной. Не забывай, что мы в деревне. — Разве в деревне женятся иначе, чем в городе? — Да! Традиции, обычаи, условности здесь гораздо сильнее. Пока ты не подтвердишь серьезность моих намерений, Марусе не разрешат выйти замуж. — О господи! Не ставь меня в смешное положение… — Так ты не пойдешь? — Глупо все это… Тогда Слава принялся говорить о серьезности своего чувства. Общность взглядов, сходство характеров, глубокая взаимная симпатия. Посыпались ссылки на Пушкина и Шекспира. Особенно на Пушкина. Отец сделал Пушкина советчиком Славы. На помощь подоспели герои пушкинских повестей: Бурмин, Берестов, Гринев продефилировали перед Верой Васильевной дружным строем. На подмогу появился Ромео. «И, наконец, мы с ней стоим на одной политической платформе». Перед платформой, считал Слава, устоять невозможно. Но ни Гринев, ни Ромео, ни даже платформа не действовали на Веру Васильевну. Тогда Слава нахмурился: если не действует добро, должно подействовать зло, благородные офицеры не произвели впечатления, призовем на помощь палача Цанкова. — Может быть, ты и права, — мрачно сказал Слава. — Какая там любовь, когда в мире идет жестокая классовая борьба. Ты читала о фашистском перевороте в Болгарии? Что-то Вера Васильевна слышала. — А о войне за освобождение славян знаешь? Сколько добровольцев ехало тогда из России! Возможно, и нам придется выступить. Как ты думаешь, мама, стоит мне записаться в добровольцы? Желаемое он выдавал за действительное, добровольцев в Болгарию не посылали, хотя откройся запись в добровольцы, Слава бы записался, в этом случае его не остановила бы и Маруся. Но, как говорится, у страха глаза велики, а у материнского страха особенно. — Ты это серьезно? — Пойми, мамочка, если ты не хочешь, чтобы мы с Марусей связали свои жизни, мне остается один путь. Нет, мама не хотела, чтобы Слава уехал, да еще в чужую страну, войны отняли у нее слишком многих близких. Она умоляюще посмотрела на сына: — Не впадай в крайности! — Моя судьба в твоих руках, я или женюсь, или уеду… Он добился своего: Вера Васильевна согласилась пойти вечером к Денисовым и… поговорить. О чем? Она и сама не знала. Слава взял книгу, сел у окна. «Смотри, — говорил он всем своим видом матери, — меня это ничуть не волнует, все вполне естественно», но вскоре не выдержал, отложил книжку и стремглав понесся на село. Впрочем, по селу он шел, сдерживая себя, поднялся к Денисовым на крыльцо… Маруся тоже шила! Перед нею лежали лоскуты холста, и она сметывала их, прежде чем сесть за швейную машинку. — Мама сегодня придет к вам… Маруся побледнела, даже губы у нее побелели, сделались такими же белыми, как холст на ее коленях. — Ох, надо маме сказать… Слава разделял ее тревогу, слишком все серьезно, Марусе тоже нужно подготовить родителей к встрече. Только что пригнали стадо, коровы еще брели по домам, а желтые блики заката окрасили небо, когда Вера Васильевна собралась к Денисовым. Шла она не торопясь, ее привыкли видеть на сельской улице, то навещала больных, то заходила к родителям своих учеников, никто не обратил внимания на то, что Вера Васильевна принарядилась, ее кружевная кофточка слишком проста, чтобы кто-нибудь на селе мог ее оценить. Вера Васильевна поднялась на крыльцо, потянула на себя дверь, мать Маруси, Анна Степановна, стояла у горки с посудой, доставала лафитники. Анна Степановна быстро повернулась на стук щеколды. — Ой, Вера Васильевна?… Вот не ждали! Заходьте, заходьте, гостями будете… И тут же из-за дощатой перегородки, отделявшей тесную спаленку от горницы, вышел отец Маруси. Он заранее принарядился, на нем чистая белая рубашка и коричневый пиджак, да и весь он выглядел приглаженным и умытым. — Вере Васильевне! Он легонько пожал гостье руку, чуть отодвинул от лавки стол, чтобы свободнее пройти гостье, сел сам, а Анна Степановна принялась доставать посуду. — Неужели успели подоить? — удивилась Вера Васильевна. — Стадо только прошло… Анна Степановна заговорщицки улыбнулась: — Корову Маруська доит, сейчас придет… Этими словами она хотела сказать, что Маруся у нее не бездельница, а также то, что Анна Степановна понимает, зачем пришла Вера Васильевна и что без Маруси сейчас не обойтись. Маруся появилась с ведром в руке, и по всей горнице сладко запахло парным молоком. Она помогла матери накрыть стол скатертью, расшитой по углам красными петухами, разложила ножи и вилки, расставила тарелки с вареным мясом, с творогом и холодной яичницей. — Повечеряете с нами? — спросила Марусина мать, а Марусин отец помялся, вопросительно поглядел на гостью и вытянул из-под лавки зеленоватую бутылку. — Ради такого случая… Но о случае никто не заговаривал, никто не решался нарушить напряженное молчание. «Ну же, ну!…» — мысленно подгонял Слава мать. Ах, если бы сюда профессиональную сваху! Она бы в момент всех разговорила, и беседа бы потекла в нужном направлении. — Вы знаете, о чем я пришла поговорить? — решилась наконец Вера Васильевна. — Наши дети… На выручку поспешила Марусина мать. — Подите-ка погуляйте, — обратилась она к Марусе и Славе. — Без вас нам способнее поговорить промежду собой. Они вышли на крыльцо. — Как ты думаешь, о чем они будут говорить? — спросил Слава не без тревоги. — Как о чем? — удивилась Маруся. — Обо всем… Из горницы доносились голоса, разговор шел негромкий, в дружелюбных тонах, это чувствовалось, иногда отец Маруси повышал голос, хотя скорее всего это происходило оттого, что он подбадривал себя стопкой самогона. Но вот засмеялась Анна Степановна, засмеялась Вера Васильевна, свободно, облегченно, и Маруся со Славой поняли, что разговор окончен. Вскоре все трое вышли на крыльцо. — Спасибо за ужин, — поблагодарила Вера Васильевна. — Не на чем, — отвечала Анна Степановна. Они долго прощались, звали друг друга в гости. — Пошли, Слава, — позвала Вера Васильевна, — ночь на дворе. Слава шепнул Марусе: — Прибегу попозже… Вера Васильевна была задумчива, подходя к дому, сказала: — Денисовы дают корову. Слава не понял: — Какую корову? — В приданое за Марусей корову. — Зачем? — Слава зло посмотрел на мать. — Зачем нам с тобой корова? — Уверяют, что без этого нельзя, их просмеют на селе, как они выражаются, если выдадут дочь без приданого. Она у нас, говорят, не какая-нибудь бесприданница. Этого еще недоставало! Коммунист Ознобишин женится и берет в придачу корову! — И ты согласилась? — Они настаивают… От деревни всегда можно ждать любых неожиданностей, корова была одною из них, да и мама хороша: вместо того чтобы сказать: «Мой сын любит вашу дочь, и больше ему ничего не нужно», она позволила Денисовым вообразить, будто Славе нужна еще и корова! 47 — Тебя спрашивают, — небрежно сказал Павел Федорович, хотя какая уж там небрежность, он кровно заинтересован в этом посещении, рожь скошена, а вязать некому, рабочие руки найти теперь непросто. Слава знал, кто спрашивает, почти наверняка знал, он и книжку положил перед собой больше для вида, вчера вечером Маруся обмолвилась, что пришлет с утра Доньку, свою подружку, сказать, придет она завтра к Астаховым «на помочь» или не придет, а Донька все не шла, утро уже иссякало, солнце поднялось куда как высоко. — Кто еще там? — пробормотал все-таки Слава, будто не знал. — Иди, иди, — нетерпеливо произнес Павел Федорович. Слава вышел в галерейку. Шевеля ногой округлый булыжник, стояла Донька, высокая, статная, похожая на ладного стригунка, такие у нее были поджарые и тонкие ноги. Она кольнула Славу насмешливыми глазами и кинула лишь два слова: — Придем мы пополудни… «Придем мы» было сказано как одно слово «придеммы»… Тут же повернулась и пошла, клубя пыль круглыми черными пятками. — Придут? — тревожно переспросил Павел Федорович, вышедший следом в галерейку. — Придут, — весело ответил Слава, радуясь тому, что его небрежно высказанная накануне просьба исполнена, что Маруся придет и тем наглядно подтвердит перед всеми их близкий союз. — Возьми Воронка, поезжай, — торопливо предложил Павел Федорович. — Встрень их… Слава не заставил себя ни просить, ни торопить, сам заторопился на хутор, пошел по селу, не слишком глядя по сторонам, торопился на свиданье, хоть Маруся придет не целоваться, а вязать рожь. Трава вдоль дороги вся в пыли, а дальше поле желтело и блестело, точно начищенный медный поднос. Слава пришел на хутор. Филиппыч точил возле амбара косу, Петя с утра обкосил на косилке большую часть поля, скошенная рожь лежала ровными рядами, солнце сушило, надо вязать… Налетал ветерок, клубил на дороге пыль, исчезал, и пыль припадала… Слава заметил девушек издали: Донька переставляла ноги, как молодая лошадка, длинные ее ноги играли в пыли, она опережала Марусю, приостанавливалась, снова убыстряла шаг, а Маруся шла ровно и прямо, ладна и статна… Слава сбежал в ложбину. — А я вас жду, жду… — Чего ж нас ждать! — задорно откликнулась Донька. — Только освободилась, — сказала певуче Маруся. По-хозяйски осмотрела поле — край его спускался в ложбину. Девушки свернули в поле, встали, скошенная рожь волнистыми рядами лежала по всему золотисто-зеленоватому жнивью. Слава беспомощно посмотрел на рожь, на девушек. А девушки скинули домотканые клетчатые верхние юбки, сложили вместе с принесенными узелками у межи, остались в нижних, холщовых, подоткнули выше коленей, и пошли, пошли, не теряя времени на разговоры. Снопы так и замелькали в их руках. Перевясло — и сноп, перевясло — и сноп… Из-под горы выехал на косилке Петя, спешил докосить весь клин. Золотистое жнивье, две сильные и стройные девушки; усталый, упрямый Петя; лошади, лениво отмахивающиеся от слепней, стрекот косилки, окрашенной тусклой киноварью; рыжие снопы, разбросанные по полю… Чистая поэзия, как поглядеть со стороны, да в том и беда, что глядеть со стороны невозможно. — А ну, Николаич! — пронзительно закричала Донька. — Давай, помогай, таскай, слаживай крестцы! Петя спрыгнул с косилки, пошел с краю ставить снопы в крестцы, оглянулся на брата… Не стоять же сторонним наблюдателем. Слава тоже взялся носить снопы, одной рукой сноп, другой рукой сноп, а их все прибавлялось и прибавлялось. Тут уж не до мыслей о любви, вообще ни до каких мыслей, знай носи да носи, да не отлынивай, не отставай от Пети, откуда у того сила берется, ходит и ходит по жнивью. Так Слава и бегал взад-вперед вслед за Петей, покуда его не сморило, и только тогда заметил, что день идет к вечеру, что синие тени бегут по полю и что пора работу кончать. Солнце пало к горизонту, пахнуло из низины росой, Петя выпряг лошадей, пошел наискось через жнивье. — Хватит, — сказал Петя с хрипотцой в голосе от усталости и, обращаясь к девушкам, спросил: — Вы как, домой? — Не… Донька отрицательно мотнула головой, а Маруся ничего не сказала, посмотрела в лиловое, быстро синеющее небо, и только легкая улыбка шевельнула ее тонкие губы. — Подвезти вас? — предложил Петя. — Сейчас запрягу… — Нет, мы здесь переночуем, — сказала наконец и Маруся. — На зорьке встанем и довяжем. — А я домой, — сказал Петя и растворился в сумраке наступающей ночи. Девушки смотрели на Славу — в синем сумраке они невесомее, расплывчатее, вот-вот утонут в ночи. — Где ж вы нас положите? — спросила Донька. — В избе, что ли? — неуверенно предложил он. — У Филиппыча в сторожке? — Разве что у Филиппыча, — насмешливо согласилась Донька. — Лучше места не нашел? На то и пришли, чтоб тараканов кормить… — А в шалаше, в саду? — осенило Славу. — Не замерзнем? — Согреем… Донька засмеялась. — В саду-то, пожалуй, лучше, — сказала Маруся. — Ночь теплая… Втроем не спеша поднялись в гору, пересекли пустынный двор, у Филиппыча в сторожке светилось окно, перебрались через изгородь над канавой. — О-ох, — простонала Донька. — Тут обстрекаешься… — Куда тут? — спросила Маруся грудным, таинственным голосом. Слава взял ее за руку, и шершавые пальцы доверчиво сдавили его руку. Шалаш смутно чернел среди яблонь. — Сюда, сюда, — сказал Слава, отпуская руку Маруси. Донька первой влезла в проем, зашелестела в темноте, слышно было, как опустилась на землю. — Да тут мягко, — сказала она с довольным смешком. — А говорил, замерзнем. Шалаш выстелен соломой, прикрытой ветхой попоной, Филиппыч часто здесь ночевал. Замолчали, прислушались. Темно и тихо. На деревне брехали собаки, а еще дальше девки тянули протяжную песню. — Тут боязно, — глухо сказала Маруся и сама нашла в темноте руку Славы. — Сходить, сварить вам кулеш? — спросил он. — Я недолго… — Еще чего? — возразила Донька. — Возиться с варевом! Повечеряем чем бог послал. Она развязала узелок, разложила принесенную из дома еду, ласково приговаривая: — Хлебушко, яички, огурчики… Глаза привыкали к темноте, яйца белели на темном платке. Постукала яйцом о жердь, облупила скорлупу, подала яйцо Славе. — Яички крутые любите? Снаружи стукнуло. — Ох, кто это? — Яблоко упало, — объяснил Слава. — Все время падают. И только тут заметили, как сильно пахнет в шалаше яблоками. — Угостил бы, — сказала Донька. — А то и купим, сколько дашь на яйцо? Слава пошарил рукой у стенки — яблоки грудой лежали в глубине шалаша. — Да бери сколько хочешь! — Да то падальца, — сказала Донька, перебирая в темноте яблоки. — Ты бы нам с веточки, али жаль? Слава выскочил из шалаша, затряс ближнюю яблоню, и яблоки часто застучали по земле. — Глупый, — скорее самой себе, чем Славе, внятно и ласково произнесла Маруся. — Иди-ка лучше ужинать. Они ели и прислушивались, собаки брехали еще на деревне и что-то шуршало в темноте, то ли птицы, то ли ветер шелестел в ветвях. — Тихо, — негромко сказала Маруся. И впрямь все эти ночные звуки только сгущали тишину, все тонуло в ночи и не нарушало ее покоя. — Как будем укладываться? — спросила Донька и хихикнула. — Мы тебя, Николаич, в середочку, прижмем с двух сторон… Слава поискал, вытянул из-за груды яблок армяк и старое суконное солдатское одеяло. — Вот и накрыться… Они в самом деле легли, как было сказано, не раздеваясь, — Донька у самой стенки, потом Слава, и ближе к выходу Маруся. — Ну, спокойной ночи вам, — сказала Донька, натягивая на себя армяк, и повернулась к Славе спиной. — Смотри, не перепутай нас, парень. Слава отодвинулся от Доньки, прижался к Марусе и осторожно закинул на нее руку. Она слегка пожала ему пальцы. — Спокойной ночи, — шепотом сказал Слава, обращаясь к одной Марусе. Она не отвечала. — Спокойной ночи, — все так же шепотом повторил Слава, ища своими губами ее губы. Губы были сухие, холодные, она несмело и быстро поцеловала Славу и отодвинулась. — А я сегодня наволочки нам шила, — доверительно прошептала она на ухо Славе. — Оттого и запоздали. Опять где-то неподалеку стукнуло о землю яблоко. — Страшно, — прошептала Маруся. — Чего? — Всего, — сказала Маруся. — Спать в саду. Выходить замуж. — Вздохнула. — Жить страшно. — Ну что ты, — нежно ответил Слава. — Вдвоем не страшно. Маруся больше ничего не сказала, подложила руку Славы себе под щеку и слегка коснулась губами его ладони. А Слава подумал, как сильно он ее любит, и так, с этой мыслью, заснул. Под утро стало совсем свежо, холод его и разбудил. Резкий медовый запах прохладных, остывших за ночь яблок наполнял шалаш. Каждое яблоко теперь, подумал Слава, будет ему всегда, хоть через сто лет, напоминать о Марусе. Маруся спала, натянув на себя одеяло по самый подбородок, Слава оглянулся — Донька спала, закутавшись в армяк, подогнув коленки. Слава осторожно перебрался через Марусю и вышел из шалаша. В мире стояла прозрачная тишина, не слышно ни собак на деревне, ни птиц, ни даже ветерка. Сизое небо низко нависло над яблонями. Он вздрогнул от холода, как если бы капли ледяной воды пробежали у него по спине. Пошел по саду, дошел до связанных из жердей ворот, скинул с кольев лубяное кольцо, толкнул ворота, вышел во двор. Небо лиловело у края земли, предрассветное томление уже охватило землю, утро обгоняло ночь. В избе у Филиппыча горел огонь. «Куда как рано, — подумал Слава. — Не спится мужику, кухарит. Пожалуй, и мне надо сварить кулеш». Подойдя ближе, увидел, что не огонь в печи светится — в оконных стеклах отражалось поднимающееся за бугром солнце. Филиппычу и вправду, должно быть, не спалось, его не было в избе, однако печь топилась, чугунок с картошкой стоял на таганке, и вода в нем уже закипала. Съестные запасы хранились на полке — Слава налил в закоптелую кастрюлю воды, придвинул поближе к огню, посолил воду, насыпал в кастрюлю пшена и принялся нарезать мелкими кусочками сало. И хотя день обещал быть жарким, Славе приятно было тепло полыхающего очага. «Вот и определилась какая-то существенная часть моей жизни, — думал Слава. — Появилась женщина, с которой я буду делить стол и постель, о которой буду заботиться и которая будет заботиться обо мне…» Его размышления прервал Филиппыч, он поставил в угол дробовик, сел на лавку, покрутил колечки рыжих усов и весело подмигнул Славе. — Девки спят, а ты уж на ногах? Валяй, валяй! — Что — валяй! — Бабы это любят. — Что — любят? — Когда им услуживают, только потачку дай, потом уж из их рук не высвободишься. Слава попытался отвлечь его от разговора о девках, кивнул на ружье. — Часто лазают? — спросил он, имея в виду парней из деревни, совершавших время от времени набеги за яблоками. — Совсем не лазают, — уверенно ответил Филиппыч. — Я всей деревне нахвастался, что патроны солью набиты. — Так солью не страшно? — То-то и дело, что страшно, стреляй я дробью, поранить, а то и убить можно, попади в глаз. Ребята лазили, знают, побоюсь в них стрелять. А солью — ништо! Две недели ходи и почесывайся, покуда растает. Я утром сад только для порядка обхожу, посмотреть, где сколько нападало… Он снял с таганка чугунок, слил воду, высыпал картошку в миску, размял толкушкой, налил молока, размешал, поставил на стол тарелку с огурцами. — Бери ложку, — пригласил он Славу. — Такой картошки, как у меня, нигде не попробуешь. — Да нет уж, спасибо, — отказался Слава. — Я с девчатами. Пойду будить. На сковородке поджарил нарезанное сало, вылил в закипающий кулеш. — Старайся, старайся, только… Филиппыч подавился смешком. — Что — только? — Не по себе выбрал кралю. — Добродушная насмешка светилась в глазах Филиппыча. — Давеча проходил мимо шалаша, заглянул, спишь ты промеж девок… Чисто кутенок! Лицо Славы залилось румянцем, он кинулся к двери. — Помешай да сними! — крикнул Филиппычу на ходу. — Я сейчас. Побежал через двор… Солнце поднялось, но трава еще в росе, блестит, точно только что прошел дождик. Перемахнул через изгородь, подбежал к шалашу. — Не стыдно? — кричал он бегу. — Царство небесное проспите! У меня давно завтрак готов… Но в шалаше никого не оказалось, девчата ушли уже в поле, спешили довязать рожь по холодку. Пусто в шалаше, и вдруг как-то пусто стало и на душе у Славы, ему вдруг почудилось, что он потерял Марусю и никогда больше не увидит. 48 В доме Астаховых каждый жил сам по себе. У Веры Васильевны каникулярное время, она шила, читала, посещала больных, когда ее звали, — Покровское, где находится больница, далеко, не наездишься, Вера Васильевна поближе. Но главная забота — будущее ее детей. Слава совсем взрослый, и Петя мужает не по дням, а часам, что-то из них получится, надо устраивать их судьбу. Впрочем, сыновья не очень-то ждали, чтобы кто-нибудь о них позаботился. У Славы время поделено: днем учебники, вечером Маруся. Но и его точило беспокойство, ему было мало того, что он имел: учиться, жениться… Он привык существовать в сфере общественных интересов, тосковал по оставленной работе и не знал, как сложится его будущее. Спокойнее чувствовал себя Петя. Трудился он с утра до вечера, сваливался к ночи как сноп, но когда его спрашивали о будущем, определенно говорил, что никогда не оставит землю. «Пойду в сельскохозяйственный техникум, — говорил он, — поступлю, не поступлю, все равно стану механиком». Но, несмотря на разницу в характерах, Вера Васильевна и ее сыновья держались друг друга. Самый одинокий человек в доме Павел Федорович. Жена женой, но век с ней под одним одеялом не пролежишь. Он занимался хозяйством, но действовал больше по привычке, чем по охоте. Все находилось под должным присмотром, — и кони, и коровы, и свиньи, и всякая птичья живность, то, что делалось на хуторе, тоже не ускользало от его внимания, но жить ему было скучно. Инициатива частного собственника натолкнулась на непреодолимую стену революционного правопорядка, он стукнулся об нее лбом, замер и пребывал теперь в состоянии духовной спячки. А супруга его жила сама по себе, жадностью определялись все ее поступки и чувства; стаз владелицей значительных еще астаховских богатств, она ни с кем и ничем не хотела делиться. Почти не работала ни по дому, ни в поле или в саду, только считала, считала, считала, ходила по амбарам и сараям и все подсчитывала, что ей принадлежит, а принадлежало ей, по ее разумению, все. Завелись у Марьи Софроновны дела на селе. Старую свою избу она сдавала одинокой бабке-бобылке, и к ее делам бабка тоже имела причастность. А когда Павел Федорович поинтересовался, что же это за дела, она так на него цыкнула, что он предпочел больше вопросов не задавать. Особняком держались Федосей и Надежда; у Надежды душа нараспашку, но душа ее принадлежала коровам и свиньям, с животными разговаривала, людей сторонилась, точно что-то знала и боялась проговориться, а Федосей вообще ни с кем не говорил, похоже было, что Федосей с Надеждой собирались от Астаховых отойти. И совсем уж на отлете жил Филиппыч. Хоть он и приходился Павлу Федоровичу двоюродным братом, ему всегда давали понять, что ничто в хозяйстве ему не принадлежит. Разваливающийся дом! Жучок времени подточил бревна, не хватало только толчка, чтобы стены его поползли в разные стороны. Гром грянул среди ясного неба. Не так, чтобы очень с утра, часов в девять-десять, когда с мужиков в поле сошло уже по десять потов, хотя в исполкоме только еще начиналась работа, к Астаховым притопал, припадая на свою хромую ногу, председатель Успенского волисполкома Василий Семенович Данилочкин в сопровождении Дмитрия Фомича Никитина и Егора Романовича Бывшева, нового заведующего волостным земельным отделом. Навстречу вышла Надежда, шедшая к свиньям с двумя ведрами помоев. При виде начальства она испуганно остановилась. — Здорово, — приветствовал ее Данилочкин. — Куда спешишь? — К свиньям, — кратко пояснила Надежда, не отвечая на приветствие. — И то дело, — сказал Данилочкин. — А кто еще дома? — Марья Софроновна, — отвечала Надежда. — Нет, эта нам ни к чему, — сказал Данилочкин. — Покличь-ка хозяина. Надежда поставила ведра перед гостями и кинулась в дом. — Примета хорошая, — сказал Данилочкин. — Встретили с полным, — значит, все будет в порядке. Павел Федорович вышел, застегивая на ходу свою черную тужурочку. — Здравствуйте, гражданин Астахов, — поздоровался и с ним Данилочкин. — Мы по делу. — Да уж вижу, — сказал Павел Федорович. — В гости вы ко мне не придете. — Пришли объявить вам решение уездного исполкома… Дмитрий Фомич полез в боковой карман, достал бумажник, покопался в нем, извлек серенькую бумажку. — Вам известно, что ваша мельница национализирована? — Знаю, знаю, — сказал Павел Федорович. — Давно уже национализирована, еще в восемнадцатом году. — И стоит без толку, — сказал новый заведующий земельным отделом. — Когда-нибудь заработает, — сказал Павел Федорович. — Теперь в Орле много частных владений восстановлено, вернут мельницу и мне. — Нет, не вернут, — сказал Данилочкин. — Но и стоять ей без толку нечего. — Опять собираетесь пускать? — спросил Павел Федорович. — Нет, гражданин Астахов, — сказал Данилочкин. — Можете со своей мельницей распроститься, есть решение уездного исполкома перевезти вашу мельницу в Дросково, завтра за ней приедут, заберут двигатель, жернова… Павел Федорович побледнел. — Шутите? — спросил он. — Кто же позволит разрушать мельницу? — Дмитрий Фомич, объяви! Дмитрий Фомич подал Павлу Федоровичу бумагу. «В целях дальнейшей эксплуатации мельница гр. П.Ф.Астахова, проживающего в с. Успенском на Озерне, передается в распоряжение Дросковского волисполкома, которому обеспечить вывоз…» Все правильно. Даже слишком правильно! — Не отдам, — сказал Павел Федорович. — То есть как это не отдадите? — строго спросил Данилочкин. — Мельница не ваша, вас мы и спрашивать не будем. — Не отдам, — повторил Павел Федорович. Но Данилочкин не собирался долго разговаривать, он не в пример Быстрову не любил эффектных сцен, любил делать все коротко и просто. — Ключи у вас? — спросил Данилочкин. — У меня. — Принесите. Павел Федорович принес ключи, спорить с Данилочкиным бесполезно. — Пройдемте к мельнице… Прошли на огород, отомкнули дверь мельницы, вошли, внутри светло и пыльно, до сих пор пахнет мукой. Данилочкин потрогал дизель, похлопал ладонью по шкиву. — Ремень цел? — Куда ж ему деться? — Не говорите, сапожный товар. На подметки, например. — Цел. — Ваше счастье, а то бы привлекли. Товарищ Никитин, дайте гражданину Астахову расписаться. Дмитрий Фомич расправил бумажку, положил на обод шкива, протянул Павлу Федоровичу карандаш. — Распишитесь, что ознакомлены. — Мгновение Павел Федорович колебался, взял карандаш, — против рожна не попрешь! — побледнел еще больше и расписался. — Точно свой смертный приговор подписываете, — сочувственно заметил Данилочкин. — Нехорошие у вас глаза. — А оно так и есть, — вполголоса согласился Павел Федорович. — Вы мне действительно объявили смертный приговор. В тот момент никто этим словам не придал значения. Вышли снова на огород, Данилочкин позволил Павлу Федоровичу самому запереть все замки, протянул руку. — Позвольте ключики… — Отдал их Бывшеву и тут же вытащил из кармана висячий замок, каким бабы запирают свои сундуки. — А это для верности… — Данилочкин щелкнул замком. — Может, у вас вторые ключи найдутся, недосчитаемся еще чего утром, а за срыв и взлом казенного замка отвечать будете по всей строгости закона. Потом спросил Павла Федоровича об урожае: какие виды на урожай, много ли уродилось яблок, хороша ли капуста… И Павел Федорович отвечал, хоть и рассеянно, но отвечал и о яблоках, и о капусте, и никто не обратил внимания, что он как-то чрезмерно задумчив, как бы не в себе. Вечер тоже прошел обычно, ужинали по своим углам, Вера Васильевна с сыновьями у себя в комнате, Павел Федорович с Марьей Софроновной на кухне, а Федосей с Надеждой и не поймешь где — в закутке у печи, лишь бы не на глазах у Марьи Софроновны. Рано утром Федосей пошел к ригу надергать из омета соломы, рига стояла подальше мельницы, у мельницы ему почудилось, что дверь неплотно прикрыта, толкнул — отперта! Заглянул внутрь и опрометью обратно. Вера Васильевна и Слава еще спали, Петя засветло уехал на хутор. Федосей подергал Славу за ногу. — Чего тебе? Федосей прикрыл ладонью рот и поманил Славу. Но и в сенях ничего не сказал, повел Славу во двор. — Беда, Николаич… — Какая еще беда? — Пойдем! Странный он был какой-то, и Слава без расспросов последовал за Федосеем. Добежали до мельницы. На земле возле двери валялись ломик и замок, петли вырваны, дверь приоткрыта. — Ограбили? — спросил Слава, хотя грабить на мельнице было нечего. — Зайди, — сказал Федосей. Слава распахнул дверь и вошел. Сперва не увидел ничего, на что стоило обратить внимание. Дизель на месте. Через окно вверху проникал солнечный луч и пронизывал все помещение. Он еще раз посмотрел вокруг и увидел над дизелем ноги. На веревке, перекинутой через стропило, висел Павел Федорович. Страха Слава не испытывал, он чувствовал нечто более страшное, чем страх. Кончился дом Астаховых. Навсегда. И для него самого кончился дом Астаховых. Первым порывом Славы было броситься к Марье Софроновне, но тут же подумал, что не очень-то она будет потрясена, прежде всего об этой смерти следовало сообщить Данилочкину. Он так и поступил. — Молчи пока, — бросил Федосею и направился в исполком. До начала работы оставалось еще часа два, но Данилочкин приезжал из своей Козловки задолго до установленного времени. Григорий подметал в канцелярии пол, удивился, увидев в такую рань Ознобишина. — Не спится? — Василий Семенович скоро приедет? — осведомился Слава. — Как знать, может, и скоро, — отвечал Григорий. — Начальство часов не замечает. Слава решил дождаться Данилочкина в исполкоме. Ходил, садился, опять вставал… Скольких людей, которых видел он в этой комнате, уже нет! Степана Кузьмича, Федора Федоровича, Ивана Фомича… — Ты бы поступил к нам в писаря, — сказал Григорий. — Дмитрий Фомич стар, а там, глядишь, сковырнешь и Василия Семеныча. Данилочкин легок на помине. — Вячеславу Николаичу! Что так рано, али случилось что? — Случилось. Он сказал, как прибежал за ним Федосей, что увидел он сам… — Ну, царствие ему небесное, — промолвил Данилочкин. — Оформить надобно по порядку. Послал Григория за милиционером, к тому времени Успенское обзавелось уже своим милиционером. — А тебе, Николаич, посоветовал бы не ввязываться в это дело, — сказал Данилочкин. — Нашел его Федосей, и достаточно, как-никак ты тоже наследник по отчиму, отойди в сторону и да благо тебе будет. И Слава отошел, не потому, что ему, как наследнику, полезнее держаться в стороне, а потому, что не хотелось участвовать в том, что должно вскоре начаться в доме. Вернулся он домой за полдень. Павел Федорович лежал в передней комнате на столе, желтое его лицо тонуло в кисее, взбитой на подушке. Слава с минуту постоял, простился с Павлом Федоровичем, человек хоть и сломленный, но не такой уж плохой. Вера Васильевна сидела у себя, убитая, расстроенная, вспоминала о девере только хорошее, ничего не могла понять. — Почему он так? — встретила она сына. — Неужели ему так дорога была мельница? — Не в мельнице дело, мамочка, — укоризненно сказал Слава. — Дела для него не осталось на этой земле. Зато чрезмерную активность проявляла Марья Софроновна. Время от времени начинала рыдать, рыдала на всю округу, рыдание переходило в вой, после чего на время стихала; напялила на себя зеленое атласное платье, ходила по всему дому; набежавшие со всего села бабы толпились и в комнатах, и в кухне, и во дворе, Марья Софроновна посылала одну туда, другую сюда, позвякивала ключами, ключи не доверяла никому, если требовалось пройти в чулан или погреб, сама сопровождала посланную, собиралась похоронить мужа по первому классу, а поминки справить такие, чтобы всем утереть нос. Однако с похоронами возникла заминка, отец Валерий отказался отпевать Павла Федоровича — самоубийца. Марья Софроновна заметалась, никто и на поминки не придет, если покойника не похоронят по православному обряду. Кто бы смог воздействовать на упрямого попа? — Вячеслав Николаевич! Вы же нам не чужой, Павел Федорович вам какой-никакой, а дядя, не отпоем в церкви — сраму не обобраться, поговорите с этим длинноволосым, вы с его Нинкой и Сонькой шуры-муры крутили, вам не откажет… Но Слава лучше Марьи Софроновны знал, как упрям отец Валерий, принципиальный поп, подкупить его невозможно. — Ничего вам не обещаю… Марья Софроновна опять ударилась в слезы. — Чего она от тебя хочет? — спросила Вера Васильевна. Слава рассказал. — Надо сходить, Слава, должен понимать, что такое в деревне закопать покойника без попа. Отец Валерий вышел к Славе в рубахе навыпуск, в голубых ситцевых подштанниках, заправленных в сапоги, только что оторвался от своих двух ульев, стоявших у него на огороде меж огурцов. — Чем могу служить? Знал, зачем пришел Слава. — Вы же понимаете, отец Валерий… Но и ломаться отец Валерий не любил. Тем более что отношения у него с Павлом Федоровичем были хорошие, тот не один раз выручал его, когда отец Валерий приходил одолжить вощины, семян, а то и денег. — Не положено по церковным правилам, да уж куда ни шло! Есть такое разрешающее указание, если человек наложил руки в умоисступлении, так сказать, духовный обряд может быть совершен, в данном случае петлю накинул не столько он сам, сколь власти предержащие. — А он и был в умоисступлении, — подтвердил Слава. — Какой же нормальный человек добровольно полезет в петлю? — Ну, раз вы это подтверждаете, — согласился отец Валерий, — так тому и быть. Накануне погребения гроб с Павлом Федоровичем отнесли в церковь, и с вечера в доме пошел дым коромыслом, резали кур и гусей, закололи свинью, варили, жарили, парили, у самогонщиков купили самогону, словом, жри — не хочу, пей — не могу, не посрамила Марья Софроновна фамилии Астаховых. Собралась утром в церковь и Вера Васильевна; Петя отсутствовал, Филиппыч пришел на похороны, и кому-то надо было оставаться на хуторе, Слава сидел дома, идти в церковь не собирался. Вера Васильевна все-таки позвала Славу: — Ты идешь, Слава? — Нет. — Неудобно как-то, тем более к тебе Павел Федорович относился совсем неплохо. — Нет, — решительно повторил Слава. — Хватит с меня церквей! Павлу Федоровичу на все уже наплевать, а тешить людей я не хочу. — Глупая принципиальность. — Пусть глупая, но принципиальность. Он так и не пошел на похороны, делать ему там нечего, ушел к Марусе, останься он дома, его могли, не дай бог, затащить на поминки. Позже Вера Васильевна рассказывала: когда гроб с телом Павла Федоровича вынесли из церкви, чтобы нести на кладбище, мимо церкви ехали дросковские подводы с частями разобранного двигателя… 49 После смерти Павла Федоровича события в доме Астаховых развивались более чем стремительно. Утро началось поздно. Дневной свет лениво просачивался в сени, заставленные скамейками и столами. Раньше всех выползла в сени Надежда. Весь дом спал. Убрала со столов, а столы одной не вынести. Сходила, растолкала Федосея. Тот не пил, не охоч был до самогона, но и он опрокинул стакан на помин души хозяина. Вышла в кухню Вера Васильевна, умылась и опять ушла к себе. Что-то изменилось и в ее жизни со смертью Павла Федоровича, а что — она не могла понять. Вышел Слава, брезгливо посмотрел на разгром и ушел из дома. Наконец, щуря заспанные глаза, вышла Марья Софроновна. — Надежда! А чего звать! Надежда стояла у печки, дожевывала объедки. — Надежда, — приказала Марья Софроновна, — пересчитай все стаканы, все вилки, все ножи, на гостей теперь надежа плохая, может, и унесли чего. — Села на лавку, задумалась, опять вздохнула. — Пожарь яишню, что ли, — приказала Надежде. — Да рассольчику принеси… — И вдруг закричала, никого не стесняясь, ни на кого не обращая внимания: — Костя! Костя! Где ты там? Иди сюда, Константин! Ей пришлось-таки покричать, покуда в кухне не появился Костя Желонкин. Высокий молодой парень с русыми кудрявыми волосами, он появился на пороге и несмело остановился, поглядывая на Марью Софроновну. Парень как парень, жил со своей маткой-бобылкой в невзрачной избенке, обрабатывал помаленьку свой надел да плотничал временами у соседей, подрабатывал на табак. Когда и где стакнулась с ним Марья Софроновна, так и осталось тайной, их даже рядом никогда не видали, на поминки пришел вместе с другими гостями, скромно ел, скромно пил, и никто не заметил, как Марья Софроновна оставила его ночевать. Неловко ему было, замечали все в первые дни, но самой Марье Софроновне на это было ровным счетом начхать. Костя моложе своей сожительницы лет на десять, но и это ее не смущало, она вела себя так, точно ей все можно и все хорошо. — Садись завтракать, — приказала она Косте. — Привыкай. После завтрака двинулась по хозяйству, осмотрела коров, лошадей, свиней, пересчитала птицу, обошла сараи и амбары, пересчитала, тут уж сбиться со счету нельзя, все прикидывала, примеряла. Послала на хутор Федосея: — Здесь и без тебя обойдемся, одному Филиппу с молотьбой не управиться. Обстоятельно проинструктировала Надежду, как и чем кормить живность, сколько кому сена, жмыхов, отрубей. Косте велела поправить крыльцо, подколотить у свиней корыто, разобрать ненужную конуру. Дня три все приглядывалась, примеривалась, на что-то нацеливалась. Пошла к Вере Васильевне. Села. Поздоровалась. Хотя с Верой Васильевной в этот день встречалась уже раза три. — Как же вы располагаете дальше жить? — Я не понимаю вас, — отвечала Вера Васильевна. — Интересуюсь, не надоели ли гостям хозяева? Делать вам в этом доме больше нечего, пора и честь знать. Вера Васильевна попыталась себя отстоять: — Извините, но я тоже имею какие-то права. Мой муж — брат вашего мужа, здесь ему тоже что-то принадлежит. Странно лишать меня крыши над головой! — Ничего вашему мужу здесь не принадлежало, — нахально заявила Марья Софроновна. — Все здесь заработано трудом Павла Федоровича, а я была ему верная помощница, и ежели он вас из сожаления содержал, то я этого делать не намерена. — Довольно странно… — растерянно сказала Вера Васильевна, она и вправду не знала, что делать. Зато Марья Софроновна все продумала и знала. — Судиться вздумаете — вовсе ничего не получите. Мы еще не знаем, по какой причине бежали вы из Москвы, может, вы каких капиталов лишились, что даже вспоминать боитесь! «Куда же мне идти?» — размышляла Вера Васильевна. Можно попросить Славу поговорить в исполкоме, но ей не хотелось вмешивать в семейные дрязги сына. Он коммунист, ему не пристало встревать в спор об имуществе. Однако надо же где-то жить. Ах, как не хотелось ей ввязываться в дележ астаховского наследства. Однако она не могла не сказать своей собеседнице: — Вы действуете совершенно, как леди Макбет, но живем-то мы с вами в советское время? Но Марью Софроновну ничем нельзя озадачить. — Не знаю, о ком вы, но Советской властью меня стращать нечего. Я трудящая женщина и знаю свои права, а кто вы, мы это еще посмотрим… — Она приподнялась со стула, уверенная в себе вальяжная женщина, обдернула платье и величественно посмотрела на невестку своего мужа. — Вот что, слушайте, дам я вам сарай, тот, что с сеном, — и все. Хотите, берите по-хорошему. Продадите его или что, а здесь вам делать больше нечего. Вера Васильевна задумалась. — Когда же нам уезжать? — Завтра, — отрезала Марья Софроновна. — Неужели вы думаете, что я буду вас кормить даром? — И проявила великодушие, дала отсрочку: — Через три дня. И хотя она отказала Вере Васильевне и ее сыновьям в жилье, это не помешало ей часом позже позвать Петю: — Запряги лошадь и поезжай на хутор, привези мне сюда Филиппыча, скажи, хозяйка велела. Петя съездил, привез. Филиппыч удивился, что его отрывают от дела — вместе с Федосеем налаживал молотилку, но подчинился. — Вот что, Филипп, больше ты мне не нужон, — объявила она. — Даю тебе три дня, собери свои вещички и иди. — Куда? — А куда знаешь! Не нуждаюсь я больше в тебе, за хутором у меня Костя приглядывать будет. — Ты соображаешь, что говоришь? — обиделся Филиппыч. — Весь хутор на мне держится, а ты… — А теперь не будет держаться, — заявила Марья Софроновна. — Скатертью дорога, можешь на дорогу яблок взять сколько осилишь. Филиппыч не стал препираться и прямым ходом отправился в исполком. — Куда ж это годится? Взбесилась баба! Я на Астаховых не один год горб ломаю, а эта… без году неделю в доме и уже гонит из него всех? Филиппыч не бывал в исполкоме, никого в нем не знал, но Данилочкин встретил его сочувственно. Данилочкин всегда бывал в курсе всех новостей, выслушал Филиппыча и велел возвращаться в Дуровку, никуда не отлучаться и ждать вызова. Позвал Терешкина, служившего секретарем в земельном отделе, и послал к Марье Софроновне: — Передай этой помещице, на днях разберем ее дело на земельной комиссии, а до тех пор пусть не самоуправничает. На заседание вызвали Марью Софроновну, Веру Васильевну и Филиппа Ильича. Все Астаховы и все друг другу не родня. Не хотелось идти Вере Васильевне, но шутить с Данилочкиным тоже нельзя, он строго-настрого предупредил ее через посыльного, чтобы она не вздумала отсутствовать. Пошел с матерью и Слава, знал, что мать растеряется, что такие разбирательства ей не по нутру, своим присутствием хотел облегчить ей участие в этой неприятной процедуре. — Марья Софроновна Астахова? Здесь. Вера Васильевна Астахова? Здесь. Филипп Ильич Астахов? Здесь. Можете садиться. Волостная земельная комиссия приступает к рассмотрению вопроса о разделе имущества, оставшегося после гражданина Астахова Павла Федоровича… Слава отделился от стены, подошел к столу комиссии. — Позвольте мне заменить мать, — обратился он с просьбой. — Самой ей не хочется участвовать в этом споре. Славе тоже не хотелось участвовать в предстоящем споре, но еще больше хотелось избавить мать от возможных оскорблений со стороны Марьи Софроновны. — Это еще чего? — рассердился Данилочкин. — Товарищ Ознобишин, идите-ка на свое место. Ваша мать не какая-нибудь неграмотная баба, а у-чи-тель-ни-ца! Вам понятно? Может постоять за себя, а вы здесь человек посторонний. Дмитрий Фомич положил перед Данилочкиным список. — По описи волземотдела за гражданином Астаховым числятся: дом в селе Успенском, два сарая, два амбара… Последовало подробное перечисление всех построек и скота в хозяйстве Астаховых. Данилочкин ткнул пальцем в сторону Марьи Софроновны: — Какие у вас пожелания, гражданка Астахова? — Нет у меня никаких пожеланиев, — отвечала та. — Как я есть полноправная жена, прошу охранить меня от этих коршунов… — Бросила злобный взгляд на Филиппыча, на Веру Васильевну. — Я, может, этого дня двадцать лет ждала… — Не могли вы ждать двадцать лет, — оборвал ее Данилочкин. — Потому как вследствие маловозрастности не могли вы двадцать лет назад быть в каких-нибудь сношениях со своим мужем. Данилочкин испытующе посмотрел на ответчиков. — А вы, гражданин Астахов, что скажете? — А чего говорить? — сказал Филиппыч. — Вот я действительно двадцать лет трублю у Астаховых, гоняли меня и в хвост, и в гриву, хутор-то, почитай, только благодаря мне и сохранился, так как вы полагаете, неужели я за свой труд не заработал избу с коровой? — Как мы полагаем, мы еще скажем, — ответил Данилочкин. — Но, промежду прочим, отмечу, что каждый участник хозяйства, вложивший в него свой труд, имеет право на свою долю. Слава вновь отошел от стены, вспомнил вдруг Федосея, уж если кто и вкладывал свой труд… — Позвольте… — Ну чего вам еще, товарищ Ознобишин? — с раздражением перебил его Данилочкин. — Негоже вам ввязываться в этот спор! — Да я не о матери, — с досадою произнес Слава. — У Астаховых в прямом смысле есть батраки, Федосей и Надежда чуть не двадцать лет трудятся в этом хозяйстве, они-то уж действительно вложили в него про рву труда… — Это вы правильно, — немедля согласился Данилочкин. — Наше упущение, их тоже следует вызвать, как их фамилия? Слава не знал ни их фамилии, ни отчества, Федосей и Федосей, Надежда и Надежда… Послали за Федосеем. Данилочкин только хмыкнул при виде чудища с волосами. — Вы кто есть? — Мы — работники. — У кого работники? — У покойника. — Какого еще покойника? — У покойника Павла Федоровича жили в работниках, а сейчас у ихней супруги. — Давно? — Да, почитай, с двадцать годков. — Так вот, коли ваш бывший хозяин скончался, имеете ли вы какую-нибудь претензию на его имущество? — Какую ж пре… Хлеб нам еще за этот год должны. — Вас как зовут? — Федос. — А полностью, полностью — имя, фамилия, отчество. — Федос Сорока. — А по отчеству? Федосей ухмыльнулся. — А по отчеству нас не зовут. — А все-таки? Федосей снова ухмыльнулся. — Прокопьев… — Так вот, гражданин Сорока Федосей Прокопьевич, ваш бывший хозяин, гражданин Астахов, скончался, имеете ли вы к нему какую-либо претензию? — Я ж сказал, — сказал Федосей. — Хлеб он еще мне с женой должен. — Вы должны ему хлеб? — Данилочкин повернулся к Марье Софроновне. — Ничего я ему не должна, мало ли чего люди выдумают! — Побойся бога! — Федосей даже руками всплеснул. — Не знаешь — не говори… — Испугал ты ее богом! — Данилочкин опять хмыкнул и обратился к Филиппычу: — А вы чего просите? — Ну, хоть амбар какой, сторожку в Дуровке, — попросил Филиппыч. — Куда ж мне деваться? И корову, — добавил он. — Хоть черную. Она хоть и яловая, я возьму. — Ничего я ему не дам! — закричала Марья Софроновна. — Так любой потребует… — А вы не кричите, мы не глухие, — оборвал ее Данилочкин и обратился затем к Вере Васильевне: — А вы, гражданка Астахова, что должно прийтись на вашу часть? 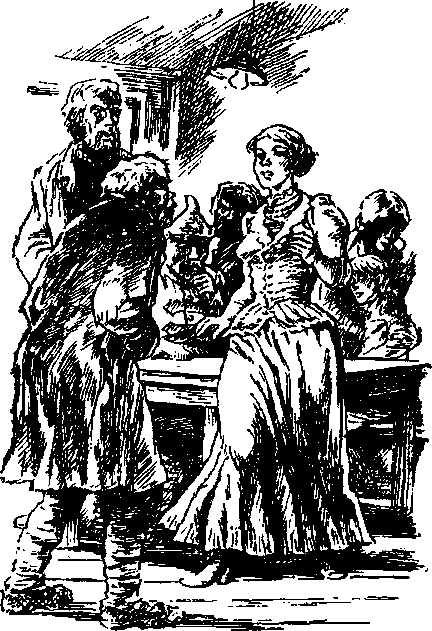 Ох как хотелось Славе ответить вместо мамы: да пропади они пропадом, все эти сараи и амбары, ничего нам не нужно, проживем без астаховских хором, заработаем себе на жизнь сами! Понимал, маме трудно спорить, если она и попросит чего, сделает это ради Пети… — Ничего, — тихо произнесла Вера Васильевна. — Я ни на что не претендую. — То есть как ничего? — изумился Данилочкин. — У вас законное право, ваш покойный муж такой же совладелец, а младший сын тоже имеет право на долю, он вложил в хозяйство немало труда. — Я понимаю, — тихо, но настойчиво повторила Вера Васильевна. — Но ни мне, ни моим сыновьям ничего не надо, я — учительница, в хозяйстве я не работала, а сын мой не хотел есть хлеб даром… — Вы все-таки подумайте, — еще раз сказал Данилочкин, — это называется… Как это называется? — обернулся он к Никитину. — Широкими жестами, — подсказал тот. «Сейчас мама сдастся, — подумал Слава, — согласится что-нибудь взять, чтобы обеспечить нас на первое время». Но Вера Васильевна не сдалась. — Нет, — сказала она. — Я от всего отказываюсь. — Вы это заявляете твердо и решительно? — еще раз спросил Данилочкин. — Это называется… — Твердо и решительно, — повторила Вера Васильевна. — Ни мне, ни моим детям не нужно того, что мы не заработали. — Пенять потом будете на себя… Члены комиссии склонились над списком. — Ну вот что, волостная комиссия… — начал было Данилочкин, но Дмитрий Фомич потянул Данилочкина к себе и зашептал что-то на ухо. Данилочкин согласно кивнул. — Решение волостной земельной комиссии будет объявлено завтра, — объявил он. — Кто интересуется, может сюда прийти. На том судоговорение закончилось, а утром Данилочкин огласил решение: принимая во внимание долголетнюю работу Астахова Филиппа Ильича в хозяйстве, отписать на его имя все постройки на хуторе при деревне Дуровке, одну корову и одну лошадь; сад, имеющий промышленное значение, из частного владения изъять и передать в пользование Дуровскому сельскому Совету; Сороке Федосею Прокопьевичу совместно с женой Надеждой Кузьминичной в возмещение долголетней работы в качестве наемных рабочих выделить из построек, находящихся в селе Успенском, один амбар, расположенный рядом с пасекой, и одну корову; гражданке Астаховой Вере Васильевне, вследствие ее отказа от имущества, ничего не выделять; остальные постройки и скот, находящиеся в селе Успенском, переходят в собственность Астаховой Марьи Софроновны. — Правильно говорят, что вы грабительская власть, — заявила Марья Софроновна. — Придется вам на том свете горячими угольками подавиться! — Гражданка Астахова, призываю к порядку! — грозно прикрикнул на нее Данилочкин. — Не забывайтесь! — С вами забудешься! — продолжала Марья Софроновна. — Испугалась я тебя, старый хрен! — Вы оштрафованы! — завопил Данилочкин. — Штрафую вас на десять пудов ржи! Марья Софроновна ничего больше не высказала в исполкоме, а то и вправду оштрафуют на десять пудов, рванула на улицу так, что задрожали двери, а выбежав наружу, запустила такую матерщину, что даже Филиппыч крякнул от удивления. Но этим ее неприятности не закончились. — Эй, Машка! — заговорил с ней без обычной почтительности Филиппыч. — Заруби себе на носу: ко мне в Дуровку ни ногой, делать тебе там больше нечего! Марья Софроновна задохнулась: — Так это ж моя имения! — Твоя имения у тебя под подолом, а все остальное — общественная собственность! Вне себя она бросилась в дом. — Вы! — объявила она Вере Васильевне, шипя от злости. — Слышали? Вашего тут ничего нет, убирайтесь куда хотите, а не то Коська выкинет! Слава растерялся — идти просить помощи у Данилочкина? Но Вера Васильевна сама нашла выход, посоветовалась с Зерновым, зашла к почтмейстерше, у той пустовала комната, и хотя почтмейстерша могла при случае и выгодно продать, и выгодно купить, на этот раз, прослышав о том, что Вера Васильевна вынуждена уйти из дома, сдала комнату за божескую цену. Сыновья перетащили вещички, перенесли из астаховского дома кровать, диван, несколько стульев, и Марья Софроновна не сказала по поводу вещей ни слова. Не у дел очутился Петя, не на кого стало работать. Положение спас Филиппыч. — Одному мне не справиться, пока не женюсь, — сказал он Пете. — Живи пока на хуторе, за работу я расплачусь, обеспечу вас с матерью и яблоками и капустой на всю зиму. Услышав о переезде, Данилочкин вызвал Славу. — Передай матери, пусть не волнуется, — сказал он. — Пусть не бросает школу, обеспечим ее дровами. Но больше всего Славу удивил Федосей. Когда ему объявили, что исполком присудил Сорокам амбар и корову, он никак не мог сразу взять это в толк. Наконец до него дошло. Два дня он ходил возле выделенного амбара, все что-то вымерял, присматривался. Спросил Марью Софроновну, какую из трех коров она отдает. Марья Софроновна указала на черную, яловую, облюбованную Филиппычем. Коня, на котором Слава и Петя приехали из Малоархангельска, Федосей держал у соседей и раза по два в день приносил актированному коню свежескошенной травы, а то так и чуток овса, если удавалось отсыпать от хозяйских лошадей. И вот в ближайшее утро Федосей исчез. Марья Софроновна не нашла на кухне Надежды, а затем не доискалась и Федосея. Вечером были дома, а утром не стало. Вместе с ними исчезли и черная корова, и серый конь. Но самое удивительное заключалось в том, что исчез амбар. На месте амбара зияла черная прогалина. Когда и как Федосей успел разобрать и вывезти амбар, так и осталось загадкой. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал, и куда уехал — тоже никто не знал. Дом Астаховых кончился. 50 — На дворе август, — напомнила Вера Васильевна. Слава и сам знал, что на дворе август. — Ты куда собираешься? А вот этого Слава не знал. На дворе август, а из укомпарта ничего. Слов на ветер Шабунин не бросает, но… Забыл? Дел у него невпроворот, что ему Ознобишин! А напомнить о себе не позволяло самолюбие. Почта стояла на пересечении дорог, от церкви к реке, от волисполкома к Народному дому, посетители редко заходили в Успенское почтовое отделение. Почтмейстерша копалась в огороде, Петя помогал Филиппычу на хуторе, в доме царила тишина, и ничто не мешало разговорам Веры Васильевны со Славой. О чем она говорила с сыном? О будущем? Каким-то оно будет? Одно лето, а как неодинаково шло оно, это лето, даже для одной семьи. Петя весь в круговороте полевых работ, трудится с охотою, особенно после того, как хозяином хутора стал Филиппыч, держится с Петей, как с ровней, да еще обещал осенью, после обмолота, расплатиться полной мерой, по совести, и Петя старается, на один мамин заработок зиму не проживешь, в чем-то Петя старше Славы, на собственном опыте узнал цену тяжелого крестьянского труда. Вера Васильевна тоже готовится к зиме, никаких программ из Наркомпроса не присылают, а Зернов требует от нее «программу занятий», книжек надо достать для чтения в классе, помещичьи библиотеки разошлись по рукам, истреблены по невежеству, но кое-где книги сохранились, и с помощью учеников Вера Васильевна находит в избах томики Малерба, Мольера, Монтескье, хотя один бог ведает, для чего нужен ей Монтескье. Надо подумать и о том, во что одеваться и чем питаться, кое-что перешить, а кое-что и купить, хотя покупательские способности Веры Васильевны весьма ограниченны, надо достать бочку, чтоб наквасить капусты, сварить банку-другую варенья, да мало ли чего еще надо, что поминутно вспоминается и что невозможно запомнить. Покинув астаховский дом, Вера Васильевна повеселела, жить хоть и труднее, но теперь ей уже не приходится смотреть на жизнь из-под чьей-то руки, приходится надеяться лишь на самоё себя, и от этого больше в себе уверенности. Что касается Славы… Чудное у него лето, из одной колеи выбился, а в другую не попал. Он привык работать для общества, а этим летом приходится работать только на себя. Вернулся из Малоархангельска и сразу почувствовал себя не в своей тарелке, от него отвыкли в Успенском, Ознобишин в Успенском теперь хоть и не чужой, но и не свой. А Данилочкин твердит одно: — Учись, учись. В Успенское приехал инструктор укомпарта Кислицын, Слава встречался с ним в Малоархангельске. Пожилой и неразговорчивый Кислицын до того, как перейти на партийную работу, служил землемером, в укомпарте занимался вопросами сельского хозяйства. Как-то вечером, вернувшись домой, Слава увидел Кислицына с почтмейстершей на скамейке у входа на почту. — Ба, кого я вижу! — воскликнул Кислицын. — Товарищу Ознобишину привет! — Вы ко мне? — Нет, нет, приехал по поводу уборочной кампании, а сюда попутно зашел, узнать, как работает почта. Судя по истомленному виду почтмейстерши, Кислицын замучил ее расспросами. — А как ты поживаешь, товарищ Ознобишин? — поинтересовался Кислицын и похлопал ладонью по скамейке, приглашая Славу сесть. Разговорчивостью Кислицын не отличался, а тут вдруг засыпал Славу вопросами: как живет, как относится к нему волкомпарт, не загружают ли поручениями, готовится ли в университет… Вера Васильевна позвала пить чай, Кислицын отказался: — Благодарствуйте, пора в исполком, и так задержался, вижу, товарищ Ознобишин идет, ну как не поговорить… Слава, однако, в случайность встречи не поверил. — А вам ничего не говорили обо мне в укоме? — спросил Слава. — Относительно путевки там или еще чего? — Чего не слышал, того не слышал. Просто думаю, что тебе сейчас самое святое дело — учиться. Кислицын зашагал к волисполкому, а Слава остался сидеть на скамеечке. Время шло, а Слава все не мог решить, кем ему стать — дипломатом или адвокатом, или же, как советовал, Шабунин, идти во врачи. Не оставляла его в покое и Вера Васильевна: — Слава, иди пить чай! — Ах, мамочка… Придвигала кружку с молоком. — Ты же звала пить чай? — Молоко полезнее. Слава подчинялся, пил молоко, топтался возле вешалки, потом решительно надевал куртку, ночью бывало прохладно, особенно если они с Марусей проводили ночь на берегу Озерны. Вера Васильевна обязательно спрашивала: — Ты к Марусе? — А куда ж еще, — неизменно отвечал Слава. — Ах, Слава, — вздыхала Вера Васильевна, — тебе надо готовиться. Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. — Считаешь меня стрекозой? — Я беспокоюсь о тебе. — А ты не беспокойся. — Надо думать о своем будущем. — О моем будущем позаботится укомпарт. — Тебя там забыли… Мама права, соглашался про себя Слава, и шел к Марусе. Она его хоть и ждала, но не сидела без дела, когда он приходил, она или доила корову, или вместе с отцом готовила резку для скота, или прибирала в сенях, но приближение Славы угадывала, выбегала навстречу, звала в избу, ставила перед ним крынку с молоком. — Попей парного. Слава отказывался, Маруся обижалась: — Гребуешь? В угоду Марусе он снова пил молоко. Потом уходили через конопляник в поле, сидели где-нибудь на меже или спускались к реке, искали место потемнее, прятались в тени ракиты, плеск реки заглушал голоса, и все равно старались говорить шепотом. Слава несмело целовал Марусю в щеку, в шею, целовал руку, руку она отдергивала, потом сама целовала в губы, у Славы кружилась голова, но Маруся вдруг отстранялась, — только что они гадали, долетят ли когда-нибудь до Луны люди, — и строго спрашивала: — К экзаменам готовишься? — Готовлюсь, — сердито отвечал Слава. — Ты уж постарайся, — повторяла Маруся. — Не то провалишься… Славе становилось скучно, он сам отодвигался от Маруси — она будет поить его молоком и заставлять учиться. Становилось прохладно, они снова прижимались друг к другу, на мгновение тьма становилась непроницаемой, и вдруг черное небо делалось серым, по воде ползли беловатые клочья тумана, начинала посвистывать невидимая птица, и Маруся серьезно говорила: — Пора, скоро корову выгонять, а ты поспи и садись заниматься, на дворе август… Маруся повторяла Веру Васильевну. Слава шел домой, сперва вдоль Озерны, потом поверху, — туман рассеивался, все в природе обретало истинный цвет, голубело небо, зеленела трава, сияла киноварью крыша волисполкома. Вот и почта, временный его дом, дверь в контору заперта двумя болтами, не выломать никому, почтмейстерша блюдет порядок, зато оконные рамы распахнуты, залезай и забирай хоть всю корреспонденцию. Слава влез в окно и тихо прошел на жилую половину. В комнате тишина. Петя посапывал на коечке у стены, пришел на ночь домой, и мама тоже как будто спала. Слава осторожно сел за стол, спать не хотелось, придвинул учебники — надо наверстывать время, потраченное на прогулки при луне, — эх вы, синусы-косинусы… Но мама, оказывается, не спала. — Выпей молока, — вполголоса сказала Вера Васильевна. — Поспи и берись за учебники. «О, господи…» — мысленно простонал Слава. — Хорошо, — ответил он матери. — Я не хочу молока, я не хочу спать, ты же видишь, я занимаюсь. Через полчаса он все-таки лег, не слышал, ни как встала Вера Васильевна, ни как уходил на хутор Петя. Его разбудило постукивание каких-то деревяшек… Слава прислушался. Постукивал кто-то в конторе. Голосов не слышно, Анна Васильевна копалась в огороде. Слава выглянул за дверь. Григорий. — Где почтмейстерша? — спросил он. — Да не ищи, не ищи ее, я за тобой, Дмитрий Фомич послал… — Случилось что? — Бумага пришла для тебя… Слава стремглав побежал в исполком через капустное поле. Дмитрий Фомич со значительным видом вручил Славе пакет: — Вячеславу Николаевичу Ознобишину из укомпарта! Нет, не забыли его, Афанасий Петрович хозяин своему слову! Путевка. Направление в Московский государственный университет. И записка: «…задержали путевку в губкоме. Собирайся! Опоздание на несколько дней не имеет значения, место забронировано, ты послан по партийной разверстке. Факультет соответствует особенностям твоего характера. Вспомни наш разговор: политика — коварная профессия… С ком. приветом…» «Последний привет от Шабунина, — думает Слава. — Теперь он окончательно отпускает меня от себя». — Вызывают на работу? — поинтересовался Дмитрий Фомич. — Посылают учиться… Слава побежал к Вере Васильевне. — Мама, еду в Москву! — А куда? — На медицинский! — Ты рад? — Не знаю. — А я рада. Такая хорошая профессия… Начались сборы. А какие сборы? Выстирать и погладить две рубашки, начистить сапоги да лепешек на дорогу напечь? Слава заторопился к Марусе. — Уезжаю! Маруся вздрогнула. — О-ох!… И больше ничего. Долго сидели молча. Сказать надо было много, а слов не находилось. Марусе не хотелось оставаться одной, а Слава рвался уже в другой мир. Вечером об отъезде брата узнал Петя. — Опять бросаешь нас с мамой? — пошутил он. — Смотри не пропади… Всю ночь Слава проговорил с матерью. Он возвращался в знакомую Москву и в то же время в Москву, которой не знал, где еще нужно отыскать свое место. Московский университет. Сколько поколений Ознобишиных вышли из-под его сводов! Как-то встретит он Славу? Где остановиться? Вера Васильевна давно не писала деду, и дед не писал дочери. Жив ли он? Идти за помощью к Арсеньевым не хотелось, да и не пойдет он к ним. Николай Сергеевич Ознобишин не одобрил бы сына, если бы он прибегнул к протекции. А как быть самой Вере Васильевне? Пете тоже надо учиться. Вера Васильевна начала припоминать. Нашелся родственник в Петровской академии. Илья Анатольевич. Профессор. Надо зайти к нему, посоветоваться. Да и самой Вере Васильевне мало смысла оставаться в деревне. Зернов часто дает понять, что иностранные языки крестьянским детям ни к чему, умели бы пахать да косить, французский язык — это язык русских аристократов. Да и невозможно вечно находиться в зависимости от Анны Васильевны. Пусть Слава сходит в школу, где преподавала Вера Васильевна. Частная гимназия Хвостовой. Теперь она, вероятно, тоже называется школой второй ступени. Если ее возьмут обратно, Вера Васильевна вернулась бы… Порешили на том, что Слава едет к деду, в общежитие проситься не будет, а на будущее лето Вера Васильевна и Петя тоже переберутся в Москву. Утром надо было идти искать лошадь. Просить Данилочкина? Гужевая повинность отменена, своих лошадей исполком не имеет, только затруднять просьбами. Марью Софроновну просить бесполезно. У Филиппыча обмолот, неудобно… Слава вспомнил о Денисовых и поймал себя на мысли о том, что в разговорах о Москве Вера Васильевна и сам Слава обошлись в будущей жизни без Маруси. Неловко стало Славе в душе… Днем зашел к Марусе. — У кого бы нанять лошадь? — Подожди… Она нашла во дворе отца, поговорила, вернулась. — Я сама отвезу тебя. — Ты не обернешься за один день. — Переночую на станции. — Может, захватим Петю? — Нет, я одна. Одна хочу проводить тебя. Вторую половину дня Слава ходил по знакомым и прощался. Ничто не изменилось в исполкоме за пять лет, Данилочкин сидит за письменным столом Быстрова, на том же обтянутом черной кожей диване, разве что кожа еще больше пообтрепалась и стерлась, по-прежнему сидит за своим дамским столиком Дмитрий Фомич. Но душа у волисполкома другая, нет уже сквозняков, окна закрыты, все спокойно, уравновешенно, прочно. — Улетаешь? — спрашивает Дмитрий Фомич. — Ушел Иван Фомич, улетаешь ты… — Не тревожься за мать, — утешает Славу Данилочкин. — Поддержим… На заре к почте подъезжает Маруся. Гнедая денисовская кобылка запряжена в легкие дрожки, Маруся в материнском плисовом жакете, для Славы на случай дождя брезентовый плащ. Вера Васильевна видит в окне Марусю. — Уже! Долгие проводы — лишние слезы. Мама ничего не говорит. Держит себя в руках. Будит младшего сына. — Петя, Слава уезжает! Петя вскакивает, он привык рано вставать. Слава обнимает мать, брата, выходит из дома, секунду колеблется и, хотя мама смотрит в окно, целует Марусю в щеку. Она вопросительно взглядывает на Славу: — Поехали? Мягким движением отдает вожжи Славе и уступает место перед собой. Ничего не сказано, они даже не думают об этом, но в этом движении исконный уклад деревенской жизни, женщина уступает мужчине первое место: ты хозяин, ты и вези. Не успевает Слава сесть, как лошадка срывается с места, а он еще подергивает вожжами: скорее, скорее — это он тоже не осознает, спешит оставить Успенское. Капустное поле, церковь, погост… Многое он здесь оставляет! Здесь в школе возле церкви впервые увидел Степана Кузьмича, здесь неустрашимый Быстров спас дерзкую бабенку от озверевших мужиков, здесь хоронили Ивана Фомича, здесь, на ступеньках школы, они, первые комсомольцы, мечтали о необыкновенном будущем… Простите меня! Побежали орловские золотые поля… Далеко, в голубой бездне, курчавые облака. Барашки. То несутся, то замедляют бег. Сизые, лиловатые, белые. Собьются в отару, закроют солнце и опять разбегутся. Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы… — Не нужно стихов, — говорит Маруся, — своих слов, что ли, у тебя нет? А ведь такие хорошие стихи, думает Слава. Но Маруся почему-то не в настроении. Впрочем, понятно почему. Но зачем растравлять себе душу? Кобылка бежит с завидной лихостью. Сыта, ладна, ухожена. Бежит себе, только пыль из-под копыт. По обочинам зеленая травка ковриками скатывается в канавы. Не так-то уж она гладка, полевая дорога, не так легка, как кажется… Бежит себе кобылка, бежит, легко у Славы на сердце, мысли спешат все дальше и дальше, он уже видит московские улицы… Ничего он не видит! Чертово дерево, откуда оно только взялось? Черное, искореженное, сожженное молнией. Слава не заметил, как шарахнулась лошаденка, как занесло дрожки, и заднее колесо увязло в канаве. — Стой! А кобылка сама остановилась. Маруся засмеялась: — Цел? Соскочили с дрожек, Слава злится, а Маруся смеется: — Колесо-то цело? Слава склонился к колесу. — Посторонись… Маруся ухватилась за дрожки и вытолкнула на дорогу. Он кинулся на помощь. — Да все уж… — Не заметил даже, как случилось, — виновато пробормотал Слава. — Откуда только эта коряга взялась… Нет, не годится он ей в мужья! — Оно так всегда, — ласково отозвалась Маруся. — Чуть замечтался… Слава сердится и на себя, и на лошадь, и на дерево… И на Марусю. Скорее бы отъехать от злополучного места! — Поехали? — Поехали… Как произносят они это слово? Слава с раздражением, Маруся снисходительно, она не переживает промах Славы, ну, зазевался и зазевался, не велика беда, даже не заметила, как уязвлено мужское самолюбие Славы. — Дай-ка лучше мне! Выхватила вожжи из рук жениха, да так решительно, что и не возразишь! Теперь Маруся впереди, теперь она правит, ей и в голову не приходит, как опасно иногда женщине отнять у мужчины вожжи. Сидят на дрожках, как на лавочке, бочком, свесив ноги, пылятся Славины начищенные сапоги и Марусины ботиночки со шнурками. Слава рассматривает Марусю. Красива она? Может, и не так красива… Целомудренна! Хороша внутренней красотой. Но и с лица неплоха. Умный лоб, правильный нос, нежный румянец, губы как спелая малина… «Ах, Маруся… Ты так и будешь меня везти, а мне всю жизнь глядеть из-за твоей спины? Шабунин отпустил меня на вольную волю, а теперь ты начнешь заменять Шабунина? Я хочу жить своим умом. Почему меня постоянно должен кто-то опекать? Быстров, Шабунин, Иван Фомич… Даже от мамы я ни в чем не хочу зависеть…» Волны времени относят назад Орел, Малоархангельск, Успенское… А оно сопровождает его сейчас, потому что Успенское и Маруся неотделимы. Сможет ли он выполнить свои обязательства?… Странные это мысли. Неверные и тревожные. «Ты еще ничто», — мысленно говорит он себе… Маруся вдруг оборачивается к нему. — Знаешь, мне почему-то кажется, что видимся мы с тобой в последний раз. — Зачем ты так? Почему Марусе приходят в голову такие странные мысли? Минуют деревню за деревней, кобылка весело отталкивается от мягкой дороги, невеста решила прокатить жениха как по воздуху. — Гнедуха!… И дорога назад, и ометы назад, и ветлы назад, крутится нескончаемая лента дороги, уносит с золотых орловских полей. — Не вернешься ты, — говорит Маруся. — Зачем ты так? Она упорно о чем-то думает. Уезжает Слава от своего счастья, понимает и не может не ехать. Облака растаяли, вечная над ними синь, в полях светлый день. — Не любишь ты меня, — говорит Маруся. — Зачем ты так? Он любит ее. Может быть, даже больше мамы. А кобылка перебирает, перебирает ногами, и, глядишь, Змиевка перед глазами. Серый элеватор давно уже маячил на горизонте. Сухие комья разбрызнулись во все стороны, кобылка выгнулась, замерла перед станцией. Маруся ослабила поводья, перекинула их через коновязь, подвязала лошадке торбу с овсом, и, взявшись за руки, — пусть смотрят! — счастливая пара — счастливая ли? — прошла в зал ожидания. Здесь все так же, как и пять лет назад. Деревянные диваны, запыленные стекла, затхлая станционная вонь. Поезд на Москву придет через три часа. — Ты поезжай, — говорит Слава. — Иначе сегодня не успеешь домой. — Не твоя забота, — отвечает Маруся. — Переночую здесь, у нас здесь знакомые. — Долгие проводы — лишние слезы. — Пусть долгие, пусть лишние, хочу на тебя насмотреться… Они больше смотрят друг на друга, чем разговаривают. Слава говорит что-то о Москве, вспоминает рассказы о том, как студенты празднуют Татьянин день. На этот раз билет приобрели на общих основаниях и даже в плацкартный вагон. Пообедали крутыми яйцами, огурцами, свежими ржаными лепешками. Зазвонил станционный колокол. На перрон вышел дежурный с жезлом. Пыхтя и постанывая, показался из-за поворота паровоз. «Увидимся ли мы? — подумал Слава. — Люблю ли я Марусю?» — беззвучно спросил он самого себя. — Залезай, — сказал проводник. — Поезд тебя дожидаться не будет! Слава схватился за поручень и вдруг бросился к Марусе, обнял, поцеловал, так никогда еще они не целовались — исступленно, отчаянно. Вошел в вагон, протиснулся к окну. Маруся осталась на перроне. Красивая, суровая и вечная. Вечная для покидающего ее Славы. В вагоне Слава нашел свободную верхнюю полку, лег, вытянулся, решил, что сразу заснет и будет спать до самой Москвы. Темнело. За окном мелькали деревья, насыпи, полустанки, водокачки. Потом все пропало. Проводник вставил в фонарь свечу, зажег, тени побежали по вагону, наступила ночь. За стенкой спорили. Кто-то смеялся. Долго плакал ребенок. Сонное дыхание наполнило вагон. Слава хотел заснуть и не мог. Пытался прислушаться к разговору, но ничего не разобрал, потом и разговор смолк. Пытался всматриваться в окно, но ничего не увидел, все утонуло во тьме. Он остался наедине с Успенским. С прожитыми там годами. Приехал туда ребенком, подростком, а уезжал юношей, взрослым человеком. Был ничем, а стал… Кто его поднял к жизни? Отец со своим Пушкиным? Никитин? Быстров? Пожалуй, больше всего Быстров. Необыкновенный человек. Он был порождением революции, а в иные моменты и самой революцией. Поездки по волости, по уезду. Гибель помещичьих имений. Пробуждение классового самосознания. Сотни мальчиков, поднимающихся на борьбу за будущее, которое они плохо себе представляли. Одни погибали. Другие изменяли. Третьи становились людьми, достойными своего времени. Имен не счесть, а Слава каждого помнит по имени. Способности каждого человека проявлялись с необыкновенной силой, и время брало от каждого все, что тот мог дать. Быстров думал, что он-то и есть Советская власть, он отдал все для ее укрепления. Даже Иван Фомич Никитин, которого не в чем упрекнуть, исчезнет из памяти своих учеников, а созданная им школа будет существовать. Даже кровь Федора Федоровича даст всходы… А что предстоит Славе? Ночь, ночь, тьма. Покачивается вагон, стучат колеса. Что знает он о себе? Ничего он не знает. Ничего-ничегошеньки не знает. Знает лишь одно, что за пять лет он прошел такой путь, на который другому не хватило бы целой жизни. Возле него никого. Покачивается вагон, стучат колеса. Он один на один со своей совестью. Все то доброе, что он сделал, останется навсегда. Ничто не кончается, никто не исчезает бесследно. Мертвые не умирают. Они лишь дремлют в глубинах нашей памяти… 51 Жестокие морозы стояли в Москве в январе 1924 года. Хоть овчиной подбита у Славы куртка, по улицам приходится бегать трусцой да вприпрыжку. На одежду стипендии не хватает. Забежишь в вегетарианскую столовую, что в Чернышевском переулке, двадцати копеек как не бывало, хоть капустные котлеты и дешевле мясных в три раза. Спасибо, мама прислала посылку — поддержка! Чаще Слава перебивается с хлеба на квас. Живет у деда. Прямо с вокзала приехал к нему. Оказалось, дед еще жив. По-прежнему влачил жалкое, полуголодное и полухолодное существование, хотя сам этого не замечал. Внука дед встретил с прежним вежливым равнодушием: — Живи, но товарищей не води, я боюсь за книги. Наскоро позавтракав с дедом, Слава устремился в университет. Он боялся, что придется оправдываться за опоздание. Но опоздавших оказалось множество — Ломоносовы съезжались со всей России. При поступлении интересовались не столько знаниями, сколько общественным лицом абитуриента, рабоче-крестьянское государство нуждалось в классово подкованных специалистах, а у Славы три года партийного стажа, активная работа в комсомоле и душа нараспашку. Поступил Ознобишин в университет с легкостью необыкновенной! Но первые же занятия обернулись каторжным трудом. Не так-то много Слава знал, а что знал, перезабыл. Физика, химия, биология и трижды проклятая анатомия! Материя и движение, пространство и время, гармонические колебания, природа звука… Закон Ньютона. Закон Менделеева. Учение о клетке… Обмен веществ… Все надо повторять, да где там повторять — заново, заново учить! И, наконец, анатомия! Непосильная зубрежка. Обыкновенный скелет обыкновенного человека. Тысячи косточек. Суставы, мышцы, сухожилия… В первые дни занятий будущие медики очутились в анатомическом театре. Вооружись пинцетом и скальпелем, готовь препараты! Иногда по вечерам дед отрывался от своей Библии и экзаменовал внука по анатомии. Удивительно, но старик помнил и буколики Вергилия, и названия всех мышц, латынь он знал безупречно, медицинские термины произносил так, точно читал стихи. Дед позаботился и о дровах, не столько для себя, сколько для внука. Среди благодарных пациентов, не забывавших доктора, были старые московские рабочие. Они и нашли Славе приработок: заведовать библиотекой в клубе грузчиков при Брянском вокзале. Трижды в неделю он ходил выдавать книги, а грузчики снабжали доктора дровами, поэтому в квартире стало тепло. Сходил Слава и в бывшую мамину гимназию. Если Вера Васильевна вернется, ее согласны взять. Нашел техникум механизации сельского хозяйства. Юношей, имеющих опыт работы в сельском хозяйстве, принимают в первую очередь. Что касается жилья, дед родственников не приглашал, но и не отказывал. Слава писал в Успенское. Матери. Вера Васильевна собиралась к весне в Москву. Марусе. Письма к Марусе не получались… С утра у Славы занятия по анатомии. Мороз жесток. Хорошо, что до университета недалеко. Спустился по Никитской до университета, нырнул в ворота, пересек заснеженный сад, разрумянившиеся девушки косяком шли навстречу, низким сводчатым проходом попал в анатомический театр. На мраморном столе лежал труп. Жертва науки. Молодая красивая девушка. Прозектор привычной рукой рассек грудную клетку, покопался во внутренностях и вынул сердце. «Перед нами полый мышечный орган, принимающий кровь из вливающихся в него венозных стволов и нагнетающий кровь в артериальную систему, имеет форму несколько уплощенного конуса и делится на левое сердце и правое сердце…» Потом профессор физики, пренебрегающий вследствие глухоты обращенными к нему вопросами, говоря о вязкости и ссылаясь то на закон Паскаля, то на правило Бернулли, — сколько же их, этих законов и правил! — долго и нудно рассказывал о связи между давлением и скоростью движения жидкости. После физики Слава забежал в столовую, съел винегрет, купил еще порцию для деда — насыпал в бумажный кулек, выпил стакан чая и пошел домой. В комнате смрадно и чадно. Дед суетится возле раскаленной железной печурки, жарит на рыбьем жире оладьи. — Как можешь ты есть такую гадость? Я принес тебе винегрет. Дед переложил винегрет в старинную фарфоровую кружку, сдобрил ложкой рыбьего жира… Неспокойно сегодня на душе у Славы. Чадно. Что-то тревожное носится в воздухе. Ощущение надвигающейся опасности. Хотя все идет как будто нормально. Надо возвращаться в университет. Во второй половине дня занятия комсомольского кружка по изучению международной политики. Слава выходит на улицу. Холодно черт-те как! Прохожие торопятся. Да и как не торопиться, когда подгоняет мороз. Мимо проходит женщина. Плачет. Еще одна женщина и тоже плачет. Что это с ними? На углу стоит мужчина, читает наклеенное на стене объявление и плачет. Наваждение! С чего это они все? Слава подходит к объявлению. Мужчина резко поворачивается и уходит. У Славы темнеет в глазах. Все исчезает в мире. Ночь. Ночь. Хотя еще день. Обеими руками Слава пытается ухватиться за каменную стену. «Правительственное сообщение…» Возьми себя в руки. Ты здесь не один. Еще не вечер, и тебе некуда спрятаться. «Вчера, 21 января, в 6 часов 50 мин. вечера, в Горках близ Москвы скоропостижно скончался Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Ничто не указывало на близость смертельного исхода…» Не было у Славы Ознобишина потери значительнее и страшнее. Он задохнулся… Слава поворачивается и плетется домой, ему не до международной политики. Даже дед замечает, что Славе не по себе. — Ты заболел? Слава садится на диван, на котором спит, и говорит: — Умер Ленин. А ведь дед действительно верит в бога! Опускается на колени перед иконой, крестится, и слезы текут у него по щекам. Полуголодный, давно не практикующий врач, целыми днями читающий Библию, он тоже потрясен смертью Ленина и плачет, как те женщины, как тот незнакомый мужчина… «Господи, я недооценивал деда! Оказывается, он все понимает…» Лечь и лежать, и никуда не ходить. Славе теперь уже ничего не нужно. Никогда еще не испытывал он такого острого чувства одиночества. Он жил вместе со своим народом, вместе с ним поднимался на крутые неисследованные вершины, вместе с ним преодолевал неслыханные трудности и опасности, и вот теперь нет с ними проводника, который вел, указывая, где вырубить уступ, а где обвязать себя веревкой. Какой он был простой и доступный, когда появился на комсомольском съезде! Отчаяние овладевает Славой. Он лежит и старается не думать, не думать ни о чем… Так проходит ночь. Слава засыпает, а дед все молится, читает Библию… Славу будит покашливание деда. Он возится у печурки, пытается ее разжечь. Ничего у него не получается. Слава встает. — Пусти, дедушка… Приносит из кухни охапку полешков, укладывает, чтобы между ними проходил воздух, вытягивает из-за книжного шкафа роман Понсон дю Террайля, рвет книгу на растопку, но так, чтобы не видел дед, дед жалеет каждую книгу. — Чем это ты растапливаешь? — интересуется дед. — Старые пакеты, дедушка. Весь день он не выходил из дому, погрузившись в апатию, пытался читать все того же Рокамболя, которого он обрек на уничтожение, засыпая и просыпаясь от горя, не веря тому, что случилось. Дед подошел к нему, погладил по голове, рука у деда невесомая и прохладная. — Поешь. Дед протянул холодную оладью. Слава неизменно от них отказывался, не переносил их запаха, а на этот раз съел, не заметил рыбьего жира. Вечером заставил себя сесть за учебники, принялся зубрить анатомию. Зубрил до одури, чтоб ни о чем не помнить, ни о чем не думать, вколачивал в мозги термины, как гвозди. Утром потащился в университет, никого не хотелось видеть. Молодой и требовательный преподаватель химии придирчиво спросил: — Вы почему вчера отсутствовали? Слава даже удивился вопросу: — Такое событие… — Это не основание пропускать лекции, — возразил химик. — Трамваи перестанут ходить, булочные выпекать хлеб… Он был прав, с ним не стоило спорить. Наденька Майорова, студентка из одной группы с Ознобишиным, сказала Славе: — А мы вчера всем университетом ходили в Дом Союзов, прощались. Народу! Ты представить себе не можешь… Весь день он провел по графику: слушал лекции, обедал в столовой, занимался дома, читал газеты. Вечером оделся потеплее, решил идти к Дому Союзов. Дед смущенно его перекрестил. — Иди, иди. Ветерок несся по улице, задиристый, злой, знойный, забрался к Славе под куртку. Слава поежился, надвинул на уши каракулевый пирожок, он не помнит, откуда у него этот пирожок, вероятно, мама сунула ему в дорогу. Кто носил эту шапку? Пирожок повытерся, стар, походит на монашескую скуфейку, но греет, бережет от мороза и ветра. У Никитских ворот возле многоэтажного дома толпился народ, люди слушали, как военный в буденовке читал наклеенную на стену «Правду» — описание последнего пути Ленина из Горок в Москву. Военный читал громко, отчетливо, медленно, читал о том, что должно запомниться на всю жизнь. Слава невольно задержал шаги, прислушался и остановился. Белый старый дом, окруженный серебряным лесом. Выносят гроб. Пешком несут до станции все пять верст. Толпы крестьян. Широкая дорога. Белая скатерть бескрайнего поля. Старики с посохами, плачущие бабы, нетерпеливые ребятишки… Слава запоминает рассказ, точно сам видел все это. Ведь он видел ЕГО, он и идет, чтобы видеть ЕГО… Дома расплываются в сумерках. Громадное здание консерватории нависло в глубине. У Газетного переулка неподвижная молчаливая человеческая очередь. — Куда? — К НЕМУ. Но почему же очередь на Никитской? Слава идет вдоль очереди. Доходит до университета, заворачивает за угол. А на Моховой еще очередь. А у Манежа еще одна. Все улицы запружены сосредоточенными, молчаливыми людьми. Куда деваться Славе Ознобишину среди этих толп — песчинке в океане горя? Людские потоки тянутся от Исторического музея, от Красной площади. Тысячи людей стоят в Александровском саду. Такие же медленные очереди на Тверской, на Большой Дмитровке. Со всех концов столицы люди непрерывно идут к Дому Союзов. Какое множество народа! Вся Москва прощается с Лениным. Заводы и фабрики Москвы. Но не только Москвы. Здесь делегации рабочих из Серпухова, из Иванова, из Нижнего. Даже из Свердловска. Даже уральцы приехали в Москву. В каждой делегации не десятки, не сотни — тысячи людей. Много крестьян. Студенты. Делегация Петроградского университета… Совсем уже ночь. Мороз усиливается. Становится все крепче и крепче. Ветер. Сугробы у тротуаров. Там и тут вспыхивают костры. Мороз не щадит никого. Слава жмется в своей куртке, надвигает на глаза скуфеечку. Согреться бы, да негде, холодно и снаружи и внутри, душа замерзает без Ленина. Когда ему было так же невыносимо холодно? Вскоре после возвращения с Третьего съезда комсомола. Когда ездил в Орел за керосином. Ленин велел им учиться, а какое же ученье без света? Вот Слава и поехал в Орел добывать керосин. Промерз он тогда на обратном пути в Успенское, шагая за телегой по гололедице. Предлагали ему тогда купить за керосин полушубок, он даже говорить об этом не стал. Закоченел совсем, а выполнил поручение Ленина. Вот и сейчас холодно как и тогда. Он на всю жизнь связан с НИМ, эту связь не порвать, не расторгнуть. Смотришь издали на костры — люди вокруг огня, притопывают, подпрыгивают, хлопают себя руками по плечам. Но никто не уходит, они и здесь, в очереди, на посту. А подойдешь ближе — сиротство в глазах. Осиротевший народ. «Один я теперь, — думает Слава. — Один-одинешенек. Один как перст во всем белом свете. Но ЕМУ я никогда не изменю. Нет такой силы, которая может меня лишить Ленина». Вместе с НИМ мы вступили в новую эпоху. Это будет особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной толковости, без приучения народа к тому, чтобы пользоваться книгами, и без материальной основы для этого, без обеспеченности от неурожая, от голода, от войны нам своей цели не достигнуть. И, как ни тоскливо, как ни горько ему, Слава всей душой ощущает свою принадлежность к этой исторической эпохе. Он понимает, что эпоха потребует всех устремлений ума и сердца и его самого, и его соотечественников, что ничто даром не дается и указанной цели можно достичь лишь ценой сверхчеловеческих усилий. С того момента, как он прочел сообщение о смерти Ленина, он думал о НЕМ непрестанно, все остальное отодвинулось или пропало, все время он находился наедине с НИМ, хотя его горе разделяли с ним тысячи единомышленников. «Я всегда буду идти по ЕГО пути, — говорил себе Слава, — я тоже готов отдать жизнь за людей, живущих в новом, еще только создаваемом мире…» А ночь становится все холоднее, все темнее. Полыхают костры, и от костра к костру люди идут прощаться с Лениным… Невозможно провести ночь на таком морозе! Множество людей плечом к плечу движется вдоль низких домиков Охотного ряда. Слава приближается к распахнутым настежь дверям… Нет, он не в силах туда войти! Слава делает шаг в сторону, еще шаг, отходит от дверей, идет навстречу очереди. Вот где живой Ленин! Среди этих людей. В этих людях. У Славы такое ощущение, что он и в себе несет частицу Ленина. Неподалеку от Дома Союзов, между невысоких домов церквушка Параскевы-Пятницы. Рядом с церковью полыхает костер, оранжевое пламя желтыми бликами падает на лица людей. Слава идет медленно, тяжело. Он замерз, горе придавило, им владеет чувство бесконечного одиночества. И вдруг что-то ударило в грудь. Слава оглянулся, посмотрел под ноги. Темный комок лежит у его ног. Спугнутый откуда-то из-под карниза, обессилевший от холода, воробей ударился о его грудь. Слава наклоняется и берет в руку маленький пушистый комочек, жизнь в нем еще теплится. Слава осторожно держит воробья меж двух ладоней и пытается согреть его своим дыханием. Подходит поближе к костру, и теплое дыхание огня обдает и Славу и воробья. — Грейся, грейся, — говорит Слава. Оранжевое пламя освещает снег, людей, церковь. Слава слышит, как трепещет маленькое птичье сердце. — Слышишь, воробьишка, надо жить, — говорит Слава и раскрывает ладони. Мгновение воробей медлит и вдруг взлетает и исчезает под застрехой. — Что ж, надо жить, — повторяет Слава. — Надо жить. 1956-1981 гг. Примечания 1 Kirche, Kinder, Kuche — церковь, дети, кухня. (Пер. с нем.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
|||||||