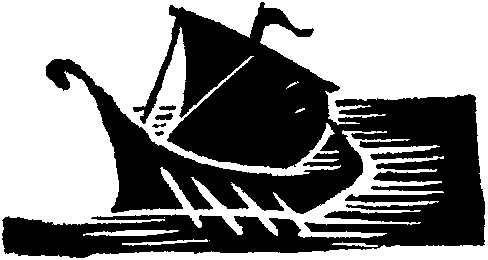За столбами Мелькарта
ModernLib.Net / Отечественная проза / Немировский Александр / За столбами Мелькарта - Чтение
(Ознакомительный отрывок)
(стр. 3)
Миркан и Ганнон мирно сидят на скамье у колонн. Ничто не выдаёт, что их разделяет старинная вражда двух родов. В ожидании церемонии Ганнон перечитывает надписи на вделанных в стену каменных плитах. В этих письменах запечатлены история и слава Карфагена. Великие люди города оставили в назидание потомкам рассказы о своих подвигах. Ещё мальчиком Ганнон читал эти каменные свитки, повествующие о войнах и мятежах, походах и открытиях. Уже в детстве он полюбил эти звучные названия: Мелита, Тингис, Эбесса.
В них была пенистая морская даль, неумолчный шум прибоя, пение ярких, невиданных птиц, рёв зверей, в них звучала музыка странствий. Среди героев, открывших острова в Великом Море Заката, были и его предки. Вот надпись его деда Магона, завоевавшего острова Метателей Камней.
Город на одном из этих островов до сих пор носит его имя.
А вот плита с надписью Гимилькона, побывавшего в стране тумана и вечной ночи. Искоса взглядывает Ганнон на Миркана. Он помнит: Миркан пытался напугать его трудностями плавания Гимилькона. Не удалось ему это. Тогда Миркан решил сговориться с верховным жрецом Тиннит. Они хотят помешать кораблям Ганнона покинуть Карфаген. Но хитрость их раскрыта. Это Синта открыла Ганнону тайну чуда, с помощью которого суффет и жрец ещё надеются опрокинуть его планы. Взгляд Миркана устремлён на алтарь. Как и Ганнон, он ждёт выхода Магарбала. «Богиня ещё не сказала своего слова, — думает Миркан о Ганноне, — и этот наглец, которого чернь посадила на скамью суффета, ещё рано торжествует. Корабли Ганнона стоят в Кофоне под парусами, но он забыл, что ветер — это дыхание богов, а боги имеют своих жрецов. Он забыл, этот мальчишка, что в храме происходят чудеса. Правда, они дорого обходятся, эти чудеса, но зато ничто не может сравниться с их силой». Миркан мельком взглядывает на Ганнона, и на его тонких губах мелькает еле заметная усмешка: «Глупец! Сейчас богиня скажет: «Нет!» Сейчас она опалит тебя огнём. И ты не сможешь повести корабли до благоприятного знамения, если оно вообще когда-либо наступит». Погасли светильники. Лишь свеча на алтаре горит неровным, дрожащим пламенем. Люди затаили дыхание. Распахнулся багровый полог. Предстала Владычица Тиннит. Призрачно и грозно её каменное лицо. Магарбал вышел в длинном чёрном плаще с вытканными на нём мерцающими звёздами. Белая повязка закрывает часть его голой, как яйцо, головы. В правой руке у жреца золотая чаша в виде лодочки, а в левой — посох, на ручке которого бронзовая змеиная голова. Жрец поднялся на ступеньки алтаря. Под сводами глухо прозвучал его голос: — О Тиннит, мудрая и прекрасная! Освещающая в часы мрака землю, рождающая росу, смиряющая злых духов! О Владычица! Твои рабы идут в царство Мелькарта. О великая! Если ты не хочешь этого, сотвори чудо! Магарбал медленно наклоняется, прикасаясь лбом к прохладному дереву алтаря. Он знает: сейчас Стратон дёрнет за верёвку, опрокинется свеча и ярко вспыхнет горючее вещество, которым наполнена голова богини. Жрец ждёт. Кровь прилила к его вискам. Снова и снова прикасается он лбом к алтарю… Довольные моряки шумно покидали храм, а верховный жрец всё колотил кулаком об алтарь, словно хотел вбить его в землю. Когда храм опустел, Магарбал дал волю ярости. Он набросился на своего помощника Стратона, угрожая ему всеми страшными карами: — Я прикажу содрать с тебя шкуру, сын ехидны! Я волью тебе в глотку расплавленную медь! Тебя закидают каменьями! — О, не гневайся, господин мой! — молил Стратон. — Я не виноват. Кто-то перерезал верёвку, и свеча, которую она придерживала, не опрокинулась. Горючая жидкость не вспыхнула. Магарбал схватил светильник и молча двинулся вокруг статуи Тиннит. Да, верёвка перерезана. Но кто это мог сделать? Нагнувшись, Стратон что-то поднял с пола. — Смотри! — указал он. — Это её нож. — Синта! — заревел Магарбал. — Приведи её! Стратон удалился. Тяжело опустившись на ступеньку алтаря, Магарбал придумывал наказание для Синты. Он прикажет её бичевать. Нет, лучше он посадит её в бочку со змеями. Незаметно появился Стратон. — Синты нет в храме, — сказал он тихо. — Комната её пуста. Вещи разбросаны. На полу — длинная верёвка. — Слушай меня, Стратон! — Великий жрец задыхался от ярости. — Ты пойдёшь в дом Миркана и передашь ему, что если он сейчас же не выдаст свою дочь, я возьму у него младшего сына в жертву Владычице Тиннит, как хотел сделать раньше. Стратон возвратился, когда уже стемнело. За ним шёл сам Миркан. Лицо его было покрыто капельками пота. — Клянусь богами, — ещё в Дверях закричал Миркан, — в моём доме нет Синты! Я ни разу не видел дочери с тех пор, как привёл её в твой храм. — Где же она? — Магарбал подступал к суффету, яростно потрясая кулаками. — Я тебя спрашиваю, где твоя дочь? — Я уверен, что дочь мою похитил Ганнон, — отвечал Миркан. — Ганнон? Почему ты так думаешь? — Я обещал отдать ему Синту в жёны, — тихо и как бы виновато проговорил Миркан. — Вот оно что! — прошипел Магарбал. — Теперь я понимаю, почему ты вызвался отдать свою дочь в храм. Ты просто не хотел, чтобы она стала женой Ганнона. Миркан опустил голову. «Да, я не предупредил Магарбала, — думал он, — и в этом я виноват. Дочь я обманул, чтобы ей легче было уйти из дому и забыть Ганнона. Конечно, я мог бы заменить на алтаре Тиннит Шеломбала молодым рабом или сыном какого-нибудь бедного землепашца. Голод и нужда заставляют их продавать своих детей. Но тогда я должен был бы отдать Синту в жёны Ганнону. Как я был предусмотрителен, когда не хотел породниться с Магонидами! Теперь, после Гимеры, пришёл конец могуществу этого рода. Иметь дочь жрицей Тиннит для меня выгоднее и почётнее. Но что делать теперь? Не потребует ли обманутый Магарбал в жертву Тиннит сына?» «Во всём виноват Ганнон! Я, Магарбал, могущественнее всех жрецов Карфагена, а этот отпрыск Магонидов осмелился посягнуть на мой авторитет! Он забыл, что теперь не времена царя Малха, распинавшего жрецов на кресте, как беглых рабов.
Что же теперь делать? Надо сначала вернуть Синту. А Ганнон сам явится за ней. Синта будет приманкой, как ягнёнок при охоте на льва». Магарбал перевёл свой взгляд на Стратона. — Иди в гавань, — приказал он. — Скажи Ганнону, что я тебя назначил жрецом нового храма за Столбами Мелькарта. Выследи Синту! Как только Стратон и Миркан скрылись из виду, верховный жрец в исступлении поднял вверх иссохшие костлявые кулаки, и из его груди вырвался вопль. В нём соединились ярость и бессилие. — Разруби его мечом, о Тиннит! — кричал жрец. — Сожги его огнём! Размели пепел мельничными жерновами и разбросай по ветру!
У Горшечных ворот
Множество повозок, запряжённых осликами, и просто пешеходов с сумами за плечами стремились в этот день попасть в город через Горшечные ворота. Это будущие колонисты, их близкие и просто любопытные. Это жители предместий и окрестных деревень, мужчины, женщины и дети. К Мисдессу, лавка которого была почти у самых ворот, без конца прибегали соседи и незнакомые люди, откуда-то узнавшие его имя. Каждый из них приносил какую-нибудь вещь и, ставя её перед горшечником, говорил: — Возьми, Мисдесс! Ты остаёшься здесь! Возьми! Тебе это пригодится! Вскоре низенькой лавки Мисдесса почти не было видно из-за груды столов, детских люлек, колёс, умывальников, переносных жаровен, светильников. Вещи эти были совсем хорошие, и достались они своим хозяевам с таким трудом! Они были свидетелями рождения и смерти, горя и радости, смеха и слёз. А теперь их бросали, как казалось Мисдессу, без всякого сожаления. Этого Мисдесс никак не мог понять. Как он оставит свой дом, свою маленькую мастерскую, бедное кладбище за Магарой, где под пирамидками из белого камня вечным сном покоятся его благочестивые родители, люди, подарившие ему лсизнь? Как он покинет этот город, где ему знакома каждая выбоина на мостовой? Что он будет делать, если проснётся и не увидит перед собой этих белых стен, этих квадратных башен? При одной мысли об этом Мисдессу делалось страшно. Он чувствовал себя маленьким я беззащитным, как тогда, в детстве, когда отец привёл его к старому бородатому горшечнику, никогда не расстававшемуся с длинной гибкой палкой. На пороге дома показалась Шимба, жена Мисдесса. Она только что просила у Тиннит первенца, и на кистях её рук со вздувшимися голубыми жилками блестели запястья из лунных камней. Указывая на бесконечный людской поток, Мисдесс в ужасе всплеснул руками: — Смотри, Шимба! Куда они все идут? Кто же будет теперь покупать мои горшки? — Разве ты не видишь, Мисдесс? — рассудительно отвечала женщина. — Хотят уехать те, у кого нет денег. Богачи остаются. Они и будут покупать твою посуду, твои глиняные светильники. — Много ты понимаешь! — возразил Мисдесс. — Зачем понадобятся богачам мои горшки? Они берут дорогие амфоры из красной кипрской меди, расписные греческие сосуды и чёрные этрусские вазы.
— А теперь начнут покупать, — пыталась его успокоить жена. — Кто будет доставлять иноземную посуду, когда все корабли уйдут за Столбы? Или, знаешь, ты научишься лепить глиняные куклы, а я, когда подрастёт наш первенец, буду их раскрашивать и продавать. Но чем больше успокаивала Шимба своего мужа, тем он больше приходил в отчаяние. Хладнокровного, спокойного горшечника нельзя было узнать. Он выбегал на дорогу, что-то возбуждённо кричал, размахивал руками, перетаскивал свой гончарный круг с места на место. К полудню людской поток спал. Проезжали одинокие запоздалые тележки, торопились прохожие. Словно кто-то утром опрокинул амфору с маслом, а теперь оно стекало медленными каплями. Звеня своими цепями, прошагал благочестивый пророк Эшмуин. Хотя вокруг не было ни души, он простирал вперёд руки с длинными пальцами и исступлённо кричал: — Клянитесь! Клянитесь! Скорее оливы вырастут в открытом море, скорее лев подружится с овцой, скорее человек начнёт насыщаться камнями, чем вы вернётесь в это логово змей и скорпионов! Клянитесь! Замер голос пророка. Стало так тихо и пусто, что Мисдессу показалось, будто он остался один в этом городе, будто и его бросили, как никому не нужную вещь. И в этот миг он понял, что сердцу его дороги не эти стены и не эти выбоины на мостовой, а люди, для которых он всю жизнь лепил горшки и светильники, с которыми он торговался из-за гроша, с которыми он жил. Окинув взглядом груду вещей у своего дома, Мисдесс подошёл к гончарному колесу и взвалил его на плечи. — Идём, Шимба! — нетерпеливо крикнул он жене. Женщина удивлённо посмотрела на мужа. И его охватило это безумие? И он хочет покинуть родной дом и искать счастья на краю света? А подумал ли он о ней, о жене своей, которая скоро принесёт ему первенца? — Идём, Шимба! — повторил горшечник. — Долго ли я тебя буду ждать? Схватив какой-то узел, женщина поспешила за мужем.
В гавани
Солнечные лучи отражались на блестящей поверхности колонн, охвативших гавань большим полукружием. Вдали громоздились городские строения, а над ними, упираясь в небо, высился величественный акрополь Бирса. Прикреплённые канатами к кольцам мола, стояли длинные военные корабли и широкие гаулы
с опущенными парусами. В порту кипела работа. Полуголые рабы, согнувшись под тяжестью груза, проходили по гнущимся доскам. Мелькали тела — чёрные, жёлтые, бронзовые, белые. Слышался свист плетей. Доносились крики: — Живей! Заноси! Пускай! Гискон и Мидаклит сидели на пустых глиняных сосудах у сходен и смотрели на корабль с развевающимся на носу флагом суффета. Это «Сын бури», главный корабль, гордость всего карфагенского флота. На его постройку пошли кедры ливанских гор — из них вытесали эту стройную мачту; италийские сосны — из них сбили палубу; корсиканский бук — из него сделали вёсла; кипрская медь — из неё выковали таран; драгоценное чёрное дерево — из него вырезали карлика Пуам,
того, что красуется на носу чуть повыше тарана. Выпученные глаза карлика устремлены вдаль. На выпуклых щеках, на волосах, покрытых позолотой, блестят брызги. Гискон слышал когда-то от отца, что Пуам научил людей добывать огонь и ковать железо. «Вот почему у Пуама надуты щёки», — думает мальчик. — На моей родине этих карликов называют пигмеями, — заметил эллин. — Гомер говорит, что пигмеи живут на берегу Южного океана. «Опять Гомер! — подумал мальчик. — О чём бы ни шла речь, эллин всегда сводит к своему Гомеру. Наверное, этот Гомер какой-нибудь могущественный эллинский царь или завоеватель, а может быть, такой же мореход, как Ганнон». — Расскажи мне о Гомере! — просит мальчик. — Гомер? Как тебе объяснить получше… — отзывается Мидаклит. — Гомер — царь поэтов. Он завоевал весь мир, но не мечом, а своими звучными стихами. Рассыплются крепкие державы, ветер развеет их прах, а Гомер будет властвовать в своём царстве над умами людей, и не найдётся ни одного завистника, которому пришло бы в голову свергнуть его с престола. Гомер — открыватель новых земель, и те земли, которые он открыл, никогда не будут забыты. Он сумел провести своих героев через такие немыслимые преграды, перед которыми остановился бы в смущении самый отважный мореход. Эллин, наверное, ещё долго говорил бы о Гомере, если бы Гискон не тронул его за плечо: «Пора! Идём!» По сходням торопливо поднимались переселенцы: мужчины, женщины, дети. Они растекались по палубам, спускались в трюмы, заполняли все уголки кораблей. Гаулы стали напоминать муравейник. Взяв свои вещи, Мидаклит и Гискон подошли к сходням «Сына бури». Им выпало счастье плыть на этом корабле. Лицо Мидаклита радостно и торжественно. Исполняется заветная мечта его жизни: он увидит неведомые моря, далёкие страны, о которых рассказывают столько небылиц. Быстрее ветра мальчик взбежал на палубу. Сев у перил, он свесил вниз босые ноги и забарабанил пятками по борту. Он чувствовал себя здесь как дома. С высокой палубы виден весь город. Вот Бирса и храм Эшнуна.
Вот храм Тиннит, откуда бежала Синта. Гискон отыскал глазами улицу Сисситов, но дом Ганнона, ставший ему родным, отсюда не виден. С кровель зданий поднимались дымки. Это благочестивые карфагеняне возносили курения богам, моля их о помощи близким своим, покидающим родину. На дамбе, соединявшей гавань с островком, показалось несколько человек. Мальчик различил белые плащи городских стражей и среди них стройную фигуру Ганнона. Суффет в синем плаще, стянутом у талии широким кожаным поясом с блестящей медной пряжкой. Голова Ганнона не покрыта. Ветер развевает его длинные волосы. При виде Ганнона толпа в гавани заволновалась. Раздались приветственные крики. Возбуждённые карфагеняне чуть не опрокинули охрану, сопровождавшую суффета. Ликующие люди шли за Ганноном до самых сходней. А это кто? По молу идёт человек в белой тунике, с белой повязкой на бритой голове. Он тащит за верёвку чёрную овцу. Овца упирается, протяжно и жалобно блеет. Человек осыпает её руганью, словно желая излить на ней своё озлобление на тех, кто захотел сделать его мореплавателем. Гискон знает этого человека. Не раз он видел его в храме Тиннит. Это жрец Стратон. Но что ему здесь надо? Верховный жрец Магарбал посылает с ними исчадие ада. Это понял и суффет. Вон как он нахмурился при виде жреца. Стратон подходит к сходням «Сына бури». Люди на корабле почтительно склоняются перед жрецом Владычицы. Вот и всё готово к отплытию. Ганнон нетерпеливо взмахивает рукой, и тотчас же трубачи, стоящие на набережной, у колонн, вскидывают изогнутые, как оленьи рога, этрусские грубы. Раздаются призывные волнующие звуки. Звенящая радость, смешанная с тревожным ожиданием чего-то нового, ослепительно яркого, переполняет сердца людей. К мосткам подбежали матросы. — Стойте! Стойте! — послышался вдруг крик. По молу бежал человек с гончарным кругом на спине. За ним семенила женщина. — Опоздал, горшечное колесо! — кричит Малх. — Возьмём его, — просит Ганнон. — Кто будет за Столбами лепить горшки? Матросы помогли Мисдессу с женой подняться на мостки. Заскрипели канаты. Из воды, к восторгу и удивлению Мидаклита, показались не корзины, наполненные песком, как у эллинов, и не тяжёлые камни, употребляемые египтянами, а настоящие медные якоря с двумя лапами. Гребцы всей грудью налегли на вёсла, и их лопасти описали широкий полукруг. Полоса воды отделила корму от берега. Полоса становится всё шире и шире. Берег разворачивается и уходит вправо. «Сын бури» в торговой гавани. Люди, заполнившие набережную вплоть до Языка, машут руками, что-то кричат. Над маяком поднимается дымок. Обычно костёр из смолистых ветвей зажигается лишь по ночам, но, видимо, смотритель решил отметить выход флота в великое плавание и воскуряет у себя какие-то благовония. Ведь от верхней площадки маяка ближе к небу, чем от любого другого места города, и боги первыми почуют запах его жертвы. Корабли выходят в залив. Матросы поднимают паруса. Ганнон оглядывается и ищет взглядом гаулу, на которой его Синта, вырванная из лап жестокого Магарбала. И, хотя гаула так далеко, что на ней нельзя различить лиц, Ганнону кажется, что он видит длинные ресницы, оттеняющие чёрные глаза Синты.
По волнам океана
Море
Корабли плывут на закат вдоль плоского, как ладонь, берега Ливии. Ветер подгоняет их, как пастух белорунное стадо. Треск парусов напоминает хлопанье бича. Где-то там, на востоке, — родной Карфаген. Осталась позади и подвластная ему Утика, где был пополнен запас воды и приняты на борт новые колонисты. Много интересного узнал за эта дни Гискон! Он заглянул в трюм, набитый до самого верха кожаными мешками с вином и огромными, похожими на уличные тумбы глиняными сосудами с зерном и пахучим оливковым маслом. Он наблюдал, как матросы крепят паруса и спускают в воду тяжёлый якорь. Он измерил шагами палубу, сосчитал вёсла. Между носом и кормой по борту умещается ровно двадцать три весла. Каждое из них раза в четыре больше человеческого роста. Как справляются с ними гребцы? Однажды Гискон взобрался на мачту. Это было совсем не легко. Мачта хотя и ниже финиковой пальмы, растущей в родной деревне, но на её тонкой раскачивающейся верхушке кружится голова, и кажется — вот-вот упадёшь. А на палубе почти совсем не качает, и мальчик удивлён, что мужчины, такие сильные и выносливые, осунулись, побледнели и проклинают море, выматывающее душу. Тяжелее всего приходится женщинам. Они сидят на корточках, обхватив колени руками, и причитают. На их лицах ни кровинки. «Что будет, когда начнётся буря?» — говорят между собой матросы. У Гискона на корабле появились новые друзья. Только на вид матросы суровы и неразговорчивы. Стоит узнать их ближе, чтобы убедиться, что это славные и приветливые люди. Сам кормчий Малх в свободные часы, положив на колено мальчика покрытую шрамами, просмолённую ладонь, не раз рассказывал ему о странах, в которых побывал, о портах и гаванях, подводных скалах, облаках и ветрах. Оказывается, каждый ветер, как человек, имеет своё имя. Ветер, дующий с суши, у карфагенян называется Ливийцем. Эллины же зовут его Липсом. Он мягок и кроток, как ягнёнок. А ветер, идущий из океана, именуется Гадирцем. Он бывает свиреп, как голодная львица. Есть ещё и холодный Лигуриец, и изменчивый восточный ветер, прозванный Ханаанцем. Он дует из страны Ханаан — прародины карфагенян. Сколько удивительных вещей таит море, и как мало знают о них люди! Неподалёку от Сицилии, рассказывал мальчику Мидаклит, лежит островок с огнедышащими горами. С кораблей кажется, что пламя там вырывается прямо из воды. И зовут этот островок жилищем бога ветра Эола. Однажды к острову Эола причалил корабль Одиссея, который много лет не мог попасть на свой родной остров Итака. Эол, сжалившись над Одиссеем, вручил ему мешок с буйными ветрами, чтобы они не мешали ему вернуться на родину. И вот наконец корабль Одиссея достиг Итаки, где двадцать лет ждала своего супруга верная Пенелопа. Но жадные до наживы спутники Одиссея развязали мешок Эола, рассчитывая поживиться золотом. Буйные ветры со свистом и рёвом вырвались наружу, и корабль Одиссея снова пригнало к острову Эола, но на этот раз бог ветров не пожелал помочь Одиссею. Много тайн хранится на самом дне моря, где в хрустальном дворце живёт длиннобородый бог Дагон, у которого вместо ног хвост дельфина. Бог Дагон — эллины называют его Посейдоном — никогда не расстаётся со своим трезубцем. Когда он им потрясает, во все стороны расходятся волны, поднимается такая буря, что корабли швыряет, как ореховые скорлупки. С удивлением следит Гискон, как разбросанные чуть ли не до самого горизонта корабли подчиняются воле Ганнона. Видно, нелегко вести такую большую флотилию. Военные корабли заплывают вперёд, гаулы отстают. Ночью на реях зажигаются фонари. Это Ганнон переговаривается с кормчими всех судов. Днём фонари заменяются разноцветными флажками. Сколько языков надо знать моряку? Язык ветра и язык облаков, язык волн, язык фонарей и флажков. К тому же он должен читать древние письмена звёзд, чтобы вести корабль к цели. Мальчику хочется быть таким, как Ганнон, и он невольно подражает ему во всём. Он уже научился ходить такой же переваливающейся походкой, как Ганнон, закрывать от солнца глаза ладонью. Боясь надоесть Ганнону и помешать ему, мальчик держится в стороне, но издали наблюдает за ним и ловит каждое его движение, каждое его слово. Вот сейчас Ганнон стоит на носу рядом с Малхом, вслушиваясь в свист ветра и негромкий, непрерывный шум рассекаемой медью воды. Любовно похлопывая рукой по борту, лаская корабль, как живое существо, Ганнон говорит восхищённо: — Какой красавец! А как слушается кормового весла! Кажется, он предугадывает каждое твоё желание. Малх поворачивает к Ганнону загорелое лицо. Оно сияет, словно похвалили не корабль, а его самого. — При попутном ветре до Гадеса за пять дней дойдём! — восклицает старый моряк. — Ну, это ты уж чересчур хватил, Малх, — возражает Ганнон. — От Карфагена до Столбов не меньше семи дней пути. Малх хотел было ответить, но вдруг склонился над бортом, вглядываясь в волны. — Тунцы, тунцы! — закричал вдруг кормчий. Все на палубе ринулись к борту, чтобы рассмотреть уди вительных рыб. Тунцы шли, как воины, по четыре в ряд, строго держа равнение. Воистину это было прекрасное зрелище! Рыбы уже исчезли из виду, а Малх, окружённый колонистами, рассказывал, возбуждённо размахивая руками, о ловле тунцов: — Рыбаки всегда по двое выходят в море. Один гребёт, а другой держит трезубец. К нему привязана верёвка. Всадив трезубец в спину тунца, рыбаки преследуют его, пока рыба не утомится. — Вот как просто! — удивляется один из колонистов. — На словах всё просто, укачай тебя волны. Попробуй попади в плывущую рыбину трезубцем — лодку перевернёшь. К колонистам подходит Мидаклит: — У берегов Эллады тунцов ловят в тенета. — Вот куда они заходят! — Они заплывают ещё дальше, — поясняет эллин, — в холодные волны Понта Эвксинского.
Мне рассказывал один моряк, что ему приходилось видеть тунцов в устье Борисфена.
Крик на корме прервал этот интересный разговор. Оказалось, что один из землепашцев прыгнул в большой медный бак с морской водой, чтобы освежиться, а наткнулся там на что-то белое, скользкое и бесформенное. Под хохот матросов голый землепашец выпрыгнул на палубу. Вот тогда Гискон узнал, что скользкое морское животное называется медузой, что оно не может причинить человеку вреда.
Земля лотофагов
У берегов Ливии корабли бросили якоря. Пока набирали воду, колонисты сошли на берег. Бородатые мужчины радовались камешкам, похожим на те, какими усеяно взморье близ Карфагена. Дети взапуски бегали по травянистому лугу. Как не радоваться тому, что под ногами земля, а не это зыбкое море! Мидаклит и Гискон присели на большой белый камень, омытый волнами. Положив руку на плечо мальчика, Мидаклит продолжал свой рассказ об отважном Одиссее. Ведь Одиссей побывал где-то здесь со своими спутниками.
Мирных они лотофагов нашли здесь, и нашим посланцам
Зла лотофаги не сделали, их с дружелюбною лаской
Встретив, и лотоса дали отведать. Но только лишь
Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, родину он
Позабыл и утратил желанье веркнуться…
Пока эллин читал Гискону звучные строки Гомера, Ганнон шагал узкой тропинкой к видневшейся вдали роще. Там его ждёт Синта. Гискон уже успел предупредить её. На небе ни облачка. Дует лёгкий ветерок. Шелестят высокие травы. В кустах щебечут, словно задыхаясь от какой-то тревоги, невидимые глазу птицы. Тропинка изгибами спускается к озеру. Его низкие берега заросли лотосом. Цветы испускают сладостный, пряный запах. Над водой носятся голубоватые мошки. Из-под ног с треском вылетают кузнечики. Ганнон наклонился и сорвал розоватый цветок. На тонком прозрачном стебле выступили две крупные капли. Не так ли сочилось кровью его сердце, когда от него оторвали цветок его любви — Синту? Но чьи это лёгкие шаги? Синта! Голос её — как журчание воды для путника в пустыне. — Я — как птица, вырвавшаяся на волю! Я могу захлебнуться радостью. Я могу парить над морем, по которому плывёшь ты, и приникать к травам, которых касался ты! Мне понятны все голоса, все звуки, все мысли и все чувства, какие есть на земле! — О Синта! — шепчет Ганнон, гладя её руку с тонкими пальцами. — Ты любовь, дарующая забвение! Где ты, там моя родина. Наступил вечер. Полная луна медленно выплывала из-за холмов. Казалось, лицо Владычицы Тиннит расплылось в улыбке. Нет, она не гневается на них, презревших законы жрецов. Ласково смотрит Тиннит на две фигуры, слившиеся в поцелуе. — Пора возвращаться, — говорит Ганнон. — Пока мы ещё не можем быть вместе. Синта кивает головой. Да, она понимает. На корабле жрец Стратон — он не должен знать, что она здесь, иначе проклятье Магарбала настигнет их даже за Столбами Мелькарта. На палубе «Сына бури» Ганнон увидел Мидаклита. Эллин сидел на смотанных в круг канатах и усердно растирал что-то в ладонях. — Толчёный лотос, — пояснил Мидаклит. Ганнон взял щепотку лотоса с его ладони: — Напоминает по вкусу финики. — А какой запах! — восторгается эллин. — Но это ещё не всё. Я раздобыл амфору вина из лотоса. Отведав его, я понял, почему, выпив сок лотоса, спутники Одиссея забыли свою родину. Они были просто пьяны! Взяв под руку Мидаклита, опьянённого то ли лотосовым вином, то ли новизной всего увиденного, Ганнон направился к корме. Там собралось человек двадцать колонистов. Они обступили Малха. Кормчий любил рассказывать всяческие небылицы. Ганнон прислушался к ровному, слегка глуховатому голосу старого моряка. Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.
Страницы:
1, 2, 3
|
|