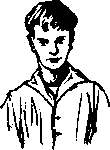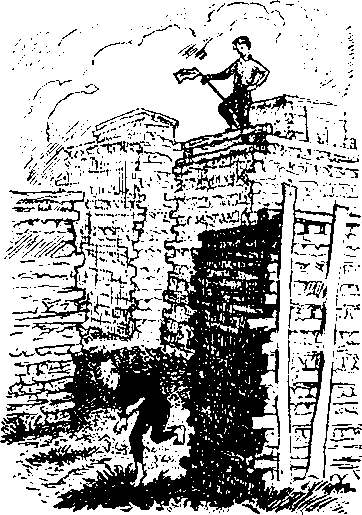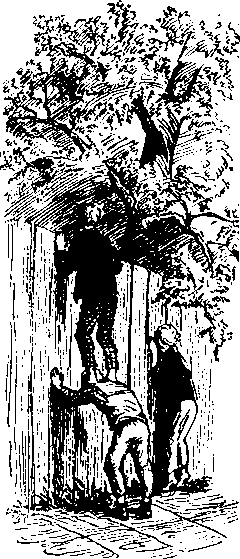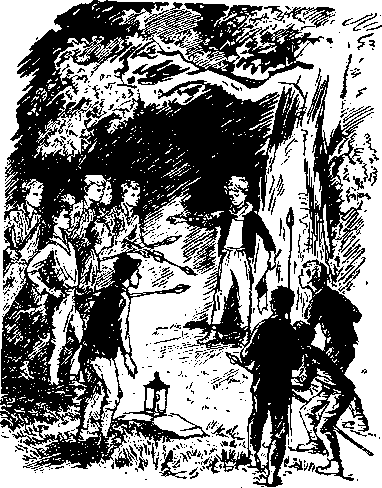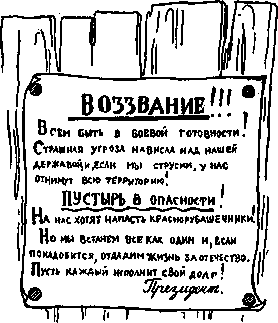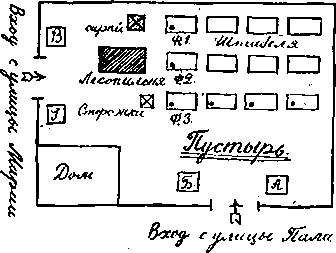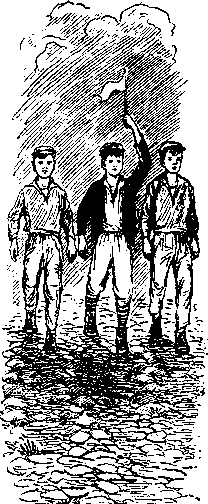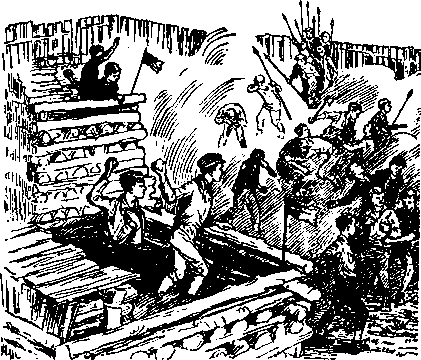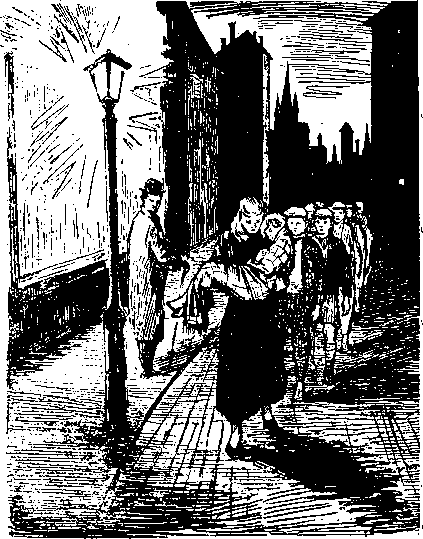Ференц Молнар
Мальчишки с улицы Пала
1
Без четверти час, после долгих безуспешных попыток, вознаградив за напряженное ожидание, в бледном пламени бунзеновской горелки на кафедре кабинета природоведения наконец-то вспыхнул изумрудно-зеленый венчик в доказательство того, что вещество, которое, по словам учителя, должно окрашивать пламя в зеленый цвет, именно в этот цвет его и окрашивает. И вот ровно без четверти час, в ту самую торжественную минуту, в соседнем дворе заиграла шарманка, и всякой серьезности сразу пришел конец. В этот теплый мартовский день окна были распахнуты настежь, и звуки музыки вместе с дуновением свежего весеннего ветерка проникли в класс. То была какая-то веселая венгерская песенка, которая в исполнении шарманки гремела, словно марш, – так громогласно-парадно, так по-венски, что всем захотелось улыбнуться, а кое-кто и в самом деле улыбнулся. Зеленый венчик весело плясал над пламенем горелки, и несколько учеников на передней парте еще рассеянно следили за ним. Но остальные обернулись к окну, где были видны крыши соседних домишек, а вдали, в золотом сиянии дня, высилась башня собора с часами, большая стрелка которых подползала к отрадной цифре двенадцать. И так как внимание всех устремилось к окну, слух, кроме музыки, стал различать и другие звуки. Дудели кучера конки, служанка распевала где-то во дворе, но пела она совсем не ту песню, которую наигрывала шарманка. И весь класс завозился, пришел в движение.
Одни полезли в парты и принялись рыться в книгах; другие, кто поаккуратнее, вытирали перья. Бока захлопнул свою маленькую карманную чернильницу, обтянутую красной кожей и так хитроумно устроенную, что чернила из нее совсем не вытекали, пока не положишь ее в карман. Челе собирал листки, заменявшие ему книжки: Челе был франт и не желал таскать под мышкой целую библиотеку, как другие. Он приносил с собой только нужные странички, да и те тщательно рассовывал по всем карманам – наружным и внутренним. Чонакош, обитатель последней парты, зевнул во всю пасть, словно скучающий бегемот. Вейс, вывернув карман, вытряхнул крошки от сдобного рожка, который он втихомолку поедал с десяти до часу, отщипывая по кусочку. Гереб зашаркал ногами, собираясь уже встать. А Барабаш – тот без всякого стеснения расстелил на коленях клеенку и принялся складывать на нее книги: какие побольше – вниз, какие поменьше – сверху, и потом с такой силой стянул их ремнем, что даже парта заскрипела, а сам он побагровел от натуги.
Словом, все собрались уходить. И только господин учитель не желал замечать, что через пять минут – конец урокам. Кротким взором обвел он ряды лохматых детских головенок и промолвил:
– В чем дело?
Воцарилась глубокая – ну прямо-таки мертвая – тишина. Барабашу волей-неволей пришлось распустить ремень; Гереб подобрал ноги под скамейку; Вейс вправил обратно карман. Чонакош зажал рот рукой и так, под прикрытием ладони, закончил зевок. Челе оставил в покое свои разрозненные странички. Бока быстро сунул в карман красную чернильницу, которая, словно почуяв, что она в кармане, тотчас стала потихоньку пускать красивые темно-синие капли.
– В чем дело? – повторил учитель, хотя все уже сидели не шевелясь. Потом обернулся к окну, за которым задорно верещала шарманка, точно давая понять, что она не подвластна гимназической дисциплине. Но учитель строго посмотрел в сторону шарманки и сказал:
– Ченгеи, закрой окно.
Малыш Ченгеи, сидевший на первой парте с краю, встал и с серьезной, насупленной рожицей пошел к окну исполнять приказание.
В это мгновение Чонакош, наклонившись в проход между партами, шепнул сидевшему впереди белокурому мальчугану:
– Эй, Немечек!
Немечек покосился через плечо, потом посмотрел вниз. К его ногам подкатился бумажный шарик. Он поднял его и развернул. На одной стороне бумажки было написано: «Передай дальше Боке».
Немечек знал, что это – лишь адрес, а самое письмо на обороте. Но он был настоящий мужчина и вовсе не собирался читать чужие письма. Поэтому он, в свою очередь, скатал бумажку в шарик, улучил удобный момент и, тоже наклонившись в проход, шепотом позвал:
– Эй, Бока!
Теперь Бока поглядел на пол, который служил в классе средством регулярного почтового сообщения. И в самом деле, к парте подкатился шарик. На обороте бумажного клочка, куда честность не позволила заглянуть Немечеку, Бока прочел:
«В три часа дня общее собрание на пустыре. Выборы президента. Оповестить всех».
Бока сунул бумажку в карман и напоследок еще раз покрепче стянул книги. Был уже час. Электрические часы задребезжали, и тут даже господин учитель понял, что урок кончился. Погасив горелку, он задал, что выучить к следующему разу, и удалился в естественнонаучный кабинет, откуда, едва приоткроется дверь, выглядывали чучела животных и птиц с глупыми стеклянными глазами, охорашивающихся на полке, а в углу, воплощением страшной тайны бытия, молча, но с достоинством стоял пожелтелый человеческий скелет.
Во мгновение ока класс опустел. Все сломя голову ринулись вниз по большой лестнице с колоннами, умеряя бег лишь при встрече с кем-нибудь из учителей, чья высокая фигура вдруг вырастала посреди этого шумного потока. Поравнявшись с ним, бегуны задерживались и притихали. Но едва учитель успевал скрыться за поворотом лестницы, как бег наперегонки опять возобновлялся.
Гурьбой высыпали все из ворот. Одни повернули налево, другие – направо. Вместе с ними шли и учителя, перед которыми проворно снимались маленькие шляпы. Усталые, голодные, брели мальчики по залитой солнцем улице. Они были слегка одурманены и лишь мало-помалу приходили в себя при виде живых, веселых уличных сценок, которые сменялись перед ними. Словно маленькие узники, вырвавшиеся на волю и ошеломленные морем света и воздуха, плелись они, углубляясь все дальше и дальше в этот шумный, полный движения город, который был для них только запутанным лабиринтом переулков, скопищем лавок, конок, экипажей, откуда нужно выбраться домой.
Челе под соседними воротами тайком торговался с продавцом турецкого меда. Дело в том, что продавец турецкого меда бессовестно взвинтил цены. Лакомство это, как известно, в любой части света стоит один крайцар. Это надо понимать так: продавец турецкого меда схватит свой нож и сколько отрубит одним махом от большого куска белой, нашпигованной орехами массы, столько и отпустит на крайцар. Впрочем, тут, под воротами, во всем соблюдается единообразие, всё стоит крайцар. На крайцар можно купить три нанизанные на деревянную палочку сливы, или три половинки фиги, или три черносливины, или три ореха, облитых леденцом. Крайцар стоит большой кусок лакричного сахара, и крайцар – кусок ячменного. Всего за один крайцар продастся даже так называемый «корм для зубрил» – разложенная по маленьким бумажным фунтикам удивительно вкусная смесь. В ней и орехи, и виноградины, и кусочки сахара, и миндаль, и разный сор, и обломки сладких стручков, и даже мухи. Порция этого «корма» ценой в крайцар содержит множество самых разнообразных промышленных, животных и растительных продуктов. Итак, Челе торговался, потому что продавец сластей взвинтил цены. Кто знаком с законами торгового обращения, знает, что цены, между прочим, растут, если коммерческая операция связана с риском. Например, те сорта азиатских чаев, которые провозятся караванами через местности, населенные разбойниками, стоят дороже. Нам, жителям Западной Европы, приходится платить за риск. А в продавце сластей решительно возобладал дух коммерции, так как ему собирались запретить торговать вблизи гимназии. Он-то, бедняга, знал, что если хотят запретить, то уж непременно запретят, и весь его сахар не поможет ему так сладко улыбаться проходящим мимо учителям, чтобы те перестали считать его врагом юношества.

– Дети все свои деньги отдают этому итальяшке, – говорили они.
И «итальяшка» почуял, что рядом с гимназией предприятие его вряд ли долго продержится. Поэтому-то он и взвинтил цены. Уж коли уходить отсюда, то хоть заработать напоследок. И он объявил Челе:
– Раньше все было один крайцар. Теперь все будет два крайцар.
И, с трудом выдавливая из себя венгерские слова, итальянец яростно взмахивал своим секачом. Гереб шепнул Челе:
– Трахни-ка шляпой прямо по сахару.
Челе пришел в восторг от этой идеи. Вот здорово! Все так и брызнет в разные стороны. То-то будет потеха!
А Гереб, как демон-искуситель, нашептывал ему на ухо:
– Трахни, трахни. Он ростовщик. Челе снял шляпу.
– Такой красивой шляпой? – промолвил он.
Не выгорело дело. Не на того напал Гереб: ведь это был Челе, щеголь Челе, который вместо книг носил с собой одни только странички.
– Жалко? – спросил Гереб.
– Жалко. – Ответил Челе. – Только не воображай, пожалуйста, что я трус. Я вовсе не трус, а просто мне шляпу жалко. Хочешь, докажу? Давай свою, – трахну с удовольствием!
Вот этого не следовало говорить. Это было почти оскорбление. Гереб, понятно, сразу вскипел:
– Если за моей шляпой дело стало, я уж как-нибудь сам справлюсь. Это ростовщик! Трусишь, так отойди.
И движением, исполненным воинственной решимости, он сдернул с головы шляпу, намереваясь нанести удар по лотку па крестовидных ножках, который ломился от сластей.
Но кто-то схватил его за руку, и чей-то почти по-мужски солидный голос спросил:
– Что ты делаешь?
Гереб оглянулся. За спиной его стоял Бока.
– Что ты делаешь? – повторил Бока. И посмотрел на Гереба мягко, но серьезно.
Гереб проворчал что-то, как лев под взглядом укротителя, и смирился. Передернул плечами и опять нахлобучил шляпу.
– Не обижай этого человека, – негромко промолвил Бока. – Храбрость я уважаю, но тут она ни к чему. Идем.
И протянул Геребу руку. Рука у него была вся в чернилах. Полеживая в кармане, чернильница мирно пускала себе каплю за каплей, а Бока, забыв об этом, держал там руку. Недолго думая он вытер пальцы об стену, после чего стенка запачкалась, а пальцы остались синими. Но так или иначе, инцидент с чернильницей был на этом исчерпан. Бока взял Гереба под руку и пошел с ним по длинной улице. У лотка остался один элегантный маленький Челе. Бока с Геребом еще слышали, как он угасшим голосом, со скорбным самоотречением поверженного бунтаря сказал итальянцу:
– Ну, раз теперь все стоит два крайцара, тогда дайте мне на два крайцара турецкого меда.
И раскрыл своп изящный зеленый кошелечек. А итальянец ухмылялся, раздумывая, вероятно: что, если начиная с завтрашнего дня все будет стоит три крайцара? Но это была только мечта: ну, как если-бы кому пригрезились, будто все его форинты вдруг превратились в сотенные бумажки. Взмахнув секачом, он поймал отскочивший осколок турецкого меда на клочок бумаги.
Челе с огорчением посмотрел на торговца:– Ведь это меньше, чем прошлый раз!
Но итальянцу коммерческий успех придал дерзости.
– Раз теперь дороже, значит, теперь меньше, – осклабившись, сказал он.
И повернулся к новому покупателю, который, наученный горьким опытом предшественника, держал наготове уже два крайцара. Торговец принялся такими странными движениями рассекать сладкую белую массу, словно какой-нибудь сказочный средневековый палач-великан, крошечной секирой отрубающий маленьким человечкам головки величиной с орех. Он прямо упивался этой кровожадной расправой с турецким медом.
– Фу, – сказал Челе новому покупателю, – не берите у него. Это ведь ростовщик.
И сразу отправил в рот весь кусок турецкого меда вместе с прилипшей к нему бумагой, которую никак не отскребешь ногтями, но зато легко отклеить языком.
– Подождите! – крикнул он Боке с Геребом и побежал за ними.
Он догнал их на углу. Втроем, взявшись под руки, они повернули на улицу Пипа и направились к Шорокшарской. Бока шел посредине, по обыкновению что-то тихо, серьезно объясняя своим спутникам.

У этого четырнадцатилетнего паренька лицо было еще совсем детское. Но стоило ему раскрыть рот, как он сразу словно становился старше. Голос у него был низкий, мягкий, солидный, И все, что он говорил, было под стать этому голосу. Он редко болтал глупости и не питал никакой склонности к так называемым хулиганским проделкам. В мелкие ссоры Бока вовсе не ввязывался; даже если просто звали рассудить, и то уклонялся. Жизнь успела его научить, что одна из сторон всегда остается недовольной приговором и недовольство это обращается против судьи. Но если дело принимало серьезный оборот и ссора грозила повлечь за собой вмешательство учителей, Бока вступался и мирил. На миротворца, по крайней мере, ни одна сторона не обижается. Словом, Бока производил впечатление умного мальчика и начинал жизнь как человек, который если и не преуспеет в ней, то во всяком случае сумеет прожить ее честно.
Чтобы попасть домой, нужно было с Шорокшарской улицы свернуть на улицу Кёзтелек. На этой глухой уличке ласково пригревало весеннее солнце и тихонько пыхтела табачная фабрика, строения которой тянулись по одной ее стороне. Уличка была безлюдна; только посредине стояли в ожидании два мальчугана. Один из них был Чонакош, крепыш Чонакош, другой – белокурый маленький Немечек.

Завидел троих мальчишек, взявшихся под руки, Чонакош на радостях сунул пальцы в рот и оглушительно свистнул, как паровоз. Дело о том, что свист этот был его специальностью. Свистать так в четвертом классе больше никто не умел; да и во всей гимназии едва ли нашлось бы несколько человек, у которых получался такой лихой кучерской посвист. Пожалуй, еще Цнидер, председатель кружка самообразования, мог бы так свистнуть: да и то он свистел, только пока не стал председателем, а после уж не рисковал засовывать пальцы в рот. Председателю кружка самообразования, каждую среду по второй половине дня восседающему на кафедре, рядом с преподавателем венгерского языка, это не к лицу.
Итак. Чонакош издал пронзительный свист. Мальчики подошли к нему и стайкой столпились посреди улицы.
– Ты еще не сказал им? – спросил Чонакош белокурого мальчугана.
– Нет, – ответил Немечек.
– Что? – спросили все в один голос.
– А то, что вчера в музее опять сделали «эйнштанд», – ответил за белокурого мальчугана Чонакош.
– Кто?
– Да Пасторы. Братья Пасторы.
Наступило глубокое молчание.
Чтобы понять, о чем шла речь, надо знать, что такое «эйнштанд». Это особое выражение пештской детворы. Когда какой-нибудь мальчишка посильней увидит ребятишек слабей себя, играющих в шарики, перышки или семечки сладких рожков (на пештском жаргоне – в «твердашки»), и захочет их отнять, он говорит: «Эйнштанд». Это уродливое немецкое слово означает, что сильнейший) объявляет шарики своей военной добычей и применит насилие против всякого, кто осмелится сопротивляться. Таким образом, «эйнштанд» – это одновременно и объявление войны. Словом этим кратко, но внушительно возвещается осадное положение, господство произвола, кулачного права и пиратского разбоя.
Элегантно одетый Челе первым нарушил молчание.
– Эйнштанд? – с дрожью в голосе переспросил он.
– Да, – подтвердил Немечек, осмелев при виде того, какое впечатление произвела на всех эта новость.
– Этого больше нельзя терпеть! – вскипел Гереб. – Я давно говорю: нужно что-то сделать, а Бока все кислую рожу корчит. Пока мы будем сидеть сложа руки, они нас еще изобьют, вот увидите!
Чонакош сунул два пальца в рот, собираясь на радостях свистнуть. Он всегда рад был примкнуть к любому мятежу. По Бока поймал его за руку:
– Не оглушай, пожалуйста. – И серьезно спросил у белокурого мальчугана: – Так как же было дело?
– Что? Эйнштанд?
– Ну да. Когда это случилось?
– Вчера днем.
– Где?
– В музее.
Так назывался у них сад Национального музея.
– Ну вот и расскажи все как было, только по порядку. Уж если что предпринимать против них, надо знать все в точности.
Малыш Немечек разволновался, почувствовав себя в центре важных событий. Это не часто выпадало ему на долю. Немечек был для всех словно пустое место. Он, как нуль в арифметике, ровно ничего не значил, и никто с ним не считался. Это был маленький, незаметный мальчик, худенький и слабый. Может быть, поэтому он всегда и оказывался жертвой остальных.
Немечек начал рассказывать, и все наклонились к нему.
– Дело было так, – сказал он. – После обеда пошли мы в музей: Вейс, я, Рихтер, Колчан и Барабаш. Сначала мы хотели поиграть в лапту на улице Эстерхази, но бита была у реалистов, и они ее нам не отдали Барабаш и говорит: «Пошли в музей, поиграем у стенки в шарики». Мы пошли и стали играть. Пускали шарик, и кто попадет в другой, пущенный перед ним, тот забирает себе все. Вот катаем мы по очереди шарики; у стенки их скопилось уже штук пятнадцать, даже стеклянных два. Вдруг Рихтер как крикнет: «Кончай, Пасторы идут!» Тут из-за угла выходят два брата Пасторы: руки в карманы, глядят исподлобья, идут вразвалку, так что мы очень испугались. Нас, правда, пятеро было, да что толку: они вдвоем с десятерыми справятся. Да и потом, нельзя на всех рассчитывать: дойдет до драки – и Колнаи удерет, и Барабаш тоже удерет; значит, только трое останутся. А если и я вдруг удеру, то вовсе двое. А всем сразу удирать – опять ничего не выйдет: Пасторы здорово бегают – лучше всех в музее, все равно догонят. Ну вот, значит, подходят Пасторы – ближе, ближе и всё на шарики поглядывают. Я и говорю Колнаи: «Видно, им шарики наши понравились!» И тут Вейс умнее всех оказался – сразу сказал: «Идут, идут… Ну, сейчас здесь такой „эйнштанд“ получится!..» Но я подумал, что они нас не тронут: мы ведь им никогда ничего плохого не делали. Сначала они и не приставали, только стали вот так в сторонке и смотрят, как мы играем. Колнаи мне шепчет: «Ты, Немечек, кончай!» А я ему: «Как бы не так: когда ты промазал! Теперь моя очередь. Вот выиграю, тогда и кончим». Тут Рихтер как раз свой шарик пустил, только у него руки дрожали от страха: он все на Пасторов косился, ну, и, конечно, промазал. Но Пасторы даже не шелохнулись, стоят себе, руки в карманы. Наконец пустил я свой шарик и попал. Сразу все шарики выиграл. Хочу пойти собрать их: шариков тридцать, наверно, было; но тут ко мне подскакивает младший Пастор и кричит: «Эйнштанд!» Я оглянулся – Колнаи с Барабашем тягу дали. Вейс стоит у стены бледный-бледный, а Рихтер не знает, бежать ему или нет. Хотел было я с ними по-хорошему, – говорю: «Слушайте, вы не имеете права у нас шарики отнимать». Тогда старший Пастор сгреб все шарики и положил себе в карман. А младший схватил меня за курточку, вот здесь, на груди, да как заорет: «Ты что, не слышишь? Эйнштанд!» Ну, тут, конечно, что мне оставалось делать… Вейс у стенки захныкал. А Колнаи с Барабашем из-за угла выглядывают: что, мол, там творится? Пасторы собрали все шарики и ушли, ни слова не говоря. Вот и все.

– Безобразие! – возмутился Гереб.
– Просто грабеж!.. – воскликнул Челе.
А Чонакош пронзительно свистнул в знак того, что в воздухе запахло порохом. Бока молча стоял в раздумье. Все смотрели на него. Каждому было любопытно, что скажет Бока.
История с Пасторами тянулась уже много месяцев, вызывая всеобщие жалобы, но он до сих пор не придавал ей серьезного значения. Однако эта новая вопиющая несправедливость задела и Боку. Он тихо произнес:
– Пойдем пока обедать. А потом встретимся на пустыре. Там обсудим. Но, по-моему тоже – это безобразие!
Такое заявление всем понравилось. Очень был хорош Бока в эту минуту. С любовью смотрели на пего товарищи – на это умное лицо, в эти ясные черные глаза, загоревшиеся воинственным пылом. Они готовы были расцеловать его за то, что наконец и он возмутился.
Пошли домой, Откуда-то со стороны Йожефвароша
доносился веселый колокольный перезвон; солнце сияло, и все казалось красивым и радостным. Мальчики чувствовали, что они в преддверии великих событий. Все вдруг загорелись жаждой действия и слегка волновались: что теперь будет? Уж если Бока сказал: будет, – значит, будет!
Так шли они не спеша к проспекту Юллё. Чонакош с Немечеком поотстали. Обернувшись, Бока увидел, что они стоят у одного из подвальных окон табачной фабрички. Оконный переплет густым слоем покрывала желтая табачная пыль.
– Нюхнем табачку! – весело воскликнул Чонакош и, еще раз свистнув, набил себе ноздри желтым порошком.
Немечек – маленькая обезьянка – от души рассмеялся. Он тоже взял на кончик тоненького мизинца немножко табаку и втянул в нос. Чихая, помчались они по улице Кёзтелек, счастливый своим открытием. Чонакош чихал громко, оглушительно, как из пушки. Белокурый Немечек только прыскал, словно рассерженный кролик. Так, хохоча и фыркая, бежали они, от счастья забыв и думать о той великой несправедливости, про которую Бока – сам Бока, всегда такой тихий и серьезный! – сказал, что это безобразие.
2
Пустырь… О вы, красивые, здоровые альфельдские школьники, которым довольно сделать один шаг, чтобы очутиться посреди безбрежной равнины, под чудесным сипим куполом, называемым небосводом; вы, чьи глаза привыкли к далеким просторам, кому никогда не приходилось жить в узких теснинах высоких домов, – вы, верно, и не знаете, что такое для пештских ребятишек свободный, незастроенный участок земли. Это равнина, степь, Альфельд
пештской детворы. Крохотный клочок земли, с одного края обнесенный ветхим дощатым забором, а с других – стиснутый громадами вздымающихся к самому небу домов: для городских мальчишек он – безграничность и свобода… Теперь и здесь, на пустыре улицы Пала, тоже выросло большое унылое четырехэтажное здание, битком набитое жильцам, из которых вряд ли хоть одному ведомо, что здесь, на этом клочке земли, прошло детство нескольких бедных пештских школяров.
Сам пустырь был пуст, как и полагается пустырям. Забор тянулся по той стороне его, которая выходила на улицу Пала. Справа и слева возвышались два больших дома. А сзади… сзади как раз и было то, что делало его самым замечательным, самым интересным местом на свете. Там начинался другой обширный участок земли, арендуемый лесопильней и сплошь уставленный штабелями дров. Правильными рядами возвышались огромные, кубической формы штабеля, а между ними были узкие проходы: настоящий лабиринт. Пятьдесят – шестьдесят крохотных, тесных уличек перекрещивались там, среди безмолвных, темных штабелей, и не так-то просто было ориентироваться в этом лабиринте. А кому все-таки ударялось сквозь него пробраться, тот попадал на небольшую площадку, где стоял домик. Этот странный, таинственный, жутковатый домик был паровой лесопилкой. Летом он был весь обвит диким виноградом, а из зеленой листвы высовывалась, попыхивая, лишь тонкая черная труба, которая через равные промежутки времени с точностью часового механизма выплевывала в небо клубки белоснежного пара. Слыша это пыхтение издалека, можно было подумать, что среди дровяных штабелей выбивается из сил паровоз и все никак не сдвинется с места.

Вокруг домика стояли большие неуклюжие телеги для дров. Время от времени одна из них подъезжала к навесу, и там сейчас же раздавался треск и грохот. Под навесом проделано было небольшое оконце, из которого высовывался дощатый желоб. Когда телега останавливалась под оконцем, из желоба начинали сыпаться распиленные поленья. Казалось, деревянные чурбаки льются в кузов сплошным потоком, так быстро они сыпались. Как только телега наполнялась, возчик криком предупреждал об этом. Тонкая труба тотчас переставала пыхтеть, и в домике сразу воцарялась тишина. Кучер понукал лошадей, они трогали, воз отъезжал. Тогда другая, порожняя, телега становилась под навес, черная железная труба снова начинала пыхтеть, и из желоба опять сыпались поленья. И так из года в год. Вместо дров, распиленных скрытой в домике пилой, телеги привозили все новые и новые бревна. Таким образом, количество штабелей на обширном дворе не менялось и завывание паровой пилы никогда не умолкало. Около домика росло несколько чахлых тутовых деревьев. Под одним стояла сколоченная из досок хибарка. В ней жил сторож-словак, охранявший по ночам склад от воров и от поджога.
Ну где найти другое такое замечательное место для игр? Нам, городским мальчишкам, другого и не нужно было. Лучше и удобнее для игры в индейцы мы и представить себе не могли. Пустырь на улице Пала, это великолепное ровное пространство, прекрасно заменял американские прерии. А дровяной двор изображал все остальное: город, лес, Скалистые горы – словом, то, чем ему в тот день предназначалось быть. И не думайте, пожалуйста, что дровяной двор был незащищенным местом! На штабелях покрупнее сооружены были форты и бастионы. Какой пункт следовало укрепить, решал Бока. А строили укрепления Чонакош и Немечек. Форты возвышались в четырех – пяти местах, и гарнизоном каждого командовал капитан. Из капитанов, старших лейтенантов и состояло все войско. Рядовых, к сожалению, не было; верней, был только один. Единственный рядовой на всем пустыре исполнял приказания капитанов и лейтенантов, единственного рядового муштровали и его же за всякие проступки приговаривали к заключению в крепость.
Излишне, пожалуй, добавлять, что этим единственным рядовым был Немечек – белокурый малыш Немечек. Капитаны, старшие лейтенанты и лейтенанты, сколько ни встречались, – хоть сто раз на день, – то и дело благодушно козыряли друг другу. Небрежно вскинув руку к голове, на ходу бросали:
– Здравствуй!
Одному только бедному Немечеку поминутно приходилось становиться навытяжку и молча отдавать честь. И кто бы ни проходил мимо, каждый на него кричал:
– Как стоишь?
– Пятки вместе, носки врозь!
– Грудь колесом! Подбери живот!
– Смиррно!
И Немечек самозабвенно всем повиновался. Бывают мальчики, которым доставляет удовольствие четко выполнять чужие приказания. Но большинство любит командовать. Таковы уж люди! Поэтому вполне естественно, что на пустыре все были офицерами и только Немечек – рядовым.
В половине третьего на пустыре никого еще не было. Перед сторожкой прямо на земле, на расстеленной попоне, крепко спал словак. Он всегда спал днем, так как ночью бродил между штабелями или сидел наверху, в одном из фортов, уставясь в пространство, залитое лунным светом. Выла паровая пила; тонкая черная труба выплевывала белоснежные клубочки пара, и в кузов телеги сыпались распиленные поленья.
Но вот скрипнула калитка, которая вела на улицу Пала, и появился Немечек. Оглянувшись по сторонам и увидев, что никого еще нет, он вынул из кармана краюшку хлеба и принялся потихоньку жевать. Но прежде старательно задвинул засов, ибо один из важнейших законов пустыря вменял в обязанность каждому входящему запирать за собой калитку. Нарушение грозило заточением в крепость. Воинская дисциплина на пустыре вообще отличалась большой строгостью. Немечек сел на камень и, жуя корку, стал ждать. Сегодняшний сбор на пустыре сулил много интересного. В воздухе носилось что-то, предвещавшее важные события, и к чему скрывать: Немечек в этот момент очень гордился своей принадлежностью к Союзу пустыря – славному содружеству мальчишек с улицы Пала. Немного пожевав, он, чтобы убить время, решил поразмяться и пошел к дровяным штабелям. Пробираясь узкими проходами, он вдруг столкнулся с большой черной собакой сторожа.
– Гектор! – дружелюбно окликнул ее мальчик.
Но пес не изъявил ни малейшей охоты здороваться, только на бегу слегка шевельнул хвостом: у собак это означает приблизительно то же, что у нас мимоходом приподнять шляпу. Потом помчался дальше, заливаясь яростным лаем. Немечек побежал за ним. Около одного штабеля Гектор остановился и, задрав морду кверху, продолжал с остервенением лаять. Это был как раз один из тех штабелей, где мальчики устроили форты. На самом верху из поленьев был сделан парапет и на тонкой палке развевалось маленькое ало-зеленое знамя. Гектор прыгал вокруг форта и лаял без умолку.
– Что там такое? – спросил у него Немечек: белокурого малыша ведь связывала с черным псом тесная дружба. Может быть, потому, что оба они числились в войске рядовыми.
Немечек посмотрел вверх, но никого не увидел. Однако кто-то все же возился там, среди дров. Поэтому мальчуган стал карабкаться наверх, хватаясь за их выступающие концы. Уже на полпути он совсем ясно услышал, как кто-то ворочает и перекладывает поленья. Сердце у него забилось, и ему захотелось спуститься. Но, посмотрев вниз и увидев Гектора, он приободрился.
«Смелей, Немечек», – сказал он себе и осторожно стал карабкаться дальше. И всякий раз, переставляя ногу выше, подбадривал себя, приговаривая:
– Смелей, Немечек. Смелей, Немечек.
Наконец добрался до вершины. Тут он еще раз сказал себе: «Смелей, Немечек», и уже собирался было перелезть через парапет, но занесенная нога его вдруг так и застыла в воздухе.
– Господи Иисусе! – испуганно воскликнул он и стал поспешно спускаться.
Когда он достиг земли, сердце у него готово было выпрыгнуть из груди. Он взглянул наверх. Возле знамени, поставив правую ногу на парапет, стоял Фери Ач – грозный Фери Ач, их враг, предводитель мальчишек из Ботанического сада. Ветер раздувал его просторную красную рубаху, а сам он насмешливо улыбался.
– Смелей, Немечек! – негромко бросил он сверху мальчику.
Но того покинули последние остатки смелости. Он пустился наутек. Черный пес помчался за ним, и оба юркнули в извилистые ходы между штабелями, спеша назад, на пустырь. А вдогонку им летели язвительные возгласы: «Смелей, Немечек!»
Когда Немечек, добежав до пустыря, обернулся, над фортом уже не видно было красной рубашки Фери Ача. Но не развевалось там больше и знамя. Фери унес с собой ало-зеленый флажок, сшитый сестрой Челе, скрывшись с ним в штабелях. Может быть, он вышел на улицу Марии, и ворота за лесопилкой, а может, прячется где-нибудь здесь вместе со своими друзьями Пасторами.
При мысли о том, что и Пасторы могут быть здесь, Немечека мороз подрал по коже. Ему ли не знать, что значит столкнуться с Пасторами! Зато Фери Ача он видел так близко первый раз. Немечек не на шутку его испугался, но, откровенно говоря, Фери ему скорее понравился. Красивый, плечистый, смуглый парень был Фери Ач, и ему удивительно шла просторная красная рубаха. Она придавала ему воинственный вид. В этой красной рубахе было что-то гарибальдийское. Красные рубашки, в подражание Фери Ачу, носили все ребята из Ботанического сада.
В калитку постучали четыре раза – через равные промежутки. Немечек облегченно вздохнул: четыре удара были условным знаком мальчишек с улицы Пала.
Он подбежал к калитке, отпер. Вошли Бока, Челе и Гереб. Немечеку не терпелось рассказать им устрашающую новость, но он не забывал, что рядовой и на нем лежат определенные обязанности перед старшими лейтенантами и капитанами.
Он стал навытяжку и откозырял.
– Здравствуй! – ответили вновь прибывшие. – Что нового?
Немечек открыл было рот, но не мог произнести ни слова: так силился он выложить все сразу, одним духом.
– Ужас! – выпалил он наконец.
– Что такое?
– Кошмар! Вы не поверите!
– Да в чем дело?
– Здесь был Фери Ач!
Теперь пришел черед слушателей ужасаться. Они сразу стали серьезными. – Врешь! – сказал Гереб.
Немечек положил руку на сердце:
– Ей-богу!
– Не клянись, – сурово заметил Бока и, чтобы придать своему замечанию больше веса, прикрикнул: – Смирно! Немечек щелкнул каблуками. Бока подошел к нему:
– Расскажи подробно все, что ты видел.
– Когда я вышел туда, на середину, Гектор залаял. Я побежал за ним, вдруг слышу какой-то треск в средней цитадели. Выбираюсь наверх – а там Фери Ач стоит в красной рубашке.
– Наверху? В самой цитадели?
– Наверху! – подтвердил белокурый мальчуган и чуть было опять не поклялся. Он уже поднес руку к груди, но, встретив строгий взгляд Боки, опустил ее и добавил только: – Он и знамя унес.
Челе ахнул:
– Как! Знамя?
– Да.
Все четверо побежали в форту. Немечек скромно трусил позади всех – не только потому, что был рядовым, но и потому, что неизвестно: а вдруг Фери Ач прячется где-нибудь неподалеку, на улице. У форта все остановились. Действительно, знамени не было. Даже древко исчезло. Все пришли в страшное возбуждение, только Бока сохранил хладнокровие и спокойно стал распоряжаться.
– Скажи сестре, – обратился он к Челе, – пускай сошьет к завтрашнему дню новое знамя.
– Хорошо, – ответил Челе. – Только зеленой материи больше не осталось. Красная есть, а зеленая вся вышла.
– А белая есть?
– Есть.
– Ну, так пусть сделает красно-белое знамя. Теперь нашими цветами будут красный и белый.
На этом и порешили. Гереб крикнул Немечеку:
– Рядовой!
– Я!
– Нынче же внесите поправку в законы: наши цвета теперь не красный и зеленый, а красный и белый.
– Есть, господин старшин лейтенант!
И Гереб благосклонно кинул белокурому мальчугану, который вытянулся перед ним в струнку:
– Вольно!
Немечек встал вольно. Мальчики взобрались на вершину цитадели и установили, что Фери Ач отломил древко. Конец его, накрепко прибитый, печально торчал на гвозде.
Со стороны пустыря послышались возгласы:
– Гаго, го! Гаго, го!
Это был их клич. Наверно, пришли остальные и ищут их. Из множества ребячьих глоток вырывались звонкие крики:
– Гаго, го!
Челе подозвал Немечека:
– Рядовой!
– Я!
– Ответить остальным!
– Есть, господин лейтенант!
Немечек приставил рупором ладонь ко рту и тонким детским голоском прокричал:
– Гаго, го!
Спустившись на землю, все пошли на пустырь. Там, посредине, тесной группой стояли Чонакош, Вейс, Колнаи и другие. Увидев Боку, все встали «смирно», потому что Бока был капитаном.
– Здравствуйте. – приветствовал он их.
– Честь имею доложить, – отрапортовал Колнаи, выступив вперед, – когда мы пришли, калитка была открыта. А по закону полагается запирать ее изнутри на задвижку.
Бока обернулся и укоризненно взглянул на свою свиту. И все сразу посмотрели на Немечека. Немечек снова поднял руку и уже хотел было поклясться, что не оставлял калитку открытой, но Бока спросил:
– Кто вошел последним? Все притихли. Последним никто не входил. Некоторое время длилось молчание. Вдруг лицо Немечека осветила догадка:– Последним вошел господин капитан.
– Я? – удивился Бока.
– Так точно.
Бока на мгновение задумался.
– Ты прав, – сказал он серьезно. – Я забыл про задвижку. Старший лейтенант, – обернулся он к Геребу, – внесите за это мое имя в черную книгу.
Гереб вынул из кармана черную записную книжечку и большими буквами вывел в ней: «Янош Бока». А чтобы ясно было, о чем идет речь, тут же пометил: «калитка». Это всем понравилось. Бока был справедлив. Наказание, наложенное на себя самого, было прекрасным примером мужества – мужества, о котором не часто доводилось слышать даже на уроках латинского языка, хотя там только и говорилось, что о твердости древних римлян. Но и Бока был человек. И ему не чужды были слабости. Правда, он приказал вписать свое имя в черную книгу, но Колнаи, доложившему о незапертой калитке, сказал:
– А ты поменьше языком болтай. Старший лейтенант, внесите туда же Колнаи за ябедничество.
Старший лейтенант опять вытащил свою грозную книжку и вписал туда Колнаи. Что же касается Немечека, стоявшего позади всех, то он на радостях, что в книгу впервые за все время вписали не его, принялся потихоньку отплясывать на месте чардаш.
Дело в том, что в книжке только его имя и красовалось на каждой странице. Все, всегда, за все записывали одного Немечека. И военный трибунал, заседавший по субботам, выносил приговоры только ему, и никому больше. Что поделаешь! Так уж повелось. Ведь Немечек был единственным рядовым.
После этого качалось совещание. Через несколько минут все уже знали потрясающую новость о том, что капитан краснорубашечников Фери Ач осмелился проникнуть сюда, в самое сердце пустыря, забрался в среднюю цитадель и похитил знамя. Негодование было всеобщим. Все обступили Немечека, который дополнял сенсационное известие все новыми и новыми подробностями.
– Он говорил тебе что-нибудь?
– А как же! – с гордостью отвечал Немечек.
– Что?
– Он мне кричал.
– Что кричал?
– Кричал: «Не смей, Немечек!»
– Тут мальчуган судорожно глотнул, почувствовав, что сказал нечто не совсем соответствующее истине. Даже прямо противоположное ей. Выходит ведь, будто он вел себя настоящим храбрецом, так что сам Фери Ач, пораженный его дерзостью, крикнул: «Но смей, Немечек!»
– И ты ушел?
– Ничего подобного! Стоял внизу, около форта. А Фери слез с другой стороны. И убежал.
– Это неправда! – крикнул Гереб. – Фери Ач еще ни от кого не бегал!
Бока пристально взглянул на Гереба:
– Эге! Ты что же, защищаешь его?
– Я только потому говорю, – возразил Гереб, слегка сбавив тон, – что это просто невероятно: чтобы Фери Ач испугался Немечека!
Все засмеялись. Действительно, это было невероятно. Немечек стоял, окруженный толпой слушателей, и растерянно пожимал плечами. Бока вышел на середину:
– Надо что-то делать, ребята. У нас все равно назначены на сегодня выборы президента. Так вот, давайте выберем полновластного президента, которого все должны беспрекословно слушаться. Возможно, что дело кончится войной, поэтому нужен предводитель, которой все подготовит заранее, как настоящие полководцы. Рядовой, ко мне! Смирно! Нарежьте столько листочков бумаги, сколько всех нас. Каждый на своем листке напишет, кого он хочет в президенты. Бумажки опустим в шляпу, и кто получит большинство голосов, тот и будет президент.
– Ура! – закричали все, а Чонакош вложил в рот два пальца и свистнул не хуже паровой молотилки. Стали вырывать листки из записных книжек, а Вепс вооружился карандашом. Позади Колнаи и Барабаш спорили, чья шляпа удостоится такой чести. Между ними вечно были раздоры, а тут и вовсе чуть не дошло до рукопашной. Колнаи говорил, что шляпа Барабаша не годится, потому что она засаленная. А Барабаш утверждал, что у Колнаи шляпа еще грязнее. Оба не медля взяли пробу на жирность: поскребли друг у друга перочинным ножиком кожаный ободок и внутри шляпы. Но опоздали: Челе уже предложил для общественной надобности свою небольшую изящную черную шляпу. Что поделаешь: по части шляп у Челе не было соперников.
А Немечек, к великому удивлению присутствующих, вместо того чтобы раздавать бюллетени, улучил момент, когда общее внимание обратилось па него, и, зажав листки в грязном кулаке, выступил вперед. Встав «смирно», он дрожащим голоском заговорил:
– Извините, господин капитан, но это несправедливо, что я единственный рядовой… Когда мы основали Союз пустыря, все сразу, стали офицерами, и только я до сих пор рядовой, и все мне приказывают… и я всё должен делать… и… и…
Тут бедный мальчуган совсем расчувствовался, и по его бледному личику с тонкими чертами покатились крупные слезы.
Челе бросил свысока:
– Его надо исключить. Он плакса.
– Рева, – пробасил кто-то сзади. Все засмеялись. Это переполнило чашу. Уж очень накипело на сердце у бедняги: он не мог больше сдерживаться. Прерывающимся от рыданий голосом он произнес:
– И в черную книгу… посмотрите сами… всегда только ме… меня… записывают… Все я… один я… хуже последней собаки…
Бока спокойно заметил:
– Перестань сейчас же реветь или уходи. С карапузами мы не играем.
Слово «карапуз» возымело нужное действие. Бедный маленький Немечек, не на шутку испугавшись, перестал плакать. Капитан положил ему руку на плечо:
– Если будешь хорошо себя вести и отличишься, уже в мае будешь офицером. А пока временно оставайся рядовым.
Остальные одобрили это решение. В самом деле, если и Немечека произвести сегодня в офицеры, тогда уж действительно ничего не выйдет: некому будет приказывать.
– Рядовой, очините карандаш! – раздался резкий голос Гереба.
Немечеку сунули в руку карандаш Вейса, острие которого обломилось в кармане, среди шариков. Бедный рядовой с мокрым от слез лицом послушно взял карандаш и, встав «смирно», принялся точить, точить его, время от времени еще судорожно всхлипывая, как всегда после долгого плача, и всю свою печаль, всю накипевшую на сердечке горечь вложил в оттачивание этого карандаша «Хардмут» номер второй.
– Го… готово, господин старший лейтенант.
Он отдал карандаш и, глубоко вздохнув, оставил пока надежду на повышение.
Роздали листки. Каждый отошел с ним в сторонку, каждый уединился: дело ведь большое и важное! Затем рядовой стал собирать записки, бросая их в шляпу. Когда он, обходя всех со шляпой, поравнялся с Барабашем, тот подтолкнул Колнаи:
– Смотри, у Челе тоже засаленная.
Колнаи заглянул внутрь шляпы. И обоим стало ясно, что стыдиться им нечего. Уж если у Челе шляпа засалена, им сам бог велел.
Бока стал вслух читать записки, передавая их стоящему рядом Геребу. Всего оказалось четырнадцать записок. «Янош Бока», «Янош Бока», «Янош Бока», – читал он подряд. Потом вдруг «Деже Гереб». Мальчики переглянулись. Все поняли, что это бюллетень самого Боки: он из вежливости проголосовал за Гереба. Дальше опять пошло «Бока», «Бока». И вдруг снова: «Деже Гереб». И под конец еще раз «Деже Гереб».
Итак, за Боку – одиннадцать голосов, за Гереба – три. Гереб смущенно улыбался. Впервые за все существование союза пришлось ему вступить с Бокой в открытое соперничество. Эти три голоса были ему приятны. А Боку два из них больно задели. Несколько мгновений он стоял в раздумье, стараясь угадать, кто же эти двое, которым он пришелся не по сердцу. Потом, оставив эти попытки, объявил:
– Значит, президентом избран я. Все снова закричали «ура», а Чонакош опять свистнул. Немечек, хотя у него еще слезы на глазах не просохли, кричал с огромным воодушевлением. Уж очень любил он Боку. Президент сделал знак рукой, призывая к молчанию.
– Спасибо, ребята, – сказал он. – А теперь к делу. Я думаю, всем ясно, что краснорубашечники хотят захватить наш пустырь и штабеля. Вчера Пасторы отняли у наших шарики; сегодня Фери Ач прятался здесь и унес знамя. Рано или поздно они нагрянут и постараются прогнать нас отсюда. Но мы этого места не уступим.
– Да здравствует пустырь! – гаркнул Чонакош во всю глотку.
Вверх полетели шляпы. Все с восторгом подхватили:
– Да здравствует пустырь!
Собравшиеся озирали это чудесное, широкое пространство, освещенные весенним солнцем дровяные штабеля, и по глазам их было видно, что им дорог этот клочок земли и, если понадобится, они будут за него бороться. Это было что-то похожее на любовь к родине. Каждый восклицал: «Да здравствует пустырь!» – с таким чувством, как если бы кричал: «Да здравствует родина!» Глаза у всех блестели, сердца переполнились.
Бока продолжал:
– Мы сами пойдем к ним в Ботанический сад, прежде чем они явятся сюда!
В другое время такой дерзкий план, пожалуй, остановил бы многих. Но в этот миг общего воодушевления все в едином порыве воскликнули:
– Пошли!!!
А поскольку все решили идти, Немечек тоже крикнул: «Пошли!» Ему, бедняге, все равно придется тащиться позади с шинелями господ офицеров. И еще один сиплый голос донесся от штабелей. Он тоже воскликнул: «Пошли!» Все повернулись в ту сторону. Это был словак. Он стоял с трубкой во рту и ухмылялся. У ног его застыл Гектор. Мальчики засмеялись. А сторож, передразнивая их, подбросил шляпу в воздух и рявкнул:
– Башли!
На этом официальная часть кончилась. Пришла очередь лапты. Офицеры наперебой стали кричать надменными голосами:
– Рядовой, на склад! Принести биту и мячик!
Немечек побежал на склад, устроенный под одним из штабелей. Залез под поленья и вытащил оттуда мяч и биту. У штабеля стоял словак, а рядом с ним – Барабаш и Колнаи, Барабаш держал в руках шляпу словака, а Колнаи брал с нее пробу. Шляпа сторожа безусловно была самая засаленная из всех.
Бока подошел к Геребу.
– Три голоса, значит, достались тебе, – сказал он.
– Да, – гордо ответил Гереб и посмотрел ему прямо в глаза.
3
План военных действий был готов на другой же день, после урока стенографии. Урок кончился в пять, и на улицах уже зажигались фонари. Выходя из школы, Бока сказал мальчикам:
– Прежде чем напасть, нужно доказать им, что мы их не боимся. Я возьму с собой двух самых храбрых из моих людей, и мы сделаем вылазку в Ботанический сад. Проберемся к ним на остров и прибьем к дереву вот эту записку.
С этими словами он достал из кармана красный клочок бумаги, на которой большими заглавными буквами было выведено:
ЗДЕСЬ БЫЛИ МАЛЬЧИШКИ С УЛИЦЫ ПАЛА!
Все благоговейно воззрились на красный лоскуток. Чонакош, не ходивший на уроки стенографии, но привлеченный любопытством, заметил:
– Нужно прибавить еще какое-нибудь словцо покрепче. Бока отрицательно покачал головой:
– Нет, нельзя. И вообще, красть знамена, как Фери Ач, и разные такие вещи мы делать не будем. Покажем только, что не боимся их, что посмели проникнуть в самое сердце их владений, где они устраивают свои собрания и прячут оружие. Эта красная бумажка – наша визитная карточка. Вот мы им и оставим ее.
Челе тоже вставил слово.
– Прости, пожалуйста, – сказал он, – но говорят, они как раз в это время, по вечерам, приходят на остров играть в солдаты и разбойники.
– Не беда. Фери Ач тоже ведь пришел, зная, что в это время мы бываем на пустыре. Кто трусит, пускай не идет.
Но никто не трусил. Даже Немечек проявил бесспорную отвагу. Ему, видно, хотелось поскорей заслужить повышение. Гордо подняв голову, он выступил вперед:
– Я иду с тобой!
Ведь тут, около гимназии, не надо было вставать «смирно», отдавать честь. Законы действовали только на пустыре, а здесь все были равны. Чонакош тоже вызвался:
– И я!
– Только обещай, что не будешь свистеть.
– Обещаю… А еще разочек можно свистнуть, самый последний?
– Ну, валяй!
И Чонакош свистнул. Так молодецки, изо всей мочи, что даже прохожие оглянулись.
– Ну вот, на сегодня насвистелся, – с блаженным видом сказал он.
Бока обернулся к Челе:
– Ты не идешь?
– А что я могу поделать? – сокрушенно ответил Челе. – Мне нельзя: я к половине шестого должен быть дома. Мама так и следит, когда кончится урок стенографии. Она меня больше никуда пускать не будет, если я сегодня опоздаю.
Мысль эта страшно его испугала. Тогда прощай и пустырь, и лейтенантский чин!
– Ладно, оставайся. Я возьму с собой Чонакоша и Немечека. Завтра утром в школе обо всем узнаете.
Они пожали друг другу руки. Бока, вспомнив что-то, вдруг остановился:
– А Гереба на уроке стенографии ведь не было?
– Не было.
– Он что, заболел?
– Вряд ли. Днем мы с ним вместе возвращались домой. У него ничего не болело.
Поведение Гереба не нравилось Боке. Оно вызывало у него сильнейшие подозрения. Вчера, при прощании, Гереб так странно, многозначительно посмотрел ему в глаза. Как будто вдруг понял: там, где Бока, ему ничего не добиться. Бока вызывал в нем ревнивое чувство. В Геребе смелости, задора было больше; уравновешенный, рассудительный, серьезный нрав президента был ему не по душе. Он ставил себя куда выше Боки.
– Бог его знает, – пробормотал Бока и в сопровождении двух мальчуганов двинулся в путь.
Чонакош с серьезным видом шагал с ним рядом. А Немечек ног под собой не чуял от радости. Как же! Наконец ему довелось, всего с двумя спутниками, участвовать в таком интересном приключении! Он так ликовал, что Бока даже остановил его:
– Не дури, Немечек. Ты, кажется, вообразил, что мы развлекаться идем? Наша вылазка куда опасней, чем ты думаешь. Вспомни-ка о Пасторах.
При этом напоминании у белокурого малыша сразу пропала всякая охота дурачиться. Ведь вот и Фери Ач – гроза всей улицы; по слухам, его даже исключили из реального училища. Но у него во взгляде было что-то привлекательное, располагающее, не то что у Пасторов, Те всегда ходят сбычившись, глядят исподлобья, как будто пронизывают тебя насквозь. Оба – черные от загара, и никто еще ни разу не видел, чтоб они смеялись. Пасторов действительно можно испугаться. И три мальчугана спешили поскорей миновать бесконечный проспект Юллё. Уже смеркалось: вечер наступил рано. На проспекте зажглись фонари, и ходить по улицам в этот необычный час было немного тревожно. Мальчики привыкли играть днем, а по вечерам сидели дома, за книжками… Молча шли они рядом и через четверть часа достигли Ботанического сада.
За каменной стеной враждебными призраками застыли огромные деревья. Ветер шелестел молодой листвой; было уже темно, и сердца пришельцев забились при виде этого раскинувшегося перед ними огромного, загадочно шепчущегося сада с запертыми воротами. Немечек хотел было позвонить у входа.
– Ради бога, не звони! – предостерег его Бока. – Они узнают, что мы здесь, и перехватят нас на полдороге… Да и вообще, с какой стати нам вдруг будут открывать ворота!
– А как же мы пойдем? Бока указал глазами на стену:
– Перелезем.
– Через стену?
– Прямо здесь, на проспекте?
– Зачем! Зайдем с другой стороны. Сзади стена гораздо ниже!
Повернув на маленькую темную уличку, где каменная ограда вскоре сменилась дощатым забором, они стали пробираться вдоль него, ища, где бы лучше перелезть. В одном месте, куда не достигал свет уличного фонаря, все трое остановились. За дощатой оградой, почти вплотную к ней, росла большая акация.
– Если взобраться здесь, – шепотом сказал Бока, – то по этой акации легко спуститься в сад. Это удобно еще и потому, что с верхушки акации далеко видно и мы можем осмотреться, нет ли кого поблизости.
Спутники одобрили этот план и сейчас же приступили к исполнению. Чонакош нагнулся и уперся руками в забор. Бока осторожно взобрался к нему на плечи и заглянул в сад. Все это было проделано в глубоком молчании: никто не издал ни звука. Убедившись, что вблизи никого нет, Бока махнул рукой. Немечек шепнул Чонакошу:
– Подымай!
Чонакош, выпрямившись, приподнял президента, и тот влез на забор. Ветхая ограда заскрипела и затрещала под его тяжестью.
– Прыгай! – шепнул Чонакош.
Снова послышался треск, потом – мягкий удар о землю: Бока спрыгнул прямо на грядку. За ним перелез Немечек. Последним на забор вскарабкался Чонакош. Но вместо того чтобы спрыгнуть вниз, он полез на акацию. Чонакош отлично лазил по деревьям: он вырос в деревне.
– Видно что-нибудь? – спросили Бока и Немечек снизу.
– Почти ничего; страшно темно, – донесся приглушенный ответ с верхушки дерева.
– Остров видишь? – Вижу.
– Есть там кто?
Чонакош, напрягая зрение, наклонился вправо, влево, всматриваясь между ветвей в темноту – туда, где находилось озеро.
– На острове ничего не видно из-за деревьев и кустов… Но на мосту…
Тут он умолк и перебрался на другой сук, повыше.
– Теперь вижу хорошо, – донесся оттуда его голос. – На мосту стоят двое.
– Они там, – тихо сказал Бока. – На мосту у них часовые.
Ветви опять затрещали – Чонакош слез с дерева. Все трое в глубоком молчании стали раздумывать, как быть дальше. Потом, присев под кусты, чтобы никто не увидел, тихонько, шепотом, начали совещаться.
– Лучше всего, – предложил Бока, – пробраться сначала кустами к развалинам замка. Знаете, есть там справа такие развалины, на склоне холма.
Остальные кивнули, подтверждая, что знают.
– Кустами осторожно доберемся до развалин. Там кто-нибудь ползком взберется на вершину холма и посмотрит вокруг. Если никого нет, поползем дальше. Холм ведь подходит к самому озеру. Спрячемся в осоке; ну, а там видно будет, что делать.
Две пары горящих глаз были устремлены на Боку. Чонакош и Немечек благоговейно внимали каждому его слову.
– Согласны? – спросил Бока.
– Согласны! – кивнули они.
– Тогда вперед! Только держитесь все время за мной. Я тут все проходы знаю.
И он на четвереньках пополз между низенькими кустами. Но не успели его спутники опуститься на колени, как издали послышался резкий протяжный свист.
– Заметили! – воскликнул Немечек и вскочил на ноги.
– Назад! Назад! Ложись! – приказал Бока.
И все трое повалились в траву. Затаив дыхание, они стали ждать, что теперь будет, Неужели действительно заметили?
Но никто не появлялся. Только ветер шумел в ветвях деревьев.
– Никого, – прошептал Бока.
Но тут снова резкий свист рассек воздух. Снова стали они выжидать, и снова никто не появился.
– Надо с дерена посмотреть, – пролепетал из-под куста Немечек, стуча зубами.
– Ты прав. Чонакош, на дерево!
Чонакош, как кошка, в мгновение ока вскарабкался на верхушку все той же большой акации.
– Ничего не видно?
– На мосту какое-то движение… Сейчас там четверо… Вот двое уходят… идут обратно, на остров.
– Тогда все в порядке, – сказал Бока, успокоившись. – Слезай. По свистку у них просто сменяется караул на мосту.
Чонакош спустился с дерева, и все трое поползли на четвереньках к холму. Огромный таинственный сад в этот час затихает. По звуку колокола посетители удаляются, и в саду не остается посторонних – кроме разве таких, кто замышляет недоброе или строит военные планы, вроде наших пришельцев, которые переползали от куста к кусту, сжавшись в еле видимые комочки. Глубоко сознавая важность своей миссии, они не тратили лишних слов и ползли молча. По правде говоря, им даже было немного не по себе. Немалая ведь смелость нужна, чтобы проникнуть в неприступную твердыню краснорубашечников, пробраться на остров посреди маленького озера, когда на единственном мосту, который туда ведет, стоят часовые… «Может быть, как раз Пасторы», – подумал Немечек и вспомнил красивые круглые разноцветные шарики и среди них даже два стеклянных. Его до сих пор мучила досада при мысли, что именно тогда, когда он пустил свой шарик и должен был выиграть столько красивых шариков, прозвучало это чудовищное слово: «Эйнштанд»…
– Ой! – вдруг вскрикнул он. Бока и Чонакош замерли в испуге.
– Что такое?
Немечек привстал на коленях, глубоко засунув палец в рот.
– Что с тобой?
Не вынимая пальца изо рта, Немечек ответил;
– В крапиву наступил – рукой!
– Соси, соси пальчик, мамочка! – посоветовал Чонакош; но сам, не будь дурак, обмотал себе руку носовым платком.
Так ползли они все дальше и вскоре достигли холма. На склоне его, как известно, были сооружены искусственные развалины, какие устраивали обычно в больших помещичьих садах, старательно воспроизводя особенности старинного замкового зодчества и заполняя искусственным мхом расщелины между огромными камнями.
– Это развалины замка, – объяснил Бока. – Здесь надо быть осторожней: я слышал, что краснорубашечники сюда тоже приходят.
– Это что еще за замок? – отозвался Чонакош. – Мы по истории не учили, что в Ботаническом саду – замок.
– Это всего-навсего развалины, руины. Их так, в виде руин, и строили.
Немечек засмеялся:
– Уж коли строить, так почему нового замка не выстроить?
Через сто лет он и сам развалился бы…
– Рано ты что-то обрадовался, – заметил Бока укоризненно. – Вот погоди: с Пасторами встретишься, не до шуток будет.
И правда, одного этого замечания оказалось довольно, чтоб у Немечека сразу вытянулось лицо. Такой уж у него был характер: все время он забывал, что радоваться нечему. Постоянно приходилось ему об этом напоминать.
Они принялись карабкаться вверх по склону, между кустами бузины, цепляясь за камни развалин. На этот раз Чонакош полз впереди. Вдруг он, как был, на четвереньках, так и застыл на месте. Предостерегающе подняв правую руку, обернулся и сказал испуганно:
– Тут кто-то есть.
Все трое спрятались в высокую траву, надежно укрывшую их маленькие тела. Только глаза блестели в зарослях бурьяна. Мальчики прислушались.
– Чонакош, приложи ухо к земле, – шепотом приказал Бока. – Так всегда делают индейцы. Сразу слышно, если кто поблизости ходит.
Чонакош повиновался: лег ничком и, выбрав голое, не заросшее травой местечко, приложил ухо к земле. Но тотчас же поднял голову.
– Идут! – в страхе прошептал он.
Теперь уж и без индейского способа было слышно, как кто-то пробирается сквозь кусты. И этот неведомый «кто-то» – не то человек, не то зверь – шел прямо на них. Мальчики струхнули не на шутку, даже головы спрятали в траву. Только Немечек простонал чуть слышно:
– Домой хочу.
Чонакош, не утративший веселого расположения духа, посоветовал:
– В травку заройся, мамочка.
Но так как это увещание не придало Немечеку смелости, Бока высунулся из травы и, сверкая глазами, гневно прикрикнул – конечно, шёпотом, чтобы не выдать своего присутствия:
– Рядовой, голову в траву!
Этому приказанию пришлось повиноваться. Немечек прильнул к земле. Между тем неизвестный все шуршал в кустах; но теперь по звуку слышно было, что он изменил направление и постепенно удаляется. Бока снова приподнял голову и огляделся по сторонам. Он увидел темную фигуру человека, который спускался с холма, тыча палкой в кусты. – Ушел, – сообщил Бока своим спутникам, лежавшим в траве. – Это караульный.
– Что? Краснорубашечник?
– Нет, сторож, который сад караулит.
Мальчики облегченно вздохнули. Взрослых они не боялись. Например, старого солдата с бородавкой на носу – сторожа при Национальном музее, который никогда не мог ничего с ними поделать. Они поползли дальше. Но тут караульщик, видимо заподозрив что-то, остановился, прислушиваясь.
– Заметил, – пролепетал Немечек.
Оба посмотрели на Боку, ожидая распоряжении.
– Скорей в замок! – отдал он приказание.
Все трое кубарем скатились с холма, на который только что взобрались. В каменных стенах руин были прорезаны узкие стрельчатые окна. С испугом беглецы обнаружили, что первое окно забрано железной решеткой, и метнулись к другому. Но и на нем решетка. Наконец в одном месте нашли расщелину, достаточно глубокую, чтобы в ней поместиться. Забились в это темное углубление и затаили дыхание. Мимо окон промелькнула фигура сторожа. Из ниши было видно, как он – теперь уже насовсем – удалился» прилегавшую к проспекту Юллё часть сада, где находилось его жилище.
– Слава богу, – сказал Чонакош, – пронесло.
И они осмотрелись в своем убежище. Там было душно, сыро, словно в подземелье настоящего замка. Осторожно ступая. Бока вдруг споткнулся. Нагнувшись, он поднял что-то с земли. Немечек с Чонакошем, подскочив к нему, в полумраке различили в руках у него томагавк. Точь-в-точь такой – вроде топорика на длинной рукоятке, – какими, по свидетельству романистов, сражались индейцы. Выстроганный из дерева и оклеенный серебряной бумагой, томагавк зловеще поблескивал в темноте.
– Это их томагавк! – со священным трепетом промолвил Немечек.
– Конечно, их, – подтвердил Бока. – А где нашелся один, там должны быть и другие!
Начались поиски, и в одном углу были обнаружены еще семь томагавков. Из этого легко было заключить, что краснорубашечников восемь человек. По-видимому, здесь находился их потайной оружейный склад. Первой мыслью Чонакоша было унести томагавки с собой как военную добычу.
– Нет, – сказал тихо Бока, – этого мы не будем делать. Это было бы просто воровство. Чонакошу стало стыдно.
– Что, мамочка? – осмелел было Немечек, по, получив легкий пинок от Боки, умолк.
– Ну, нечего время терять! Вылезаем – и на холм! Мне вовсе не хочется оказаться на острове, когда там никого уже не будет.
Эта дерзкая мысль вновь пробудила в них интерес к приключению. Раскидав томагавки по полу, чтобы враг видел: здесь кто-то был! – они вылезли из расщелины и на этот раз смело, в открытую, поспешили на вершину холма. Оттуда было видно далеко вокруг. Встав рядом друг с другом, они осмотрелись по сторонам. Бока достал из кармана сверток и, развернув его, вынул из газетной бумаги маленький перламутровый бинокль.
– Это сестра Челе дала мне свой театральный бинокль, – объяснил он, прикладывая его к глазам.
Но островок был виден и невооруженным глазом. Вокруг пего поблескивала гладь маленького озера, засаженного разными водяными растениями и густо заросшего по берегам камышом и осокой. Среди кустов и развесистых деревьев, видневшихся на острове, двигалась маленькая светящаяся точка.
– Они там, – промолвил Чонакош сдавленным голосом. Немечеку понравился фонарь.
– Ого, у них и фонарик есть!
Светящаяся точка то пропадала за кустами, то вновь появлялась. Кто-то переходил с места на место с фонарем в руках.
– Сдастся мне, – сказал Бока, не отнимай бинокль от глаз, – сдастся мне, что они к чему-то готовятся. Или вечернее учение проводят, или…
Тут он внезапно замолчал.
– Или что? – в тревоге спросили остальные.
– Господи, – воскликнул Бока, продолжая глядеть в бинокль, – тот, что держит фонарь… ведь это…
– Кто? Да говори же!
– Очень похож… Неужели это…
Он поднялся немного выше, чтобы получше разглядеть, но фонарь скрылся за кустами. Бока опустил бинокль.
– Исчез, – тихо сказал он.
– Кто же это был?
– Не имею права говорить. Мне не удалось разглядеть его как следует: только я хотел всмотреться, он исчез. А пока я твердо не знаю, кто он, не хочу подозревать напрасно.
– Уж не из наших ли кто?
– Кажется, да, – печально ответил президент.
– Но ведь это же предательство! – воскликнул Чонакош, позабыв, что надо соблюдать тишину.
– Тише! Вот доберемся до острова и все узнаем. А пока потерпи.
Теперь подстрекало и любопытство. Бока не хотел говорить, на кого похож был тот, с фонарем. Немечек с Чонакошем стали было гадать, но президент запретил, сказав, что непозволительно кого бы то ни было пятнать подозрениями. В возбуждении сбежали наши лазутчики с холма и внизу, снова опустились на четвереньки, прокладывая себе дорогу в траве.
Они уже не замечали ни колючек, ни крапивы, ни впивавшихся в ладони камней, а молча быстро ползли, подбираясь все ближе к берегам таинственного озерка.
Наконец вот и цель. Здесь уже можно было подняться на ноги; густая осока, камыш и высокий прибрежный кустарник совершенно скрывали их маленькие фигурки. Бока хладнокровно отдавал приказания:
– Где-то здесь должна быть лодка. Мы с Немечеком пойдем по берегу направо, а ты, Чонакош, ступай налево. Кто первый найдет, пускай подождет остальных.
И они молча разошлись. Но уже через несколько шагов Бока заметил в осоке лодку.
– Подождем, – сказал он.
Немечек и Бока стали ждать, пока Чонакош, обежав вокруг озерка, вернется с противоположной стороны. Сидя на берегу, они некоторое время глядели на звездное небо. Потом стали прислушиваться, не донесется ли с островка какой-нибудь обрывок разговора. Немечеку вздумалось блеснуть сообразительностью.
– Давай-ка я приложу ухо к земле, – сказал он.
– Оставь землю в покое, – возразил Бока. – Ведь рядом вода. Гораздо слышней, если к воде наклониться. На Дунае я видел, как рыбаки с разных берегов переговариваются друг с другом, наклонившись к воде. Вечером голоса здорово разносятся по поверхности.
Мальчики нагнулись к озерку, но слов различить не могли. С острова доносились только перешептывание да какая-то возня. Тем временем появился Чонакош и с огорчением доложил:
– Лодки нигде нет.
– Не горюй, мамочка, – утешил его Немечек. – Без тебя нашли.
И они спустились вниз, к лодке.
– Садимся.
– Только не здесь, – предостерег Бока. – Отведем ее сначала к другому берегу, чтобы не оказаться слишком близко от моста, если нас вдруг заметят. Переправляться будем как можно дальше от него: пускай они сделают крюк побольше, если побегут за нами.
Эта разумная предосторожность пришлась Немечеку и Чонакошу по душе. Сознание, что у них такой умный, предусмотрительный командир, прибавило им смелости.
– У кого есть бечевка?
Бечевка нашлась у Чонакоша. Чего только не было у него в карманах! И на базаре не найти всего, что умещалось в карманах Чонакоша. Были там и ножик, и шпагат, и шарики, медная дверная ручка, гвозди, ключи, тряпки, записная книжка, гаечный ключ и бог знает что еще. Чонакош вытащил из кармана бечевку, и Бока привязал ее к железному кольцу, ввинченному в нос лодки. Затем друзья медленно, осторожно повели лодку вдоль берега. Натягивая бечевку, они не переставали наблюдать за островком и, достигнув места, где собирались сесть в утлую посудину, опять услыхали свист. Но теперь это их не испугало: они знали, что свист возвещал лишь смену караула на мосту. Уже одно сознание, что они – в самой гуще событий, прогоняло всякий страх. Так бывает и с настоящими солдатами на настоящей войне. Пока врага не видно, каждый кустик страшен. А просвистала первая пуля, – и к солдатам возвращается храбрость: они словно хмелеют от опасности, забывая, что бегут навстречу смерти.
Приятели стали усаживаться в лодку. Первым вошел в нее Бока, за ним – Чонакош. Немечек боязливо переминался с ноги на ногу на вязком берегу.
– Ну лезь же, лезь, мамочка, – подбадривал его Чонакош.
– И так лезу, мамочка, – откликнулся Немечек, но вдруг поскользнулся, схватился за тонкий стебель камыша – и бултых в воду! Растянулся во весь рост, но даже пикнуть не посмел и сразу вскочил на ноги: оказалось – мелко. Очень он был смешон в эту минуту: вода лила с него ручьями, а руки все еще судорожно сжимали тонкую камышину. Чонакош не удержался и фыркнул:
– Захлебнулся, мамочка?
– Нет, не захлебнулся, – ответил мальчуган растерянной как был, мокрый, грязный, брызгая и хлюпая, уселся в лодку. Лицо его еще было бледно от испуга. – Вот не думал, что мне сегодня вдобавок еще выкупаться придемся, – чуть слышно прибавил он.
Но медлить было некогда. Бока с Чонакошем схватили весла и оттолкнулись от берега. Тяжелая лодка лениво отвалила, всколыхнув неподвижную гладь озера. Гребцы бесшумно опускали весла в воду, и тишина наступила такая, что было явственно слышно, как у притулившегося на носу Немечека стучат зубы. Через несколько минут лодка причалила к островку. Поспешно выскочив на берег, мальчики тотчас же укрылись за кустом.
– Ну, до острова, кажется, добрались, – сказал Бока и тихо, осторожно пополз вдоль берега. Остальные двое – на ним.
– Что же это мы? – вдруг обернулся к ним президент. – А лодка-то? Нельзя же бросать ее просто так. Если ее увидят, нам отсюда не уйти! Ведь на мосту часовые. Чонакош! Оставайся у лодки, раз уж у тебя такая фамилия.
Если заметят, – пальцы в рот и свисти во всю мочь. Мы сразу примчимся, прыгнем в лодку, а ты оттолкнешься от берега. Чонакош побрел назад, втайне радуясь; вдруг и вправду представится случай изо всех сил свистнуть.
А Бока с белокурым малышом поползли дальше по берегу. Там, где кусты были повыше, они вставали на ноги и крались пригнувшись. Потом остановились за одним высоким кустом и, раздвинув ветки, выглянули. Прямо перед ними, на небольшой лужайке посреди островка, расположился грозный отряд краснорубашечников. У Немечека забилось сердце. Он прижался к Боке.
– Не бойся, – шепнул президент.
Посреди лужайки лежал большой камень. На нем стоял фонарь, а вокруг на корточках сидели краснорубашечники. Они и на самом деле были все в красных рубашках. Рядом с Фери сидели оба Пастора, а возле младшего Пастора – какой-то мальчишка в рубашке совсем другого цвета.
Бока почувствовал, что прижавшегося к нему Немечека охватила дрожь.
– Ты… – начал было Немечек, но больше не мог ничего сказать и только повторял:– Ты… ты… – Потом прибавил чуть слышно:– Видишь?…
– Вижу, – грустно ответил Бока.
Среди краснорубашечников сидел на корточках Гереб. Значит, Бока не ошибся, когда рассматривал остров с холма. Фонарь действительно держал тогда не кто иной, как Гереб.
С удвоенным вниманием стали они теперь наблюдать за собравшимися. Фонарь причудливо освещал смуглые лица Пасторов и красные рубашки остальных. Все молчали, один Гереб что-то тихо говорил. Очевидно, он рассказывал о чем-то живо интересовавшем собравшихся, так как все повернулись к нему и слушали с напряженным вниманием. В вечерней тишине слова Гереба долетали и до незваных гостей с улицы Пала. Вот что он говорил:
– На пустырь можно войти с двух сторон… Можно с улицы Пала; но оттуда труднее: по закону, вошедший обязан запирать калитку на задвижку. Другой вход – с улицы Марии. Ворота лесопилки всегда открыты настежь, а дальше можно пробраться между штабелями дров. Тут только одна загвоздка: на штабелях устроены форты…
– Знаю, – перебил Фери Ач своим низким голосом, при звуке которого у пришельцев мороз пробежал по коже.
– Ну да, ты ведь был там, – сказал Гереб. – Так вот, на фортах дежурят часовые, и они, только заметят кого-нибудь среди штабелей, сейчас же подают сигнал. Так что оттуда подходить не советую…
Значит, речь шла о нападении на пустырь!..
– Лучше всего заранее условиться, когда вы придете, – продолжал между тем Гереб. – Тогда я войду на пустырь последним и оставлю калитку открытой. Не буду ее запирать.
– Ладно, – сказал Фери Ач. – Так будет правильнее. Я вовсе не собираюсь занимать пустырь, когда там никого нет. Будем вести войну по всем правилам. Сумеют они защитить свой пустырь – хорошо. Не сумеют – мы займем его и водрузим там наше красное знамя. Ведь не из жадности мы это делаем…
– …а потому, что нам негде играть в мяч, – вмешался один из Пасторов. – Здесь – нельзя; на улице Эстерхази – тоже вечные споры… Нам нужно место для игры в мяч – и точка!
Итак, причина воины была совершенно та же, что и между настоящими державами. Русским нужен был выход к океану, поэтому они стали воевать с японцами.
Краснорубашечникам нужно было пространство для игры в мяч, и, поскольку иначе завладеть им не удавалось, они решили добиться своего войной.
– Значит, решено, – объявил предводитель краснорубашечников Фери Ач. – Ты, согласно уговору, забудешь закрыть калитку с улицы Пала.
– Ладно, – сказал Гереб.
А у бедного маленького Немечека больно сжалось сердце. Мокрый насквозь, стоял он и широко раскрытыми глазами смотрел на сидевших вокруг фонаря краснорубашечников и предателя между ними. Так сильно заныло у него сердце, что, когда прозвучало это «ладно», которое означало готовность предать пустырь, он не выдержал и заплакал. Обнял Боку за шею и, тихонько всхлипывая, повторял только:
– Господин президент… Господин президент… Господин президент…
Бока мягко отстранил его:
– Слезами горю не поможешь.
А у самого тоже комок подкатил к горлу. Уж больно нехорошее дело затевал Гереб!
Вдруг по знаку Фери Ача краснорубашечники вскочили.
– По домам, – приказал предводитель. – Оружие есть у всех?
– У всех! – в один голос откликнулись они, подымая с земли длинные деревянные копья с красными флажками на остриях.
– Отнести оружие в кусты и составить там в козлы! – скомандовал Фери Ач. – Марш!
Все направились в глубь островка, предводительствуемые Фери Ачем. Гереб тоже пошел с ними. Маленькая лужайка с камнем посредине, на котором стоял зажженный фонарь, опустела. Шаги все удалялись: краснорубашечники углубились в чащу.
Бока сделал движение.
– Сейчас, – шепнул он Немечеку и вынул из кармана красную бумажку, заблаговременно проткнутую кнопкой. Потом раздвинул кусты, обернулся и сказал:– Жди здесь. Не шевелись!
И одним прыжком выскочил на лужайку, где только что тесным кружком сидели краснорубашечники. Немечек затаил дыхание. Первым делом Бока подбежал к исполинскому дереву, которое росло на краю лужайки, осеняя весь островок своей могучей кроной, словно огромным зонтом. Во мгновение ока он приколол к его стволу алый знак и шмыгнул к фонарю. Открыв одно из стекол, он дунул внутрь. Свеча погасла, и Немечек перестал видеть Боку. Но не успели его глаза привыкнуть к темноте, как Бока уже очутился рядом и схватил его за руку:
– За мной! Скорей, скорей!
И оба помчались к берегу, где стояла лодка. Чонакош, увидев их, прыгнул в нее и уперся веслом в берег, готовый сейчас же оттолкнуться. Бока и Немечек мигом перемахнули через борт.
– Отваливай, – задыхаясь, приказал Бока.
Чонакош налег на весло, но лодка не двинулась с места. Слишком глубоко врезались они в берег, когда причаливали: лодка почти наполовину вылезла па сушу. Надо было кому-то выйти, чтобы приподнять нос и столкнуть лодку в воду. Но на лужайке уже слышались голоса. Краснорубашечники, вернувшись из арсенала, увидели, что фонарь потух. Сначала они было подумали, что его погасил ветер. Но Фери Ач, осмотрев фонарь, обнаружил, что одно стекло открыто.
– Здесь кто-то был! – загремел он так, что его услышали и трое беглецов, бившихся с лодкой.
Фонарь зажгли, и всем бросилась в глаза записка, прикрепленная к дереву: «Здесь были мальчишки с улицы Пала». Краснорубашечники переглянулись. Фери Ач воскликнул:
– Если были, значит, не ушли далеко! В погоню! Он издал протяжный свист. С моста прибежали часовые и доложили, что по мосту никто на остров не проходил.
– Они на лодке приплыли, – сказал меньшой Пастор. И трое мальчишек с улицы Пала, сталкивавшие лодку, с ужасом услыхали громкий вопль краснорубашечников:
– В погоню!
Как раз и этот момент Чонакошу удалось спихнуть лодку и быстро в нее прыгнуть. Беглецы дружно взялись за весла и изо всех сил принялись грести к противоположному берегу. Фери Ач громогласно отдавал приказания:
– Вендауэр, на дерево! Посмотри, где они! Пасторы, живо через мост: обежать озеро с обеих сторон!
Казалось, трое с улицы Пала теперь окружены. Пока они сделают четыре – пять взмахов веслами, необходимые, чтобы достичь суши, быстроногие Пасторы успеют обежать вокруг озера, и тогда путь будет отрезан с обеих сторон. И даже если удастся достичь берега раньше Пасторов, их все равно заметит с дерева дозорный и крикнет, куда они побежали. С лодки видно было, как Фери Ач с фонарем в руке бегает по берегу. Потом раздался гулкий топот: это Пасторы промчались по мосту.
Но не успел дозорный вскарабкаться на дерево, как беглецы уже достигли берега.
– Лодка пристала к берегу! – завопил с дерева невидимый дозорный.
– Все за ними! – тотчас ответил ему низкий голос предводителя.
Но трое лазутчиков с улицы Пала уже удирали со всех ног.
– Нельзя, чтобы они нас догнали, – промолвил на бегу Бока. – Их в несколько раз больше, чем нас.
И они припустили вовсю, не разбирая дороги, по газонам – впереди Бока, за ним остальные, – прямо к стеклянному зданию оранжереи.
– В оранжерею! – запыхавшись, проговорил Бока, подбегая к низенькой двери.
К счастью, дверь не была заперта. Юркнув в нее, беглецы притаились за густыми кипарисами. Снаружи все было тихо. Преследователи как будто потеряли их из виду.

Мальчики перевели дух. Они оглядели внутренность этого странного здания, сквозь стеклянную крышу и дверь которого проникал слабый свет городских сумерек. Необыкновенное, любопытное место была эта большая оранжерея. Трое беглецов попали в левое ее крыло. Прямо перед ними находился центральный зал, а за ним уходило вдаль правое крыло. Вдоль стен, насколько видел глаз, тянулись ряды зеленых кадок, в которых росли деревья с толстыми стволами и большими листьям. В длинных ящиках красовались мимозы и папоротники. Под высоким куполом центральной части неподвижные пальмы простирали кверху свои веерообразные листья и высился целый лес каких-то южных растений. Посреди этого леса находился бассейн с золотыми рыбками, а возле стояла скамейка. Дальше опять шли магнолии, лавры, померанцевые деревья, гигантские папоротники – сплошь крупные, сильно пахнущие растения, наполнявшие воздух пряным ароматом. И всюду в этом обширном стеклянном строении, обогреваемом паровым отоплением, сочилась и капала вода. Капли щелкали по широким, мясистым лопастям, и когда где-нибудь, шурша, вздрагивал большой пальмовый лист, мальчикам чудилось, будто это какой-то диковинный южный зверек копошится во влажных, душных зарослях, между зелеными кадками. Здесь беглецы почувствовали себя в безопасности и стали раздумывать, как теперь выбраться отсюда.
– Только бы не заперли на ночь оранжерею! – пролепетал Немечек, который в изнеможении уселся под высокой пальмой, прислонившись к ее стволу. Он промок до нитки, и в тепло натопленном помещении его охватила приятная истома.
Бока успокоительно заметил:
– Ну, если до сих пор не заперли, так теперь не запрут.
Они сидели и слушали. Но снаружи не доносилось ни звука. Видно, никому в голову не пришло искать их здесь. Тогда они встали и начали бродить среди высоких стеллажей, сплошь уставленных горшочками с зелеными кустиками, душистыми травами и большими цветами. Чонакош, задев ногой за одну из полочек, споткнулся. Немечек поспешил к нему на помощь.
– Погоди, – сказал он, – я тебе посвечу.
И прежде чем Бока успел помешать, вынул из кармана коробок и чиркнул спичкой. Спичка вспыхнула, но тут же погасла, потому что Бока выбил ее у него из рук.
– Осел! – сердито прошипел он. – Забыл, что мы в оранжерее? Ведь здесь даже стены стеклянные… Теперь они наверняка нас заметили.
Мальчики остановились, прислушиваясь. Бока был прав. Краснорубашечники увидели вспышку света, на мгновение озарившую вею оранжерею, и в следующую минуту ясно послышался хруст гравия у них под ногами. Они тоже направились к левому крылу. В Аче снова проснулся военачальник.
– Пасторы, к правому крылу! – крикнул он. – Себенич – к среднему входу, а я сюда!
Мальчишки с улицы Пала мигом попрятались кто куда. Чонакош лег на живот и заполз под нижнюю полку стеллажа. А Немечеку велели залезть в бассейн с золотыми рыбками: все равно он уже промок. Малыш погрузился в воду по самый подбородок, а голову прикрыл большим листом папоротника. Боке уж не оставалось времени для размышлений, и он успел только стать за приотворенную дверь.
Фери Ач с фонарем в руке вошел со своим отрядом в оранжерею. Свет фонаря падал так, что Бока, стоя за стеклянной дверью, хорошо видел Фери Ача, но сам оставался невидимым. Тут он впервые как следует рассмотрел предводителя краснорубашечников, которого раньше видел близко только раз, в саду Национального музея. Красивый малый был этот Фери, особенно сейчас, когда глаза у него горели воинственным пылом. Но в следующее мгновение он со своими спутниками уже кинулся обшаривать проходы. В правом крыле они даже заглянули под стеллажи. В бассейне искать никому не пришло в голову. Зато Чонакоша чуть не обнаружили. Его спасла чистая случайность: как раз в ту минуту, когда преследователи собирались заглянуть под нижнюю полку, паренек, которого Фери Ач назвал Себеничем, сказал:
– Да они давно небось удрали через правую дверь…
И так как он побежал направо, все в пылу погони тоже устремились за ним. Несколько глухих ударов об пол возвестили, что преследователи не очень церемонятся с цветочными горшками. Но вот они выбежали наружу, и все утихло. Чонакош выполз из своего укрытия.
– Мамочки! – воскликнул он. – Я весь в земле. Горшок свалился мне прямо на голову.
И принялся усердно отплевываться от песка, набившегося ему в нос и в рот. Затем из бассейна, словно морское чудище, показался Немечек. С бедняжки опять ручьями текла вода, и опять он, чуть не плача, по своему обыкновению, принялся жаловаться:
– Что же мне, всю жизнь в воде сидеть? Лягушка я, что ли?
И встряхнулся, как болонка, которую окатили водой.
– Не ной, – сказал Бока. – Ну, теперь пошли; на сегодняшний вечер, кажется, хватит. Немечек вздохнул:
– Ой, как мне домой хочется…
Но, сообразив, какой прием его ожидает в этой мокрой насквозь одежде, поспешил поправиться:
– Да нет, совсем не хочется!
Они побежали назад, к акации у ветхого забора, и вскоре были там. Чонакош взобрался на дерево, но, ступив на верхнюю перекладину забора, оглянулся и посмотрел в сад.
– Они идут сюда! – раздалось его испуганное восклицание.
– Назад, на дерево! – приказал Бока.
Чонакош перелез обратно на акацию и помог вскарабкаться товарищам. Они забрались как можно выше, пока держали ветви, вверху совсем тонкие. Мысль, что их поймают, когда спасение так близко, была нестерпимо обидна.
Отряд краснорубашечников с громким топотом подбежал к дереву. Беглецы тремя огромными птицами застыли наверху, в темной листве…
Послышался голос того самого Себенича, который еще в оранжерее сбил своих товарищей с толку:
– Я видел, как они перепрыгнули через забор!
Наверно, он был глупее всех, этот Себенич. А так как глупцы больше всех шумят, только его голос все время и раздавался. Краснорубашечники, все до одного ловкие гимнасты, мигом перемахнули через забор. Оставшийся последним Фери Ач, перед тем как перелезть, задул фонарь. На забор он взобрался по той самой акации, в ветвях которой угнездились наши пташки. Тут с одежды Немечека – с нее все еще текло, как из дырявого желоба, – упали ему за ворот три крупные капли.
– Дождь пошел! – крикнул Фери Ач и, вытерев ладонью шею, спрыгнул на тротуар.
– Вон они! – загремело на улице, и краснорубашечники гурьбой ринулись вслед за Себеничем, который, видимо, опять ошибся.
– Да, если б не этот Себенич, мы давно бы уж были в их руках… – заметил Бока.
Только тут они почувствовали, что спасены. Краснорубашечники по маленькой уличке пустились вдогонку за какими-то двумя мальчуганами. Те шли себе потихоньку, ничего не подозревая, но, увидев преследователей, в испуге бросились бежать, а краснорубашечники с торжествующим ревом погнались за ними. Шум погони все удалялся и наконец замер где-то в закоулках Йожефвароша…
Пришельцы с улицы Пала спустились с забора и, ощутив под ногами мостовую, облегченно вздохнули. Какая-то старушка брела мимо; вдали показались еще прохожие. Ребята снова были в городе: тут уже им ничто не угрожало. Все трое устали и проголодались. Неподалеку, в сиротском приюте, окна которого приветливо светились в темноте, зазвонил колокол, сзывая на ужин.
У Немечека зуб на зуб не попадал.
– Идем скорей, – пробормотал он.
– Постой, – сказал Бока, – поезжай лучше на конке. На вот деньги.
Он полез в карман, но рука его так и осталась там. У президента было всего-навсего три крайцара. Сколько он ни шарил, ничего, кроме этих трех медных крайцаров да изящной чернильницы, весело пускавшей синие капли, в кармане не оказалось. Бока вынул три запачканные чернилами монетки и протянул Немечеку:
– Больше у меня нет.
У Чонакоша нашлось еще два крайцара. И у самого малыша хранился заветный крайцар, который он носил с собой в коробочке из-под пилюль – на счастье. Всего это составило шесть крайцаров. С этой суммой в руках Немечек и взобрался на конку.
А Бока остался стоять посреди улицы. Из головы у него всё не шел Гереб с его проделками. Печально стоял он и молчал. Зато Чонакош, который еще ничего не знал о предательстве, был в превосходном настроении.
– Гляди-ка, мамочка! – сказал он и, когда Бока взглянул на него, вложил два пальца в рот и так пронзительно свистнул, что ушам больно стало. Как говорится, во всю мочь. Свистнул – и огляделся с таким видом, будто вкусно поел. – Весь вечер сдерживался, – весело заявил Чонакош. – Больше невтерпеж, мамочка!
Он подхватил загрустившего Боку под руку, и мальчики, усталые от пережитых волнений, побрели в город по длинному проспекту Юллё…
4
Часы в классе снова пробили один раз, и мальчики стали складывать книжки. Господин Рац, учитель, захлопнул свою книгу и поднялся с места. Малыш Ченгеи с первой парты услужливо подбежал к нему помочь надеть пальто. Мальчишки с улицы Пала, сидевшие в разных местах, переглянулись, ожидая распоряжений Боки. Известно было, что в два часа дня на пустыре состоится сбор и отряд лазутчиков в составе трех человек доложит о посещении Ботанического сада. Что вылазка прошла удачно и президент Союза пустыря отважно нанес ответный визит Краснорубашечникам, – об этом все уже знали. Но любопытно было узнать и услышать обо всех приключениях и опасностях, которые подстерегали смельчаков…
Из Боки нельзя было вытянуть ни слова. Чонакош болтал без умолку и – прости ему господь! – изрядно привирал. Рассказывал даже про каких-то диких зверей, которые повстречались им в развалинах замка… Уверял, будто Немечек чуть не утонул в озере… Что краснорубашечники сидели вокруг огромнейшего костра… Но рассказывал страшно сбивчиво и о самом главном все время забывал. Да и слушать его было трудно: постоянные свистки, которые он вставлял после каждой фразы вместо точки, просто оглушали.
Немечеку же собственная его роль казалась такой важной, что он напустил на себя величайшую таинственность и на все вопросы отвечал только:
– Ничего не могу сказать.
Или:
– Спросите у господина президента.
И все ужасно завидовали Немечеку, что он – нижний чин, а принял участие в таком замечательном похождении. Лейтенанты и старшие лейтенанты почувствовали себя словно па голову ниже своего собственного рядового, а иные стали даже поговаривать, что вот малыша непременно произведут теперь в офицеры и на пустыре вообще ни одного рядового не останется, кроме Гектора, черной собаки сторожа…
Не успел учитель выйти из класса, как Бока поднял вверх два пальца, извещая мальчишек с улицы Пала, что встреча состоится ровно в два. Остальные, не принадлежавшие к их числу, преисполнились жгучей зависти при виде того, как в ответ все они разом отдали честь, показывая этим, что знак Боки принят к сведению.
И все уже хотели встать, как вдруг произошло нечто неожиданное.
Господин Рац, учитель, остановился на ступеньках кафедры.
– Погодите, – сказал он. Воцарилась мертвая тишина.
Господин Рац вынул из кармана пальто какую-то записку и, надев на нос очки, начал выкликать фамилии:
– Вейс!
– Здесь, – испуганно отозвался Вейс.
– Рихтер! Челе! Колнаи! Барабаш! Лесик! Немечек! – продолжал учитель. Каждый отвечал:
– Здесь!
Господин Рац спрятал записку в карман.
– Перед уходом домой зайдете ко мне в учительскую, – объявил он. – У меня к вам небольшое дело.
С этими словами он сошел с кафедры и, не объяснив причины этого странного приглашения, поспешно покинул класс.
Все заволновались, зашумели.
– Зачем нас вызывают?
– Почему нам велели остаться?!
– Чего ему нужно?
С такими вопросами обращались друг к другу вызванные. И так как все они принадлежали к числу мальчишек с улицы Пала, то обступили Боку.
– Не знаю, что бы это могло значить, – сказал президент. – Идите, а я подожду вас тут, в коридоре. Потом обернулся к остальным:
– Придется собраться не в два, а в три. Вышла задержка.
Просторный гимназический коридор с большими окнами, обычно такой тихий, ожил. Из других классов тоже высыпали ученики; поднялась толкотня, беготня, суета. Все спешили к выходу.
– Что, после уроков оставили? – кинул один из пробегавших маленькой стайке, сиротливо столпившейся у входа в учительскую.
– Нет, – гордо возразил Вейс.
Спросивший побежал дальше, провожаемый завистливыми взглядами. Счастливец: уже идет домой!..
После непродолжительного ожидания стеклянная дверь учительской приоткрылась, и между матовыми створками выросла высокая, худощавая фигура господина Раца.
– Входите, – сказал он и вошел первым.
В учительской никого не было. В глубоком молчании выстроились мальчики вокруг длинного зеленого стола. Вошедший последним с робким почтением притворил дверь. Господин Рац сел во главе стола и оглядел вошедших:
– Все здесь?
– Все.
Снизу, со двора, доносился веселый гомон спешивших домой гимназистов. Господин Рац велел закрыть окно, и тишина в большой, заставленной книжными шкафами комнате стала просто гнетущей. Эту могильную тишину нарушил голос учителя:
– Дело вот в чем. Мне стало известно, что вы организовали какое-то общество. Так называемое «Общество замазки». Тот, от кого я узнал об этом, передал мне и список членов. Вы – члены этого общества. Верно?
Никто не ответил. Все стояли молча, повесив головы, всем видом своим подтверждая, что обвинение справедливо.
– Давайте разберемся по порядку, – продолжал господин Рац. – Прежде всего мне хотелось бы знать, кто это организовал общество, когда ясно было сказано: никаких обществ я не потерплю?
Молчание.
– Это Вейс, – робко произнес чей-то голос. Господин Рац строго посмотрел на Вейса.
– Вейс! Ты разве сам не умеешь отвечать?
– Умею, – прозвучал смиренный ответ.
– Почему же ты молчал?
Но бедный Вейс опять ничего не ответил.
Господин Рац закурил сигару и пустил дым в потолок.
– Итак, начнем по порядку, – повторил он. – Во-первых, скажи, что это за «замазка»?
Вместо ответа Вейс извлек из кармана какой-то комок и положил на стол. Несколько мгновений он созерцал его, потом промолвил чуть слышно:
– Вот она.
– И что же это такое?
– Это такая вязкая штука, которой стекольщики окна замазывают. Стекольщик замажет раму, а мы возьмем и выковыряем ногтями.
– И это все ты наковырял?
– Нет, что вы! Это общественная замазка.
– Что такое?! – вытаращил глаза учитель.
– Ее все члены общества собирали, – объяснил Вейс, немного осмелев. – А хранить комитет поручил мне. До меня хранителем был Колнаи, потому что он казначей… Но у него она вся высохла, потому что он совсем ее не жевал.
– Так ее жевать нужно?
– А как же? А то она затвердеет и ее нельзя будет мять. Я ее каждый день жевал.
– Почему же именно ты?
– Потому что в уставе сказано, что председатель обязан хоть раз в день жевать общественную замазку, иначе она засохнет…
Тут Вейс заревел.
– А председатель сейчас я… – всхлипывая, объяснил он. Дело становилось нешуточным.
– Где вы набрали такой большой комок? – спросил учитель, повысив голос.
Молчание. Учитель взглянул на Колнаи:
– Отвечай ты, Колнаи! Где вы набрали столько? Колнаи затараторил, вероятно желая поправить дело чистосердечным признанием:
– Видите ли, господин учитель, это началось месяц тому назад. Неделю жевал я; но тогда ее было поменьше. Первый кусок принес Вейс, и мы основали общество. Он с отцом ехал на извозчике и наскреб замазки с окошка кареты. Все ногти обломал до крови. Потом разбилось окно в классе пения, и я еще днем туда забрался и чуть не до вечера стекольщика ждал. В пять часов он пришел, и я попросил: «Дай мне кусочек», но он не ответил, потому что не мог: у него была полна пасть замазки.
Учитель нахмурился:
– Что это за выражения? Пасть бывает у лошадей!
– Ну, полон рот. Он тоже ее жевал. Я подошел и спросил, можно ли мне посмотреть, как он стекло будет вставлять. Он кивнул. Я стал смотреть, а он вставил стекло и ушел. Тогда я подошел к окну, выковырнул замазку и унес с собой. Но я ведь не для себя украл… а для общества… о-хоб… ще-хест… ва-ха…
Он тоже начал всхлипывать.
– Не плачь, – сказал господин Рац.
Вейс, теребя полу своего пиджачка, в замешательстве заметил:
– Чуть что – сейчас в рев…
Но Колнаи заплакал навзрыд. Вейс сердитым шепотом сказал ему:
– Не реви!
Но тут же сам разревелся. Этот дружный рев тронул господина Рада. Он несколько раз глубоко затянулся сигарой. И тут Челе, элегантный Челе, с гордым видом выступил вперед, решив, что пришло время и ему показать достойную римлянина твердость характера, которую накануне на пустыре проявил Бока.
– Простите, господин учитель, – решительным тоном объявил он, глядя ему прямо в глаза, – но я тоже достал для общества замазку.
– Откуда ты ее взял? – спросил господин Рац.
– Я разбил дома ванночку для купания птиц, мама ее замазала, а я выковырял замазку. Канарейка стала купаться, и вся вода вытекла на ковер. Ну зачем такой пичуге купаться? Вот воробьи – грязные, а никогда не купаются.
Господин Рац наклонился вперед и пригрозил:
– Что-то ты, Челе, развеселился некстати! Смотри у меня! Колнаи, продолжай.
Колнаи сопел и всхлипывал.
– О чем продолжать? – спросил он, утирая нос.
– Где вы взяли остальное?
– Челе ведь сказал… И еще мне общество выдало шестьдесят крайцаров на замазку.
Это господину Рацу не понравилось.
– Значит, вы и за деньги покупали?.
– Нет, не покупали, – возразил Колнаи. – Просто мой папа доктор и по утрам объезжает больных на извозчике, и один раз он взял меня с собой, а я соскреб замазку с окошка – хорошая, мягкая была замазка, и тогда общество выдало мне шестьдесят крайцаров, чтобы я нанял ту самую карету; я и нанял и проехал в ней до самого Поселка чиновников и всю замазку выковырял, изо всех четырех окошек, а домой вернулся пешком.
Учитель что-то вспомнил:
– Так это тебя я встретил тогда возле Академии Людовики?
– Да.
– И окликнул… а ты мне не ответил…
Колнаи, опустив голову, уныло объяснил:
– Потому что у меня была полна пасть замазки…
И тут повторилось все сначала: Колнаи опять залился слезами, Вейс опять заволновался, начал теребить полу своего пиджачка и сказал в смущении:
– Чуть что – сейчас в рев…
И, глядя на него, сам заревел. Господин Рац встал и начал ходить взад и вперед по комнате.
– Хорошенькое общество, нечего сказать! – промолвил он, покачав головой. – И кто же был председателем?
Тут Вейс мгновенно позабыл все свои горести и, перестав плакать, с гордостью заявил:
– Я.
– А казначеем?
– Колнаи.
– Давай-ка сюда оставшиеся деньги.
– Пожалуйста.
Колнаи полез в карман. Карман и у него был не меньше, чем у Чонакоша. Порывшись там, он принялся по порядку выкладывать содержимое на стол. Сначала извлек форинт и сорок четыре крайцара; потом две пятикрайцаровые почтовые марки; письмо-секретку; две гербовые марки стоимостью в крону каждая; восемь новеньких перышек и наконец цветной стеклянный шарик. Учитель, сосчитав деньги, нахмурился:
– А деньги у вас откуда?
– Это членские взносы. Каждый платил по десять крайцаров в неделю.
– Но для чего вам деньги?
– Просто чтобы взносы платить. Вейс от своего председательского жалованья отказался.
– Сколько ж оно составляло?
– Пять крайцаров в неделю. Почтовые марки принес я, секретку – Барабаш, а гербовые марки – Рихтер. У него отец… он у отца…
– Украл?… Да?… – перебил учитель. – Рихтер!
Рихтер, потупившись, сделал шаг вперед.
– Украл?
Рихтер молча кивнул.
– Какая испорченность! – покачал головой господин Рац. – Кто твой отец?
– Доктор Эрне Рихтер, адвокат по уголовным, гражданским и финансово-правовым делам. Но только общество вместо этой подложило другую марку.
– Как это – подложило?
– Да так. Я очень испугался, когда стащил марку, и общество выдало мне одну крону, я купил на нее новую марку и тихонько подложил ее папе на письменный стол, а он застал меня – не когда я стащил, а когда подкладывал, – и накостылял… то есть побил меня, – поправился он, поймав строгий взгляд учителя, – да еще оплеух надавал за то, что я подложил марку, и спросил, где я ее украл, а я не хотел говорить, а то он еще надавал бы мне по щекам, и сказал: «У Колнаи взял», а он говорит: «Сейчас же отнеси назад, потому что твой Колнаи наверняка ее где-нибудь украл», я и отнес; вот и получилось, что у общества теперь две марки. Учитель задумался.
– Но зачем же вы покупали новую марку? Ведь можно было вернуть старую.
– Нет, нельзя, – ответил за Рихтера Колнаи:– у той на обороте поставлена печать общества.
– Так у вас и печать есть? Где она?
– Хранитель печати – Барабаш.
Дошла очередь и до Барабаша. Он выступил вперед, метнув убийственный взгляд на этого Колнаи, который вечно с ним вздорит. Спор из-за шляпы был еще свеж у него в памяти… Но делать нечего. Без дальних слов выложил он на зеленый стол самодельную резиновую печать вместе с чернильной подушечкой в жестяной коробке. Учитель осмотрел печать. На ней была вырезана надпись: «Общество собирателей замазки. Будапешт, 1889». Господин Рац, подавив улыбку, снова покачал головой. Тут Барабаш, ощутив прилив смелости, протянул было руку, чтобы взять печать обратно. Но учитель прикрыл ее рукой:
– Ты что?
– Извините, – выпалил Барабаш, – но я поклялся, что скорее жизнью пожертвую, чем отдам печать.
Учитель положил печать в карман.
– Успокойся! – сказал он.
Но Барабаш не мог успокоиться.
– Тогда, – заявил он, – тогда и знамя у Челе отберите.
– Ах, так у вас и знамя есть? Давай его сюда, – обернулся учитель к Челе.
Тот, запустив руку в карман, вытащил крохотное знамя на проволочном древке. Это знамя, как и знамя Пустыря, тоже сшила его сестра. Вообще все дела такого рода, требовавшие умения обращаться с иголкой и ниткой, выполняла сестра Челе. Но это знамя было уже ало-бело-зеленое,
и на нем красовалась надпись:
«Общество собирателей замазки. Будапешт, 1889. Поклянемся навсегда – никода не быть рабами, никода».
– Гм! – произнес учитель. – Это что же за удалец изобразил тут «никогда» без «г»? Кто это писал? Все молчали.
– Кто это писал?! – загремел господин Рац.
Тут у Челе мелькнула мысль: зачем всех впутывать в беду?… «Никогда» без «г» написал Барабаш, но зачем страдать Барабашу? И он скромно ответил:
– Это сестра моя написала, господин учитель.
И судорожно глотнул. Конечно, лгать нехорошо, но зато он товарища выручил… Учитель промолчал. А мальчики вдруг заговорили все сразу.
– Как хотите, но только не очень-то красиво выдавать, что у нас есть знамя, – свирепо заметил Колнаи.
– Чего он ко мне пристает? – оправдывался Барабаш. – Раз печать отобрали, обществу все равно крышка.
– Тише! – оборвал прения господин Рац. – Я вот вам задам! Объявляю общество распущенным, и чтоб больше я не слышал о таких вещах! Всем вам будет снижен балл по поведению, особенно Вейсу – за председательство.
– Pardon!
– робко возразил Вейс – Но я последний день председатель: нынче как раз должно состояться собрание, и на следующий месяц уже выдвинули другую кандидатуру!
– Колнаи выдвинули, – осклабился Барабаш.
– Это не важно, – сказал учитель. – Завтра после уроков все останетесь здесь до двух часов. Вы у меня будете знать!.. А теперь можете идти.
До свидания, – прозвучало хором, и все двинулись к выходу. Вейс, думая воспользоваться этим минутным замешательством, протянул было руку к замазке, Но учитель предупредил его движение:
– Оставь ее в покое!
Вейс состроил смиренную рожицу:
– А разве нам не вернут замазку?
– Нет. И кто еще не отдал, пусть сейчас же отдаст. Если я узнаю, что у кого-нибудь осталась замазка, строго накажу.
Тут выступил вперед Лесик, который до тех пор молчал как рыба. Вынув грязным пальцем кусочек замазки изо рта, он с сокрушением прилепил его к общественному комку.
– Больше нет?
Вместо ответа Лесик разинул рот и показал: пусто. Господин Рац взялся за шляпу:
– И если я хоть раз еще услышу, что вы основали общество… Ну, марш домой!
Мальчики молча выскользнули из учительской, только один голос тихонько произнес:
– До свидания!
Это был Лесик: раньше, вместе со всеми, он попрощаться не
;мог – у него был полон рот замазки.
Учитель ушел, и члены упраздненного «Общества замазки» остались одни. Уныло поглядывали они друг на друга. Колнаи рассказал поджидавшему их Боке, о чем их допрашивали. Бока вздохнул с облегчением.
– А я здорово испугался, – сказал он: – подумал, уж не донес ли ему кто про пустырь…
Тут подошел Немечек и шепотом сообщил:
– Смотрите… Пока он вас допрашивал, я стал к окну… стекло недавно вставили… ну, и я…
Он показал комок свежей замазки, соскобленной с окна. Все воззрились на нее с благоговением. У Вейса заблестели глаза:
– Ну, замазка есть, будет и общество! Созовем собрание на пустыре.
– На пустыре! На пустыре! – воскликнули хором остальные и побежали домой.
По лестнице загремело эхо, повторяя боевой клич мальчишек с улицы Пала: «Гаго, го! Гаго, го!»
Гурьбой высыпали они из ворот. Бока не спеша шел один. Настроение у него было неважное. Он все думал о Геребе, предателе Геребе, который расхаживал тогда по острову с фонарем в руке. Погруженный в свои мысли, Бока пришел домой, пообедал и сел за латынь – готовить урок на завтра…
Одному богу известно, как уж удалось членам «Общества замазки» так быстро справиться с уроками, но только в половине третьего все они были на пустыре. Барабаш прибежал прямо из-за стола, не успев дожевать кусок хлеба, и поджидал Колнаи у калитки, чтобы влепить ему хорошую затрещину. Уж больно много накопилось на счету у этого Колнаи.
Когда все были в сборе, Вейс пригласил присутствующих занять места между штабелями.
– Объявляю собрание открытым, – с важностью произнес он.
Колнаи, успевший получить затрещину и даже вернуть ее Барабашу, высказал мнение, что, несмотря на запрет учителя, общество следует сохранить.
Но Барабаш сразу заподозрил тут нечистый умысел:
– Он это потому говорит, что теперь его очередь быть председателем. А с меня довольно этого общества! Вы все только и делаете, что ходите в председателях, а мы знай жуем без толку эту замазку. Меня уже просто тошнит от нее! Что же мне, в рот ничего не брать из-за этой проклятой замазки? После него захотел выступить Немечек.
– Прошу слова, – обратился он к председателю.
– Господин секретарь просит слова, – строго объявил Вейс, позвонив в маленький двухкрайцаровый колокольчик.
Но у Немечека, который занимал в «Обществе замазки» должность секретаря, вдруг язык прилип к гортани: за одним из штабелей он заметил Гереба. Никто, не знал про Гереба того, что знал он; никто, кроме них с Бокой, не видел того, что видели они в тот памятный вечер. Гереб, крадучись пробирался между штабелями, а потом побежал прямо к хибарке, где жил словак со своей собакой. Немечеку стало ясно, что его долг – не спуская глаз, следить за каждым шагом предателя. До прихода Боки Гереб не должен догадываться, что его видели на острове сидевшим у фонаря вместе с краснорубашечниками: пусть думает, что никто об этом не знает. Так сказал Бока.
Но Гереб сейчас здесь и куда-то крадется. Немечек во что бы то ни стало хотел знать, зачем Гереб пошел к словаку.
– Спасибо, господин председатель, но я произнесу свою речь потом, – сказал он. – Я вспомнил, что у меня есть дело. Вейс опять позвонил:
– Выступление господина секретаря откладывается.
Но господин секретарь уже не слышал, он бросился бежать – не за Геребом, а в противоположную сторону, чтобы опередить его. Пересек пустырь, выбежал на улицу Пала, повернул на улицу Марии и во всю прыть помчался к воротам, лесопилки. Там на него чуть не наехал огромный воз дров как раз выезжавший из ворот. Железная труба попыхивала, выплевывая клубки белого пара. Пила надрывно визжала в своем домике, словно говоря: «Гляди-и-и в оба! Гляди-и-и в оба!»
– И так гляжу! – на бегу ответил Немечек, миновал домик, повернул к штабелям и оказался как раз за хижиной словака. Крыша сторожки была покатая и почти соприкасалась со штабелем, который стоял позади нее. Немечек взобрался на этот штабель, лег наверху ничком и стал ждать, что будет. Зачем понадобился Геребу словак? Может быть, краснорубашечники замышляют какую-нибудь военную хитрость? Будь что будет, а он подслушает разговор. Ведь только подумать, какую славу принесет ему удача! С какой гордостью будет он сознавать, что раскрыл новое предательства! В ожидании поглядывая по сторонам, Немечек вдруг заметил Гереба. Медленно, осторожно он приближался к хижине, поминутно оглядываясь, не идет ли кто сзади. Только убедившись, что никто за ним не следует, Гереб смело направился к сторожке. Словак с благодушным видом сидел на лавочке у входа, посасывая трубку, набитую крошеными сигарными окурками, которые приносили ему мальчики: решительно все они собирали окурки для Яно.
Пес, лежавший у его ног, вскочил и тявкнул было раза два на Гереба, но, увидев, что это свой, опять улегся на место, Гереб подошел к Яно совсем вплотную, так что крыша заслонила их от Немечека. Но белокурый малыш почувствовал вдруг прилив отчаянной смелости. Тихо-тихо, стараясь не шуметь, перелез он со штабеля на крышу сторожки и пополз вверх по скату, чтобы, высунувшись над дверью, следить оттуда за собеседниками. Дощатая кровля раза два скрипнула под ним, и в эти мгновения кровь застывала у Немечека в жилах… Но он полз все дальше и наконец осторожно глянул вниз. Если бы сторожу или Геребу вздумалось в этот момент посмотреть вверх, они, наверно, испугались бы, увидев прямо над собой смышленое личико с устремленными на них широко раскрытыми глазами.
– Добрый день, Яно! – дружески поздоровался Гереб, подойдя к словаку.
– День добрый! – ответил тот, не вынимая трубки изо рта.
– Я тебе сигар принес, Яно! – сказал Гереб, придвинувшись к нему ближе.
Словак вынул изо рта трубку и просиял. Не так уж часто выпадало бедняге счастье держать в руках целую сигару. Обычно он получал их на добрую половину искуренными. Достав из кармана три сигары, Гереб сунул их в руку сторожу.
«Эге, – сказал про себя Немечек, – правильно я сделал, что забрался сюда. Ему наверняка что-то нужно от словака, недаром с сигар начинает!»
– Зайдем-ка в сторожку, Яно, – донеслись до него тихие слова Гереба. – Неохота мне говорить здесь… нас могут увидеть… У меня к тебе важное дело. Можешь еще сигару заработать, а то и больше!
И Гереб вынул из кармана целую пригоршню сигар.
Немечек на крыше только головой покачал. «Видно, крупную пакость затеял, коли такую уйму сигар притащил!» – подумал он.
Конечно, словак охотно согласился войти в сторожку. Гереб последовал за ним, а за Геребом шмыгнул и Гектор. Немечек был страшно раздосадован. «Ведь этак я ровно ничего не услышу из их разговора, – стал раздумывать он. – Как быть? Весь мой замечательный план пошел насмарку…»
Он от всей души завидовал собаке, успевшей проскользнуть за ними. Потому что даже дверь, и ту затворили. Немечеку вспомнились сказки про бабу-ягу Железный нос, которая обратила королевича в черного пса. Он с радостью отдал бы десятка два прозрачных стеклянных шариков за то, чтобы баба-яга с железным носом обратила его на несколько минут в черного пса, а Гектора сделала вместо него белокурым мальчиком. В конце концов они ведь с Гектором коллеги: оба – рядовые… Но вместо бабы-яги Железный нос на помощь пришел… жук Железный зуб. Тот самый работяга-точильщик, который когда-то, давным-давно, прогрыз одну из досок кровли, угощаясь со всем своим семейством вкусным мягким деревом и ничуть не подозревая, какую великую службу сослужит он в один прекрасный день мальчишкам с улицы Пала. Там, где древоточец просверлил свой ход, доска стала тоньше. Прильнув к ней ухом, Немечек прислушался. Из сторожки глухо доносились голоса, и Немечек вскоре с радостью убедился, что прекрасно различает каждое слово. Гереб говорил тихо, словно и в этом укромном месте опасался, как бы его не услышали. А говорил он вот что:
– Не будь дураком, Яно. Я дам тебе сигар сколько хочешь. Но за это придется кое-что сделать.
– Что сделать? – проворчал Яно.
– Да просто прогнать мальчишек с пустыря. Не позволять им играть здесь в мяч да растаскивать штабеля.
Наступило непродолжительное молчание, из чего Немечек заключил, что сторож раздумывает. Потом опять послышался его голос:
– Прогнать?
– Да.
– А почему?
– Потому что здесь хотят играть другие. И всё богатые ребята… Сигар будет – хоть завались… и деньги будут… Это подействовало.
– Деньги будут? – переспросил Яно.
– Будут. Форинт будет.
Форинт окончательно умаслил словака.
– Ладно, – сказал он. – Прогоним их.
Щеколда звякнула, дверь скрипнула. Гереб вышел из сторожки. Но и Немечека уже не было на крыше. Ловко, как кошка, спрыгнул он на землю, вскочил на ноги и помчался между штабелями назад, на пустырь. Мальчуган был очень взволнован: он чувствовал, что судьба товарищей, все будущее пустыря сейчас в его руках.
– Бока! – еще издали крикнул он. Ответа не было.
– Бока! Господин президент! – крикнул он снова.
– Он еще не пришел! – откликнулся кто-то.
Немечек летел как вихрь. Нужно сейчас же известить Боку о случившемся. Нужно не медля действовать, пока их еще не прогнали отсюда. Поравнявшись с последним штабелем, он увидел членов «Общества замазки», которые все еще заседали. Вейс все с тем же важным видом председательствовал и, когда Немечек промчался мимо, крикнул:
– Гаго, го! Господин секретарь!
Немечек отмахнулся, показывая, что не может останавливаться.
– Господин секретарь! – завопил Вейс ему вдогонку и в подкрепление своего авторитета изо всех сил затряс колокольчиком.
– Мне некогда! – крикнул в ответ Немечек и побежал дальше в надежде застать Боку дома.
Тогда Вейс прибегнул к последнему средству. Срывающимся голосом он возопил:
– Рядовой! Смирно!
Тут уж поневоле пришлось остановиться: ведь Вейс лейтенант… Немечек просто кипел от негодования, но против начальства не пойдешь.
– Слушаю, господин лейтенант! – отозвался он, щелкнув каблуками.
– Имейте в виду, – сказал председатель «Общества замазки». – Только что вынесено решение: начиная с сегодняшнего дня мы будем продолжать свою деятельность как тайное общество. Избран новый председатель.
– Да здравствует Колнаи! – с воодушевлением воскликнули присутствующие. Только Барабаш сказал, ухмыляясь:
– Долой Колнаи!
– Если господин секретарь желает сохранить свой пост, – продолжал председатель, – он должен сейчас же вместе с нами принести клятву в соблюдении тайны. Потому что, если господин Рац узнает…
В это мгновение Немечек увидел Гереба, кравшегося между штабелями. Улизни сейчас Гереб – и конец всему… Конец этим фортам, конец пустырю… Но если Бока успеет поговорить с ним по душам
;кто знает, может, у него проснется совесть. Чуть не плача от бессильной ярости, белокурый мальчуган перебил Вейса:
– Господин председатель… Я же опоздаю… мне нужно бежать…
– Вы что, струсили, господин секретарь? – строго спросил Вейс. – Боитесь, что если общество раскроют, то и вам влетит?
Но Немечек уже не слышал. Все его внимание сосредоточилось на Геребе, который, притаившись за штабелями, ждал, пока мальчики уйдут, чтобы беспрепятственно выскользнуть на улицу… Видя это, Немечек без дальних слов покинул собрание. Запахнул свой пиджачок – и был таков: вихрем промчавшись по пустырю, исчез за калиткой.
Все остолбенели. Наконец в гробовой тишине раздался замогильный голос председателя:
– Уважаемые члены общества, вы все видели, как ведет себя Эрне Немечек. Заявляю, что Эрне Немечек – трус!
– Правильно! – зашумело собрание. А Колнаи, тот даже крикнул:
– Предатель!
Рихтер, волнуясь, попросил слова:
– Я предлагаю лишить этого трусливого изменника, который бросил нас в беде, звания секретаря, исключить из общества и в тайную книгу протоколов занести, что он – предатель!
– Ура! – единодушно вырвалось у всех.
И в глубокой тишине председатель огласил приговор:
– Общее собрание объявляет Эрне Немечека трусом и предателем, смещает его с должности секретаря и исключает из общества. Господин нотариус!
– Я! – отозвался Лесик.
– Занесите в книгу протоколов, что общее собрание признало Эрне Немечека трусом и предателем, и впишите туда его имя с маленькой буквы.
Сдержанный гул прошел по рядам. По уставу это была самая строгая кара. Все обступили Лесика, который тотчас же сел на землю, развернул на коленях пятикрайцаровую тетрадку, служившую книгой протоколов, и крупными каракулями вывел в ней:
«эрне немечек – предатель!!!»
Так «Общество замазки» опорочило честное имя Эрне Немечека.
А в это время Эрне Немечек, или, если угодно, эрне немечек, во всю прыть бежал на улицу Кинижи, где в скромном одноэтажном домике жил Бока. Влетев в ворота, он лицом к лицу столкнулся с ним.
– Вот тебе раз! – в изумлении воскликнул Бока. – Ты чего здесь?
Еле переводя дух, Немечек рассказал обо всем, дергая Боку за пиджак, чтобы тот поторопился. Они вместе побежали на пустырь.
– И ты сам все видел и слышал? – спросил Бока на бегу.
– Своими глазами и своими ушами.
– И Гереб еще там?
– Если поднажать, еще застанем.
Возле клиники пришлось, однако, остановиться. Бедняга Немечек сильно закашлялся.
– Ты… беги скорей… А я… вот откашляюсь… – опершись о стену, сказал он.
И, содрогаясь от кашля, объяснил Боке, который не двинулся с места:
– Простудился я… В Ботаническом саду… Что я в озеро шлепнулся, это еще не беда, но вот в оранжерее… Очень холодная вода была в бассейне. Совсем я тогда продрог.
Они повернули на улицу Пала. И как раз в тот момент, когда они были на углу, отворилась калитка и оттуда поспешно вышел Гереб. Немечек схватил Боку за руку:
– Вон он идет!
Бока приставил ладонь рупором ко рту.
– Гереб! – прорезал сонную тишину улички его звонкий голос.
Гереб обернулся. Увидев Боку, он громко засмеялся и побежал в сторону бульварного кольца. Улицу Пала оглашал его вызывающий смех. Гереб смеялся над ними.
Мальчики остановились как вкопанные. Гереб скрылся! Все пропало! Не сказав ни слова, они молча побрели к калитке. С пустыря доносился веселый шум играющих в мяч да время от времени звонкое «ура» в честь нового председателя «Общества замазки»… Там еще никто не подозревал, что этот крохотный кусочек земли, быть может, уже и не принадлежит им. Кусочек бесплодной, изрытой пештской земли, клочок равнины, стиснутый между двумя домами, но означавший для их детских душ безграничность и свободу, который утром был американской прерией, вечером – венгерским Альфельдом, в дождь – морем, зимой – Северным полюсом; словом, верным другом, готовым стать чем угодно, лишь бы их позабавить…
– Видишь, – сказал Немечек, – они еще ничего не знают…
– Не знают… – тихо повторил Бока, повесив голову.
Немечек верил в ум Боки. Он не терял надежды, пока рядом с ним был его рассудительный, хладнокровный друг. По-настоящему перепугался он, лишь увидев, что глаза у Боки наполнились слезами, и услышав, как президент – сам президент! – с глубокой печалью, дрожащим голосом произнес:
– Как же нам теперь быть?
5
Два дня спустя, в четверг, когда на Ботанический сад опустились вечерние сумерки, двое часовых на маленьком мосту заметили приближающуюся темную фигуру и сжали в руках оружие.
– На караул! – воскликнул один из них.
И оба высоко подняли свои копья с серебристыми наконечниками, тускло блеснувшими в бледном свете месяца. Приветствие относилось к предводителю краснорубашечников Фери Ачу, который быстрым шагом взошел на мост.
– Все в сборе? – спросил он у часовых.
– Так точно, господин капитан!
– И Гереб здесь?
– Он первый пришел, господин капитан.
Главнокомандующий молча отдал честь, и часовые в ответ снова подняли вверх свои копья. Таково было военное приветствие у краснорубашечников.
К этому времени все уже собрались на острове, на маленькой лужайке. При появлении Ача старший Пастор крикнул:
– На караул!
И целый лес длинных копий с остриями, обернутыми серебряной бумагой, вырос над головами.
– Нужно спешить, ребята, – сказал Ач, ответив на приветствие, – я малость запоздал. Ну, за дело. Зажгите фонарь.
До прибытия главнокомандующего фонарь зажигать не разрешалось. Когда фонарь горел, это означало, что Фери Ач – на острове. Младший Пастор зажег фонарь, и краснорубашечники на корточках уселись вокруг огонька. Все молчали, ожидая, что скажет командир.
– Кто имеет о чем-нибудь доложить?
Встал Себенич.
– Ну?
– Честь имею доложить, что из арсенала исчезло красно-зеленое трофейное знамя, которое господин капитан захватил у мальчишек с улицы Пала. Командир нахмурил брови:
– Оружие все цело?
– Все. Я как начальник арсенала по приходе сюда сейчас же пересчитал все копья и томагавки. Все до одного на месте, только знамени не хватает. Кто-то его украл.
– Ты видел следы?
– Так точно. Я каждый вечер, как положено по уставу, посыпаю пол в развалинах мелким песком. И вчера посыпал. А сегодня смотрю – на песке следы ног, очень маленьких, и ведут прямо в угол, где лежало знамя, а оттуда – обратно к расщелине. Там они, на твердой земле и в траве, потерялись.
– Маленькие, говоришь, следы?
– Так точно. Маленькие-маленькие, гораздо меньше, чем у Вендауэра, а из наших у него самая маленькая нога…
Наступило молчание.
– В арсенале побывал кто-то чужой, – сказал капитан. – Наверняка – один из тех, с улицы Пала. Волнение пробежало по рядам.
– Я потому думаю – один из них, – продолжал Фери Ач, – что ведь другой и оружие унес бы – ну, хоть один томагавк. А этот не взял ничего, кроме знамени. Они, наверно, поручили кому-то из своих выкрасть у нас знамя. Гереб! Ты ничего об этом не знаешь?
Значит, Гереб сделался у них уже постоянным осведомителем. Он встал:
– Ничего.
– Ладно, садись. Мы это расследуем. Но сначала уладим свои дела. Все вы знаете, как мы недавно опозорились. Хотя все до одного были в сборе, здесь, на острове, враг ухитрился прикрепить красную бумажку к этому вот дереву. Да как ловко все устроили: нам даже никого поймать не удалось. Бежали до самого поселка Чиновников за двумя чужими мальчишками, и только там оказалось, что они неизвестно почему от нас удирают, а мы неизвестно зачем за ними гонимся. Эта красная записка – страшный позор для нас, и за него нужно отомстить. Мы отложили захват пустыря до тех пор, пока Гереб не обследует территорию. Сейчас он доложит о результатах, и мы решим, когда начинать войну. Фери Ач взглянул на Гереба:
– Гереб, встать! Тот снова встал.
– Мы слушаем. Доложи, что ты сделал.
– Я… – начал Гереб с некоторым смущением, – мне пришло в голову, что мы, пожалуй, можем и без боя занять эту территорию. Я подумал, что ведь я сам прежде был с ними… и почему именно из-за меня… В общем, я подкупил словака, который караулит пустырь, и он теперь оттуда… оттуда…
Слово застряло у него в глотке. Он не мог продолжать под суровым взором Ача. И Фери Ач заговорил – глубоким, энергичным голосом, звуки которого заставляли вздрагивать мальчиков, когда этот сильный парень из-за чего-нибудь на них сердился.
– Нет, – загремел он, – ты, я вижу, еще не знаешь, краснорубашечников. Мы не ходим подкупать да торговаться. Добром не дают – берем силой. На кой шут мне твой словак или чтоб кого-то там выгоняли?… Тьфу! К чертям все эти подлости!
Все притихли. Гереб опустил глаза. Фери Ач встал.
– Если ты трус, убирайся домой! – крикнул он, сверкая глазами.
Гереб струхнул не на шутку. Он понимал, что, если краснорубашечники сейчас прогонят его, он останется один как перст.
И он запротестовал, подняв голову и, стараясь говорить решительно:
– Я не трус! Я ваш, я с вами, клянусь быть вам верным!
– Вот это другой разговор! – сказал Ач, но по лицу его было видно, что он не очень-то симпатизирует перебежчику. – Хочешь остаться с нами – дай клятву соблюдать наши законы.
– Даю, – сказал Гереб, облегченно вздыхая.
– Руку!
Они пожали друг другу руки.
– С этого момента ты возведен в чин лейтенанта. Себенич выдаст тебе копье, томагавк и занесет твое имя в тайный список. Теперь слушай. С этим делом тянуть больше нельзя. Назначаю нападение на завтра. Завтра после обеда всем быть здесь. Половина отряда будет наступать с улицы Марии и овладеет фортами. Другой половине ты откроешь калитку, выходящую на улицу Пала, и вы прогоните врага с пустыря. Если же они побегут в штабеля, остальные ударят на них с фортов. Нам нужно место для игры в мяч, и мы завладеем им во что бы то ни стало!
Все вскочили.
– Ура! – раздался дружный крик, и копья взлетели над головами.
Командир знаком потребовал тишины:
– Я еще не все у тебя спросил. Как, по-твоему, не догадались твои бывшие друзья, что ты перешел к нам?
– Думаю, что нет, – ответил новоиспечённый лейтенант. – Даже если кто из них и пробрался сюда, когда прикреплял свою записку, то вряд ли меня заметил в темноте.
– Значит, ты спокойно можешь пойти к ним завтра после обеда?
– Могу.
– И это не покажется подозрительным?
– Нет. А если у кого мелькнет подозрение, никто ничего не скажет: они ведь меня боятся. Они там все трусы!
– Как бы не так! – раздался вдруг чей-то звонкий голос. Все в недоумении огляделись по сторонам.
– Кто это сказал? – спросил Фери Ач.
Ответа не было. Но прежний голос звонко повторил:
– Как бы не так!
Теперь все сообразили, что голос шел с верхушки большого дерева. В ту же минуту в густой листве что-то зашевелилось, сучья затрещали, и с дерева спустился маленький белокурый мальчуган. Спрыгнув с нижнего сука на землю, он преспокойно отряхнул свой костюмчик и, выпрямившись, смело встретил устремленные на него взоры оцепеневших от изумления краснорубашечников. Никто не проронил ни слова, так поразило всех его неожиданное появление.
Гереб побледнел.
– Немечек! – испуганно вымолвил он.
– Да, Немечек, – ответил белокурый мальчуган. – Он самый. И можете не ломать себе голову, кто утащил знамя из арсенала: это я его унес. Вот оно. Это мои следы такие маленькие, меньше, чем у Вендауэра. Я не стал бы вам кричать, сидел бы на дереве, пока вы не уйдете: все равно я там с половины четвертого прячусь. Но когда Гереб сказал, что у нас все трусы, – ну, думаю, постой, я тебе докажу, что и среди мальчишек с улицы Пала есть смельчаки; не офицеры – так рядовой Немечек! Вот я перед вами; подслушал, о чем вы совещались, отобрал у вас наше знамя. Теперь можете делать со мной что угодно: бейте меня, вырывайте знамя, потому что так я его не отдам! Ну, что же вы? Налетайте! Я ведь один, а вас десятеро!
Немечек выпалил все это, раскрасневшись, вытянув вперед руки и сжимая в одной из них маленькое знамя. Краснорубашечники никак опомниться не могли: такая их взяла оторопь. Они только глаза таращили на этого кроху, который словно с неба свалился и так громко, смело, с высоко поднятой головой бросал им в лицо эти слова, как будто ему не страшны ни силачи Пасторы, ни сам Фери Ач.
Первыми пришли в себя Пасторы. Подскочив к малышу с обеих сторон, они крепко схватили его за руки. Младший Пастор, стоявший справа, принялся было выкручивать ему руку, чтобы он выпустил знамя, но тут тишину нарушил голос Фери Ача:
– Стойте! Не трогайте его.
Оба Пастора в недоумении уставились на командира.
– Не трогайте, – повторил тот. – Этот парнишка мне нравится. Ты смелый малый, Немечек, или как там тебя! Вот тебе моя рука. Иди к нам в краснорубашечники!
Немечек покачал головой.
– Только не я! – сказал он упрямо. Голосок его дрожал, но не от страха, а от волнения. Бледный, серьезный, стоял он и повторял:
– Только не я! Фери Ач усмехнулся:
– Ну, как знаешь! Я до сих пор никого еще не звал в отряд. Все, кто тут есть, сами просились. Тебя первого позвал. Не хочешь – не надо…
И повернулся к нему спиной.
– Что с ним делать? – спросили Пасторы.
– Отнимите у него знамя, – бросил через плечо капитан.
Старший Пастор одним рывком вывернул из слабой ручонки Немечека ало-зеленое знамя. Этот рывок причинил малышу боль: у Пасторов была чертовски сильная хватка. Но он стиснул зубы и не издал ни звука.
– Вот знамя! – доложил Пастор.
Все ждали, что теперь будет, какую страшную кару придумает для него могущественный Фери Ач. Немечек по-прежнему упрямо стоял на месте, плотно сжав губы.
Фери Ач обернулся и кивнул Пасторам:
– Жидковат больно. Бить не стоит. Вот что… Искупайте-ка его.
Краснорубашечники прыснули. Засмеялся и Фери Ач. Пасторы тоже схватились за животы. Себенич подбросил в воздух свою кепку, а Вендауэр принялся скакать, как бесноватый. Даже Гереб осклабился, стоя под деревом. Посреди всеобщего веселья лишь одно лицо осталось серьезным – маленькое личико Немечека. Он был простужен и уже несколько дней кашлял. Сегодня мать даже запретила ему выходить на улицу. Но он не мог усидеть в комнате: в три часа улизнул из дому и с половины четвертого до самого вечера дрожал на верхушке дерева. Но он ни за что на свете не скажет об этом. Сказать, что простудился? Да его еще сильней высмеют и Гереб осклабится еще противней: растянет рот до ушей, так что все зубы вылезут наружу. Нет, уж лучше молчать. Под общий хохот он терпеливо позволил отвести себя на берег, где его и окунули в мелкую воду озера. Страшно сильные парни были эти Пасторы! Крепко держа Немечека, один – за руки, другой – за шиворот, они по уши погрузили беднягу в воду, и на острове в этот миг разразилась целая буря ликования. Краснорубашечники весело приплясывали, подбрасывали кепки, улюлюкали и гикали:
– Гейя, гоп! Гейя, гоп!
Это был их клич.
Веселый гомон всколыхнул вечернюю тишину. Непрерывные возгласы «Гейя, гоп!» сливались с громким смехом. А на берегу, у самой воды, из которой, словно печальный маленький лягушонок, выглядывал Немечек, стоял Гереб. Широко расставив ноги, он хохотал во все горло, кивая в сторону жертвы.
Наконец Пасторы отпустили Немечека, и он выбрался на берег. Тут-то, при виде этой насквозь промокшей, грязной фигурки, и пошло настоящее веселье. Вода струилась с бедняги ручьями, а когда он опустил руки, хлынула из рукавов, как из ведер. Все отскочили от него, когда он стал отряхиваться, словно мокрая собачонка. Посыпались обидные возгласы:
– Лягушка!
– Наглотался?
– Что ж ты еще не поплавал?
Немечек не отвечал. С горькой усмешкой разглаживал он свою мокрую курточку. Тут к нему подступил Гереб. Заносчиво вскинув голову и осклабясь, он спросил:
– Ну что? Хорошо было?
Немечек поднял на него свои большие голубые глаза.
– Да, хорошо, – тихо промолвил он и повторил:– Хорошо; гораздо лучше, чем расхаживать по берегу и насмехаться надо мной. Да лучше целый год просидеть в воде, чем стакнуться с врагами своих друзей! Это неважно, что вы меня в воду окунули. Я сам недавно в воду шлепнулся; а вот ты и тогда уже здесь был, среди чужих. Но меня вы сколько угодно можете звать к себе, хвалить, подарками задабривать – я вас знать не хочу. Окунайте меня в воду хоть сто, хоть тысячу раз – я все равно и завтра и послезавтра приду сюда и спрячусь где-нибудь, так что вы меня и не заметите. Не боюсь я вас! А если вы придете к нам, на улицу Пала, землю нашу отнимать, мы все будем там! Вдесятером мы поговорим с вами иначе, вот увидите. Со мной-то легко справиться. Кто сильней, тот и победил. Пасторы сильнее, вот они и отняли у меня шарики в саду музея. Это не трудно, когда десять против одного! Что ж, пожалуйста. Можете избить меня, если вам так нравится. Ведь стоило мне захотеть – и не пришлось бы купаться в озере. Но я не пошел к вам. Хотите – топите меня, хотите – убивайте, только я никогда не буду предателем, как этот, который там стоит… вон там…
Он протянул руку, указывая на Гереба, у которого смех так и замер на губах. Фонарь озарял красивую белокурую головку Немечека и его мокрую, блестевшую на свету одежду. Гордо, чистосердечно, отважно смотрел он Геребу прямо в глаза, и Гереб почувствовал, будто, ему на душу ложится какая-то тяжесть от этого взгляда. Он насупился и опустил голову. В это мгновение все примолкли; тишина настала, точно в церкви, и было ясно слышно, как с одежды Немечека на твердую, утоптанную землю капает вода… В этой тишине прозвучал голос Немечека:
– Мне можно идти? Все молчали.
– Значит, вы не будете меня бить? Мне можно идти? – спросил он еще раз.
И так как ему опять не ответили, он неторопливо, спокойно, с достоинством пошел к мосту. Никто не пошевелился, не тронулся с места, чтобы его задержать. Все почувствовали, что этот белокурый малыш – настоящий герой, достойный называться мужчиной… Двое часовых на мосту, на глазах у которых разыгралась вся сцена, уставились на него, но ни один не посмел его тронуть. Когда же Немечек ступил на мост, вдруг загремел низкий, гулкий голос Фери Ача:
– На караул!
И часовые, встав «смирно», вскинули вверх свои копья с серебристыми остриями. Одновременно все краснорубашечники щелкнули каблуками и высоко подняли свое оружие. Все это было сделано молча; только серебряные концы копий блеснули в лунном свете, да стук шагов донесся с моста. Некоторое время еще слышалось хлюпанье башмаков, полных воды… Немечек ушел…
Краснорубашечники, оставшиеся на острове, в замешательстве переглядывались. Фери Ач понуро стоял посреди лужайки. К нему приблизился Гереб, белый как мел.
– Слушай… я… – начал было он.
Но Фери повернулся к нему спиной. Тогда Гереб отошел к неподвижно застывшим краснорубашечникам и, обращаясь к старшему Пастору, снова пролепетал:
– Слушай… я…
Но Пастор последовал примеру командира – тоже повернулся спиной к Геребу, который остался стоять в полной растерянности, не зная, как поступить. Немного погодя он сдавленным голосом произнес:
– Кажется, я могу уйти.
Но и на этот раз никто ему не ответил. И он ушел тем же самым путем, каким только что удалился Немечек. Но Геребу никто не салютовал: караульные на мосту, опершись на перила, глядели в воду. Шаги его прозвучали и стихли в безмолвии Ботанического сада.
Теперь, когда не было чужих, Фери Ач подошел к старшему Пастору. Подошел вплотную, так что лица их почти соприкоснулись.
– Ты отнял у этого парнишки шарики в саду музея? – тихо спросил он.
– Я, – так же тихо ответил Пастор.
– И брат твой был там?
– Да.
– «Эйнштанд» устроили?
– Угу.
– А я не запретил разве краснорубашечникам отнимать шарики у малышей?
Пасторы молчали: с Фери Ачем не поспоришь. Командир смерил их строгим взглядом и спокойным, но не терпящим возражений тоном приказал:
– Ступайте купаться.
Пасторы в недоумении уставились на него.
– Что? Непонятно? Да, да, прямо в одежде. Теперь ваша очередь.
И, заметив на некоторых лицах улыбку, прибавил:
– А кто будет зубы скалить, сам полезет в воду. Охота смеяться у всех сразу пропала. Нетерпеливо взглянув на Пасторов, Ач поторопил их:
– Ну, живей, окунайтесь. По шею. Раз-два!
А отряду приказал:
– Кру-гом! Нечего на них глазеть.
Краснорубашечники повернулись спиной к озеру. Сам Фери тоже не смотрел, как Пасторы выполняют наложенное на них взыскание. Братья между тем уныло, медленно вошли в воду и покорно сели на дно, погрузившись по самую шею. Мальчики не видели их, слышали только плеск. Кинув взгляд на озеро и убедившись, что оба действительно погрузились по шею, Фери Ач скомандовал:
– Сложить оружие. Марш!
И повел отряд с острова. Часовые задули фонарь и примкнули к отряду, который, мерным шагом прогрохотав по мостику, скрылся в чаще сада.
Пасторы вылезли из воды. Взглянув друг на друга, они, по привычке, сунули руки в карманы и тоже двинулись восвояси. Им было ужасно стыдно, и они шагали молча.
И покинутый всеми островок, залитый лунным светом, погрузился в вечернюю тишину…
6
Когда на другой день около половины третьего мальчики друг за другом стали собираться на пустыре, каждому бросался в глаза большой лист бумаги, прибитый к внутренней стороне забора четырьмя огромными гвоздями.
Это было воззвание. Над ним всю ночь, пожертвовав сном, трудился Бока. Крупные печатные буквы воззвания он с помощью кисточки вывел черной тушью, а начальные буквы каждой строки сделал кроваво-красными. Текст гласил: «Воззвание!!! Всем быть в боевой готовности! Страшная угроза нависла над нашей державой, и, если мы струсим, у нас отнимут всю территорию! Пустырь в опасности! На нас хотят напасть краснорубашечники! Но мы встанем все как один, и, если понадобится, отдадим жизнь за отечество. Пусть каждый выполнит свой долг! Президент».
В этот день никому не хотелось играть в лапту, и мячик остался мирно лежать в кармане его хранителя – Рихтера. Мальчики прохаживались по пустырю и беседовали о предстоящей войне, то и дело подходя к воззванию и в десятый, двадцатый раз перечитывая зажигательные слова. Многие уже знали их наизусть и воинственно декламировали со штабелей – в назидание внизу стоящим, которые тоже почти все помнили, но слушали, разинув рот, а потом опять спешили к забору, чтобы, еще раз прочитав, в свою очередь взобраться на штабель и самим продекламировать.
Все войско ни о чем другом и думать не могло, кроме этого необыкновенного воззвания. Значит, беда в самом деле велика и опасность очень серьезна, если президент решил выпустить воззвание за собственноручной подписью.
Кое-какие подробности мальчикам были уже известны. Кое-где произносилось имя Гереба; однако ничего определенного никто сказать не мог. Президент из разных соображений счел за лучшее не разглашать пока предательства Гереба. Он рассчитывал, что Гереба удастся накрыть прямо на пустыре и тут же, на месте, предать суду военного трибунала. Что Немечек на свой риск и страх решится проникнуть в Ботанический сад и учинит там, во вражеском стане, грандиозный переполох, – этого даже Бока не мог предвидеть… Он узнал об этом лишь на следующее утро, в школе, когда после урока латыни спустился в подвальный этаж. В подвале, где швейцар продавал бутерброды с маслом, Немечек и рассказал ему все, отведя в сторонку. А на пустыре даже в половине третьего царила еще полная неопределенность: все ждали президента.
Общее волнение подогревалось еще одним неприятным обстоятельством. В «Обществе замазки» разразился скандал. Засохла общественная замазка. Она вся растрескалась и пришла в негодность – в том простом смысле, что ее нельзя было больше мять. Произошло это явно по недосмотру председателя общества. После всего сказанного излишне, пожалуй, напоминать, что именно его обязанностью было жевать замазку, а новый председатель, Колнаи, этой обязанностью грубо пренебрег. Легко догадаться, кто осудил прежде всего такое поведение: не кто иной, как Барабаш, первый предал его огласке. Переходя от одного члена общества к другому, он каждому в резких словах выражал свое возмущение новым председателем. Хлопоты его были небезуспешны: за какие-нибудь пять минут ему удалось убедить многих потребовать созыва чрезвычайного собрания. Колнаи догадывался, о чем идет речь.
– Ладно, – сказал он, – но ведь пустырь сейчас важнее. Чрезвычайное собрание я могу созвать только завтра.
– Этого мы не потерпим! – шумел Барабаш. – Господин председатель, как видно, просто боится!
– Тебя, что ли?
– Не меня, а общего собрания! Мы требуем созвать собрание сегодня же.
Колнаи только хотел ответить, как вдруг у калитки прозвучал боевой клич мальчишек с улицы Пала:
– Гаго, го! Гаго, го!
Все посмотрели туда. Вошел Бока в сопровождении Немечека, у которого шея была обмотана большим красным вязаным шарфом. Появление президента положило конец дискуссии. Колнаи быстро уступил:
– Ну ладно, устроим собрание сегодня. Только сначала послушаем, что скажет Бока.
– На это я согласен, – отвечал Барабаш.
Но члены «Общества замазки» уже окружили Боку и вместе со всеми присутствующими засыпали его вопросами.
Спорщики поспешили к ним присоединиться. Бока знаком попросил внимания и в воцарившейся напряженной тишине сказал:
– Ребята! В воззвании вы уже прочли, какая опасность нам угрожает. Наши лазутчики проникли во вражеский стан и узнали, что краснорубашечники собираются завтра напасть на нас.
Все зашумели: никто не ожидал, что уже завтра – война.
– Да, завтра, – продолжал Бока. – Поэтому объявляю: с сегодняшнего дня вводится осадное положение. Все обязаны беспрекословно повиноваться своим начальникам, а офицеры – мне. И не воображайте, что это просто так, детская игра. Краснорубашечники – сильные ребята, и их много. Схватка будет жестокая. Поэтому мы никого не хотим принуждать. Кто не хочет участвовать в сражении, пусть скажет!
Ответом было глубокое молчание. Желающих уклониться от боя не оказалось. Бока повторил еще раз:
– Кто не хочет участвовать в войне, пусть выйдет вперед. Нет таких?
– Нет! – воскликнули все в один голос.
– Тогда пусть каждый даст слово, что завтра придет сюда к двум часам.
Все по очереди стали подходить к Боке, и он с каждого брал слово, что тот непременно придет завтра. Обменявшись со всеми рукопожатием, Бока возвысил голос:
– А кто не явится, – тот бесчестный клятвопреступник, и пускай он больше не сует к нам носа: мы его отсюда палкой выгоним!
Лесик сделал шаг вперед.
– Господин президент, – сказал он, – все налицо, кроме Гереба. Гереба нет.
Наступила гробовая тишина. На всех лицах выразилось любопытство: в самом деле, что с Геребом? Но Бока был не из тех, кто легко отступает от задуманного плана. Он не хотел ничего говорить, не уличив Гереба здесь, перед всеми.
– Что с Геребом? – раздались голоса.
– Ничего, – спокойно ответил Бока. – О нем поговорим в другой раз. А пока подумаем, как нам выиграть завтрашнее сражение. Но, прежде чем получить от меня приказания, послушайте, что я скажу: если между вами есть какие-нибудь раздоры, надо немедленно положить им конец. Кто с кем в ссоре, сейчас же помиритесь.
Все смолкли.
– Ну? – спросил президент. – Таких нет?
– Мне кажется… – начал было Вейс и потупился.
– Ну, выкладывай!
– Кажется, Колнаи… с Барабашем…
– Это правда?
– Да, – сказал Барабаш, покраснев. – Этот Колнаи…
– Да… – сказал Колнаи. – Этот Барабаш…
– Сейчас же помиритесь, – накинулся на них Бока, – а не то обоих отсюда выставлю! Воевать можно, только если все в дружбе!
Оба соперника нехотя подошли к Боке и волей-неволей протянули друг дружке руку. Но, прежде чем выпустить руку Колнаи из своей, Барабаш сказал:
– Господин президент!
– Что такое?
– Только с одним условием…
– С каким еще?
– Таким, что… если краснорубашечники вдруг не нападут на нас, тогда… тогда… я опять буду с Колнаи в ссоре, потому что…
– Замолчи! – прервал Бока, устремив на него уничтожающий взгляд.
Барабаш замолчал, но надулся. Дорого бы он дал, если б можно было тут же влепить хорошего тумака Колнаи, который весело улыбался…
– А теперь… – промолвил Бока. – Рядовой, подайте мне план.
Немечек поспешно сунул руку в карман и вынул какую-то бумагу. Это был план сражения, придуманный Бокой в тот же день после обеда.
Бока расстелил бумагу на плоском камне, и мальчики уселись вокруг на корточках. Каждый с любопытством ждал, куда его назначат, какая кому выпадет роль.
План выглядел так:
Бока принялся объяснять детали плана:
– Смотрите сюда, на этот чертеж, и слушайте внимательно. Это карта нашей державы. По данным разведки, неприятель нападет на нас сразу с двух сторон: с улицы Пала и с улицы Марии. Теперь пойдем по порядку. Вот эти два квадрата с буквами «А» и «Б» обозначают два батальона, выделенные для охраны калитки. Батальон «А» состоит из трех человек под командованием Вейса. Батальон «Б»– тоже из трех; командир – Лесик. Ворота на улицу Марии тоже охраняются двумя батальонами. Батальоном «В» будет командовать Рихтер, батальоном «Г»– Колнаи.
– А почему не я?
– Это кто сказал? – строго спросил Бока. Встал Барабаш.
– Опять ты? Еще слово, и я предам тебя суду военного трибунала. Садись.
Барабаш, что-то пробурчав, сел.
– Черные точки, – продолжал свои объяснения Бока, – возле которых стоят номера и буква «Ф», – это форты. Форты мы обеспечим таким запасом песка, чтобы для обороны каждого довольно было двух человек. Отбивать атаку песком нетрудно. К тому же форты расположены близко друг от друга и в случае, если будет атакован один, его поддержит огнем соседний. Форты первый, второй и третий защищают пустырь со стороны улицы Марии; форты четвертый, пятый и шестой будут поддерживать песочными бомбами действия батальонов «А» и «Б». Кто в какой форт назначен, скажу после. Командиры батальонов сами выберут себе людей. Поняли?
– Поняли! – хором ответили все.
Разинув рты, широко раскрыв глаза, сгрудились мальчики вокруг этой замечательной карты военных действий. Некоторые достали даже записные книжки, усердно занося в них все сказанное главнокомандующим.
– Ну вот, – сказал Бока, – это диспозиция. Теперь приказ по армии. Слушайте все внимательно. Батальонам «А» и «Б», как только часовой на заборе доложит о приближении краснорубашечников, открыть калитку.
– Открыть?…
– Да, открыть. Мы не запираемся, а принимаем бой. Пускай сперва войдут, а потом уж мы их отбросим. Итак, батальонам «А» и «Б» открыть калитку и впустить неприятеля. Когда неприятельские силы до последнего солдата окажутся на нашей территории – атаковать их. Одновременно фортам четвертому, пятому и шестому открыть бомбардировку. Вот задача первого отряда. Это будет армия улицы Пала. Если удастся, постарайтесь их выбить с пустыря; если нет – то, по крайней мере, задержите, чтобы они не проникли до линии фортов третьего, четвертого, пятого и шестого и не закрепились на пустыре. У второй армии – армии улицы Марии – задача потруднее. Внимание, Рихтер и Колнаи! Батальонам «В» и «Г» выслать дозорного на улицу Марии. Как только покажется второй отряд краснорубашечников, построиться в боевые порядки. Когда же неприятель войдет в ворота, сделать вид, будто вы обратились в бегство. Смотрите сюда, на карту… Видите? Батальон «В» – это твой, Рихтер, – вбегает в каретный сарай… Вот сюда, – указал он пальцем. – Понятно?
– Понятно.
– А батальон Колнаи – в сторожку Яно. Теперь внимание: перехожу к самому главному. Смотрите хорошенько на карту. Краснорубашечникам придется слева и справа обогнуть лесопильню, и тут они окажутся прямо перед фортами первым, вторым и третьим. Форты сейчас же открывают огонь. В этот момент оба батальона выскакивают из сарая и сторожки и ударяют в тыл неприятелю. Если вы будете храбро биться, противник окажется зажатым в тиски и вынужден будет сдаться. Вы оттесните его в сторожку и там запрете. Как только это будет сделано, батальон «В» со стороны сторожки, а батальон «Г», обойдя штабеля, оба бросаются из-за форта номер шесть на подмогу первой армии. Тут гарнизон фортов номер один и номер два переходит в четвертый и пятый форты и усиливает бомбардировку. Все четыре батальона, сомкнутыми рядами перейдя в наступление, гонят врага к калитке, а все форты через головы наступающих бомбардируют краснорубашечников, которые не смогут противостоять этому объединенному удару. И мы отбрасываем их за калитку на улицу Пала. Поняли?
Ответом была буря ликования. Платки, шляпы взлетели в воздух. Немечек развязал огромный красный вязаный шарф у себя на шее и присоединил к общему хору свой гнусавый от насморка голосок:
– Дашебу брезидедту – ура!
– Ура! – неслось в ответ. Бока замотал головой:
– Тише! Еще одно. Я буду находиться в расположении второй армии вместе со своим адъютантом. Приказания, которые он будет передавать вам, исполнять, как будто вы их слышите от меня!
– А кто адъютант? – спросил чей-то голос.
– Немечек.
Некоторые переглянулись. Члены «Общества замазки» стали подталкивать друг друга. Послышались восклицания:
– Скажи ему!
– Сам скажи!
– Почему это вдруг я? Скажи ты! Бока с удивлением поглядел на них:
– Что, у вас какие-нибудь возражения?
– Так точно, – отважился Лесик.
– Какие же?
– На собрании «Общества замазки» – ну, вот, недавно… когда…
Бока потерял терпение.
– Довольно! Замолчи! – прикрикнул он на Лесика. – Надоели мне ваши глупости. Немечек – мой адъютант, и точка. Кто посмеет перечить, тех будет судить военный трибунал.
Это было, пожалуй, уж слишком сурово сказано; но все понимали, что время военное, иначе нельзя. Пришлось примириться с тем, что Немечек будет адъютантом. Руководители «Общества замазки» глухо роптали, находя это назначение оскорбительным для общества. Они чувствовали себя униженными тем, что столь важная на войне роль поручена человеку, которого общее собрание заклеймило как предателя, с маленькой буквы вписав его имя в черную книгу общества. Знать бы, что так получится…
Бока вынул из кармана список и прочитал, кто в какой форт назначается. Командиры батальонов выбрали себе по два человека. Все это было проделано с величайшей серьезностью; взволнованные мальчики хранили полное молчание. После этой процедуры Бока отдал приказ:
– По местам! Проведем военное ученье. Все быстро разбежались по своим местам.
– Ждать следующего приказа! – крикнул вдогонку Бока.
Сам он остался посреди пустыря вместе с адъютантом Немечеком. Бедный адъютант все время кашлял.
– Эрне, – мягко сказал ему Бока, – завяжи себе горло. Ты здорово простыл.
Немечек ответил другу благодарным взглядом и повиновался ему, как старшему брату: плотно, до ушей закутал шею большим вязаным шарфом.
Бока подождал, пока он кончит, потом сказал:
– А теперь передай мой приказ форту номер два. Слушай внимательно…
Но тут Немечек совершил такой поступок, на который раньше никогда не отваживался: прервал командира.
– Извини, – промолвил он, – но я хотел тебе кое-что сказать.
– Что такое? – нахмурился Бока.
– Тут вот члены «Общества замазки»…
– Слушай, – с нетерпением перебил его президент, – неужели и ты принимаешь всерьез всю эту ерунду?
– Да, принимаю, раз они тоже принимают, – отвечал Немечек. – Я знаю, что они дураки, и мне наплевать, что они там обо мне думают. Но я вовсе не хочу, чтобы и ты тоже… тоже… меня… презирал…
– Я тебя презирал? С какой стати?
Голосок, в котором стояли слезы, отозвался из-за красной бахромы:
– Потому что они сказали, что я… что я предатель…
– Предатель? Ты?
– Да. Я.
– Ну, это действительно интересно.
И Немечек, запинаясь, сдавленным голосом поведал Боке обо всех происшествиях вчерашнего дня. О том, как пришлось ему спешить, когда члены «Общества замазки» давали тайную клятву. Как они, воспользовавшись этим, тотчас объявили, будто он убежал, побоявшись вступить в тайное общество, и поэтому – бесчестный предатель. О том, что произошло это, собственно говоря, потому, что лейтенанты, старшие лейтенанты и капитаны дуются на президента, который, мол, с ними водиться не хочет, а простого рядового посвящает во все государственные тайны. И, наконец, что его, Немечека, имя с маленькой буквы вписано в черную книгу.
Терпеливо выслушав все это, Бока задумался. Больно было ему сознавать, что некоторые его товарищи так к нему относятся. Бока был мальчик неглупый, но он и не подозревал еще, что другие люди – совсем не такие, как мы, в чем каждый раз убеждаешься ценой мучительных разочарований.
– Ладно, Эрне, – сказал он наконец, ласково посмотрев на белокурого мальчугана, – ты только знай делай свое дело, а на них не обращай внимания. Пока, до войны, я ни о чем не хочу с ними говорить. Но как только война кончится, я им задам жару! А сейчас скачи к фортам номер один и два и передай гарнизону приказ немедленно перебраться в форты номер четыре и пять. Хочу посмотреть, сколько понадобится времени для такой переброски.
Рядовой Немечек встал «смирно», четко откозырял и, как ни грустно ему было, что восстановление его доброго имени из-за войны откладывается, подавил огорчение и по-военному отчеканил:
– Есть, господин президент!
И галопом поскакал исполнять приказание. Пыль взвилась за адъютантом, и он вскоре скрылся в штабелях, на верху которых, высовываясь из фортов, виднелись лохматые детские головы. Лица с широко открытыми глазами выражали волнение, которое, по описаниям храбрых военных корреспондентов, хорошо знающих человеческую натуру, охватывает перед боем даже настоящих солдат.
Бока остался один посреди пустыря. Сюда, на этот отгороженный участок земли, доносился грохот экипажей; но Бока чувствовал себя так, словно находился не в центре большого города, а где-то далеко-далеко, в чужой стране, на огромной равнине, посреди которой завтра в кровопролитной битве решатся судьбы народов. Не слышно было ничьих голосов; мальчики спокойно стояли на своих местах, ожидая приказаний. И Бока понимал, что все теперь зависит от него. От него зависит, смогут ли его товарищи и дальше весело коротать здесь свой досуг за лаптой и всякими играми и забавами. Он отвечает за благополучие, за будущее их маленького сообщества. И Бока почувствовал гордость при мысли, что взял на себя такую прекрасную задачу.
«Да, – подумал он, – я сумею вас защитить!»
Он окинул взглядом дорогой его сердцу пустырь. Потом посмотрел на штабеля, из-за которых с любопытством выглядывала стройная железная труба лесопильни, весело попыхивавшая белыми клубочками пара, – так весело и безмятежно, будто нынешний день ровно ничем не отличался от предыдущих; будто все, решительно все не было сейчас брошено на чашу весов…
Да, в эти минуты Бока испытывал чувство, которое охватывает полководца накануне решительного сражения. Ему вспомнился великий Наполеон… Потом он перенесся мыслями в будущее. Как-то оно сложится? Что ждет его впереди? И кем он будет? Солдатом, настоящим воином, который поведет по далекому бранному полю настоящие, одетые в шинели, полки – уже не за этот клочок пустующей земли, а за те родные просторы, что зовутся отечеством?… Или суждено ему стать врачом, изо дня в день ведущим бесстрашную, упорную и великую борьбу с полчищами болезней?…
Пока он размышлял таким образом, тихо опустились весенние сумерки. Бока глубоко вздохнул и пошел к штабелям – произвести смотр личному составу фортов.
Дозорные на верху штабелей увидели, что командир направляется к ним. В фортах началось движение. Уложив песочные бомбы рядами, гарнизон выстроился по команде «смирно».
Но главнокомандующий вдруг остановился на полдороге и обернулся, словно прислушиваясь. Потом быстро пошел к забору.
В калитку кто-то стучался. Бока, отодвинув засов, отворил и в изумлении отшатнулся. Перед ним стоял Гереб.
– Это ты? – смущенно промолвил Гереб.
От неожиданности Бока не нашелся, что ответить. Гереб медленно вошел и запер за собой калитку. Бока все не мог понять, чего он хочет. Во всяком случае, на этот раз Гереб казался далеко не таким веселым и спокойным, как всегда. Сумрачный, бледный, теребил он свой воротничок, и было видно, что ему нужно что-то сказать, но он не знает, как начать, Несколько мгновений оба, не говоря ни слова, в растерянности стояли друг против друга. Наконец Гереб нарушил молчание:
– Я пришел… поговорить с тобой.
Тогда и к Боке вернулся дар речи. Просто и серьезно он ответил:
– Нам не о чем с тобой говорить. Самое лучшее, если ты уйдешь, откуда пришел.
Но Гереб не внял этому совету.
– Слушай, Бока, – сказал он, – я ведь знаю, что ты обо всем догадался. И что все вы знаете о моем переходе к краснорубашечникам. Но теперь я пришел сюда не как шпион, а как друг.
– Ты не можешь сюда прийти как друг, – тихо возразил Бока.
Гереб опустил голову. Он приготовился, что его встретят грубо, станут прогонять; но тихая печаль, с какой говорил с ним Бока, была для него неожиданностью. Она больно задела его – больнее, чем если бы его ударили. И он вдруг сам заговорил тихо и печально:
– Я пришел исправить свою ошибку.
– Это невозможно, – ответил Бока.
– Но я раскаиваюсь… страшно раскаиваюсь… Я принес вам знамя, которое Фери Ач захватил, а Немечек хотел унести обратно… и которое Пасторы вырвали у него из рук…
С этими словами он вытащил из-под куртки маленькое ало-зеленое знамя. У Боки заблестели глаза. Знамя все измято, истерзано: видно, что за него боролись. Но это-то и было в нем самое прекрасное. Изорванное, оно выглядело, как настоящее знамя, пронесенное сквозь огонь сражений.
– Знамя, – возразил Бока, – мы отберем у краснорубашечников сами. А не сумеем отнять – один конец… Все равно мы тогда уйдем отсюда, разбредемся кто куда… не будем больше вместе… Но получить знамя из твоих рук – нет, этого нам не нужно. И сам ты не нужен.
Бока сделал движение, собираясь уйти и оставить Гереба одного. Но Гереб ухватил его за пиджак.
– Янош, – задыхаясь, промолвил он, – я понимаю, что очень виноват перед вами. Но я хочу искупить свою вину. Простите меня.
– Эх, – сказал Бока, – простить я давно простил.
– И вы меня примете обратно?
– Нет. Вот это уж нет.
– Ни за что не примете?
– Ни за что.
Гереб вынул носовой платок и поднес его к глазам.
– Не плачь, Гереб, – грустно сказал ему Бока, – не хочу я, чтобы ты здесь, передо мной, плакал. Ступай себе домой и оставь нас в покое. Ведь ты пришел сюда потому, что теперь и краснорубашечники больше тебе не верят.
Гереб спрятал платок в карман и попытался принять мужественный вид.
– Хорошо, – сказал он, – я ухожу. Больше вы меня не увидите. Но даю слово: я пришел не из-за того, что от меня отвернулись краснорубашечники. Тут другая причина.
– Какая же?
– Не скажу. Может быть, ты когда-нибудь узнаешь. Но горе мне, если узнаешь…
– Не понимаю, – сказал президент, глядя на него с удивлением.
– Сейчас не могу объяснить, – пробормотал Гереб и пошел к калитке. Там он еще раз обернулся и спросил: – Значит, не примете, нечего мне и просить?
– Не примем.
– Ну, тогда… я и не прошу.
И Гереб выбежал на улицу, хлопнув калиткой. Бока мгновение колебался. Первый раз в жизни поступил он с другим так безжалостно. И он хотел уже догнать Гереба и крикнуть ему: «Иди, но только больше так не делай!»– но вдруг вспомнил, как Гереб совсем недавно, насмехаясь, убегал от них по улице Пала, а они с Немечеком, повесив головы, печально стояли на краю тротуара, и в ушах у них раздавался его глумливый, злорадный хохот.
«Нет, не стану звать его назад, – подумал он. – Это скверный парень».
И решительно повернул к штабелям, но, пораженный неожиданным зрелищем, остановился. Мальчики стояли на штабелях, наблюдая за происходящим. Стояли даже те, кто не принадлежал к гарнизону фортов. Все маленькое войско в полном составе выстроилось там, наверху, на уложенных рядами поленьях, и безмолвно, затаив дыхание, ждало, чем кончится встреча Боки с Геребом. И когда Гереб ушел, а Бока направился к штабелям, общее возбуждение прорвалось наружу: все войско, как один человек, разразилось криками восторга.
– Ура! – зазвенели тонкие детские голоса, и фуражки полетели в воздух.
– Да здравствует президент!
Тут воздух прорезал оглушительный свист: громче, наверно, и паровоз не свистнул бы – даже поднатужившись. Это был свист победный, заливистый, и, конечно, испустил его Чонакош. Блаженно осклабясь, посмотрел он вокруг и сказал:
– В жизни с таким смаком не свистал!
Бока, остановившись посреди пустыря, растроганный и счастливый, поднес руку к козырьку, отдавая честь своему войску. Снова вспомнил он о Наполеоне. Вот так же и его, наверно, любила старая гвардия…
Все видели, что произошло у калитки, и каждому стала ясной роль Гереба. Мальчики, правда, не могли расслышать, о чем говорили Бока с Геребом, но по их движениям поняли все. Они заметили, как Бока сделал отстраняющий жест, не подав Геребу руки. Видели, как Гереб заплакал и ушел. А когда он, замешкавшись у выхода, обернулся и что-то сказал Боке, все даже немножко испугались.
– Ой… сейчас простит! – прошептал Лесик.
Но когда Гереб наконец ушел и все увидели, что Бока отрицательно качает головой, воодушевление прорвалось наружу, и навстречу обернувшемуся к ним президенту грянуло «ура». Как же было не радоваться, что президент у них не ребенок, а серьезный, взрослый мужчина? Все готовы были обнимать и целовать Боку. Но время было военное, и не оставалось ничего другого, как только выразить свои чувства криком. Зато уж и кричали – во все горло, чуть не до хрипоты.
– Однако ты парень что надо, мамочка! – с гордостью сказал Чонакош, но тут же испуганно поправился:– Виноват… я хотел сказать: господин президент.
Наконец началось ученье. Раздавалась громкая команда; отряды бегом носились между штабелями и кидались в атаку на форты, откуда во все стороны летели песочные бомбы. Все шло как по маслу. Каждый прекрасно знал свою роль. И воодушевление росло.
– Мы победим! – слышалось отовсюду.
– Выбьем их с пустыря!
– А пленных свяжем.
– Самого Фери Ача схватим! Один Бока оставался серьезным.
– Смотрите, как бы головы не закружились, – предостерегал он. – Радоваться будем после. А сейчас, кто хочет, может идти домой. Предупреждаю еще раз: кто завтра не придет вовремя, тот клятвопреступник!
Маневры кончились. Но уходить никому не хотелось. Все, разбившись на группы, принялись обсуждать историю с Геребом.
– «Общество замазки»! «Общество замазки»! – пронзительным голосом вопил Барабаш.
– Чего ты? – послышались вопросы.
– На собрание!
Тут Колнаи вспомнил, что обещал созвать общее собрание, перед которым должен снять с себя обвинение в том, будто общественная замазка засохла из-за его нерадивости.
– Ладно, – уныло согласился он, – собрание так собрание. Прошу уважаемых членов отойти в сторонку.
И уважаемые члены во главе со злорадно потиравшим руки Барабашем отошли от штабелей к забору, чтобы провести собрание там.
– Внимание! Внимание! – восклицал Барабаш.
– Объявляю заседание открытым, – громко возвестил Колнаи официальным тоном. – Слово имеет господин Барабаш.
– Кхм, кхм! – зловеще откашлялся Барабаш. – Уважаемое собрание! Господину председателю повезло – из-за маневров чуть не сорвалось это собрание, которое должно прогнать его в шею!
– Ого! – воскликнул его соперник.
– Нечего огокать! – огрызнулся оратор. – Я знаю, что говорю. Благодаря маневрам господину председателю удалось оттянуть время… Но больше не удастся! Потому что…
Но тут он был вынужден прервать свою речь. В забор кто-то громко постучал, а всякий шум сейчас особенно пугал мальчиков. А вдруг это неприятель?
– Что это? – спросил оратор.
Все обратились в слух.
Сильный, нетерпеливый стук повторился.
– Это в калитку стучат, – дрогнувшим голосом сказал Колнаи и приник глазом к щелке между досками.
– Там какой-то господин, – удивленно обернулся он к окружающим.
– Господин?
– Да. С бородой.
– Ну, так отвори ему.
Колнаи открыл калитку. В самом деле, перед ними стоял хорошо одетый господин с черной бородой, в очках и длинном черном пальто с пелериной.
– Это вы – мальчишки с улицы Пала? – крикнул он, не входя на пустырь.
– Да, – в один голос отозвались члены «Общества замазки».
Тогда господин в пальто сделал шаг вперед, и взгляд его смягчился.
– Я отец Гереба, – объяснил он, затворяя за собой калитку.
Все притихли. Дело серьезное: сам отец Гереба пожаловал. Лесик подтолкнул Рихтера:
– Беги, зови Боку.
Рихтер помчался к лесопилке, где Бока как раз объяснял мальчикам, что сделал Гереб.
Бородатый господин между тем обратился с вопросом к членам «Общества замазки»:
– Почему вы прогнали моего сына?
– Потому что он выдал нас краснорубашечникам, – выступил вперед Колнаи.
– Каким краснорубашечникам?
– Это другие ребята, они ходят в Ботанический сад… Но сейчас они хотят отнять у нас это место, потому что им негде играть в мяч. Это наши враги.
Бородатый господин наморщил лоб.
– Мой сын прибежал сейчас домой весь в слезах. Я долго у него выпытывал, что случилось, но он ничего не хотел говорить. Только когда я строго-настрого приказал ему выложить мне все, он признался, что вы заподозрили его в предательстве. На это я ему ответил: «Я сию же минуту беру шляпу и иду к этим мальчикам. Поговорю с ними и расспрошу, в чем дело. Если они ошиблись, я потребую, чтобы перед тобой извинились. Но если это верно – хорошего не жди, потому что отец твой всю жизнь был честным человеком и не потерпит, чтобы сын предавал товарищей». Вот что я ему сказал. Прошу вас, скажите мне по чести, положа руку на сердце: действительно мой сын – предатель или нет? Ну?
Воцарилась немая тишина.
– Ну? – повторил отец Гереба. – Не бойтесь, говорите правду. Мне необходимо знать, напрасно вы обидели моего сына или он заслуживает наказания?
Все молчали. Никому не хотелось огорчать этого, по-видимому, не злого человека, который так близко к сердцу принимает поступки своего сына.
– Ты сказал, что он вас предал, – обратился отец Гереба к Колнаи. – Но это нужно доказать. Когда предал? Как?
– Я… я… только понаслышке знаю… – запинаясь, пробормотал Колнаи.
– Понаслышке знать – все равно что ничего не знать. Кто из вас может сказать что-нибудь определенное? Кто видел? Кто действительно знает?
В этот момент у фортов появились Бока с Немечеком, предводительствуемые Рихтером. Колнаи вздохнул с облегчением:
– Пожалуйста, вон Немечек идет… вот этот, белокурый… Он видел. Он знает.
Они подождали, пока мальчики подойдут ближе. Но те прошли мимо, прямо к калитке.
– Бока! Идите сюда! – крикнул им вслед Колнаи.
– Сейчас не могу, – ответил Бока. – Подождите немного. Немечеку плохо: у него приступ кашля… Я должен проводить его домой.
Услыхав фамилию Немечек, господин в пальто воскликнул:
– Это ты – Немечек?
– Да, – тихо ответил мальчуган и подошел к нему.
– Я отец Гереба и хочу знать, предатель мой сын или нет, – строго сказал ему господин в черном. – Твои товарищи говорят, что ты все видел и знаешь. Так скажи мне по совести: правда это?
У Немечека был жар; лицо его пылало. На этот раз он не на шутку заболел. В висках у него стучало, руки были горячие. И все вокруг казалось таким странным… Этот бородатый, очкастый дяденька, который так строго к нему обратился, словно господин Рац, когда он распекает плохих учеников… Эта толпа мальчиков, глядящих на него во все глаза… эта война… день, полный волнений… и суровый вопрос, таящий в себе угрозу: если обвинение подтвердится, Геребу-младшему несдобровать…
– Отвечай же! – торопил его черный человек. – Скажете вы мне наконец или нет? Отвечай: предатель он?
И белокурый малыш с пылающим от жара лицом и лихорадочно блестящими глазами тихо, словно сам чувствовал себя виноватым и признавался в чем-то дурном, ответил:
– Нет, нет. Не предатель.
– Значит, вы мне солгали?
Члены «Общества замазки» застыли в изумлении. Никто не шелохнулся.
– Ха-ха! – торжествовал чернобородый. – Значит, солгали! Ну, я же знал, что мой сын – честный мальчик!
Немечек еле стоял на ногах.
– Мне можно идти? – смиренно спросил он. Бородач засмеялся ему в лицо:
– Иди, иди уж, маленький всезнайка!
И Немечек неверными шагами вышел вместе с Бокой на улицу. Он ничего не видел вокруг. Все плыло у него перед глазами. В хаотическом беспорядке плясали перед ним черный человек, улица, штабеля дров; странные голоса звучали в ушах. «Ребята, на форты!» – пронзительно кричал один. А другой вопрошал: «Предатель он?» И черный человек язвительно смеялся, и рот у него все растягивался, рос и делался огромным, как школьные ворота… а из ворот выходил господин Рац…
Немечек снял шляпу.
– С кем ты здороваешься? – спросил Бока. – На улице ни души.
– С господином Рацем, – тихо ответил мальчуган. Бока всхлипнул. Торопливо вел, тащил он своего маленького друга домой по быстро темнеющим улицам.
Тем временем Колнаи, оставшийся на пустыре, объяснял человеку в черном:
– Понимаете, этот Немечек – ужасный врун. Мы его объявили изменником и исключили из общества.
– Да у него и лицо такое – плутоватое, – поддакнул счастливый отец. – Сразу видно: совесть нечиста.
И, довольный, поспешил домой – скорей простить сына. С угла проспекта Юллё он видел, как Бока с Немечеком, спотыкаясь, перешли у клиники через дорогу. Теперь и Немечек тоже всхлипывал – горестно, безутешно, изливая глубокую скорбь, переполнявшую его сердечко, и посреди этих судорожных всхлипываний не переставая лепетал:
– С маленькой буквы… вписали… мое имя… С маленькой буквы мое бедное, честное имечко…
7
Утром, на уроке латыни, в классе царило такое возбуждение, что даже господин Рац это заметил. Ученики ерзали на скамейках, почти не следя за ответами у доски. И главное, в этом необычном состоянии находились не только те, кто принадлежал к Союзу пустыря, но и многие другие – да, можно сказать, вся гимназия. Слух о крупных военных приготовлениях быстро облетел все обширное здание и даже у старшеклассников вызвал живой интерес. Краснорубашечники были все из йожефварошского реального училища, и гимназия, конечно, желала победы своим. Некоторые прямо считали, что от исхода схватки зависит честь гимназии.
– Что с вами сегодня? – нетерпеливо спрашивал господин Рац. – Все какие-то неспокойные, рассеянные; что у вас на уме?
Но он не стал слишком настойчиво допытываться, в чем дело, и, удовлетворившись объяснением, что такой уж нынче день беспокойный выдался, ворчливо добавил:
– Ну да, теперь ведь весна, пойдут всякие там шарики, мячики… Где уж тут думать об ученье! Смотрите вы у меня!..
Но это он только так сказал. У господина Раца было строгое лицо, но доброе сердце.
– Садись! – обернулся он к отвечавшему и принялся перелистывать свою книжечку.
Обычно в это время в классе воцарялась мертвая тишина. Все, даже те, кто хорошо приготовил урок, затаив дыхание, впивались взглядом в пальцы учителя, медленно переворачивавшие странички. Ученики даже знали, чье имя на какой странице находится. Когда учитель заглядывал в конец, облегченно вздыхали те, у кого фамилия начиналась с «А» и «Б». Когда же руки начинали быстро листать странички в обратном порядке, отлегало от сердца у всех обладателей фамилий на «Р», «С» и «Т».
Порывшись в книжке, учитель тихо сказал:
– Немечек.
– Отсутствует! – хором грянул класс.
А один хорошо знакомый всей улице Пала голос добавил:
– Он болен.
– Что с ним?
– Простудился.
Господин Рац обвел взглядом класс, но сказал только:
– Не бережете вы себя.
Мальчишки с улицы Пала переглянулись: они-то хорошо знали, почему и как Немечек не берег себя. Сидели они на разных партах: кто на первой, кто на третьей, а Чонакош – что греха таить! – даже на последней. Но тут все переглянулись. У каждого на лице было написано, что Немечек пострадал не зря, а во имя прекрасного дела. Короче говоря, простудился, бедняга, за родину, искупавшись целых три раза в холодной воде: один раз нечаянно, другой – по долгу чести, а третий – подчиняясь насилию. И никто ни за что не выдал бы этой великой тайны, которую теперь, правда, все знали, не исключая и членов «Общества замазки». В «Обществе замазки» даже возникло движение за то, чтобы вычеркнуть имя Немечека из черной книги, но еще не установилось единое мнение, исправить сначала маленькие буквы на заглавные и только потом вычеркнуть, или вычеркнуть сразу, безо всяких церемоний. Поскольку Колнаи, который пока оставался председателем, требовал вычеркнуть без церемоний, Барабаш, разумеется, возглавил оппозицию, настаивавшую на том, что сначала нужно восстановить доброе имя.
Впрочем, теперь было не до того. Все помыслы приковала к себе война, которая должна была начаться во второй половине дня. После латыни к Боке толпами стали подходить гимназисты из других классов, предлагая свою помощь. Бока отвечал всем:
– К сожалению, не можем никого принять. Мы будем защищать свою страну сами. Возможно, краснорубашечники и сильней нас, но мы возьмем сноровкой. Будь что будет – мы решили сражаться одни.
Интерес к войне был так велик, что не только ученики других классов вызывались принять в ней участие. В час дня, когда все спешили домой обедать, Боке предложил свои услуги сам продавец турецкого меда, который по-прежнему стоял под соседними воротами.
– Молодой человек, – сказал он, – давай приду: одной рукой всех вышвырну!
– Ничего, старина, мы уж как-нибудь сами, – улыбнулся Бока и побежал домой.
В воротах все, обступив мальчишек с улицы Пала, спешили подать полезный совет. Одни показывали, как лучше подставить ножку. Другие вызывались пойти на разведку к краснорубашечникам. Третьи просили разрешения посмотреть на битву, но никто его не получил. Бока строго-настрого приказал, как только начнется сражение, сейчас же запереть калитку и снова отворить лишь для того, чтобы вытеснить наружу неприятеля. Но сутолока в воротах длилась всего несколько минут. Мальчики быстро разбежались: ведь ровно в два нужно быть на пустыре. В четверть второго гимназический двор уже опустел. Свернул свою торговлю и продавец турецкого меда. Только школьный сторож остался мирно покуривать у ворот свою трубку, с насмешкой крикнув торговцу:
– Ну, тебе тут недолго прохлаждаться! Вытурим скоро отсюда вместе со всем твоим барахлом!
Продавец ничего не ответил, только плечами пожал. Он ведь был важный барин, носил красную феску и не вступал в препирательства с какими-то сторожами. Особенно, когда чувствовал, что сторожа правы.
Ровно в два часа, когда Бока в ало-зеленой фуражке – головном уборе мальчишек с улицы Пала – появился у входа на пустырь, все войско уже стояло в строю посреди площадки. Налицо были все, кроме Немечека, – он лежал дома больной. И получилось, что как раз в день сражения войско Боки осталось без рядовых. Лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны – все были на месте, а рядовой, который, собственно, и составлял армию, лежал в кроватке в одном из окруженных садами домиков на Ракошской улице.
Бока сразу приступил к делу.
– Смирно! – отрывисто, по-военному, скомандовал он. Все вытянулись и замерли на месте.
– Объявляю вам, что слагаю с себя президентское звание, – громко произнес Бока. – Оно годится для мирного времени, а сейчас у нас война. Поэтому я принимаю звание генерала.
Все были взволнованы. И в самом деле, момент был торжественный, почти исторический: в день битвы, перед лицом величайшей опасности, Бока принял генеральское звание.
– А теперь, чтоб не было никаких недоразумений, в последний раз изложу план военных действий.
И Бока повторил свои объяснения. И хотя войско уже наизусть запомнило приказ, все с напряженным вниманием ловили каждое слово.
Окончив, генерал скомандовал:
– По местам!
Ряды мгновенно рассыпались.
Возле Боки остался только Челе, элегантный Челе, замещавший больного Немечека в должности адъютанта. На боку у него висела желтая медная труба, купленная в складчину за один форинт сорок крайцаров. В эту сумму входили и двадцать четыре крайцара «Общества замазки»– вся его казна, которую главнокомандующий попросту конфисковал на военные нужды.
Труба была красивая, вроде маленького почтового рожка, и, если в нее подуть, издавала точно такие же звуки, как военный горн. Всего трубой подавалось три сигнала. Один возвещал приближение врага, другой звал в атаку, а третий означал: «Все к генералу». Сигналы эти войско разучило еще на вчерашних маневрах.
– Господин генерал! – крикнул вдруг часовой, который взобрался по долгу службы на забор и сидел там, свесив одну ногу на улицу Пала.
– Что случилось?
– Честь имею доложить: на пустырь хочет войти служанка с письмом.
– Кого ей нужно?
– Говорит, господина генерала.
– Посмотри получше, – сказал Бока, подойдя к забору, – может, это какой-нибудь краснорубашечник переоделся в женское платье и пришел сюда шпионить.
Часовой перевесился наружу так, что чуть не свалился на улицу.
– Господин генерал, – доложил он, – я хорошо рассмотрел: это настоящая дама.
– Ну, если настоящая, пусть войдет.
И Бока пошел отворять. Гостья вошла и оглянулась по сторонам. Да, это была настоящая дама: как мыла пол на кухне, так и прибежала сюда – простоволосая, в шлепанцах на босу ногу.
– Я от господ Геребов, с письмом, – промолвила она. – Барчук сказали, очень срочно и чтоб подождать ответа…
Бока вскрыл письмо, адресованное «Многообещающему господину президенту Боке». Собственно говоря, это было даже не письмо, а целая кипа листков, самых разнообразных на вид: и вырванные из тетради странички, и почтовая бумага, и аккуратно обрезанный листок, позаимствованный у сестры, и большие листы писчей бумаги – все по порядку перенумерованное и от начала до конца густо исписанное крупными каракулями. Бока принялся за чтение. Вот что было в письме:
«Дорогой Бока!
Я, конечно, знаю, что тебе не особенно хочется разговаривать со мной, даже и письменно, но все-таки сделаю последнюю попытку, прежде чем окончательно порвать с вами. Я теперь понял не только, что виноват перед вами, но и что вы не заслужили такого отношения с моей стороны, так как вы просто замечательно вели себя с моим отцом, – особенно Немечек, который отрицал, что я вас предал. Отец был ужасно горд, что подозрение не подтвердилось, и, чтоб меня утешить, в тот же день купил мне «Архипелаг в огне» Жюля Верна, который я давно у него просил. Эту книгу я сейчас же отнес в подарок Немечеку, хотя сам еще не читал и мне очень хотелось прочесть. А отец на другой день спросил: «Ты куда девал книжку, мерзавец?», а я не знал, что ему ответить, а он сказал: «Бездельник, уже успел спустить букинисту; так и знай, больше ты от меня ничего не получишь», и оставил меня без обеда; но мне все равно: если бедный Немечек невинно пострадал из-за меня, то и я могу немножко невинно пострадать за него. Но об этом я пишу тебе так, между прочим, потому что не это главное, о чем мне хотелось сказать. Вчера в гимназии, когда вы со мной не разговаривали, я все думал, как мне загладить свою вину, и наконец придумал. Я решил: как напортил, так и поправлю. И сразу после обеда – грустный-прегрустный, потому что ты не хотел принять меня обратно – пошел в Ботанический сад: что-нибудь для вас разузнать. На острове я, по примеру Немечека, взобрался на то самое дерево, где он раз чуть не полдня просидел, и стал ждать, когда придут краснорубашечники. Часа в четыре они наконец пришли и ужасно меня ругали – мне хорошо было слышно на дереве; только теперь уж я не обижался, потому что опять считал себя вашим, с улицы Пала: хоть вы меня и прогнали, сердцем я все равно с вами (пожалуйста, можешь надо мной насмехаться). И вдруг я чуть не заплакал от радости, потому что Фери Ач сказал: «Этот Гереб – все равно не наш; он не настоящий изменник; похоже, что ребята с улицы Пала подослали его к нам шпионить». Они устроили общее собрание, и я все до одного слова подслушал. Они говорили, что раз Немечек все разведал, завтра выступать нельзя: вы заранее подготовитесь к сражению. И решили напасть послезавтра. Тут они еще какую-то хитрую штуку придумали, но стали говорить так тихо, что пришлось спуститься на целых два сука ниже, чтобы услышать. «Стал я спускаться, а они услыхали шорох, Вендауэр и говорит: „Может, это опять Немечек?“ Но это он просто так сострил – они, к счастью, даже не взглянули наверх, да если б и взглянули, все равно ничего бы не увидели – такая густая листва уже на том дереве. И они решили все равно напасть завтра, как Немечек подслушал и как тебе известно. Фери Ач сказал: „Они думают, что мы изменим свой план, потому что Немечек его подслушал. А мы нарочно не станем изменять, раз они этого не ждут“. Так они решили. Потом начались маневры, и я до полседьмого все сидел, притаившись, на дереве с опасностью для жизни, потому что сам понимаешь, что было бы, если б они меня ненароком заметили. У меня уж руки совсем онемели и, не уйди они в половине седьмого, я, наверно, так обессилел бы, что шлепнулся прямо им на голову, как переспелый персик, хоть я не персик и дерево это вовсе не персиковое. Но это я просто шучу, а о самом главном я тебе уже написал. В половине седьмого, когда остров опустел, я слез с дерева и пошел домой, и латынь пришлось зубрить после ужина, при свече, потому что вся вторая половина дня у меня была потеряна. Дорогой Бока, прошу тебя только об одном: сделай милость, поверь, что все здесь написанное – чистая правда, и не думай, что я лгу и хочу ввести вас в заблуждение как шпион краснорубашечников. Пишу я потому, что мне хочется вернуться к вам и заслужить прощение. Я буду вам верным солдатом и даже не обижусь, если ты разжалуешь меня из старших лейтенантов в рядовые: я охотно пойду и в рядовые; все равно ведь Немечек болен и у вас теперь ни одного рядового не осталось, кроме Гектора, но Гектор все-таки больше служебная собака, а я, по крайней мере, человек.
Если ты меня в последний раз простишь и примешь обратно, я сегодня же приду и буду вместе с вами сражаться и постараюсь тоже отличиться в бою, чтобы сразу искупить все свои ошибки. Очень тебя прошу, скажи Мари, можно мне прийти или нет, и, если можно, я сейчас же приду, потому что, пока она стоит у вас там, на пустыре, с письмом, я стою здесь, под воротами дома № 5 по улице Пала, и жду ответа.
Остаюсь твой верный друг
Гереб».
Дочитав письмо, Бока почувствовал: Гереб не лжет, он исправился, и его можно принять обратно. Подозвав Челе, он приказал:
– Адъютант, протрубите третий сигнал, означающий: «Все к генералу».
– Простите, какой ответ будет? – спросила Мари.
– Придется вам немного подождать, Мари, – твердо заявил генерал.
Маленькая труба пропела, и на ее пронзительные звуки из укреплений неуверенно выглянули мальчишеские лица. Ребята недоумевали, что случилось, почему труба зовет их к генералу. Но, увидев, что Бока спокойно стоит на месте, они вылезли из своих укрытий, и через минуту все войско снова выстроилось перед генералом. Прочитав вслух письмо, Бока спросил:
– Принять его?
И все в один голос (что и говорить, неплохие были ребята!) воскликнули:
– Принять!
Бока обернулся к служанке:
– Скажите ему, пусть приходит. Это наш ответ.
Мари, разинув рот, глядела на все эти диковинки: на войско, на фуражки с ало-зеленым верхом, на оружие… Потом повернулась и ушла.
– Рихтер! – крикнул Бока. Рихтер вышел из рядов.
– Прикомандировываю Гереба к тебе. Будешь за ним следить. При первом подозрительном признаке – хватай и сажай сторожку. Думаю, что до этого не дойдет, но осторожность не мешает. Вольно! Сегодня боя не будет, это видно и из письма. Все намеченное на сегодня остается в силе на завтра. Если они своего плана не меняют, мы тоже все оставляем по-старому.
Он хотел еще что-то сказать, но в эту минуту калитка, оставшаяся после ухода Мари незапертой, распахнулась от внезапного пинка, и на пустырь, весь сияя, влетел Гереб с видом человека, вступившего наконец в обетованную землю. Но, увидев войско в полном составе, он сразу, стал серьезным. При общем напряженном внимании Гереб подошел к Боке и взял под козырек. На голове у него красовалась ало-зеленая фуражка улицы Пала.
– Прибыл в ваше распоряжение, господин генерал, – отрапортовал он.
– Хорошо, – просто, без церемоний ответил Бока. – Будешь под командой Рихтера; пока – рядовым. Посмотрим, как ты себя будешь вести в бою, и, может быть, вернем тебе прежнее звание.
Потом повернулся к войску:
– А вам я строжайше запрещаю говорить с Геребом о его проступке. Он хочет загладить свою вину, и мы ему прощаем. Пусть никто ни словом не задевает его и не тычет в глаза тем, что было. Ему я тоже запрещаю говорить об этом. С прошлым покончено.
Наступило глубокое молчание. «Умный все-таки парень этот Бока! – снова подумали мальчики. – Вот уж кто достоин быть генералом, так это он!»
Рихтер сейчас же принялся объяснять Геребу, что ему делать завтра. Бока тихо заговорил о чем-то с Челе. Вдруг часовой, который по-прежнему сидел верхом на заборе, свесив правую ногу на улицу, подобрал ее.
– Господин генерал… враг приближается! – с перекошенным от ужаса лицом пролепетал он.
Бока с молниеносной быстротой подскочил к калитке и запер ее на задвижку. Все посмотрели на. Гереба, который стоял возле Рихтера бледный как смерть.
– Значит, все-таки соврал?! Опять соврал?! – гневно крикнул Бока.
Гереб от неожиданности не знал, что сказать. Рихтер схватил его за руку.
– Что это значит?! – зарычал Бока, Наконец, сделав усилие, Гереб пролепетал:
– Может быть… может быть, они заметили меня на дереве… и нарочно решили обмануть…
Часовой поглядел на улицу, спрыгнул с забора и, взяв оружие, присоединился к остальным.
– Краснорубашечники идут, – промолвил он.
Бока отворил калитку и смело вышел на улицу. В самом деле, шли краснорубашечники, но их было только трое: два Пастора да Себенич. Еще издали завидев Боку, Себенич вынул из-под полы белый флаг и стал им размахивать, крича:
– Мы – послы!
Бока вернулся на пустырь. Ему было немного стыдно перед Геребом за то, что он так опрометчиво его заподозрил.
– Отпусти его, – сказал он Рихтеру. – Это послы, они с белым флагом. Извини меня, Гереб.
Бедняга вздохнул с облегчением. Опять чуть не попал в переплет – и безо всякой вины. Но часовому влетело.
– Сначала смотри хорошенько, а потом уж тревогу подымай! – прикрикнул на него Бока. – Тоже храбрец!.. Кругом! Обратно в форты! – скомандовал он. – Остаться только Челе и Колнаи. Марш!
Войско, шагая в ногу, удалилось и вместе с Геребом скрылось в штабелях. Как раз когда мелькнула последняя красно-зеленая фуражка, постучались краснорубашечники. Адъютант открыл калитку.
Парламентеры вошли. Все трое были в красных рубашках и красных кепках. Пришли они без оружия, а Себенич высоко над головой держал белый флаг.
Бока знал, что полагается в таких случаях. Он взял свое копье и прислонил к забору в знак того, что он тоже безоружен. Колнаи и Челе молча последовали его примеру. Челе от усердия даже трубу положил на землю.
Старший Пастор выступил вперед:
– Я имею честь говорить с господином главнокомандующим?
– Так точно, – ответил Челе. – Вот генерал.
– Мы пришли к вам послами, – объяснил Пастор. – Я – глава посольства. От имени нашего главнокомандующего, Ференца Ача, объявляем вам войну.
Когда Пастор упомянул имя главнокомандующего, посольство взяло под козырек. Представители противной стороны из вежливости тоже прикоснулись к головным уборам.
– Мы не хотим заставать противника врасплох, – продолжал Пастор. – Мы придем сюда ровно в половине третьего. Вот что нам поручено сказать. Ждем вашего ответа.
Бока чувствовал всю важность момента. Голос его дрогнул, когда он отвечал:
– Объявление войны принимаем. Но надо кое о чем условиться. Я не хочу, чтобы война превращалась в драку.
– Мы тоже не хотим, – угрюмо сказал Пастор, нагнув голову и, по обыкновению, глядя исподлобья.
– Предлагаю сражаться только тремя способами, – продолжал Бока. – Первый – песочные бомбы, второй – борьба по правилам и третий – фехтование на копьях. Правила вы ведь знаете?
– Знаем.
– Кто коснется обеими лопатками земли, тот побежден и бороться больше не имеет права. Но сражаться двумя другими способами может. Согласны?
– Согласны.
– А копьем нельзя ни бить, ни колоть. Только фехтовать.
– Ладно.
– И вдвоем на одного не нападать. Но отряд на отряд нападать может. Это условие принимаете?
– Принимаем.
– Тогда все.
Бока приложил руку к фуражке. Челе и Колнаи, стоя навытяжку, тоже взяли под козырек. Послы, в свою очередь, отдали честь.
– Мне нужно еще вот что спросить, – снова заговорил Пастор. – Главнокомандующий велел нам узнать, что с Немечеком. Мы слышали, он болен. Если это верно, нам поручено навестить его, потому что он храбро вел себя тогда, у нас, а такого врага мы уважаем.
– Немечек живет на Ракошской, дом три. Он тяжело болен.
Все молча отдали честь. Себенич поднял флаг над головой. Пастор рявкнул: «Марш!», и послы отбыли через калитку. С улицы они услыхали, как запела труба, сзывая всех к генералу: Бока хотел известить войско о происшедшем.
А посольство быстрым маршем двигалось к Ракошской улице. Перед домом, где жил Немечек, послы остановились и спросили у девочки, стоявшей в воротах:
– Живет здесь такой – Немечек?
– Живет, – ответила она и проводила их до убогой квартирки в первом этаже, где жил мальчуган.
Возле двери была прибита выкрашенная в синий цвет жестяная дощечка с надписью: «Портной Андраш Немечек».
Они вошли, поздоровались; объяснили цель своего визита. Мать Немечека, бедно одетая белокурая худая женщина, очень похожая на сына (вернее, сын походил на нее), провела их в комнату, где лежал наш рядовой. Себенич опять высоко поднял белый флаг. Пастор опять сделал шаг вперед:
– Ференц Ач передает тебе привет и желает скорей поправляться.
Лежавший в подушках бледный, взлохмаченный мальчуган приподнялся и сел в постели. Просияв от удовольствия, он первым делом спросил:
– А когда война?
– Завтра. Мальчуган помрачнел.
– Значит, я не смогу прийти, – печально сказал он.
Послы ничего не ответили. Они пожали по очереди Немечеку руку а угрюмый, диковатый Пастор, растрогавшись, пробурчал:
– А меня ты прости.
– Прощаю, – тихо промолвил белокурый мальчуган и, закашлявшись, откинулся на подушку.
Себенич поправил ее у него под головой.
– Ну, пошли, – сказал Пастор.
Знаменосец снова поднял белый флаг, и все трое вышли на кухню. Мать Немечека со слезами проговорила:
– Вы… вы такие славные, хорошие ребятки… так любите моего сыночка. За это… за это я дам вам по чашке шоколада…
Послы переглянулись. Шоколад – штука соблазнительная! Но Пастор все-таки выступил вперед и, не опустив, а на этот раз высоко подняв свою красивую темноволосую голову, гордо сказал:
– Шоколада за это не полагается. Марш!
И, четко печатая шаг, послы удалились.
8
В день сражения выдалась чудесная весенняя погода. С утра, правда, моросил дождь и на перемене мальчики уныло поглядывали в окна, думая, что он испортит все дело, но к полудню дождик вдруг перестал и небо прояснилось. Через час уже ласково сияло весеннее солнце, и мостовая совсем просохла. А когда мальчики расходились по домам, стало опять тепло и с будайских гор повеяло ароматной свежестью. Лучшей погоды для сражения нельзя было и желать. Кучи мокрого песка в фортах немного подсохли, а что он сырой, было даже кстати: бомбы получались прочнее.
В час поднялась страшная беготня. Все помчались домой, и без четверти два на пустыре уже, волнуясь, шумело войско. У некоторых от обеда даже остался ломоть хлеба в кармане, и они доедали его, отщипывая по кусочку. Но возбуждение было все же не так велико, как накануне. Тогда никто еще не знал, что будет. Появление послов рассеяло тревогу, которая сменилась суровым ожиданием. Теперь все знали, когда нагрянет враг и как будет протекать битва. Все загорелись воинственным пылом и жаждали скорей очутиться в гуще боя. Но за полчаса до сражения Бока внес изменение в план военных действий. Когда войско собралось, все с изумлением увидели, что перед фортами номер четыре и номер пять тянется длинная, глубокая канава. Более пугливые, решив, что это дело вражеских рук, обступили Боку:
– Ты видел эту канаву?
– Видел.
– Кто ее вырыл?
– Яно выкопал сегодня утром по моему распоряжению.
– Зачем?
– Потому что план сражения частично изменяется. Посмотрев в свои записи, Бока подозвал командиров двух первых батальонов:
– Видите этот ров?
– Видим.
– Знаете, что такое шанец?
Те представляли себе это довольно смутно.
– Шанец, – сказал Бока, – делается для того, чтобы расположившееся в нем войско было скрыто от неприятеля и могло начать бой в удобный для себя момент. План сражения изменяется: вам теперь не придется стоять у входа с улицы Пала. Я понял, что это неудачно придумано. Вы со своими двумя батальонами спрячетесь в этом рву. Когда неприятельский отряд войдет через калитку, форты сейчас же начнут бомбардировку. Неприятель не заметит рва у штабелей и направится прямо к фортам. Когда они будут от вас в пяти шагах, вы высовываетесь и начинаете бомбардировать их песком. А форты продолжают вести огонь. Тут вы выскакиваете из шанца и бросаетесь на врага. Но сразу к выходу его не гоните, а подождите, пока мы не управимся с другим отрядом. Гоните, только когда я прикажу трубить атаку. После того как мы запрем другой отряд в сторожку, гарнизон первых двух фортов перебежит в остальные, а армия улицы Марии поспешит к вам на подмогу. Значит, вы должны только задержать их. Понятно?
– Конечно.
– Тут я прикажу трубить атаку. К тому времени нас будет вдвое больше, чем их, потому что у них половина войска будет уже сидеть в сторожке. Но по правилам во время атаки превосходство в численности допускается; только в одиночном бою нельзя вдвоем нападать на одного.
Пока Бока объяснял все это, Яно подошел ко рву и несколькими ударами мотыги подровнял края. Потом вывалил в него тачку песка.
Между тем гарнизон фортов сновал на штабелях, усердно трудясь. Форты были устроены так, что из-за поленьев виднелись только головы, которые то исчезали, наклоняясь, то вновь показывались. Там изготовлялись песочные бомбы. На верхнем уступе каждого форта развевалось маленькое ало-зеленое знамя; только на угловом, третьем по счету, знамени не было. Это знамя в свое время унес Ферн Ач. Но его не стали заменять другим, а решили отбить у неприятеля.
Мы помним, что это испытавшее много превратностей знамя оказалось в конце концов у Гереба. Похищенное Фери Ачем, оно сначала было спрятано в Ботаническом саду, в развалинах замка. Оттуда его унес Немечек, чьи маленькие следы были обнаружены на песке. Но в тот памятный вечер, когда мальчуган, свалившись с дерева, вдруг очутился среди краснорубашечников, Пасторы вырвали знамя у него из рук, и оно снова вернулось к томагавкам, в тайный арсенал врага. Напоследок его оттуда выкрал Гереб, чтобы заслужить благодарность мальчишек с улицы Пала. Но Бока тогда же сказал ему, что выкраденное знамя им не нужно: они хотят вернуть его в честном бою.
Поэтому накануне, как только послы краснорубашечников удалились с пустыря, другое посольство – посольство мальчишек с улицы Пала – отправилось с этим знаменем в Ботанический сад.
Когда они туда прибыли, происходил как раз большой военный совет. Послов было трое: Вейс, Чонакош и во главе их Челе. У него был белый флаг, а красно-зеленое знамя, завернутое в газетную бумагу, нес Вейс.
На деревянном мостике им заступили дорогу часовые:
– Стой! Кто идет?
Челе, не отвечая, достал из-под полы белый флаг и молча поднял его над головой. Часовые, не зная, что полагается делать в таких случаях, обернулись к острову и закричали:
– Гейя, гоп! Здесь чужие пришли!
На крик к мосту вышел Фери Ач. Ему хорошо было известно, что означает белый флаг, и он пропустил пришельцев на остров.
– Посольство?
– Да.
– Что вам нужно?
Челе выступил вперед:
– Мы принесли обратно знамя, которое вы у нас похитили. Оно вернулось к нам, но не так, как мы хотим. Возьмите его завтра в бой, и мы постараемся отбить его. А не сумеем – пускай остается у вас. Вот что велел вам передать мой генерал!
Челе подал знак Вейсу. Тот с глубокой серьезностью развернул бумагу, вынул из нее знамя и, прежде чем отдать, поцеловал его.
– Начальник арсенала Себенич! – крикнул Ач.
– Нет его! – прозвучало в ответ из густого кустарника.
– Он ведь только что был у нас с посольством, – сказал Челе.
– Верно, я и забыл, – ответил Фери Ач. – Тогда – его заместитель!
В одном месте кусты раздвинулись, и перед главнокомандующим предстал маленький, юркий Вендауэр.
– Прими у послов знамя, – сказал Фери Ач, – и спрячь в арсенал.
Затем обратился к посольству:
– Во время сражения знамя будет у Себенича. Так и передайте.
Челе хотел было снова поднять белый флаг в знак того, что посольство отбывает, но командир краснорубашечников спросил:
– Знамя вам, наверно, Гереб принес?
Послы молчали.
– Гереб? Да? – переспросил Ач.
– На это я отвечать не уполномочен! – щелкнув каблуками, отчеканил Челе. – Смирно! Ша-гом марш! – скомандовал он своим подчиненным и покинул краснорубашечников.
Недаром про Челе говорили, что он – франт, недаром отличался он изяществом! Надо отдать ему справедливость – это было сделано молодцевато, по-военному. Никого не выдал врагу, даже изменника.
А Фери Ач почувствовал себя пристыженным. Вендауэр со знаменем в руках стоял и таращился вслед уходящим.
– Чего рот разинул?! – накинулся на него главнокомандующий. – Неси знамя на место, живо!
Вендауэр побрел исполнять приказание, думая: «А молодцы все-таки эти ребята с улицы Пала! Второй раз утерли нос грозному Фери!»
Вот как знамя вернулось к краснорубашечникам. Потому-то его и не было на форте номер три.
Часовые уже сидели верхом на заборе: один – на ограждавшем пустырь с улицы Марии, другой – на том, который выходил на улицу Пала. Из хлопотливой сутолоки, кипевшей между штабелями, вдруг вынырнул Гереб. Он подбежал к Боке и, остановившись перед ним, сдвинул каблуки:
– Господин генерал! Позвольте доложить: у меня просьба.
– Какая?
– Господин генерал, вы назначили меня сегодня в крепостную артиллерию на форт номер три, потому что он угловой и там опаснее всего. И еще потому, что на нем нету знамени, которое я вам уже принес один раз.
– Так. Чего же ты хочешь?
– Прошу перевести меня в еще более опасное место. Я уже поменялся с Барабашем, который назначен в шанец. Он хороший бомбометчик, от него будет польза в форте. А я хочу сражаться в открытую, из шанца, в первом ряду. Пожалуйста, разрешите.
Бока оглядел его с ног до головы:
– А ты все-таки молодец, Гереб!
– Значит, можно?
– Можно.
Гереб отдал честь, но остался стоять перед генералом.
– Ну, что еще? – спросил тот.
– Я хочу только сказать, – не без смущения ответил артиллерист, – что очень обрадовался, когда ты сказал: «Молодец, Гереб». Но мне очень больно, что ты говоришь: «Все-таки молодец».
– Я тут ни при чем, – улыбнулся Бока. – Это уж ты сам себя вини. А сейчас – нечего нюни распускать. Кругом марш! Занять свое место!
И Гереб твердым шагом удалился. Радостно спрыгнул он в ров и сразу занялся изготовлением бомб из сырого песка. А из шанца высунулась чумазая физиономия Барабаша.
– Ты ему разрешил? – крикнул он Боке.
– Разрешил, – откликнулся генерал.
Словом, ему не очень-то доверяли, этому Геребу. Так всегда бывает с теми, кто хоть раз обманул. Им не верят, даже когда они говорят правду. Но слово генерала рассеяло последние сомнения. Барабаш вскарабкался на угловой форт, и снизу было видно, как он, взяв под козырек, доложил начальнику гарнизона о своем прибытии. В следующее мгновение обе вихрастые головы уже исчезли за парапетом. Оба взялись за работу: вместе со всеми стали складывать бомбы в пирамиды.
Так прошло несколько минут. Мальчикам они показались целой вечностью. Нетерпение возросло до того, что послышались восклицания:
– А может, они раздумали?
– Струсили!
– Тут какой-то подвох!
– Они не придут!
В начале третьего адъютант объехал боевые позиции и передал приказ стать «смирно», прекратив всякую суету, так как генерал желает в последний раз произвести смотр войскам. Когда он, завершая свой объезд, объявил об этом на левом фланге, на правом уже появился Бока – молчаливый и строгий. Сначала он сделал смотр армии улицы Марии. Там все было в порядке. Два батальона застыли по обе стороны больших ворот. Командиры вышли из рядов.
– Так, хорошо, – сказал Бока. – Задачу свою знаете?
– Да. Мы притворимся, что убегаем.
– А потом… в тыл им!
– Есть, господин генерал!
Затем Бока осмотрел сторожку. Открыл дверь, вставил в замочную скважину большой ржавый ключ и повернул его, пробуя, действует ли замок. Потом проверил готовность первых трех фортов. Гарнизон, из двух человек в каждом, налицо. Песочные бомбы, сложенные пирамидами, – под рукой. В форте номер три бомб втрое больше, чем в остальных. Этот форт был главным. Тут уж не двое, а трое бомбардиров встали навытяжку при появлении генерала. В фортах четвертом, пятом и шестом лежали запасные бомбы.
– Этих бомб не трогайте, – сказал Бока. – Они понадобятся, когда по моему приказу сюда перейдут артиллеристы из других фортов.
– Есть, господин генерал!
В форте пятом напряжение достигло такой степени, что один не в меру усердный артиллерист, увидев генерала, даже воскликнул:
– Стой! Кто идет?!
Другой толкнул его в бок. А Бока прикрикнул:
– Ты что, генерала своего не узнаешь? Осел! И добавил:
– Такого расстрелять не жалко!
Растерянный артиллерист до смерти перепугался, не сообразив впопыхах, что подобная казнь не очень вероятна. Да и Бока не заметил, что на сей раз он, хоть и редко это с ним бывало, сморозил глупость.
Он пошел дальше, к шанцу. В глубоком рву на корточках сидели два батальона. С ними был и блаженно улыбавшийся Гереб. Бока взошел на бруствер.
– Ребята! – воскликнул он, воодушевляясь. – От вас зависит исход сражения! Сумеете задержать неприятеля до тех пор, пока армия улицы Марии сделает свое дело, – битва выиграна! Запомните это хорошенько!
Громкие крики раздались в ответ. Забавно было видеть, как скорчившиеся во рву фигурки вопят от восторга и размахивают своими фуражками.
– Тише! – крикнул генерал и вышел на середину пустыря. Там его уже поджидал Колнаи с трубой.
– Адъютант!
– Слушаю!
– Надо занять место, откуда видно все поле боя. Полководцы всегда наблюдают за ходом сражения с вершины холма. А мы взберемся на сторожку.
Через минуту они уже стояли на крыше сторожки. Труба Колнаи сверкала на солнце, придавая адъютанту чрезвычайно воинственный вид. Бомбардиры в фортах даже показывали на него друг другу:
– Гляди, гляди…
А Бока извлек из кармана театральный бинокль, уже появлявшийся однажды на сцену – в Ботаническом саду. С ремешком бинокля через плечо, он был ни дать ни взять сам великий Наполеон. Во всяком случае, полководец, черт возьми!
И они стали ждать.
Историк должен придерживаться точной хронологии. Поэтому мы отмечаем, что ровно через шесть минут на улице Пала зазвучала труба, – но чужая. Заслышав этот звук, батальоны встрепенулись.
– Идут! – пробежало по рядам. Бока слегка побледнел.
– Сейчас, – сказал он Колнаи, – сейчас решится судьба нашей державы.
Спустя несколько мгновений оба часовых, спрыгнув с забора, помчались к сторожке, на крыше которой стоял генерал. Остановившись внизу, они отдали ему честь:
– Неприятель приближается!
– По местам! – приказал Бока, и часовые убежали: один спрыгнул в ров, другой присоединился к армии улицы Марии. Приложив бинокль к глазам, Бока тихо сказал Колнаи:
– Подыми трубу и держи наготове.
Колнаи повиновался. Бока быстро отнял бинокль от глаз. По лицу его разлился румянец.
– Труби! – с одушевлением воскликнул он.
И труба запела. Краснорубашечники остановились перед обоими входами. Серебряные острия их копий сверкали на солнце. В своих красных фуражках и рубашках они походили на красных дьяволят. Их горнисты тоже затрубили атаку, и воздух наполнился призывными трубными звуками. Колнаи трубил не переставая.
– Тата… тра… трара… – неслось с крыши сторожки. Бока с биноклем в руках искал Фери Ача.
– Вон он!.. – вдруг воскликнул генерал. – Идет с отрядом, который наступает с улицы Пала… Там и Себенич… знамя наше несет… Да, жарко придется армии улицы Пала!
Отрядом, подошедшим с улицы Марии, командовал старший Пастор. Над отрядом развевалось алое знамя. Все три трубы пели не умолкая. Но краснорубашечники, сомкнув ряды, неподвижно стояли у ворот.
– Они что-то замышляют, – промолвил Бока.
– Пускай замышляют! – воскликнул адъютант, на мгновение перестав трубить. Но в следующую секунду уже снова дул изо всей мочи.
– Тата… тра… трара…
Внезапно трубы краснорубашечников смолкли. Их отряд, стоявший на улице Марии, разразился оглушительными боевыми кликами:
– Гейя, гоп! Гейя, гоп!
И ринулся в ворота. Защитники мгновение помедлили, словно собираясь принять бой, но потом сломя голову бросились наутек, как и предусматривалось планом.
– Браво! – воскликнул Бока и поспешно обернулся к улице Пала.
Однако отряд Ача и не думал входить на пустырь, а стоял на улице, перед открытой калиткой, словно прирос к месту.
– Что это они? – промолвил Бока с тревогой.
– Какая-нибудь, хитрость, – дрогнувшим голосом отозвался Колнаи.
Они снова посмотрели налево. Наши бежали, и краснорубашечники гнались за ними.
Тут Бока, до той поры серьезно и не без испуга наблюдавший за неподвижным отрядом Ача, вдруг выкинул такое, чего не делал ни разу в жизни: подбросил вверх фуражку, испустил дикий вопль и принялся плясать, как сумасшедший, на ветхой кровле, которая чуть под ним не проломилась.
– Спасены! – восклицал он.
Потом, подскочил к Колнаи, стиснул его в объятиях и, расцеловав, пустился в пляс вместе с ним. Адъютант ровно ничего не понимал.
– Что с тобой? Что ты? – спрашивал он в недоумении. Бока указал в ту сторону, где в бездействии стоял со своим отрядом Ач.
– Видишь?
– Вижу.
– И не понимаешь?
– Не понимаю.
– Ах ты, дурачина… Да ведь мы спасены! Победили! Неужели не понимаешь?
– Нет.
– Видишь, они стоят не двигаясь?
– Конечно, вижу!
– Не входят… ждут…
– Ну, ждут.
– А почему ждут? Они ведь ждут, пока корпус Пастора покончит с армией, прикрывающей пустырь с улицы Марии. Только после этого они пойдут в атаку. Я это сразу понял, когда увидел, что они не нападают одновременно. Нам повезло! Они составили точно такой же план сражения, как мы: хотели вытеснить половину нашего войска на улицу Марии (это поручено Пастору), а оставшуюся половину атаковать потом сразу с двух сторон: Фери Ач ударил бы спереди, а Пастор – с тыла. Но теперь им придется облизнуться! Пошли!
И Бока стал спускаться с крыши.
– Куда ты?
– Идем, идем. Тут смотреть нечего: они все равно не тронутся с места. Скорей на помощь армии улицы Марии!
Армия улицы Марии отлично делала свое дело. Рассеявшиеся бойцы ее беспорядочно бегали между тутовыми деревьями, у лесопилки, для пущего правдоподобия восклицая:
– Ой! Ой!
– Нам крышка!
– Все пропало!
Краснорубашечники с криком их преследовали. Бока следил теперь только, попадется ли враг в ловушку. Вдруг наши у лесопилки исчезли. Половина скрылась в каретном сарае, половина – в сторожке.
– За ними! Лови их! – подал команду Пастор. И краснорубашечники кинулись за ними, в обход лесопилки.
– Труби! – закричал Бока.
Маленькая труба звонко протрубила сигнал к началу бомбардировки. Тонкие детские голоса с трех первых фортов ответили ей торжествующими кликами. В ту же минуту послышались глухие удары: в неприятеля полетели песочные бомбы. Раскрасневшийся Бока весь дрожал от возбуждения.
– Адъютант! – крикнул он.
– Я!
– Лети к шанцу и скажи, чтоб подождали. Пускай подождут! Начинать только после сигнала атаки. И форты улицы Пала тоже пусть ждут!
Бока еще не договорил, как адъютант уже бросился исполнять приказание. У сторожки он лег на живот и под прикрытием земляного вала, ползком, чтобы не увидел неподвижно стоявший у ворот неприятель, пробрался к шанцу. Шепотом передав приказ крайнему во рву, он так же ползком возвратился к генералу.
– Все в порядке, – доложил он.
Крики за лесопилкой слились в сплошной рев. Краснорубашечники решили уже, что победили. Но три форта палили вовсю, и это мешало нападающим взять штабеля приступом. На крайнем – славном третьем – форте, скинув куртку, в одной рубашке, как лев, сражался Барабаш. Он только и делал, что прицеливался и швырял бомбы в Пастора-старшего. Мягкие песочные бомбы одна за другой шмякались в черноволосую голову Пастора, и каждую Барабаш сопровождал восклицанием:
– На-ка, дружок!
Пастор яростно отплевывался от залеплявшего ему рот и глаза рыхлого песка.
– Погоди, я до тебя доберусь! – злобно завопил он.
– Попробуй доберись! – отвечал Барабаш, снова прицелившись и метнув бомбу.
Раз! И у краснорубашечника снова оказался полон рот песка. Форты разразились неистовым «ура».
– Покушай песочку! – крикнул разгоряченный Барабаш и обеими руками метнул в Пастора сразу две бомбы.
Не заставили себя ждать и две другие. Угловой форт работал на славу. А пехота сидела притаившись в каретном сарае и сторожке, ожидая приказа. Краснорубашечники были уже у фортов и лезли напролом.
– На штабеля! – снова отдал приказание Пастор.
– Бац! – воскликнул Барабаш, угодив предводителю прямо в нос.
– Бац! – подхватили этот клич остальные форты, обрушивая на головы уцепившихся за поленья краснорубашечников целый ливень песка.
Бока схватил Колнаи за руку.
– Песок на исходе, – сказал он. – Я отсюда вижу. И Барабаш кидает уже одной рукой, а ведь в угловом форте бомб втрое больше, чем в других…
Огонь и правда стал как будто слабей.
– Как же быть? – спросил Колнаи.
Но к Боке уже вернулось самообладание.
– Победа будет за нами, – сказал он.
В этот момент форт номер два прекратил бомбардировку. Видимо, песок иссяк.
– Теперь пора! – воскликнул Бока. – Живо в сарай! Наступление!
А сам одним прыжком очутился у сторожки и, распахнув дверь, крикнул внутрь:
– В атаку!
Оба батальона мигом выскочили наружу: один из сарая, другой из сторожки, – и вовремя. Пастор уже занес ногу на парапет форта номер два. Но кто-то, вцепившись сзади, стащил его вниз. Краснорубашечники растерялись. Они думали, что обратившееся в бегство войско скрылось в штабелях и назначение фортов – не допускать туда противника. И вдруг те, кого они только что преследовали, ударили им в тыл!..
Авторитетные военные корреспонденты, участвовавшие в настоящих войнах, утверждают, что в сражении самое страшное – паника. Полководцы и сотен пушек не так опасаются, как малейшего замешательства, которое обычно за несколько секунд разрастается в полнейший хаос. Но если паника страшна настоящему войску, с ружьями и пушками, как же было не поддаться ей горстке маленьких пехотинцев в красных спортивных рубашках?
Они не поняли, в чем дело. В первую минуту никто даже не сообразил, что это – те самые беглецы, которые только что от них скрылись. Краснорубашечники решили, что перед ними совершенно новое войско. Только узнав некоторых в лицо, они увидели, что столкнулись со старыми знакомыми.
– Откуда вы? Из-под земли, что ли, выскочили? – вскричал Пастор, когда две сильные руки ухватили его за ногу и стащили на землю.
Теперь и Бока сражался. Высмотрев себе подходящего противника, он схватился с ним и, борясь, понемногу стал оттеснять его к сторожке. Краснорубашечник, видя, что с Бокой ему не сладить, изловчился и подставил ножку. С фортов, откуда внимательно следили за поединком, раздались протестующие крики:
– Позор!
– Ножку подставил!
Бока упал, но тотчас вскочил на ноги.
– Ты ножку мне подставил! Это не по правилам! – крикнул он и поманил к себе Колнаи.
Вдвоем они моментально водворили барахтающегося краснорубашечника в сторожку и заперли его там.
– Вот дурак! – тяжело дыша, сказал Бока. – Если б он по правилам боролся, я бы с ним не сладил. А так – мы имели полное право пойти на него вдвоем.
И он снова поспешил в бой – туда, где противники, разделившись попарно, один на один боролись друг с другом. Бомбометчики осыпали краснорубашечников остатками песка, сохранившимися в первых двух фортах. А форты, которые смотрели на улицу Пала, молчали. Они выжидали.
Колнаи хотел было сам схватиться с кем-нибудь врукопашную, но Бока прикрикнул на него:
– Не лезь в драку! Ступай передай приказ: гарнизонам первых двух фортов перейти в четвертый и пятый!
Колнаи пересек поле битвы и передал приказание. С первых двух фортов тотчас исчезли знамена – бомбардиры взяли их с собой на новые позиции.
Один победный клич гремел за другим. Но самый громкий прозвучал, когда Чонакош схватил Пастора – самого грозного, непобедимого Пастора! – поперек туловища и, подняв в воздух, донес до сторожки. Мгновение – и Пастор в бессильной ярости заколотил ногами в дверь, но уже изнутри…
Тут поднялся невообразимый шум. Краснорубашечники чуяли уже свою гибель, а теперь, лишившись предводителя, совсем потеряли голову. Оставалось только уповать, что отряд Ача исправит положение. Но пока их одного за другим вталкивали в сторожку при новых и новых взрывах ликования. Эти торжествующие вопли доносились и до корпуса, неподвижно стоявшего у входа с улицы Пала.
– Слышите? – с гордой улыбкой кивал Фери Ач в сторону пустыря, прохаживаясь вдоль строя своих бойцов. – Скоро нам подадут сигнал.
Дело в том, что у краснорубашечников был уговор: как только корпус Пастора покончит с выставленным против него заслоном, Пастор и Фери Ач по звуку трубы атакуют одновременно с двух сторон. Но к этому времени горнист Пастора – малыш Вендауэр – уже сидел в сторожке и вместе с остальными пленными кулаками и ногами барабанил в стенки, а труба его, полная песка, преспокойно лежала в форте номер три среди прочей военной добычи…
Пока у лесопилки и сторожки развертывались эти события, Фери Ач подбадривал своих:
– Главное – терпение. А как услышим трубу – вперед!
Но долгожданного сигнала все не было. Крики и вопли стали затихать и слышались теперь так глухо, словно исходили из закрытого помещения… Когда же батальоны в ало-зеленых головных уборах втолкнули в сторожку последнего краснорубашечника, испустив при этом такой торжествующий рев, какого пустырь еще не слыхивал, отряд Фери Ача охватила тревога. Младший Пастор вышел из рядов.
– По-моему, там что-то неладно, – сказал он.
– Почему?
– Потому что это не их голоса, а чужие. Фери Ач прислушался. И в самом деле, горланили чужие. Однако он притворился спокойным.
– Ничего особенного, – заявил он. – Просто наши сражаются молча. Это мальчишкам с улицы Пала туго приходится, вот они и орут.
В это мгновение, точно в опровержение слов Фери, со стороны улицы Марии ясно послышалось «ура».
– Ого! – сказал Фери Ач. – «Ура» кричат.
– Кому туго приходится, тот «ура» кричать не станет! – возбужденно отозвался младший Пастор. – Зря мы, пожалуй, решили, что отряд моего брата наверняка победит…
И Фери Ач, – а он был малый неглупый, – понял, что расчеты его не оправдались. Понял, что и битва теперь уже проиграна: ведь ему одному придется принять бой со всем войском мальчишек с улицы Пала. А долгожданный сигнал трубы – последняя слабая надежда – все не раздавался…
И вдруг вместо него зазвучал совсем другой сигнал – чужой, обращенный к войску Боки. Он означал, что весь отряд Пастора, до последнего человека, взят в плен и заперт в сторожке и что теперь начинается общее наступление с пустыря. И действительно, по звуку трубы армия улицы Марии разделилась на два отряда. Один показался у сторожки, а другой вынырнул из-за форта номер шесть. Шли они в порванной одежде, но с сияющими лицами, торжествующие, закаленные в огне победоносного сражения.
Теперь Фери Ач знал уже с полной уверенностью: войско Пастора разбито. Несколько мгновений он пристально глядел на появившиеся батальоны, потом быстро обернулся к младшему Пастору.
– Но если их разбили, где же они? – возбужденно спросил он. – Если их вытеснили на улицу, почему они не бегут сюда?
Они с Пастором оглядели улицу, а Себенич даже сбегал на улицу Марии. Никого. Громыхала только груженная кирпичом телега, да несколько прохожих мирно шли по своим делам.
– Нигде никого нет! – с отчаянием в голосе доложил Себенич.
– Что же с ними случилось?
И тут только Фери вспомнил про сторожку.
– Их заперли! – вскричал он вне себя от гнева. – Разбили и заперли в будке!
На этот раз догадка его, в отличие от недавнего опровержения, сразу подтвердилась. Со стороны сторожки послышались глухие удары: это заключенные колотили кулаками в дощатые стенки. Но тщетно: маленькая сторожка была заодно с войском улицы Пала. Ни стены ее, ни дверь не поддавались, стойко выдерживая удары. Тогда пленники устроили кошачий концерт, надеясь привлечь этим внимание корпуса Ача. Бедный Вендауэр, у которого отняли трубу, рупором приставил ладони ко рту и, надрываясь, «трубил» в них.
– Ребята! – воскликнул Фери Ач, обращаясь к своему отряду. – Пастор потерпел поражение! От нас зависит спасти честь краснорубашечников! Вперед!
Они как стояли длинной колонной, так и вступили на пустырь и беглым шагом устремились в атаку. Но Бока, успевший уже снова взобраться вместе с Колнаи на крышу сторожки, крикнул что было мочи, заглушая стучавших, визжавших и бесновавшихся у него под ногами пленников:
– Труби! В атаку! Форты, огонь!
И подбегавшие ко рву краснорубашечники вдруг отпрянули. Четыре форта одновременно обрушили на них свои бомбы. Туча песка заволокла все, и наступающие на мгновение перестали видеть.
– Резерв, вперед! – скомандовал Бока.
Вынырнув из-за штабелей, резерв ринулся прямо в пыльный вихрь, навстречу атакующим. Но пехота в шанце по-прежнему сидела на корточках, дожидаясь своей очереди. А из фортов одна за другой летели бомбы, и нет-нет да и угодит какая ненароком в спину кому-нибудь из мальчишек с улицы Пала.
– Не беда! – восклицали они. – Вперед!
Пыль стояла столбом. Как только иссякал запас бомб в каком-нибудь форте, защитники принимались швырять сухой песок прямо горстями. А посреди пустыря, всего шагах в двадцати от шанца, кружились, топчась на месте, оба перемешавшихся друг с другом войска, и в туче пыли мелькала то красная рубаха, то фуражка с ало-зеленым верхом.
Но мальчишки с улицы Пала уже устали, а солдаты Ача вступили в бой свежие. И временами казалось, что они все же продвигаются к шанцу. Иначе говоря, войско Боки было не в силах сдержать неприятеля. Но чем ближе краснорубашечники подвигались к фортам, тем чаще становились попадания. Барабаш и на этот раз избрал себе мишенью предводителя: он стал бомбардировать Фери Ача.
– Ничего! – раздавались его крики. – Кушай на здоровье! Это всего-навсего песочек!
Проворным бесенком вертелся он на уступе форта, скалясь, гикая и с молниеносной быстротой наклоняясь за новой бомбой. А от мешочков с песком, которые притащил с собой резерв Ача, не было никакого прока: каждый боец был необходим в строю, их побросали на землю.
С крыши сторожки и с поля боя все неслось волнующее, вдохновляющее пение труб – Колнаи и меньшого Пастора. Краснорубашечники были в десяти шагах от шанца.
– Ну, Колнаи, – воскликнул Бока, – покажи свою удаль! Беги в шанец, не глядя на бомбы, и труби там, внизу, тревогу! Пусть открывают огонь, а кончится песок – выбегают!
– Гаго! Го! – издал боевой клич Колнаи и спрыгнул с крыши.
Теперь уже не ползком, а во весь рост помчался он к окопу. Бока что-то кричал ему вслед, но ничего нельзя было разобрать из-за адского шума в сторожке, неумолчного пения трубы и криков наступающих. И Бока только следил, успеет ли адъютант добраться до окопа, прежде чем краснорубашечники обнаружат спрятанных там солдат.
Какой-то здоровяк отделился от сражающихся, подскочил к Колнаи и, поймав его за руку, схватился с ним. Ну, теперь конец: Колнаи не передаст приказа.
– Пойду сам! – в отчаянии воскликнул Бока, спрыгнул вниз и помчался к окопу.
– Стой! – взревел, увидав его, Фери Ач.
Полагалось бы принять вызов полководца противной стороны, но это значило все поставить на карту. И Бока понесся дальше, к шанцу.
Фери Ач – за ним.
– Удираешь, трус? – кричал он. – Врешь, догоню! И он действительно догнал его – как раз когда Бока спрыгнул в ров. Бока успел только крикнуть:
– Огонь!
И в следующее мгновение десяток свежих бомб обрушился на красную рубаху, красное кепи и красное лицо подбежавшего Фери Ача.
– Ах вы, черти! – завопил он. – Из-под земли стреляете?
Но тут бомбардировка разгорелась по всей линии. Форты били сверху, шанец – снизу. Песок бушевал, и в общий крик влились свежие голоса: завопил окоп, до той поры вынужденный молчать. Бока счел момент подходящим для последней, решительной, атаки и прошел в конец окопа, оказавшись не меньше чем в двух шагах от краснорубашечника, который боролся с Колнаи. Тут он взобрался на бруствер, достал ало-зеленое знамя и, подняв его над головой, отдал последний приказ:
– Все в атаку! Вперед!
И вдруг точно из-под земли выросло целое новое войско. Устремившись в атаку сомкнутым строем, но тщательно избегая поединков, оно стало оттеснять краснорубашечников от шанца.
– Песок весь вышел! – раздался с форта крик Барабаша.
– Спускайтесь вниз! В атаку! – на бегу отозвался Бока.
Тотчас на стенах фортов показались ноги, руки, и бомбардиры спустились на землю. Они составили второй боевой порядок, который двинулся вслед за первым.
Бой принял ожесточенный характер. Краснорубашечники, чуя скорый конец, уже не очень-то считались с правилами. Им правила были нужны, пока они думали, что и по правилам победят. А теперь они отбросили всякие условности.
Это становилось опасным. Ведь краснорубашечники и без того хорошо держались, хотя их было вдвое меньше.
– К сторожке! – завопил Фери Ач. – Освободим наших!
И оба войска, описав полукруг, стали перемещаться к сторожке. Этого мальчишки с улицы Пала не ожидали. Враг теперь стал ускользать от них. Как гвоздь, внезапно согнувшись, уходит из-под молотка, так уклонилась влево и неприятельская колонна. Впереди мчался Фери Ач, и в голосе его уже звучали торжествующие ноты:
– За мной!
Но в следующее мгновение он остановился как вкопанный. Из-за сторожки навстречу ему вынырнула маленькая фигурка. Предводитель краснорубашечников застыл от неожиданности на месте, а за спиной его сгрудилось все войско.
Перед Ачем стоял маленький мальчик, на целую голову ниже его. Подняв вверх обе руки, словно запрещая идти дальше, этот худенький белокурый мальчуган тонким детским голоском крикнул:
– Стой!
Войско пустыря, поначалу оцепеневшее от такого оборота дела, испустило звонкий крик:
– Немечек!
И в ту же самую минуту тщедушный, больной мальчуган схватил огромного Фери поперек туловища и одним отчаянным усилием, на которое это щупленькое тельце сделали способным только пылавший в нем жар, только горячечное, полуобморочное состояние, повалил растерявшегося полководца на землю.
Но тут же сам упал на него, потеряв сознание.
Краснорубашечников охватило смятение. Их армию словно обезглавили: падение полководца решило ее судьбу. Воспользовавшись минутным замешательством, войско Боки, взявшись за руки и образовав цепь, оттеснило от сторожки застигнутого врасплох неприятеля.
Фери Ач с трудом поднялся, отряхивая с себя пыль. Лицо его пылало яростью, глаза сверкали. Оглядевшись вокруг, он увидел, что остался один. Войско его беспомощно топталось уже где-то у самого выхода, окруженное торжествующими мальчишками с улицы Пала, а он стоял здесь – одинокий, посрамленный.
Возле него на земле лежал Немечек.
Но вот последнего краснорубашечника вытолкали на улицу, заперли калитку на засов, и все лица озарились хмельной радостью победы. Грянуло «ура», раздались торжествующие клики. А Бока тем временем сбегал на лесопилку, привел оттуда словака и принес воды.
Все обступили лежащего на земле Немечека, и гремевшее за минуту до того «ура» сменилось могильной тишиной. Фери Ач стоял поодаль, хмуро поглядывая на победителей. В сторожке по-прежнему буянили пленники. Но теперь было не до них.
Яно бережно поднял Немечека и уложил его на земляной бруствер. Лицо и лоб ему смочили водой. Несколько минут спустя мальчик открыл глаза и с утомленной улыбкой осмотрелся. Все молчали.
– Что такое? – тихо спросил он.
Но все так растерялись, что даже не ответили и только, не сводя глаз, смотрели на него.
– Что такое? – повторил он и, приподнявшись, сел на насыпи.
– Ну как? Лучше тебе? – спросил, подойдя к нему, Бока.
– Лучше.
– Ничего не болит?
– Ничего.
Немечек улыбнулся. Потом спросил:
– Мы победили?
Тут ко всем вдруг вернулся дар речи. Все в один голос воскликнули:
– Победили!
Никто не обращал внимания на Фери Ача, который стоял возле штабелей, угрюмо, с тоскливой злобой созерцая эту идиллию.
– Мы победили, – сказал Бока, – но под конец чуть не случилась беда: только благодаря тебе удалось ее избежать. Не появись ты и не застань Фери врасплох, они бы освободили пленных, а тогда уж и не знаю, что было бы.
– Неправда! – как будто даже с сердцем возразил белокурый мальчуган. – Это вы только нарочно говорите, чтобы меня обрадовать. Потому что я болен.
И он провел рукой по лбу. Теперь, когда кровь возобновила свой бег, лицо его опять стало красным от жара. Он весь пылал.
– А сейчас, – сказал Бока, – мы отнесем тебя домой. Довольно глупо было приходить. Не понимаю, как родители тебя пустили.
– А они не пускали. Я сам пришел.
– Как это – сам?
– Папа ушел, костюм понес на примерку. А мама вышла к соседке, суп тминный для меня подогреть, и дверь не заперла – сказала, чтоб я крикнул, если мне что нужно. Я остался один, сел в постели и стал слушать. Ничего не было слышно, но мне показалось, что я слышу. В ушах у меня шумело – кони мчались, трубы пели, раздавались крики. Мне почудился голос Челе; будто он кричит: «Сюда, Немечек, на помощь!» Потом показалось – ты кричишь: «Не ходи, Немечек, ты нам не нужен: ты ведь болен; хорошо было приходить когда мы забавлялись, в шарики играли, а теперь ты, конечно, не придешь, когда мы тут сражаемся и вот-вот проиграем битву!» Так ты сказал, Бока. Мне послышалось, что так. Ну, тут я сразу выскочил из постели, но упал, потому что давно лежу, совсем ослаб. Кое-как поднялся, достал одежду из шкафа… башмаки… и скорей одеваться. Только я оделся, мама входит. Я, как услыхал, что она идет, сразу – прыг в постель и одеяло до самого подбородка натянул, чтобы не видно было, что одетый. Она говорит: «Я только спросить пришла, не нужно ли тебе чего». А я: «Нет, нет, ничего не надо». Она опять ушла, а я из дому удрал. Но только я вовсе не герой, потому что я ведь не знал, что это так важно, а просто пришел сражаться вместе. Но как увидел Фери Ача – сообразил: ведь это из-за него мне нельзя вместе с вами сражаться – он меня в холодной воде выкупал. И так горько мне стало! Я подумал: «Ну, Эрне, теперь – или никогда». Зажмурился и… и… прыг прямо на него…
Белокурый малыш рассказывал это с таким пылом, что даже устал и закашлялся.
– Довольно, помолчи теперь, – сказал Бока. – Потом расскажешь. Сейчас мы тебя домой отнесем.
Пленников с помощью Яно по одному выпустили из сторожки, а оружие, у кого оно еще сохранилось, отобрали. Уныло побрели они друг за другом на улицу Марии. А тонкая железная труба попыхивала, поплевывала паром, словно насмехаясь над ними. И пила завывала им вслед, как будто тоже была за победителей.
Последним остался Фери Ач. Он все еще стоял у штабелей, уставясь в землю. Колнаи и Челе подошли к нему, чтобы отобрать оружие.
– Не трогайте главнокомандующего, – сказал Бока. – Господин генерал, – обратился он к пленнику, – вы сражались геройски!
Краснорубашечник только поглядел на него уныло, словно хотел сказать: «На что мне теперь твои похвалы!»
Но Бока обернулся и скомандовал:
– На караул!
Войско тотчас перестало переговариваться и шептаться. Все взяли под козырек, а перед фронтом навытяжку застыл Бока, тоже с поднятой рукой. И в бедняге Немечеке в этот момент проснулся рядовой. С усилием приподнялся он с бруствера, пошатываясь, встал «смирно» и отдал честь, приветствуя того, по чьей вине так тяжело заболел.
Фери Ач ответил на приветствие и удалился, унося с собой оружие. Он был единственный краснорубашечник, которому было дано такое право. Остальное оружие – знаменитые копья с серебряными наконечниками, многочисленные индейские томагавки – кучей лежало перед сторожкой. А над фортом номер три реяло отбитое у врага знамя: Гереб отнял его у Себенича в самый разгар боя.
– И Гереб здесь? – широко раскрыв глаза от удивления, спросил Немечек.
– Здесь, – выступил вперед Гереб.
Белокурый мальчуган вопросительно взглянул на Боку.
– Да, здесь. Он загладил свою вину, – ответил Бока. – И я возвращаю ему звание старшего лейтенанта. Гереб покраснел.
– Спасибо, – сказал он.
И тихо добавил:
– Но…
– Что еще за «но»?
– Я, конечно, не имею права, – смущенно продолжал Гереб. – Это дело генеральское, но… я думаю… ведь Немечек, кажется, все еще рядовой.
Все затихли. Гереб был прав: в треволнениях дня как-то позабылось, что тот, кому они трижды всем обязаны, до сих пор остается рядовым.
– Ты прав, Гереб, – промолвил Бока. – Но мы это сейчас поправим. Произвожу… Но Немечек перебил его:
– Не надо, не хочу… Я не для того спешил… Не за тем сюда пришел…
Бока сделал строгий вид.
– Не важно, зачем ты пришел, – прикрикнул он на него, – а важно, что ты сделал. Произвожу Эрне Немечека в капитаны.
– Ура! – дружно закричали все, отдавая честь новоиспеченному капитану.
Под козырек взяли и лейтенанты, и старшие лейтенанты, а раньше всех – сам генерал, откозырявший так четко, словно рядовым был он, а генералом – белокурый малыш.
Никто и не заметил, как худенькая, бедно одетая женщина поспешно пересекла пустырь и внезапно очутилась перед ними.
– Господи Иисусе! – воскликнула она. – Ты здесь? Так я и знала!..
Это была мать Немечека. Бедняжка даже расплакалась: уж где только не искала она своего больного сынишку! Сюда она заглянула расспросить мальчиков о нем. Все обступили ее, стали успокаивать. А она закутала сыну шею, завернула его в свой платок и понесла домой.
– Проводим их! – воскликнул молчавший до тех пор Вейс. Эта мысль всем понравилась.
– Проводим! Проводим! – зашумели ребята и мигом собрались в дорогу.
Побросав военную добычу, все гурьбой высыпали в калитку вслед за бедной женщиной, которая спешила домой, прижимая к себе сына, чтобы хоть немного согреть его своим теплом.
На улице Пала провожатые построились в колонну по два и так двинулись за нею. Уже смеркалось. Зажглись фонари, и витрины лавок бросали яркий свет на тротуары.
Спешившие по своим делам прохожие порой на минуту останавливались, поравнявшись с этой странной процессией. Впереди с заплаканными глазами торопливо шла худенькая белокурая женщина, прижимая к себе ребенка, закутанного до самых глаз в большой платок, а за ней по два в ряд четким военным шагом маршировал отряд мальчиков в одинаковых красно-зеленых фуражках.
Некоторые зрители улыбались. Другие подымали ребят на смех. Но они ни на что не обращали внимания. Даже Чонакош, который в другое время сейчас же самым решительным образом заставил бы замолчать насмешников, спокойно шел вместе с остальными, отвечая полным равнодушием на выходки развеселившихся подмастерьев. Дело, которое делали мальчики, казалось им таким серьезным, таким священным, что и самый бесшабашный сорванец на свете не вывел бы их из равновесия.
А у матери Немечека своих забот было довольно, чтобы еще думать о сопровождавшем ее войске. Но у домика на Ракошской ей волей-неволей пришлось остановиться: сын заупрямился и ни за что не хотел расставаться с товарищами не попрощавшись. Высвободившись из материнских объятий, он встал на ноги и сказал им:
– До свидания.
Они по очереди пожали ему руку. Ручонка была горячая. Вслед за тем малыш исчез вместе с матерью в темных воротах. Где-то во дворе хлопнула дверь, засветилось окошко. И все стихло.
Мальчики поймали себя на том, что стоят, не трогаясь с места, и молча смотрят на светлое оконце, за которым в эту минуту нашего маленького героя укладывали в постель. У кого-то вырвался горестный вздох.
– Что-то будет? – сказал Челе.
Двое – трое, отделившись от остальных, побрели темной уличкой к проспекту Юллё. Вот когда они устали так устали! Сражение вконец измучило их. На улице дул сильный ветер – свежий весенний ветер, который нес с гор холодное дыхание тающих снегов.
Вслед за первой группой двинулась и вторая. Эти пошли вниз, в сторону Ференцвароша. Наконец у ворот не осталось никого, кроме Боки да Чонакоша. Чонакош все переминался с ноги на ногу, дожидаясь Боку, но, видя, что тот не трогается с места, скромно осведомился:
– Идешь?
– Нет, – тихо ответил Бока.
– Остаешься?
– Да.
– Тогда… до свидания.
И, неторопливо шаркая ногами, ушел и Чонакош. Бока, смотревший ему вслед, видел, как он время от времени оборачивается. Но вот Чонакош скрылся за углом – и маленькая Ракошская улица, которая скромно присоседилась к шумному, громыхающему конками проспекту Юллё, замерла в тишине и мраке. Только ветер с воем проносился по ней, дребезжа стеклами газовых фонарей. При каждом сильном порыве ветра вся их цепь перезванивалась из конца в конец, и казалось, что это язычки пламени, вскидываясь и трепеща, подают друг другу какие-то гремучие тайные знаки. Ни одной души не было в этот момент на улице, кроме нашего генерала. И когда генерал, посмотрев налево, направо, увидел, что вокруг никого нет, сердце его сжалось: припав к косяку ворот, он горько, безутешно разрыдался.
Ведь он чувствовал, понимал то, чего никто не осмеливался высказать вслух. Видел, как гибнет, медленно, тихо угасает его рядовой. Знал уже, чем это кончится и что конец недалек. И Боке вдруг сделалось совершенно безразлично, что он полководец и победитель, что солидность и мужество впервые изменяют ему и свое берет детский возраст, – он только плакал, приговаривая:
– Мой друг… Милый, дорогой дружок… Мой славный маленький капитан…
– Ты что плачешь, мальчик? – спросил какой-то прохожий.
Бока ничего не ответил. Тот пожал плечами и удалился. Шла мимо какая-то бедно одетая женщина с большой кошелкой в руках и тоже остановилась. Посмотрела, посмотрела и молча пошла дальше. Потом показался маленький, невзрачный человечек. Повернув в ворота, он поглядел оттуда на мальчика и узнал его:
– Это ты, Янош Бока?
– Я, господин Немечек, – ответил Бока, подняв на него глаза.
Это был портной; он ходил в Буду – примерять сметанный костюм и теперь нес его обратно, перекинув через руку. Этот человек сразу понял Боку. Он не спрашивал, о чем он плачет, не таращил на него глаза, а просто подошел, обнял, прижав к груди эту умную головку, и заплакал вместе с ним – да так безутешно, что в Боке на минуту опять пробудился генерал.
– Не надо плакать, господин Немечек, – промолвил он.
Портной вытер глаза тыльной стороной руки и сделал такой жест, словно хотел сказать: «А, все равно уж не поможешь, так хоть поплакать немного».
– Благослови тебя бог, сынок, – сказал он Боке. – Ступай себе домой. И вошел во двор.
Наш генерал, глубоко вздохнув, тоже вытер слезы. Оглянувшись по сторонам, он хотел было идти домой. Но что-то его удерживало. Он знал, что ничем помочь не может, но чувство подсказывало, что его святой, суровый долг – оставаться здесь, неся почетный караул у дома своего умирающего солдата. Он прошелся несколько раз перед воротами, потом перешел на другую сторону улицы и стал оттуда наблюдать за домиком.
Вдруг в тишине заброшенной улички раздались чьи-то шаги. «Рабочий какой-нибудь домой возвращается», – подумал Бока и, понурив голову, продолжал прогуливаться по тротуару. Странные, необычные мысли, которые никогда раньше не приходили на ум, теснились у него в голове. Он думал о жизни и смерти и никак не мог разобраться в этом великом вопросе.
Шаги приближались, но становились все медленнее. Темная фигура, осторожно пробиравшаяся вдоль домов, замерла у домика Немечека. Неизвестный заглянул в ворота, даже вошел было в них, но тотчас вышел обратно. Постоял; подождал. Потом начал прохаживаться перед домом. Когда он поравнялся с одним из фонарей, ветер завернул полу его пиджака. Выглянула красная рубашка.
Это был Фери Ач.
Оба полководца впились друг в друга взглядом. Ни разу они еще не сталкивались так, наедине, лицом к лицу. И вот встретились здесь, у этого печального домика. Одного привело сюда сердце, другого – совесть. С минуту они, не произнося ни слова, стояли и смотрели друг на друга. Потом Фери Ач опять возобновил свое хождение. Долго шагал он взад и вперед, пока появившийся из темных ворот дворник не стал запирать их. Фери подошел и, приподняв шляпу, тихонько о чем-то спросил.
– Плохо, – донесся до Боки ответ.
Большие тяжелые ворота захлопнулись. Грохот их встревожил уличную тишину и замер, словно гром в горах.
Фери Ач медленно удалился. Он пошел направо. Боке тоже пора было домой. Провожаемые завыванием холодного ветра, полководцы разошлись в разные стороны, так и не сказав друг другу ни слова.
И уличка окончательно погрузилась в сонное оцепенение. Один гуляка-ветер остался хозяйничать на ней этой свежей весенней ночью. Он сотрясал стекла фонарей, теребил бледные язычки газового пламени, поворачивал плаксиво взвизгивавшие флюгера, задувал во все щели и проник даже в каморку, где за столом, перед газетной бумагой, на которой было разложено сало, тихонько ужинал бедняк-портной, а в кроватке часто-часто дышал наш капитан с пылающим лицом и блестящими глазами. Окно задребезжало от порыва ветра, и пламя керосиновой лампы заколебалось. Хрупкая женщина укрыла ребенка:
– Это ветер, сынок.
А маленький капитан с печальной улыбкой чуть слышна почти шепотом, произнес:
– Он с пустыря дует. С родного пустыря…
9
Несколько страничек из Большой книги «Общества замазки»:
ПРОТОКОЛ
На сегодняшнем собрании приняты следующие решения, каковые и заносятся в Большую книгу Общества.
§ 1
На стр.17 Большой книги имеется запись: «эрне немечек» (с маленькой буквы). Настоящим эта запись объявляется недействительной, как основанная на недоразумении. Собрание заявляет, что названный член Общества был незаслуженно оскорблен и мужественно это стерпел, а во время войны вел себя как герой; это – исторический факт. Подтверждая, что прежняя запись – ошибочная, Общество настоящим предлагает секретарю вписать сюда имя уважаемого сочлена одними заглавными буквами.
§ 2
Настоящим вписываю: ЭРНЕ НЕМЕЧЕК
Секретарь: Лесик.
§ 3
Общее собрание единогласно выносит благодарность Нашему Генералу Яношу Боке за то, что он провел вчерашнее сражение, как полководец из учебника истории, и в знак уважения постановляет: каждый член Общества должен на странице 168 учебника истории, строка 4 сверху, к заглавию, гласящему: «Янош Хуняди»,
дома приписать чернилами: «и Янош Бока». Это постановление выносится потому, что наш главнокомандующий его заслуживает, – ведь не устрой он все так хорошо, краснорубашечники нас разбили бы.
Кроме того, каждый обязан в главе «Мохачское бедствие» после имени епископа Томори, который тоже был разбит, вписать карандашом: «и Ференц Ач».
§ 4
Поскольку Генерал Янош Бока, вопреки нашему протесту к при помощи насилия, конфисковал казну Общества (24 крайцара) и, кроме того, каждому пришлось отдать на военные нужды все, что у него было, на каковую сумму куплена одна труба за 1 форинт сорок, хотя в магазине Рёшера можно купить и за шестьдесят, и за пятьдесят, но все-таки купили более дорогую, так как у нее звук сильнее, и поскольку у краснорубашечников была отнята их боевая труба и теперь налицо две трубы, а не нужно ни одной, а если кому нужно, то и одной хватит, постановляем: просить от имени Общества возвратить принадлежащую ему казну (24 крайцара), и пусть лучше Генерал Бока продаст одну трубу, но только непременно отдаст деньги (24 крайцара), которые сам обещал вернуть.
§ 5
Настоящим объявляется выговор председателю Общества Палу Колнаи за то, что по его вине засохла общественная замазка. Прения настоящим заношу в протокол, как положено:
Председатель: Я замазку не жевал, потому что был занят войной.
Барабаш: Хм, это не оправдание.
Председатель: Барабаш все время меня дразнит; призываю его к порядку. Я с радостью буду жевать замазку, потому что знаю законы чести, и я затем и президент, чтобы ее жевать по уставу, но дразнить меня не позволю!
Барабаш: Никого я не дразню…
Председатель: Нет, дразнишь.
Барабаш: Нет – нет.
Председатель: Нет, да.
Барабаш: Нет – нет.
Председатель: Ладно, пусть последнее слово будет за тобой.
Рихтер: Уважаемое Общество! Вношу предложение записать в Большую книгу выговор председателю за небрежное исполнение обязанностей.
Все: Правильно! Правильно!
Председатель: Я скажу только одно: пусть Общество на первый раз простит меня хоть за то, что я вчера сражался, как лев, и был адъютантом, и в самый опасный момент бегал в шанец, и потом неприятель меня повалил, и я пострадал за отечество, – неужели мне еще страдать из-за того, что я замазки не жевал?
Барабаш: Это совсем другое.
Председатель: Нет, не другое.
Барабаш: Нет, другое.
Председатель: Нет – нет.
Барабаш: Нет, да.
Председатель: Ладно, пусть последнее слово будет за тобой.
Рихтер: Принимается мое предложение?
Все: Принимается, принимается.
Голоса слева: Нет, не принимается!
Председатель: Ставлю на голосование.
Барабаш: Требую поименного голосования!
Предложение голосуется.
Председатель: Большинством в три голоса Общество высказалось за то, чтобы председателю Палу Колнаи объявить выговор. Это свинство.
Барабаш: Председатель не имеет права грубить большинству.
Председатель: Нет, имеет.
Барабаш: Нет, не имеет.
Председатель: Нет, да.
Барабаш: Нет – нет.
Председатель: Ладно, пускай последнее слово будет за тобой!
За исчерпанием повестки дня собрание закрывается.
Секретарь: Лесик. Председатель: Колнаи.
Все равно остаюсь при своем мнении: свинство!
10
В желтеньком домике на Ракошской царила глубокая тишина. Даже жильцы, обычно собиравшиеся во дворе, чтоб вволю посудачить о том о сем, теперь на цыпочках проходили мимо двери портного Немечека. Служанки несли выбивать платье и ковры в самый дальний угол двора, да и там обходились с ними деликатно, чтобы шумом не потревожить больного. Если бы ковры умели удивляться, они, наверно, удивились бы, почему это нынче вместо яростного выколачивания их только осторожно, легонько похлопывают.
Время от времени в стеклянную дверь заглядывали соседи:
– Ну, как малыш?
– Плохо, очень плохо, – повторялся одинаковый ответ. Добрые женщины приносили то одно, то другое:
– Госпожа Немечек, вот немного хорошего вина…
– Не побрезгуйте: тут немножко сладостей…
Маленькая белокурая женщина с заплаканными глазами, отворявшая дверь сердобольным посетительницам, вежливо благодарила за приношения, но воспользоваться ими по-настоящему не могла.
– Ничего не ест, бедняжечка, – объясняла она. – Вот уже два дня удается только попоить его с ложечки молоком.
В три часа вернулся портной. Он принес из мастерской работу на дом. Тихо, осторожно приоткрыл он дверь на кухню и даже ни о чем не спросил жену – только обменялся с ней взглядом. И оба без слов поняли друг друга. Так, молча, постояли они рядом. Портной даже не положил пиджаков, которые держал, перекинув через руку.
Потом на цыпочках они вошли к сынишке. Да, сильно изменился прежний веселый рядовой, а ныне печальный капитан улицы Пала. Он лежал исхудалый, нестриженый,
сввалившимися щеками. Бледным его нельзя было назвать; самое печальное как раз и заключалось в том, что лицо его так и пылало. Но это был не здоровый румянец, а отблеск того внутреннего жара, который вот уже несколько дней пожирал его.
Они остановились у постели. Это были простые, бедные люди, которые немало горя, несчастий и превратностей судьбы испытали на своем веку и поэтому ни на что не жаловались. Они только стояли, понурившись и глядя в землю. Потом портной чуть слышно спросил:
– Спит?
Жена даже шепотом побоялась ответить и только кивнула головой. Мальчик так лежал, что непонятно было, спит он или бодрствует.
Послышался робкий стук. Стучали в дверь, выходившую во двор.
– Наверно, доктор, – прошептала мать.
– Поди открой, – сказал отец.
Она вышла, отворила. На пороге стоял Бока. При виде друга ее маленького сына грустная улыбка появилась на лице у женщины.
– Можно?
– Входи, детка. Бока вошел:
– Ну, как он?
– Да никак.
– Плохо?
Не дожидаясь ответа, он прошел вслед за ней в комнатку. Теперь втроем они стояли у кровати, и все трое молчали. А маленький больной, словно почувствовав, что на него смотрят и ради него хранят молчание, медленно поднял веки. С глубокой печалью посмотрел он на отца, потом – на мать. Но, заметив Боку, улыбнулся – Это ты, Бока? – слабым, еле слышным голоском спросил он.
– Я.
Бока подошел ближе к кровати.
– Ты побудешь здесь?
– Побуду.
– И не уйдешь, пока я не умру?
Бока не нашелся что ответить. Улыбнулся своему другу, потом, словно ища совета, обернулся к его матери. Но та стояла спиной к нему, приложив к глазам кончик фартука.
– Глупости говоришь, сынок, – сказал портной и откашлялся. – Кхм! Кхм! Глупости.
Но Эрне Немечек пропустил мимо ушей его слова. Не сводя глаз с Боки, он кивнул головой на отца:
– Они не знают.
– Как это не знают? – возразил Бока. – Знают получше тебя.
Мальчуган зашевелился, с большим трудом приподнялся и, отклонив всякую помощь, сам сел в постели.
– Не верь им, – серьезно сказал он, погрозив пальцем, – они нарочно так говорят. Я знаю, что умру.
– Неправда.
– Ты сказал «неправда»?
– Да.
Мальчик строго взглянул на него:
– Что же, по-твоему, я вру?
Его стали уговаривать, чтобы он не сердился: никто ведь не думает обвинять его во лжи. Но он обиделся, что ему не верят, и, нахмурившись, заявил внушительно:
– Даю честное слово, что умру.
В дверь просунулась голова привратницы.
– Госпожа Немечек… доктор пришел. Вошел врач. Все почтительно поздоровались с ним. Это был суровый старик. Не сказав ни слова и только угрюмо кивнув в ответ, он прошел прямо к постели. Взял мальчика за руку, пощупал ему лоб. Потом, наклонившись, стал выслушивать. Мать не удержалась и спросила:
– Скажите, пожалуйста… господин доктор… ему хуже?
– Нет, – в первый раз открыл рот старик.
Но сказал он это как-то странно, глядя в сторону. Потом взял свою шляпу и пошел к выходу. Портной побежал отворить ему дверь.
– Я провожу вас, господин доктор.
Когда оба оказались на кухне, доктор глазами указал портному на открытую дверь. Бедный портной догадывался, что это значит – когда врач хочет поговорить наедине. Он притворил дверь в комнату. Взгляд доктора немного смягчился.
– Господин Немечек, – сказал он, – вы мужчина, и я буду говорить с вами откровенно. Портной опустил голову.
– Мальчик не доживет до утра. Может быть, даже до вечера.
Портной не шелохнулся. Только через несколько мгновений молча кивнул.
– Я это потому вам говорю, – продолжал врач, – что вы человек бедный и было бы плохо, если б удар постиг вас неожиданно. Так что… вам не мешает заранее позаботиться… о чем заботятся в таких случаях…
Он пристально посмотрел на собеседника, потом быстро положил руку ему на плечо:
– Ну, с богом. Через час я вернусь.
Но портной не слышал. Он стоял, глядя прямо перед собой в чисто вымытый кирпичный пол кухни. Не слыхал он даже, как врач ушел. В голове у него вертелось только, что нужно «позаботиться»…Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Что подразумевал доктор? Уж не гроб ли?
Пошатываясь, вошел он в комнату и сел на стул. Но напрасно жена подступила к нему с вопросом:
– Что сказал доктор?
От него ни слова нельзя было добиться. Он только головой кивал вместо ответа.
Лицо больного между тем как будто повеселело.
– Янош, – обратился он к Боке, – поди-ка сюда. Бока подошел.
– Сядь сюда, на кровать. Не боишься?
– А чего мне бояться?
– Ну, вдруг тебе страшно, что я умру как раз когда ты будешь сидеть у меня на кровати. Но ты не бойся: когда я почувствую, что умираю, то скажу.
Бока присел на постель.
– Ну, что?
– Слушай, – сказал мальчуган, обняв его за шею и наклонившись к самому его уху, словно собираясь поведать великую тайну. – Что с краснорубашечниками?
– Мы их разбили.
– Ну, а потом?
– Потом они пошли к себе в Ботанический сад и устроили собрание. До самого вечера ждали Фери Ача, а он так и не пришел. Им надоело ждать, и они разошлись по домам.
– Почему же он не пришел?
– Стыдно было, вот и не пришел. Кроме того, он знал, что его сместят за проигранное сражение. Сегодня после обеда они опять созвали собрание. На этот раз он явился. А вчера ночью я его здесь видел, перед вашим домом.
– Здесь?
– Да. Он у дворника спрашивал, не лучше ли тебе. Немечек не верил своим ушам.
– Сам Фери? – переспросил он, чувствуя прилив гордости.
– Сам Фери.
Это было ему приятно.
– Так вот, – продолжал Бока. – Они устроили собрание на острове. Такой шум подняли! Ссорились ужасно: все требовали сместить Фери Ача; только двое было за него – Вендауэр да Себенич. И Пасторы тоже на него наскакивали, потому что старшему самому хотелось стать главнокомандующим. Тем и кончилось: Фери сместили, а главнокомандующим выбрали старшего Пастора. Но ты знаешь, что случилось?
– Что?
– А то, что когда они наконец угомонились и выбрали себе нового предводителя, пришел сторож и сказал, что директор Ботанического сада не желает больше терпеть этот шум. И прогнал их. А остров заперли: сделали на мостике калитку.
Капитан от души посмеялся над этим конфузом.
– Вот здорово! – сказал он. – А ты откуда знаешь?
– Колнаи сказал. Я с ним по дороге к тебе встретился. Он на пустырь шел – у них там опять собрание «Общества замазки».
Немечек поморщился.
– Не люблю я их, – тихо сказал он. – Они с маленькой буквы написали мое имя.
– Да они уже исправили, – поспешил успокоить его Бока. – И не просто исправили, а одними заглавными буквами вписали в Большую книгу.
Немечек отрицательно замотал головой:
– Неправда. Это ты мне говоришь, потому что я болен. Утешить меня хочешь.
– Вовсе не поэтому, а потому что это правда. Честное слово, правда.
Белокурый мальчуган погрозил худеньким пальцем:
– Да еще слово даешь, чтобы меня утешить!
– Но…
– Замолчи!
Он, капитан, осмелился прикрикнуть на генерала! Самым форменным образом прикрикнуть. На пустыре это было бы тягчайшим преступлением, но здесь в счет не шло. Бока только улыбался.
– Ладно, – сказал он. – Не веришь, сам увидишь. Они специальный адрес составили, чтобы поднести тебе. Скоро придут с ним. Всем обществом явятся.
Но мальчуган упорствовал:
– Пока не увижу – не поверю!
Бока пожал плечами. «Пускай не верит, так даже лучше, – подумал он. – Сильней обрадуется, когда увидит».
Но этим разговором он невольно взволновал больного. Глубоко обиженный несправедливым отношением к нему «Общества замазки», бедняга сам растравлял свою обиду.
– Знаешь, – сказал он, – они поступили со мной просто гадко!
Бока не стал спорить, боясь взволновать его еще больше. И когда Немечек спросил: «Прав я или нет?»– подтвердил: «Прав, прав».
– А ведь я, – продолжал Немечек и сел, откинувшись на подушку, – а ведь я и за них тоже сражался, как и за всех, чтобы пустырь и для них остался! Я ведь не для себя: все равно мне уж больше его не видать!
Он замолчал, подавленный этой ужасной мыслью, что ему никогда больше не видать пустыря. Он ведь был только ребенок и охотно покинул бы все, все на свете, кроме своего «родного пустыря».
На глазах у него выступили слезы, чего не случалось за все время болезни. Но не слезы печали, а слезы беспомощного гнева на ту непостижимую силу, что не позволяет ему пойти еще раз на улицу Пала, поглядеть на форты, сторожку. В памяти его вдруг ожили лесопилка, каретный сарай, два больших тутовых дерева, с которых он рвал листья для Челе, разводившего дома гусениц шелкопряда. Им нужен тутовый лист; но Челе ведь щеголь, жалеет свой элегантный костюм, боится испачкать или разорвать его, а Немечек – рядовой: ну и полезай, рядовой, на дерево. Вспомнилась ему длинная железная труба, весело попыхивающая в ясное синее небо белоснежными клубочками пара, которые мгновенно тают в воздухе. Почудилось даже знакомое завывание паровой пилы, вгрызающейся в полено.
Щеки его запылали, глаза заблестели.
– Я хочу на пустырь! – воскликнул он. И, не получив ответа, повторил строптивей, требовательней:
– На пустырь хочу! Бока взял его за руку:
– Ты пойдешь на пустырь, но на будущей неделе; поправишься – и пойдешь.
– Нет! – настаивал мальчуган. – Я сейчас хочу! Сию минуту! Оденьте меня, а на голову я надену фуражку улицы Пала.
И, сунув руку под подушку, он с торжествующим видом вытащил оттуда сплющенную, как блин, ало-зеленую фуражку, с которой не расставался ни на минуту.
Фуражка была тотчас водворена на голову.
– Одевайте меня!
– Оденешься, когда поправишься, Эрне, – грустно сказал отец.
Но с малышом невозможно было сладить.
– Я не поправлюсь! – кричал он, напрягая свои больные легкие.
И так как заявлял он это повелительным тоном, никто не возражал ему.
– Я не поправлюсь! Вы меня обманываете, я твердо знаю, что умру! Но умру, где мне хочется! Пустите, я пойду на пустырь!
Об этом, конечно, не могло быть и речи. Все подбежали к нему, стали уговаривать, успокаивать, объяснять:
– Сейчас нельзя…
– Погода плохая…
– Подожди до будущей недели…
И снова в ход пускалось все то же грустное обещание, которое окружающие повторяли, уже едва осмеливаясь глядеть в его умные глаза:
– Вот поправишься…
Но все вокруг опровергало их слова. Говорили о плохой погоде, а маленький дворик был залит теплым весенним солнцем, в чьих ярких, животворных лучах все возвращалось к жизни, – все, кроме Эрне Немечека. И жар горячей волной захлестнул мальчика. Как безумный, принялся он размахивать руками, лицо его запылало, тонкие ноздри затрепетали, а из уст полилась торжественная речь.
– Пустырь, – восклицал он, – ведь это целое царство! Вам этого не понять, потому что вы никогда не сражались за родину.
В наружную дверь постучали. Госпожа Немечек пошла открыть.
– Это господин Четнеки, – сказала она мужу. – Выйди к нему, пожалуйста.
Портной вышел на кухню. Этот Четнеки был столичный чиновник, который шил у Немечека. Увидев портного, он спросил раздраженно:
– Ну, как мой коричневый двубортный костюм?
Из комнаты между тем доносилась печальная декламация:
– Грянула труба… Пыль взвилась над пустырем… Вперед! Вперед!
– Пожалуйста, сударь, – ответил портной, – если угодно, можете сейчас примерить; только придется просить вас здесь, на кухне… Тысяча извинений… Мальчик у меня тяжело болен… в комнате лежит…
– Вперед! Вперед! – слышался оттуда охрипший голосок. – Все за мной! В атаку! Видите? Вон краснорубашечники! Впереди Фери Ач с серебряным копьем… сейчас я сброшу его прямо в воду!
Господин Четнеки прислушался:
– Что это?
– Кричит, бедненький…
– Но если он болен, так чего же он кричит? Портной пожал плечами:
– Да он и не болен уж… кончается… бредит, сердечный…
И вынес из комнаты сметанный белыми нитками коричневый двубортный пиджак. Из приоткрытой двери послышалось:
– Тише в окопах! Внимание! Идут… Они уже здесь! Горнист, труби!
Больной рупором приложил руку ко рту.
– Трата… трара… тратата! И ты труби! – крикнул он Боке.
Боке тоже пришлось приставить руку ко рту. Они затрубили вместе: к усталому, охрипшему, слабому голоску присоединился другой – здоровый, но звучавший так же печально. Боку душили слезы, но он держался молодцом, крепясь и делая вид, будто ему тоже доставляет удовольствие трубить.
– Очень жаль, – сказал господин Четнеки, раздеваясь для примерки, – но мне сейчас крайне нужен коричневый костюм.
– Трата! Трата! – летело из комнаты. Портной надел на клиента пиджак, и они стали тихонько переговариваться:
– Прошу вас, стойте спокойно.
– Под мышками режет.
– Вижу, вижу.
– Трата! Трата!
– Эта пуговица посажена слишком высоко, перешейте пониже: я люблю, чтобы лацканы свободно ложились на груди.
– Непременно, сударь.
– Все в атаку! Вперед!
– И рукава, пожалуй, коротковаты.
– По-моему, нет.
– Как же нет? Посмотрите как следует! Всегда вы коротите рукава. Это ваше несчастье!
«Если б только это», – подумал портной, метя рукава мелом.
А в комнате становилось все шумнее.
– Ага! – восклицал детский голосок. – Ты здесь? Наконец я с тобой померяюсь, грозный полководец! Сейчас, сейчас! Посмотрим, кто сильнее!
– Ваты надо подложить, – продолжал господин Четнеки. – Немного в плечи и чуть-чуть на груди, справа и слева.
– Раз! Вот я тебя и повалил!
Господин Четнеки снял новый коричневый пиджак, и портной помог ему надеть старый.
– Когда будет готово?
– Послезавтра.
– Хорошо. Только смотрите, чтоб не пришлось опять ждать неделю. У вас еще какой-нибудь заказ?
– Нет, сударь… вот только ребенок. Господин Четнеки пожал плечами:
– Прискорбный случай, весьма сожалею; но мне срочно нужен костюм. Принимайтесь живей за дело.
– Вот примусь, – вздохнул портной.
– До свидания! – промолвил господин Четнеки и удалился в отличном расположении духа. В дверях он еще раз крикнул:– За дело, за дело, живо!
Портной взял в руки красивый коричневый пиджак. Он вспомнил, что сказал врач. Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Ну что ж, за дело. Как знать, на что пойдут те несколько форинтов, которые он выручит за коричневый пиджак. Перекочуют, наверно, в карман к столяру – к тому, что мастерит детские гробики. А господин Четнеки будет щеголять в своем новом костюме, прогуливаясь по набережной Дуная.
Портной вернулся в комнату и, не мешкая, принялся за шитье. Он уж не подымал больше глаз на постель сына, а только проворно орудовал иголкой, торопясь управиться с заказом. Работа во всех отношениях спешная: и господину Четнеки подавай, и столяру тоже.
А с маленьким капитаном уже никакого сладу не было. Собравшись с силами, он во весь рост встал на постели. Длинная ночная рубашонка доставала ему до пят. На голове его красовалась сдвинутая набекрень ало-зеленая фуражка. Рука отдавала честь. Он уже не говорил, а хрипел, блуждая взглядом где-то в пространстве:
– Честь имею, господин генерал: командир краснорубашечников положен на обе лопатки. Прошу о повышении! Можете уже считать меня капитаном. За родину я сражался и за родину погиб! Трара! Трара! Труби, Колнаи!
Он ухватился одной рукой за спинку кровати.
– Форты, открыть бомбардировку! Ха-ха! Вон Яно идет! Внимание, Яно! Ты тоже будешь капитаном! И твоего имени уж не напишут с маленькой буквы! Тьфу! Злое сердце у вас, ребята! Позавидовали, что Бока меня любит, что он со мной дружит, а не с вами! «Общество замазки» просто чушь! Выхожу! Выхожу из общества!
И тихо добавил:
– Прошу занести в протокол.
А портной за своим низеньким столиком ничего не видел и не слышал. Костлявые пальцы его так и сновали по материи, только иголка с наперстком поблескивали. Ни за что на свете не взглянул бы он сейчас на сына. Он боялся, что посмотрит туда – и потеряет всякую охоту что-нибудь делать, швырнет на пол изящный пиджак господина Четнеки и сам рухнет на постель рядом со своим мальчиком.
Капитан сел и молча уставился на одеяло.
– Устал? – тихо спросил Бока.
Он не ответил. Бока укрыл его. Мать поправила подушку.
– Ну, теперь полежи тихонько. Отдохни. Мальчик невидящим взором поглядел на Боку. На его лице отобразилось удивление.
– Папа… – пролепетал он.
– Нет… я не папа… – глухо произнес генерал. – Ты не узнаешь меня? Я – Бока Янош.
– Я… Бока… Янош… – усталым голосом тупо повторил за ним больной.
Наступило продолжительное молчание. Мальчуган закрыл глаза и так тяжело вздохнул, будто все скорби людские стеснились в его маленькой груди.
Стало тихо.
– Может, заснет, – прошептала мать. Она еле держалась на ногах, измученная бессонными ночами у постели ребенка.
– Отойдем, – так же шепотом ответил Бока.
Они сели в сторонке на потертый зеленый диван. Теперь и портной оставил свою работу: положил коричневый пиджак на колени и склонил голову над столиком. Все молчали. В дремотной тишине муху, и ту слышно было.
Со двора через окно донеслись детские голоса. Казалось, там толпой собрались дети, которые вполголоса переговариваются друг с другом.
Вдруг слуха Боки коснулось знакомое имя. Кто-то шепотом произнес:
– Барабаш.
Бока встал и на цыпочках вышел из комнаты. Открыл стеклянную дверь кухни и увидел во дворе знакомые лица: у входа робко теснилась целая стайка мальчишек с улицы Пала.
– Это вы?
– Мы, – шепотом ответил Вейс. – Все «Общество замазки» в полном составе.
– Вам чего?
– Мы адрес ему принесли, в нем написано красными чернилами, что общество просит у него прощения и что его имя вписано в Большую книгу одними заглавными буквами. Книга с нами. И делегация вся здесь.
– Не могли пораньше прийти! – покачал головой Бока.
– А что?
– А то, что он сейчас спит.
Члены делегации переглянулись.
– Раньше мы не могли: спорили, кому главой делегации быть. Чуть не полчаса препирались, пока Вейса выбрали. На пороге появилась хозяйка.
– Он не спит, – сказала она. – Бредит. Мальчики оцепенели. Они были потрясены.
– Входите, ребятки, – сказала мать Немечека. – Может, увидит вас – и в себя придет, бедняжка.
И она распахнула дверь. Мальчики друг за дружкой вошли – застенчиво, благоговейно, словно в церковь. Еще во дворе они сняли шляпы. И когда за последним из них бесшумно затворилась входная дверь, передние уже стояли на пороге комнаты, с широко раскрытыми глазами, в почтительном молчании, переводя взгляд с портного на кровать. Портной и тут не поднял головы, только положил ее на руки и продолжал молчать. Он не плакал; просто очень устал. А в постели, тяжело и глубоко дыша, лежал капитан, полураскрыв тонкие губы. Он никого не узнавал.
Женщина подтолкнула мальчиков вперед:
– Подойдите же к нему.
Медленно они сделали несколько шагов по направлению к кровати. Но ноги с трудом им повиновались. Один подбодрял другого:
– Иди, иди.
– Нет, ты сначала.
– Но ведь ты глава делегации, – сказал Барабаш. Тогда Вейс медленно приблизился к постели. За ним на цыпочках подошли остальные. Больной не смотрел на них.
– Начинай, – шепнул Барабаш.
– Послушай, Эрне… – дрожащим голосом начал Вейс. Но Немечек не слышал. Тяжело дыша, он пристально смотрел куда-то в стенку.
– Немечек! – повторил Вейс, чувствуя, как к горлу у него подступают слезы.
– Не реви, – шепнул ему на ухо Барабаш.
– Я не реву, – ответил Вейс, радуясь, что хоть это сумел вымолвить.
Потом собрался с силами.
– Уважаемый господин капитан! – начал он свою речь, вытаскивая из кармана какую-то бумагу. – Поскольку мы явились… я как председатель… настоящим от имени общества… так как мы ошиблись и просим у тебя прощения… Здесь, в этом адресе, все написано…
Он обернулся. На глазах у него показались слезы. Но он ни за что не отступил бы от официального тона, который был им дороже всего на свете.
– Господин секретарь, – прошептал он. – Подайте сюда книгу общества.
Лесик с готовностью подал книгу. Вейс робко установил ее на краю постели и, перелистав, открыл страницу со знаменитым «Протоколом».
– Смотри, – сказал он больному. – Вот.
Ответа не было. Мальчики подошли еще ближе к постели. Мать, вся дрожа, бросилась вперед и припала к ребенку.
– Слушай, – каким-то чужим, дрогнувшим голосом сказала она мужу, – он не дышит…
И приложила ухо к его груди.
– Ты слышишь! – закричала она как безумная. – Он не дышит!
Мальчики попятились назад и, тесно прижавшись друг к дружке, столпились в углу каморки. Книга общества скользнула на пол, раскрытая на той странице, которую отыскал Вейс.
– Слышишь? У него похолодели руки! – в исступлении кричала мать.
И в глубокой, гнетущей тишине, наступившей вслед за этими словами, вдруг послышались рыдания портного, который до тех пор безмолвно, неподвижно сидел на своем табурете, опустив голову на руки. Он плакал тихо, почти беззвучно, как плачут серьезные, взрослые люди, и плечи его вздрагивали от рыданий. Но бедняга и тут не забыл о красивом коричневом пиджаке господина Четнеки, – спустил его с колен на пол, чтобы не закапать слезами.
Мать обнимала, целовала своего мертвого ребенка. Потом опустилась перед постелью на колени и, зарывшись лицом в подушки, тоже стала рыдать. А Эрне Немечек, секретарь «Общества замазки», капитан армии пустыря, белый как мел, лежал навзничь с закрытыми глазами, успокоившись навеки, и теперь уже можно было с полной уверенностью сказать, что он не видит и не слышит ничего вокруг.
– Опоздали, – прошептал Барабаш.
Бока стоял посреди комнаты, поникнув головой. Только что, всего несколько минут назад, он, сидя на краю постели, еле удерживал рыдания, а сейчас с удивлением чувствовал, что глаза его сухи и он не может плакать. В душе его была страшная пустота. Обведя взглядом комнату, он заметил мальчиков, забившихся в угол. Впереди стоял Вейс с адресом в руках, которого Немечек так и не увидел.
Бока подошел к ним:
– Ступайте домой.
И они, бедняжки, даже обрадовались, что можно уйти из этой чужой, незнакомой каморки, где лежит на постели тело их товарища. Один за другим выбрались они оттуда на кухню, а из кухни – на залитый солнцем двор. Последним был Лесик: он нарочно задержался. Когда все вышли, Лесик на цыпочках подошел к кровати и, взглянув на постель, на капитана, тихо покоившегося на ней, осторожно поднял с пола книгу общества.
Потом, догоняя остальных, выбежал наружу, во двор, где в лучах солнца щебетали на хилых деревцах веселые молодые воробьи. Мальчики стояли и смотрели на птиц, не понимая толком, что произошло. Они знали, что товарищ их умер, но смысл этого оставался им неясен. В недоумении поглядывали они друг на друга, пораженные непонятным, неведомым явлением, с которым им пришлось столкнуться впервые в жизни.
Когда Бока вышел на улицу, уже смеркалось. Надо было идти готовить уроки: завтра – трудный день. Завтра латынь, а он так давно не отвечал, что господин Рац наверняка его вызовет. Но было не до уроков. Он отодвинул в сторону учебник и словарь и вышел из дому.
Бесцельно принялся он бродить по улицам, невольно избегая улицы Пала и других знакомых окрестностей. Сердце у него сжималось при одной мысли о том, что он в такой печальный день может увидеть пустырь.
Но куда бы он ни направлялся, везде что-нибудь да напоминало ему о Немечеке.
Проспект Юллё…
Здесь они втроем – с Чонакошем – проходили, отправляясь в первый раз на разведку в Ботанический сад.
Улица Кёзтелек…
Посреди этой маленькой улички они стояли однажды в полдень, после уроков, и Немечек с глубокой серьезностью рассказывал, как накануне в саду Национального музея Пасторы отняли у него шарики. А Чонакош пошел к табачной фабричке, соскреб с оконной решетки немного табачной пыли и втянул ее в нос. Как они тогда расчихались!
Окрестности музея…
Оттуда он тоже повернул обратно. И понял, что чем упорней избегает пустыря, тем сильней влечет его туда какое-то щемящее чувство. Наконец он решился: чем бродить вокруг да около, лучше смело пойти прямо на пустырь. И сразу почувствовал облегчение. Он ускорил шаг, чтобы попасть туда поскорей. И чем ближе подходил Бока к их общему мальчишечьему царству, тем спокойней становилось у него на душе. На улице Марии он так ясно ощутил эту успокоительную близость, что пустился бежать, охваченный желанием очутиться наконец на пустыре. И когда, добежав до угла, различил в сгущавшихся сумерках хорошо знакомый серый забор, сердце у него так и забилось. Пришлось остановиться. Да и спешить уже было некуда: он у цели. Медленно подошел он к пустырю. Калитка была открыта. Возле нее, прислонившись спиной к дощатому забору, стоял Яно с трубкой в зубах. Увидев Боку, он, осклабясь, кивнул ему:
– Разбили их!
Бока печально улыбнулся в ответ.
Но Яно воспламенился:
– Разбили!.. Выгнали!.. Вышвырнули!..
– Да, – чуть слышно произнес генерал.
Молча постоял он рядом со словаком, потом спросил:
– Знаешь, Яно, что случилось?
– Что?
– Немечек умер.
Словак сделал большие глаза и вынул трубку изо рта.
– Который это Немечек? – спросил он.
– Маленький такой, белокурый.
– Ага, – промолвил словак и опять сунул трубку в рот. – Бедняга.
Бока вошел в калитку. Большой незастроенный участок земли, свидетель стольких веселых игр, был теперь тих и спокоен. Бока медленно перешел его и остановился у рва. Ров еще хранил следы боя. На песке всюду виднелись отпечатки ног. Бруствер местами осыпался, обрушенный бойцами, когда они по сигналу атаки вылезали из окопа.
А дальше высились темные, черные громады штабелей, увенчанные фортами, стены которых были осыпаны самодельным «порохом» – песком.
Генерал присел на бруствер, подперев голову рукой. Тихо-тихо было на пустыре. Тонкая железная труба, успевшая к вечеру остыть, дожидалась утра, когда прилежные руки снова разведут под ней огонь. И пила тоже отдыхала; и домик дремал, обвитый плетями дикого винограда, на которых уже распускались листочки. Издали, словно сквозь дрему, доносился городской шум. Гремели экипажи, слышались возгласы. А из выходившего в соседний двор окна, в котором уже зажегся свет, лилась веселая песня. Это служанка, наверно, распевала на кухне.
Бока встал и пошел налево, к сторожке. Там, где Немечек, словно легендарный Давид – Голиафа, поверг наземь Фери Ача, он наклонился и стал отыскивать на песке дорогие следы, которые так же исчезнут, как исчез его маленький друг из этого мира… Земля здесь была вся взрыта, но следов не оказалось. А уж он, Бока, узнал бы их! Следы Немечека были ведь так малы, что краснорубашечники удивились, обнаружив их в развалинах в тот памятный день: нога у него была даже меньше, чем у Вендауэра…
Вздохнув, Бока побрел дальше. Миновал форт номер три, на вершине которого белокурый мальчуган в первый раз увидел Фери Ача, когда тот, глянув на него сверху, крикнул: «Смелей, Немечек!»
Генерал устал. День этот измучил его душевно и физически. Он даже пошатывался, как пьяный. С трудом взобрался он на форт номер два и примостился наверху. Тут, по крайней мере, никто его не видит, никто не мешает отдаться дорогим воспоминаниям, а может, и выплакать свое горе, если только удастся заплакать.
Вдруг ветер донес до него чьи-то голоса. Он посмотрел вниз и заметил у сторожки две маленькие темные фигуры.
В темноте Бока не мог разобрать, кто это – свои или чужие, и стал прислушиваться: может быть, удастся узнать по голосам.
Внизу тихонько разговаривали два мальчика.
– Слушай, Барабаш, – говорил один, – вот мы стоим на том самом месте, где бедный Немечек спас нашу державу. Наступило молчание.
– Давай мириться, Барабаш, – опять послышался голос. – Только по-настоящему, навсегда. Ну чего нам ссориться?
– Ладно, – буркнул растроганный Барабаш. – Помиримся. Раз уж для того пришли…
Снова наступила тишина. Оба молча стояли друг против друга: каждый ждал, чтобы другой сделал первый шаг к примирению.
– Значит, мир, – промолвил наконец Колнаи.
– Значит, мир, – с чувством отозвался Барабаш.
Они пожали друг другу руки и долго стояли, не разнимая их. Потом, ни слова не говоря, обнялись.
Свершилось. И это чудо свершилось… Бока сверху, из форта, смотрел на них, ничем не выдавая своего присутствия. Ему так хотелось побыть одному… Да и с какой стати мешать им?
Но вот два друга направились к улице Пала, негромко беседуя.
– На завтра по латыни много задано, – сказал Барабаш.
– Да, – подтвердил Колнаи.
– Тебе хорошо, – вздохнул Барабаш, – ты вчера отвечал. А меня давно не вызывали, значит, на днях обязательно вызовут.
– Смотри не забудь: тринадцать строк из второй главы, с десятой по двадцать третью, учить не надо, – сказал Колнаи. – У тебя отмечено?
– Нет.
– Но ты же не станешь все зубрить – и нужное и ненужное? Давай я зайду сейчас к тебе и отмечу.
– Ладно.
Ну вот, у этих двух уже уроки на уме. Эти быстро забыли. Немечек умер, но зато господин Рац живет и здравствует, и латынь тоже, а самое главное – сами они живы и здоровы…
Ушли, потонули в вечерних сумерках. И Бока остался наконец совсем один. Но на душе у него было неспокойно. Кроме того, становилось уже поздно. С йожефварошского собора плыли мягкие звуки благовеста.
Бока спустился вниз, постоял у сторожки. Он увидел Яно, который шел назад от калитки. Рядом с ним, виляя хвостом и поводя носом, бежал Гектор. Бока подождал их.
– Ну? – спросил словак. – Барчук не пойдет домой?
– Иду уже, – возразил Бока.
– А дома вкусный, горячий ужин, – снова осклабился сторож.
– Вкусный, горячий ужин, – машинально повторил Бока и подумал, что и в домике бедняка-портного, на кухне, тоже садятся сейчас ужинать двое: портной и его жена. А в комнатке горят свечи. И висит красивый двубортный пиджак господина Четнеки.
Просто так, мимоходом, заглянул Бока в сторожку.
Там ему бросились в глаза какие-то странные предметы, прислоненные к стене. Красно-белый жестяной кружок, вроде тех, что держат стрелочники, когда мимо будки проносится скорый поезд. Потом какая-то тренога с медной трубой наверху, белые крашеные рейки…
– Что это? – спросил он. Яно заглянул внутрь:
– Это? Это – господина инженера.
– Какого господина инженера?
– Инженера-строителя. У Боки сердце так и упало.
– Строителя? Что ему здесь нужно? Яно затянулся трубкой.
– Строить будут.
– Здесь?
– Здесь. В понедельник придут рабочие, начнут копать… ров выроют… фундамент заложат…
– Как! – воскликнул Бока. – Здесь будут строить дом?!
– Дом, – равнодушно подтвердил словак, – большой, четырехэтажный… Владелец пустыря хочет строить здесь дом.
И ушел в сторожку.
Боке показалось, будто весь мир перевернулся. Слезы наконец брызнули у него из глаз. Он быстро пошел, а потом побежал к выходу. Он спасался бегством, спеша покинуть эту неверную землю, которую они защищали с такой страстью, таким геройством и которая теперь так вероломно навсегда отказывалась от них ради большого доходного дома.
У выхода Бока еще раз оглянулся назад, как изгнанник, навеки покидающий родину. И к великой скорби, сжавшей его сердце, примешалась капля слабого, но все же утешения. Пусть не дожил бедный Немечек до того момента, когда делегация «Общества замазки» пришла просить у него прощения, зато он, по крайней мере, не увидел, как у него отнимают родину, за которую он погиб.
На другой день весь класс в торжественном молчании застыл на своих местах, и господин Рац неторопливо, серьезно и величественно поднялся на кафедру, чтобы в глубокой тишине помянуть тихим словом Эрне Немечека и пригласить всех завтра, в три часа, собраться в черной или хотя бы темной одежде на Ракошской улице. Слушая его, Янош Бока пристально смотрел на парту прямо перед собой, и в его неискушенной детской душе впервые забрезжила догадка о том, что же, собственно, такое – эта жизнь, которой все мы служим, страдая, радуясь и борясь.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Повесть «Мальчишки с улицы Пала» написана давно, почти полстолетия назад – в 1908 году. Автор ее, венгерский писатель и драматург Ференц Молнар (1878–1952), был тогда еще сравнительно мало известен. Но ранние (прозаические) произведения, создававшиеся им в начале века, заняли в его творчестве и венгерской литературе гораздо более значительное и почетное место, чем те многочисленные пьесы, которые потом, в 20 – 30-х годах, принесли ему широкое признание буржуазной публики. В ранние свои произведения писатель вкладывал искреннюю боль о человеческих душах, которые калечило ужасное «бремя частной собственности», отвращение к продажному, пошлому и жестокому миру наживы. В зрелые годы Молнар сам оказался жертвой этого мира: стал писать для денег, для успеха. Его жизнь и творческая эволюция – это печальная история растраты, гибели таланта, крушения человека, отказавшегося от борьбы со злом. «Модный» драматург Ференц Молнар, угождающий в своих внешне остроумных пьесах пошлым обывательским вкусам, – это уже совсем не тот Молнар, который, с такой живой и теплой непосредственностью и таким сердечным волнением писал когда-то о немудреных играх и больших чувствах мальчишек с улицы Пала…
«Мальчишки с улицы Пала»– «детская» книга. Но деление на книги «для детей» и «для взрослых» нередко очень условно. «Детские» ли книги «Оливер Твист» Диккенса или «Капитанская дочка» Пушкина?… Мы знаем, как часто мудрые, обладающие глубоким человеческим содержанием книги «для взрослых» становятся излюбленным детским чтением.
И наоборот – разве всякая по-настоящему хорошая книга, написанная для детей, не заключает в себе серьезной, большой идеи, которая заставляет задумываться, делает «взрослее»?… Так же и «Мальчишки с улицы Пала». В повести Ференца Молнара тоже заложен большой, серьезный вопрос, затрагивающий самые глубокие, заветные чувства: в чем долг человека? Как поступать? К чему стремиться?… И тогда, в 1908 году, писатель ответил на этот ставший для него впоследствии роковым вопрос очень скромно, мудро и человечно. Глубиной и человечностью содержания и волнует эта повесть, хорошо известная в Венгрии всем и каждому. Она читается в детстве, а потом остается с человеком на всю жизнь, как с нами остаются «Детство Темы» или «Приключения Гекльберри Финна» и другие любимые детские книги.
Наши игры в детстве часто бывают подражанием взрослым. Такие игры всегда самые интересные: ведь они похожи на серьезную, настоящую жизнь. И мальчишки, изображаемые Молнаром, тоже подражают в своих играх взрослым: устраивают собрания, на которых ведутся настоящие протоколы; играют в войну, строя «настоящие» форты и бастионы на дровяных штабелях. А так как мальчишки они венгерские, то у них живой отзвук находят события венгерской действительности: знамя шьется трехцветное; девизом избираются гордые слова «Национальной песни» Шандора Петефи, сложенной в дни венгерской революции 1848 года; и пустырь, место своих игр, они называют «отечеством», защищая его подобно тому, как отцы их защищали родину от австрийских войск.
Правда, легко заметить, что это детское увлечение делами большими, серьезными, которые вдохновляют и взрослых, проявляется у мальчишек с улицы Пала по-разному, соответственно неодинаковым стремлениям и склонностям. Одним, например, больше нравится говорить официальные фразы, выносить выговоры, вести протоколы. Им кажется самой важной и серьезной подсмотренная у взрослых внешняя сторона жизни. Поэтому их игра превращается в бессмысленное копирование, смешное обезьянничанье. Это члены пресловутого «Общества замазки» с их глубокомысленным соблюдением разных формальных правил и не менее «глубокомысленным занятием»– жеванием замазки. Читая об их спорах, как правильнее вычеркнуть имя Немечека из черной книги, и борьбе партий по этому вопросу, те, кто знаком с замечательной сатирой английского писателя Свифта «Путешествия Гулливера», вспомнят, наверно, знаменитую распрю «тупоконечников» и «остроконечников» в Лилипутии. И в самом деле, в изображении «Общества замазки» таится шутливый намек на бесчисленные либеральные общества, которые процветали тогда в Венгрии. На заседаниях этих обществ то и дело повторялись имена Кошута и Петефи, без конца говорилось о национальной чести, патриотических заветах; но ничего подлинно живого в их деятельности не было: осталась одна трескучая риторика, пережевывание тягучей словесной «замазки».
Но среди мальчишек с улицы Пала есть и другие (например, Бока, Немечек), которых заботят не церемонии, условности, а внутреннее, нравственное содержание жизни. Играя в войну, они тоже увлекаются чинами, военными приветствиями, приказами и диспозициями. Но их больше всего волнуют честность и обман, дружба и вероломство, справедливость и несправедливость (вспомним наглый «эйнштанд» Пасторов)– одним словом, всё живые, человеческие вопросы. Они не просто подражают, а живут: возмущаются настоящими подлостями, сопротивляются грубому произволу мальчишек из Ботанического сада, которые хотят отнять у них пустырь, поддерживают друг друга в беде. И если Вейс или Лесик и другие заправилы «Общества замазки», то и дело ссорящиеся друг с другом из-за пустяков, кажутся нам смешными и глупыми не по летам, то Немечек, Бока вызывают глубокое уважение и симпатию: в них мы уже чувствуем людей с богатой внутренней жизнью. Бока и Немечек, главные герои повести, в свою очередь, мальчики очень разные. Основное различие между ними заключается, пожалуй, в том, что Бока на все смотрит очень сознательно. Это вдумчивый, честный и серьезный мальчик, твердо решивший, как надо поступать в жизни. Бока, так сказать, сам себя воспитывает: он человек строгих правил. А впечатлительный и порывистый Немечек не задумывается ни о каких правилах. Рассудительность и спокойная уверенность Боки ему несвойственны: он – сама непосредственность и повинуется чувству. Но сердце у него горячее, чуткое ко всякой несправедливости. По мере того как развертывается оборона пустыря, в которой все принимают участие, раскрывается чистая, самоотверженная натура Немечека, чьи переживания, судьба постепенно выдвигаются на главное место в повествовании.
«Мальчишки с улицы Пала» – это, собственно, повесть о том, как слабосильный, хрупкий и вовсе не храбрый мальчик, которого все могут обидеть и каждый считает ниже себя, вопреки общим ожиданиям, оказывается способным на смелые, решительные поступки, выручает товарищей, спасает честь любимого пустыря… И это ему вовсе не легко дается. Он страдает – страдает не только физически, но и морально: ему не верят, считают трусом, лжецом, а члены «Общества замазки», которые не видят дальше своего носа, объявляют даже изменником. Но он скрепя сердце продолжает делать свое дело, потому что общее благополучие, удача мальчишек с улицы Пала для него важнее всего остального, важнее обид, самолюбия. Это для Гереба выше всего он сам, его собственная удача; это Геребом руководят только честолюбие, желание выдвинуться во что бы то ни стало, которое доводит его до низкого предательства. А Немечек вовсе не рассчитывает на похвалы, награду, когда больной прибегает на «войну» и опрокидывает наземь грозного Фери Ача. Просто он за товарищей беспокоится, за пустырь, который могут у них отнять, за будущее их маленького дружеского союза. Таким уж он создан, что все принимает близко к сердцу и ко всему относится серьезно. Поэтому несправедливости, неудачи ранят его даже больнее, чем остальных. Но самозабвенная преданность делу приносит Немечеку и большое внутреннее удовлетворение. Приносит уважение, доверие мальчишек с улицы Пала и даже врагов – краснорубашечников. И это завоеванное, заслуженное уважение в тысячу раз слаще, приятнее, чем капитанский чин, чем даже знаменитая надпись – одними заглавными буквами – в Большой книге «Общества замазки»: «ЭРНЕ НЕМЕЧЕК».
Не каждый от природы бывает храбрым и сильным. Но разве человека создают одни лишь природные способности или только мнение окружающих? Человека создают его дело, стремление к благородной цели, которое придает силы, закаляет волю, помогая превозмочь боль, страх и стать выше самой горькой обиды… Образ Немечека заставляет нас почувствовать то, что смутно ощущает (и к чему по-своему стремится) его умный и честный друг Бока: смысл жизни и счастье – в самоотверженном служении общему благу, в побеждающей все препятствия верности долгу. В этом настоящая жизнь взрослого человека, полная борьбы, приносящая и радости и горе, – недолгая, но продолжающаяся вечно в великой созидательной жизни всего человечества. И хотя Немечек погиб, его светлый, трогательный образ долго будет жить в сердцах его товарищей, служа благородным примером, побуждая к честному, серьезному отношению к жизни.
Игра, начавшаяся весело и просто, перерастает в нечто очень серьезное и даже трагическое. Жизнь совсем не так проста, как казалось. В ней много сложного, непонятного, действуют какие-то несправедливые, суровые силы. Гибнет Немечек, совершивший замечательный подвиг. И пустырь, за который мальчишки с улицы Пала сражались с таким самозабвением, оплот их детской дружбы и счастья, уходит, отрекается от них, и никто из них не может ничего поделать. Столкнувшийся с этим трудным противоречием, увидевший, ощутивший всей душой, как сложна, ответственна и подчас мучительна жизнь, Бока – уже не прежний мальчик. Расставаясь с пустырем, он расстается с детством, вступая на порог зрелости.
И Молнар в этой книге тоже прощается с улетевшим детством, с миром чистых, благородных чувств, которых, как он знает, нет в мире обмана и наживы, где человек человеку – волк. И поэтому тоже история Немечека приобретает порой скорбный оттенок, и повесть кончается трагически. Но всякая трагедия не только потрясает, но в чем-то и умудряет. В жизни есть своя чистая, великая правда. И она не на стороне тупых, самодовольных чиновников вроде господина Четнеки, не на стороне и тех богатых бездельников, которых отцы снабжают деньгами и сигарами и которые с детства привыкают только командовать да обманывать, добиваться своего подлостью или грубой силой. Правда обитает в «скромных одноэтажных домиках», где живут Бока, портной Немечек и другие бедняки. Там, среди скромного трудового люда, рождаются и доброта, и самоотверженность, и настоящий героизм. Недаром через всю повесть проходит настойчивое противопоставление заносчивым «офицерам» презираемого ими «рядового» – Немечека, который на деле оказывается на целую голову выше их. Он начинает даже находить утешение, черпать своеобразную гордость в этом скромном звании: оно словно становится синонимом его правоты.
И мы верим, что горе Боки, потерявшего друга, увидевшего, как непрочно счастье в мире, где он живет, лишь укрепит мальчика. Вооруженный суровой жизненной мудростью, он пойдет и дальше прямой, честной дорогой, какой пошел бы и Немечек, если б его не унесла смерть. Впереди у Боки честное, трудовое будущее, неустанная работа на благо человечества. Мы помним что полудетское его увлечение Наполеоном, воинами не мешает ему уже задумываться о другом, внешне не столь блестящем но гораздо более благородном, трудном и славном пути врача, а может быть, ученого, побеждающего полчища болезней.
Честно делать свое дело, преданно служа людям, помня о великом долге перед теми, кто все отдал за их благо – в этом смысл простой, но глубоко человечной повести Ференца Молнара.
О. Россиянов