 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Картленд Барбара :: Твен Марк :: Борхес Хорхе Луис :: Дойл Артур Конан :: Лесков Николай Семёнович :: Чапек Карел :: Дансени Лорд :: Ламур Луис :: Силверберг Роберт Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: Странное заявление :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Ой, кто идет! :: Джубал Сэкетт :: Течет река Волга… :: Волшебный напиток :: Пм-2000 |
Милый ЭпModernLib.Net / Детская проза / Михасенко Геннадий / Милый Эп - Чтение (стр. 7)
– Вот с меня и начнется, – сказал Авга. – Эх, начинатель! Петр Первый! – Август Первый, дядя Ваня! – поправил Шулин. – Ага, вот дядьку поддеть ты мастак! – Нет, правда, дядя Ваня, вот увидишь, как за мной из Лебяжьего болота косяк грамотных Шулиных вылетит! – примирительно-добродушно воскликнул Авга. – Ты у меня еще значок пощупаешь, когда я после института прикачу к тебе инженером-геологом! Ты мне еще бутылочку за это поставишь! – Геолог! – усмехнулся дядя Ваня, оставшись, кажется, довольным речью племянника. – Какой ты геолог, когда я тебя уже десять раз просил накопать у Гусинки червей, а ты… – Я тебе трижды накапывал! И они протухали. Даже сейчас вон тухлые под крыльцом стоят! Я чувствовал, что тетя Катя вот-вот вмешается в разговор, не потому, что не о том говорят, а потому, что обходятся без нее. И она вмешалась: – Постыдились бы людей, споруны! Да и мне ваша ерунда надоела. Молчи, старый! Как выпьешь, так начинаешь. Какое наше дело! Кончит – хорошо, нет – работать пойдет! Наше дело вот – накормить да обстирать! – Работать – другой оборот! – оживился дядя Ваня, потянулся было к темной бутылке, но тетя Катя на лету отвела руку, и он опять куснул огурец. – Вот я и говорю Августу: не майся, говорю, а иди в рабочий класс! К нам! И будешь хозяином жизни! – Да какой ты рабочий? – сказала тетя Катя. – Какой хозяин? Горе луковое! Умеет гвозди бить – и на том спасибо! Рвался, правда, лет двадцать назад в настоящие рабочие, переживал, бегал, читал что-то, а потом все выдуло. – Ну-ну, мать! – придержал дядя Ваня. – Что ну-ну то?.. Теперь, Август прав, тебя и на рыбалку не вытуришь, хоть и река под боком. Вон старик Перышкин два раза на дню бегает и каждый раз – по ведру! – Старик Перышкин – бездельник, а я… – Молчи уж! А вы, ребятки, учитесь, накачивайте головы! Голова, она никому не мешает, ни рабочему, ни инженеру. Голова – сама по себе ценность. С ней хоть куда! – Ты, мать, не сталкивай поколения! – А ты, поколение, ешь лучше! Нечего один огурец мусолить. И так гремишь костями! – выговорила тетя Катя и придвинула дяде Ване колбасу. – И вы ешьте, ребятки! Воспользовавшись затишьем, я сказал, что и у нас есть к ним важный разговор. Они со смешным вниманием подобрались, и я пояснил дело с анкетами. – Исполним! – твердо сказала тетя Катя. – Для вас-то, господи, что угодно исполним! – Можете даже фамилию свою не подписывать, если будет неловко, – заметил я. – Нет, зачем же? Все подпишем, как надо, по-людски! Чего нам прятаться? Подпишем, не беспокойтесь! Появилась рыба, под которую дядя Ваня снова выпил, а затем несколько раз некстати включался в нашу беседу, потом махнул рукой, сказал, что лучше посмотреть телевизор, повалился с табуретки на кровать и мигом захрапел. – Авга, – шепнул я, – всю анкету посмотрел? – Всю. – Много затруднений? – Если нужно, как ты говоришь, именно мое мнение, то никаких. Свое-то мнение у меня есть. – Ох, и жук! – Нет, я просто тугодум. Мне нужно – как это там, в физике-то? – инерцию набрать. А наберу – держись только. Маховик у меня здоровый! – весело пояснил Шулин. Спохватившись, что вечереет, мы поднялись. Прощаясь, устало разморенная тетя Катя просила извинить ее старика и почаще заглядывать к ним. Мы пообещали. Шулин проводил нас за ворота и, кивнув на свой дом, сказал: – Видали?.. Вот такой парламент каждую пятницу. Считает свою жизнь меркой и заманивает. Хорошо, хоть злости в нем нет, как в бате, а то бы я покрякал. И тете Кате спасибо: понимает. Э-э, пустяк! Смотрите-ка! – кивнул он на ярко-красный закат. – Скоро первая гроза ухнет. Надо искупаться в ней: весь год будет везучим! Низко летали стрижи, в овраге уже темнело, и от Гусинки сильно тянуло теплой, влажной затхлостью. Дальние домики казались улитками, выползающими из первобытной сырости. Наверху оврага было светлей и радостней – бегали машины, гуляли люди, высились новые дома, а над ними кружили голуби, старательно перемешивая сгущающийся вечер и не давая ему отстояться. – Август мне понравился, – тихо сказала Валя. – Это он хорошо заметил, что по правде бывает грубее. – Ты о чем? – Вообще о жизни. – Да, Шулину, конечно, трудно, но он настырный, идет вперед напролом, как лось, не промажет! – сказал я, поймал Валину руку и стал качать ее. Некоторое время мы опять молчали, потом Валя, остановив наши руки, вдруг спросила: – Эп, а ту Раю ты откуда знаешь? – Какую? – Сестру Августа. – А-а, был у них зимой. – Она тебе нравится? – Забавная. – А сколько ей лет? – В третьем классе. – Всего лишь? – удивилась Валя. – А какое жуткое письмо!.. Я только раз помню отца пьяным, и то это было очень давно, еще до маминой смерти. Я вздрогнул и спросил: – А отец жив? – Да, но он живет не с нами. Мы со Светой отпустили его к той женщине, которая любила его еще с института. У них уже свой ребенок, но папа бывает у нас. Он инженер, как и твой отец, только проектировщик. – Валя было взгрустнула, но оживилась опять. – Эп, а ты кем хочешь стать? Я мигом воскресил перепалку за столом и решающие слова тети Кати. Проще тех слов и мудрее я ни от кого не слышал. Все было вокруг да около, а тут – сразу в десятку. Вот тебе и тетя Катя, кассирша с вокзала! Побольше бы нам таких тетей Кать. И я радостно ответил: – Хочу стать с головой! – А-а… – понимающе протянула Валя. Потом расцепила наши пальцы и двинулась по синусоиде, то отдаляясь, то приближаясь, а я, размышляя, топал прямехонько, как по оси абсцисс. – Эп, а вот скажи: то, что мы с тобой вместе, – это маленькое или большое? – внезапно спросила Валя, приблизившись ко мне и более уже не отдаляясь. По моим плечам пробежали мурашки, и я ответил: – Для меня большое. – Для меня тоже. Поцелуй меня! – шепнула она. Я оглянулся, нет ли кого поблизости, и Валя сразу нахмурилась. – Бояка ты, Эп! Тебе бы только темные коридоры! – Вовсе нет, – смущенно возразил я. Валя свернула к скверику. Там, под вечерним навесом тополиных веток, я настиг ее. И осторожно поцеловал трижды, по-братски. Глава шестнадцатая Вчера мать с отцом ходили в гости, вернулись в двенадцатом часу, и я, поняв по устало улыбающимся лицам, что им не до анкет, даже не заикнулся о них да и свою не заполнил. Проштрафилось полкласса. Срок оттянули до завтра. Собравшись было корябать ответы левой рукой, чтобы обеспечить анонимность, я внезапно сообразил, что все это может написать Валя – тем более что секретов от нее у меня не было. Валя предупреждала, что сегодня немного задержится, но шел уже пятый час… Я копался в телевизоре, который в последнее время бессовестно бросил, как и однорукого беднягу Мебиуса. Я все бросил, кроме английского. Вот и сейчас маг работал, два голоса разыгрывали на английском языке сцену в продовольственном магазине. Сначала я ничегошеньки не улавливал, а по совету Вали просто привыкал к чужим звукам, потом стали прорезаться знакомые слова: «колбаса», «цена», «чек», всякие любезности, – наконец при пятом прослушивании понял почти все и сам вклинился в разговор. Вдруг откуда-то донесся глухой раскат. Я выглянул в окно и обмер. Из-за ломаного горизонта дальних новостроек, со стороны Гусиного Лога на город наползала необъятная фиолетово-синяя туча. Она еще не созрела, в недрах ее клубились и медленно перемещались первобытные массы, мелькала трусливая белизна, но синь мрачно заглатывала ее, на глазах темнея, тяжелея и угрожающе спускалась вниз. Шулин как в воду смотрел. Звякнул телефон. Это была Валя. Она сказала, что просит прощения за опоздание и что, если я не против, к пяти придет. Я закричал, что, конечно же, не против, поцеловал трубку и запрыгал по коридору. На улице потемнело. Закрыв окна и желая по наущению Авги стать счастливым, я разделся до плавок, выскочил на балкон и поднял лицо ко вздыбленным лохматым тучам. Самая главная туча вдруг стриганула себя молнией по вздутому животу, и он кудлато-рыхло распустился до земли, прямо в Гусиный Лог – гроза началась. Я представил, с каким зверским воплем пляшет сейчас во дворе Шулин, и меня заранее пробрала дрожь. Захлопали форточки, посыпались стекла, на балконах загремели всякие крышки и фанерки. По тротуарам и дороге, схватившись за головы, неслись отвыкшие от стихийных шалостей люди, а над ними подпираемые столбами пыли, кувыркались в очумелом пилотаже обрывки газет, полиэтиленовые кульки, тряпки. Все уносилось прочь от наступавшего ливня, как от лесного пожара, – по земле и по воздуху. Густая сеть дождя приближалась. С избытком хватив целебного душа, я прыгнул в комнату. Часы пробили пять. Я вздрогнул – Валя! В пять она должна приехать и, похоже, не из дома – значит, без плаща и зонта!.. Через пять секунд, я уже летел по лестнице. На улице стояла шуршащая стена дождя. Водяные джунгли! По дороге, как по каналу, поток несся к Гусиному Логу. Я представил, какой там сейчас кавардак, и на миг замер перед потоком, точно с мыслью, нельзя ли остановить его. Потом напрямик помчался к трамвайной остановке. – Эп! – раздалось вдруг. – Валя! Моя Валя – как я и думал, без плаща и зонтика – обрадованно юркнула ко мне под болоньевое крыло. – Эп, молодчина!.. Ой, да ты голый! – В плавках. Некогда было. И как-то сразу, чтобы уютнее уместиться под плащом, мы обнялись – я ее за плечи, она меня за пояс – и пошли четырехногим безголовым существом. А дождь лупцевал нас собаками и кошками, как говорят англичане, то есть лил как из ведра, ни на минуту не ослабевая. 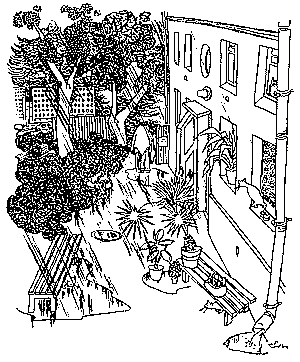 Мы еще ни разу не ходили вот так, тесно прижавшись друг к другу всем боком, от плеч до бедер. Мы вообще мало прогуливались, да, и, гуляя, сцепляли только пальцы. Я мельком подумал, что уж не первое ли это счастье, принесенное грозовым омовением?.. И в подъезде мы не сняли плаща, а так и поднимались – молча обнявшись и в ногу. Лишь в коридоре Валя выскользнула, а я, вдруг устыдившись своей пляжности, плотно запахнулся. Вид мой, наверно, был карикатурен – косматая голова да две худые голые ноги, – и Валя тихонько рассмеялась, но тут же обхватила меня за шею. Мои руки нерешительно выползли из-под плаща и сошлись у нее за спиной. Такого тоже пока не случалось, чтобы в первый миг встречи мы были как в миг последний. Наши свидания всегда начинались робко и скованно. А тут, видно, гроза повлияла. Валю тоже омыло, лицо ее было мокрым, и я стал осторожно целовать его, собирая губами дождевые капли. Она не открывала глаз, а только поворачивалась, улавливая, где лягут мои поцелуи. А капли все катились и катились из волос… А когда – после тысячи поцелуев! – лоб ее, щеки и подбородок высохли, я скользнул к уху и к шее. Валя замерла, сбив дыхание, потом медленно разняла руки и, уперев их мне в грудь, прошептала: – Эп, милый, ты замерз… Оденься… – Да, да, – бессильно вымолвил я, почувствовав такую слабость, как будто неделю не ел. Взяв с дивана штаны и рубашку, я заперся в ванной и минут пятнадцать сидел под горячим душем. Сначала меня била дрожь, потом тело стало успокаиваться. От круглого зеркала, которое из-за натыканных вокруг него лепестков-шпаргалок походило на ромашку и к которому с тыла был приделан динамик, брызнули «Червонные гитары», и я стал одеваться, сильный и ловкий, как прежде. Музыка гремела во всех комнатах: Валя научилась управлять моей механизацией. Она сидела в кресле, поджав под себя ноги и задумчиво обметая губы кончиком косы. Привычно взглянув на меня, искоса и чуть исподлобья, она выключила магнитофон и внезапно спросила: – Эп, а что это за Лена? – Где? – А вот. Валя взяла с колен измятую многочисленными сгибами бумажку и помахала ею. Это была записка, которую мне передала сегодня Садовкина. Наташка даже пожурила меня, мол, что я сделал с ее подругами – одна приветы передает, другая шлет записки. Я только польщенно улыбался. Меня открыли! Наконец-то!.. Лена писала, что вспоминает меня и даже хочет увидеть снова, и не смогу ли я прийти сегодня к шести часам в Дом спорта «Динамо» поболеть за нее: она баскетболистка. – А-а, эта!.. Я познакомился с ней на дне рождения у нашей одноклассницы. – Когда это? – В субботу, когда ты стирала. – Не сочиняй, Эп, я не стирала! – Ну, не знаю, что делала. Ты позвонила в субботу и сказала, что мы не встретимся потому, что накопилось много дел. Неужели забыла? Вспомни! – А-а, в субботу!.. Да-да. – Ну и вот. А тут как раз у Садовкиной день рождения. Я хотел тебя пригласить, но… Видишь, оставила меня одного – и сразу влюбились! – А ты и рад, да? – Шучу. Никто в меня не влюблялся. – А это? – Валя опять помахала запиской. – Так это не на свидание, а поболеть. – Поболеть!.. А почему она Шулина не приглашает поболеть? И почему вспоминает именно тебя? – Валя опустила ноги на пол. – Эп, у вас с ней что-то было! – Ничегошеньки! – Но ты же танцевал с ней? – И с другими. – Но с ней больше, да? – Пожалуй. – Ну и вот!.. И целовались, да? – Что ты! Только проводили толпой всех девчонок, и у подъезда Лена пожала мне руку. – А другим жала? – Не заметил. – Ну вот! А ты говоришь, ничего не было. – Да не было и нет! – воскликнул я. – Эп, одно ее существование что-то да значит, – тихо и предостерегающе проговорила Валя. – И что теперь, убить ее? – Я сама ее убью!.. Липучки несчастные! Чуть глянешь на них – и все, прилипли! – Да никто ко мне не лип! – Не заступайся, Эп, я их знаю. – Она шумно вздохнула и опять подобрала ноги, отвернувшись к окну. – И что будешь делать? Скоро шесть. – Я уже ответил, что не смогу прийти. – Почему? – Потому что у меня уроки с тобой. – А если бы не было, пошел бы? – Наверно. – Считай, что уроков нет! – сказала Валя и поднялась. – Ва-аля! – протянул я с улыбкой. – Ступай-ступай, Эп! А то невежливо получается: тебя девочка приглашает, а ты отказываешься! Получается, что я тебе мешаю со своим английским. – Это нечестно! – крикнул я. – А утаивать честно? – спросила она тихо, но так, что лучше бы тоже крикнула. – Я не утаивал, – бессильно сказал я. – Ну да! Спасибо, что я записку случайно нашла. – Случайно в золе находят или в мусорном ящике, разорванное на сто клочков! А тут целехонькое лежит на столе. Я нарочно положил на виду. Валя умолкла, удовлетворившись, кажется объяснением, потом, пристально глядя на меня, стала медленно рвать записку – раз, два, три, следя, не блеснет ли в моих глазах паника или тень скорби. Да, эта бумажка волновала меня, и, когда я писал Лене ответ, сердце мое сжималось от жалости, что не встретил ее до Валиной эры, когда я был готов полюбить всякого, кто полюбит меня, но теперь было поздно – Лена опоздала на какие-то три-четыре дня, а эти три-четыре дня стоили мне многих лет той прежней, пустынной жизни, где были десятки дней рождений, десятки вечеров и где никто ни разу не приветил меня… Что-то, видно, проскользнуло в моем взгляде, потому что Валя вдруг устыдилась своей инквизиторской выходки, спрятала клочки в карман и, опустившись в кресло, потупилась. – Эп, я, наверное, дура, – прошептала она, глянув на меня снизу; я увидел слезы в ее глазах и сам, ощутив внезапное жжение под веками, присел перед нею на корточки, придерживаясь за ее колени. – Конечно, дура, – уверенней добавила она, – но я хочу, чтобы ты был только моим!.. А ты хочешь, чтобы я была только твоей? – Хочу, – еле слышно ответил я. – Ну и вот. Поэтому не сердись. – Я не сержусь. – Да? – Валя несмело улыбнулась и вытерла пальцами глаза. – А скажи это по-английски. – Не знаю. – Ты учил сегодня?. – Учил. – Тогда скажи что-нибудь по-английски. – I want to kiss you. (Я хочу поцеловать тебя). Я с тихой настойчивостью потянул ее к себе. Валя опустила на мое плечо руку и опять спросила: – А ты правда не целовался с Леной? – Правда. – Что «правда»? – Не целовался. Ну, как же я мог?.. И почему ты так легко говоришь это слово? – Какое? – «Целоваться». – А как же его говорить? – Не знаю, но я боюсь его… – Ты-то боишься?.. А кто начал, а? – Я, но… не говорил. Я написал. Валя посерьезнела, вглядываясь в меня с новым вниманием. – И потом не говорил… И даже сейчас сказал по-английски! – Ну, ну! А я, значит, легко болтаю! Я, значит, легкомысленная болтушка, так, Эп? – Я замотал головой. – Нет, ты именно так и думаешь!.. Хорошо же, тогда я и тебя сделаю легкомысленным! – заявила она и бросила вторую руку на мое плечо. – Скажи: «Я хочу…» – Я хочу… – «… поцеловать тебя!» – … поцеловать тебя! – без промедления повторил я. – Ну, вот, теперь и ты болтун! И мы равны!.. Ох, Эп! – легко вздохнула Валя и стрельнула взглядом через мое плечо. – А Пушкин-то подглядывает! – Он не осудит! Он сам это любил. Валя осторожно подалась ко мне, и я коснулся губами ее холодных губ. И комната вдруг вспыхнула от солнечного света. Мы вскочили, как застигнутые врасплох… Это кончилась гроза, и от освобожденного солнца с вороватым сожалением отползали последние обрывки туч. Глава семнадцатая Валя охотно согласилась заполнить анкету и даже ладони потерла, ну, мол, сейчас я тебя насквозь разгляжу, хотя я и так был перед нею как стеклышко. Она села в кресло за журнальный столик, я – на диван. Мне был приятен этот миг, приятно было сознавать, что вот я, Аскольд Алексеевич Эпов, до сих пор живший сам в себе, открываюсь для других. С вопросами я столько навозился, что все ответы я выдавал без задержки. Если мой ответ совпадал с Валиным, она удовлетворенно кивала, если нет – вскидывала брови. – Твой любимый классический поэт? – Пушкин. – Так… А современный? – Пушкин. – Ты что, Эп, современных не читаешь? – Не почитаю. – Значит, не дорос еще. – От Пушкина-то дорастать? – Ладно-ладно, оставайся со своим Пушкиным, – сдалась Валя. – Твои любимые предметы? – Математика и физика. – Так… Нелюбимые? – Один русский. – Ой ли? – усомнилась Валя. – А английский? – М-м… – Не бойся, не обижусь. – Я не боюсь. Просто мне стало интереснее. Нет, правда! Кстати, переведи одну фразу!.. Сейчас… М-м, ага! Here’s a health to thee Mary! – Твое здоровье, Мери. – Правильно! А знаешь, откуда это?.. Эпиграф к стихам Пушкина: Пью за здравие Мери. Милой Мери моей. Тихо запер я двери И один без гостей Пью за здравие Мери. У меня даже мысль появилась – выбрать из Пушкина все на английском языке, так, для интереса, хотя кто-то, наверно, давно уже выбрал и, может быть, даже защитил диссертацию. – Эп, я же говорила, что в тебе спит англичанин и что я разбужу его! Кажется, разбудила. – А знаешь, Валя, он, по-моему, не спал, а дремал. Еще до тебя я Вовке Желтышеву придумал кличку Елоу. Все подхватили, но, конечно, на русский лад – Еловый! Валя засмеялась, но тут же нахмурилась. – Ага, значит, ты сам дремал, сам проснулся, а я тут ни при чем? – спросила она. – Ну, что ты!.. Без тебя я бы, может, так и умер в полудреме! – признался я, и Валя просияла. – Кстати, я и тебе прозвище нашел – «Буллфинч». Действительно, я прямо спятил с этим английским. Ложусь с ним и встаю, ем и пью, кричу и пою, даже спорю по-нерусски с Мебиусом. О том, что я все хватаю на лету, Валя сказала в тот раз нарочно, для родительского успокоения, она и сама еще не знала, как я потяну лямку, но скажи она это теперь – была бы права. Во мне вдруг пробились какие-то неведомые родники, просветленно-жгучие, и били без устали, освежая и обновляя меня. Казалось бы, ну что можно успеть за считанные дни, а вот успел!.. Анкетный свиток развивался дальше. – О, приготовься, Эп! – оживилась Валя и впилась в меня лукавым взглядом. – Есть ли у тебя подруга? Я гмыкнул и спросил: – А ты как думаешь? – Эп, не юли! – Кажется, есть. – Так и писать – «кажется»? – Не знаю. Валя испытующе посмотрела на меня, печально-осуждающе качнула головой и написала: «есть» – без «кажется». Слабый я человек: во мне что-то дрогнуло, и к векам мгновенно подступил влажный жар. А Валя продолжала: – Куришь? Нет, – сама же ответила она. – Пьешь? Нет. – Пью. – Как пьешь? – Как нальют: полстакана – полстакана, рюмку – рюмку. По праздникам, конечно. – Ну и пьяница – насмешил! – развеселилась Валя. – По праздникам и я пью. Это не считается. – А мы решили считать. – Тогда у вас все алкоголиками будут. – Вот и проверим. – Ох, и влетит вам!.. Ну, ладно, поехали дальше… Хочешь ли ты оставить школу? Сейчас острота этого вопроса притупилась, а последние дни все больше убеждали меня в том, что десятилетку оканчивать надо, иначе можно вывихнуть свою жизнь, но тут я решил проверить Валю и твердо ответил: – Хочу. – Эп, да ты что! – валя бросила ручку и выпрямилась. – Хочешь остаться со свечным огарком, как говорила Римма Михайловна? – У нее же мрачный взгляд. – Но и точный!.. Я это поняла! А в точности всегда, наверно, есть доля мрачности. – А тебе ни разу не хотелось бежать из школы? – Наоборот! Мне всегда хотелось бежать в школу, и только в школу, чтобы, кроме уроков, ни о чем не заботиться, а уроки для меня делать – это семечки щелкать! – Валя уже отвлеклась от моих дел и подключила свои переживания. – Правда, Эп! Та, будущая самостоятельность меня пугает!.. А вдруг это будет очень трудно? Вдруг я не справлюсь? – Не пугайся, у тебя не будет самостоятельности, – сказал я, чувствуя, что готовлюсь к сальто-мортале. – Почему это? – Выйдешь замуж – и все! – крутанул я. – А замуж – это что, не самостоятельность? – Нет. – Ух, ты, какой философ! – А что, вон Евгений Онегин был философом в осьмнадцать лет, – напомнил я, возвращаясь в свой диапазон. – Мне вот-вот шестнадцать, пора начинать философствовать. – Как, Эп, тебе разве будет шестнадцать? – удивилась Валя. – Да, – печально подтвердил я. – Я с пятьдесят седьмого. – А я с пятьдесят восьмого, и мне в июле будет уже пятнадцать, – радостно сообщила Валя. – Дитя!.. А что было в пятьдесят восьмом? Валя задумалась. 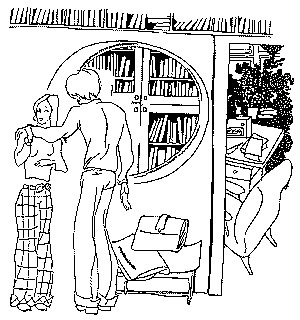 Конечно, сам по себе год рождения человека ничего не значит для его жизни. Например, отец мой родился в год смерти Репина, а мама – в год смерти Горького, но папа не стал художником, а мама не стала писателем. А я вот появился на свет вечером 3 октября 1957 года, а 4 октября у нас запустили первый искусственный спутник Земли – как бы в честь меня. Это ли не намек на мое будущее? И я, полюбив физику с математикой, действительно рванулся туда. Пусть это смешно и даже глупо – стыковать случайные вещи, ведь в том же октябре родились еще тысячи самых разных людей, в том числе и ненавидящих физику с математикой, но уж очень хотелось увязать свою судьбу с мировыми событиями. – Не помню. А зачем? – Да так. – Ой, темнишь, Эп! – Валя погрозила мне пальцем. – Или это и называется философствовать?.. А знаешь, мне иногда кажется по твоим глазам, голосу, мыслям, что ты взрослый и только прикидываешься мальчишкой. Правда, правда! – А это плохо? – Наоборот! Приятно иметь другом мальчишку и взрослого в одном лице. Как-то надежнее, – прошептала Валя. – Стой, а почему ты не в девятом? – Я долго во втором классе проболел… Как подумаю, что остался бы всего год, так аж зубы ломит! – Ничего, Эп, два года – тоже пустяк! Выдюжишь! Я тебе не дам скучать! – загадочно щурясь и подбадривающе кивая, сказала Валя. – Так я пишу «нет»? – Если очень сильно попросишь. – Ух ты, хитрый! Для него же – и еще просить! – легонько возмутилась она, но подошла ко мне, прижала мою голову к своему животу и, гладя ее, словно котенка, ласково заприговаривала: – Эпчик, миленький, хорошенький, пригоженький, не бросай школу, а то дурачком станешь, бякой, никто тебя любить не будет! – Я млел, улыбаясь и закрыв глаза: значит вот какая тут нужна шоколадка! – Хватит? – Еще! – Ишь, разнежился! Хватит, Эп! Дальше особых разногласий не возникло, лишь когда я признал женский и мужской пол равными, Валя заметила, что женщины, наверное, хуже, а когда на вопрос, кто у нас глава семьи, ответил, что наша семья безголовая или двухголовая и что так и надо, Валя уверенно заявила, что это ошибка и что во главе семьи должен стоять мужчина, и даже пристукнула кулаком. На этом совместный труд наш закончился, Валя пожала мне руку, сказала, что по анкетным данным я парень хоть куда, а без анкет еще лучше, и вдруг спохватилась: – Уроки-то, Эп! Я же еще уроки не сделала! – А где же ты была до пяти? – спросил я. – На свидании, – отшутилась она. – А почему днем? – Потому что вечером с тобой. – Она вскинула руки мне на плечи, ткнулась лбом в грудь, но, почувствовав, что я собираюсь обнять ее, живо отстранилась: – Все, все, Эп!.. Уж нельзя просто так прислониться! – Нельзя. – Проводишь? – Через полчаса. – Нет, Эп, сейчас. А то не успею. – Уроки, уроки! – вздохнул я. – Они отравляют даже вот такие редкие минуты!.. Валя, а давай сегодня забудем про уроки, а! Сегодня было так хорошо! – Не могу, Эп. Когда вечер, а уроки не сделаны, меня прямо сверлит всю! Хуже, чем голод. – Ну десять минут! – Эп! – Ну хоть пять! Валя покачала головой. Я оделся и хмуро приоткрыл дверь нарочно лишая себя прощального поцелуя и этим думая наказать Валю, но она прижала дверь ногой и молча, чуть исподлобья, осуждающе-выжидающе уставилась на меня. Я не выдержал и поцеловал ее в щеку. Было прохладно. Я накинул на Валины плечи свой плащ, оказавшийся ей почти до пяток, и взялся за пустой, как у инвалида, рукав. Застекленные двери железнодорожных касс, сверкая, беспрерывно мотались, и люди, как пчелы у летка, так неугомонно сновали туда-сюда, что даже странным казалось, что они не взлетают, как пчелы. Валя кивнула на кассы. – Эп, давай купим билеты куда-нибудь далеко-далеко и без числа. Когда захотим, тогда и уедем. – Вдвоем? – Вдвоем. – Давай. Я запустил руку в карман плаща, нащупал сквозь тонкую материю Валину руку и сжал ее. – Эп, – шепнула она, – я тебе завтра что-то скажу. – Что? – Что-то… Очень важное! Я вздрогнул. – Скажи сейчас. – Сейчас этого еще нет. – Чего этого? – Ну того, что я хочу сказать. – А откуда ты знаешь, что это завтра будет? – Да уж знаю. – А раз знаешь, можешь сказать сейчас. – Нет, Эп, пока не сделаю, не скажу! – Хм!.. Э-э, а завтра мы не сможем встретиться, – огорченно протянул я. – Завтра моя комиссия будет весь день обрабатывать анкеты. Я же председатель. – Значит, послезавтра, в субботу. – Послезавтра форум. – Ну, тогда в воскресенье. – Нет, Валь, это очень долго! – Не долго, Эп. Было дольше. – Тогда вот что, – вздрогнув, сказал я, осененный внезапной мыслью. – Завтра в двадцать один ноль-ноль я выйду в эфир. Лови меня. Я тебе тоже что-то скажу, ладно? – Ладно, – тревожно согласилась она. – Сверим часы. У перекрестка Валя свернула к трамвайной остановке. Я послушно брел рядом, не желая больше ни продлевать свидание, ни даже о чем-либо говорить. Таинственное обещание Вали и мое собственное, сумасшедшее, окутали меня вдруг каким-то усыпительным теплом. Мысленно я уже перенесся туда, в завтрашний день, пытаясь угадать ее слова и повторяя свои, и поэтому расстался с Валей легко, почти радостно, словно это расставание приближало миг неведомых откровений… Глава восемнадцатая Валиных шпаргалок я не носил в школу, чтобы не выказывать своего неожиданного старания, стихи зубрил про себя, а бумажки, на которых то и дело писал новые слова, комкал и выбрасывал, так что никто в классе не догадывался, что я на всю катушку занимаюсь английским. Не знал и Авга. Эту неделю он не заходил к нам – утрами встречались на улице, а после уроков я задерживался со своей анкетной комиссией. Отец с мамой укатили куда-то раным-рано. Я завтракал один, в десятый раз прокручивая на маге сцены в продовольственном магазине, и как-то забыл про время и про то, что надо поторапливаться. Смотрю: Шулин на пороге. – Эп, ты жив?.. Я думал – помер! Кричу-кричу, свищу-свищу – хоть бы хны! Мы же опаздываем! – посыпал он, прокрадываясь ко мне в кухню, но вдруг замолк и настороженно остановился, прислушиваясь. – Что это? – Где? – Да вот звучит. – Английский, – спокойно сказал я. – Но-о? И правда. Откуда? – Мои записи. – Твои? – Йес, – важно ответил я, и тут во мне взыграло озорство, и я без запинки выдал выученный английский текст. У Шулина отвисла челюсть. – Э-эп! – только и выдавил он. Я затащил ошеломленного Шулина к себе в комнату, показал ему шпаргалки, веерами торчавшие там и сям, пояснил, как ими пользоваться, потом завел в гостиную, в туалет и, наконец, в кухню, где над раковиной были прикноплены стихи Томаса Мура «Those evening bells», написанные четким Валиным почерком. Это доконало Авгу. Он сел на стул и, подняв брови так, что они исчезли под низким чубчиком, спросил: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|||||||