 |
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Желязны Роджер :: Лондон Джек Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Язва :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Игры по-королевски (Близко, около звёзд - 2) :: The Boarding House :: Задача профессора Неддринга :: Утопия усталого человека :: Алмазная история - 1 :: Зловещий священник |
Близко-далекоModernLib.Net / Исторические приключения / Майский Иван Михайлович / Близко-далеко - Чтение (стр. 5)
Стирлинг тоже встал и, молча поклонившись, сделал руками и плечами жест, который мог означать: «Это уж ваше дело». А когда Петров выходил, полковник любезно произнес: – Желаю вам здравствовать! Петров вернулся в гостиницу взбешенный. Люсиль была в отчаянии. Только Таня успокаивала мужа и торопила его с отправкой извещения в Москву. Петров тут же сел за стол и составил срочную телеграмму на имя контр-адмирала Карпова. Кратко изложив в ней создавшееся положение, Петров просил о личном вмешательстве для урегулирования возникшего конфликта. Когда телеграмма была отправлена, Степан стал рассчитывать: – Допустим, контр-адмирал получит мою телеграмму завтра… Допустим, он завтра же пошлет телеграмму начальнику советской военной миссии в Лондоне. Допустим, послезавтра начальник советской военной миссии в Лондоне получит телеграмму Карпова. Допустим, что на следующий день после этого он обратится в английское военное министерство… Но сколько ни «допускал» Петров, все получалось, что при самых благоприятных условиях раньше чем через десять дней двинуться вперед им не удастся. Телеграмма была отправлена, но настроение Степана мало улучшилось. Таня понимала состояние мужа и решила отвлечь его внимание в другую сторону. – Раз уж нам пришлось здесь застрять, – сказала она, – так давайте, по крайней мере, посмотрим как следует Иерусалим… Места интересные! Действительно, что же больше им оставалось делать? – Степа! Люсиль!.. Сюда! Сюда!.. Александр Ильич, не отставайте! Таня быстро и ловко карабкалась вверх, перепрыгивая с камня на камень, хватаясь то за выступы скал, то за свисающие из расселины кустарники. Наконец она оказалась на вершине горы и, протянув руки вперед, точно готовая взлететь, в восторге воскликнула: – Какая красота! Картина действительно была поразительная. Внизу, у Таниных ног, лежала широкая, круглая котловина, со всех сторон окаймленная цепью серых скалистых гор. Их склоны плавно сбегали вниз, образуя в центре котловины плоскую впадину. И в этой впадине, весь залитый лучами солнца, в легкой синеватой дымке тихо мерцал древний Иерусалим. 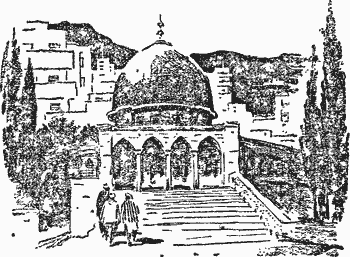 Городу было тесно, его словно зажали горой. И он полез вверх. На откосах белели новые здания, зеленели парки и сады, искрились позолотой башни и храмы. В разные стороны разбегались тоненькие ниточки улиц, а в самом центре впадины чернело большое пятно – базар. Его окружали устремленные в небо главы церквей и минаретов. А несколько впереди, на обнесенной стенами площади, мрачно вздымала кверху свой гигантский купол огромная восьмиугольная мечеть Омара, построенная в VIII веке на развалинах знаменитого храма Соломона. – Итак, товарищи, перед нами сама история! – тоном заправского гида провозгласила Таня, обведя руками все, что открывалось ее взору. Но в ее шутливый тон ворвалась и нотка неподдельной торжественности. Еще бы! Ведь перед ней лежал город, которому было не менее трех с половиной тысяч лет. Да еще каких! Сколько раз на протяжении этого времени он менял хозяев! Сколько крови здесь было пролито! Сколько событий совершилось! И сколько ярких легенд, сказок, поверий, сколько заблуждений и обманов связано с этим городом в памяти человечества!.. А теперь? Теперь это лишь маленькая, глухая провинция, археологический экспонат давно умершей эпохи. Неторопливыми шагами подошел пожилой, но еще крепкий и высокий араб в длинном бурнусе, но без чалмы. Это был гид, которого гостиница рекомендовала русским гостям. До сих пор Степан и Таня объяснялись с ним по-английски. Но вдруг на чистейшем русском языке он произнес: – Мадам скачет легко и быстро, как горная коза. За ней не угонишься! – Как! Вы говорите по-русски? – в изумлении воскликнули все. – Наконец-то и надо мной сжалился иерусалимский бог! – обрадовался Потапов, которому давно наскучила роль «великого немого» (так окрестил его однажды Степан). – Немного забыл, – с достоинством ответил араб, не реагируя на богопротивную шутку русского. – Давно уж русских здесь не бывало. А в прежние времена сколько людей из России приезжало поклониться святым местам! Вот я водил их, да и выучился… Он помолчал немного и затем удовлетворенно прибавил: – Хорошо платили! Петров незаметно переглянулся с Потаповым: намек был слишком ясен. Потапов спросил: – Что интересного вы можете рассказать нам об этом месте? – Много интересного! – степенно ответил араб. – Вы находитесь сейчас на вершине Масличной горы, поднимающейся на восемьсот двадцать восемь метров над уровнем моря. Масличная гора тесно связана с последними днями жизни Христа на земле. Здесь он впервые сказал своим апостолам об ожидающих его испытаниях. Отсюда он совершил торжественное вступление в Иерусалим. Отсюда же вознесся на небо после своего воскресения… Несмотря на поклонение пророку Магомету, араб хорошо знал все, что относилось к христианским «святым местам», и говорил о них даже с чувством. – Поблизости от Масличной горы, – продолжал араб, – протекает поток Кедрон, о котором часто упоминается в евангелии. Вот взгляните на него! Он не велик, но красив, и вода его очень приятна на вкус. У подножия Масличной горы расположен также Гефсиманский сад, где часто бывал Христос. Гефсиманский сад?.. В памяти Петрова мелькнули какие-то далекие тени… Ах, да! Мать когда-то ему читала о Гефсиманском саде… Степану этот сад представлялся тогда каким-то большим и таинственным лесом. Ну, вроде той рощи под Кунцевом, где они гуляли с отцом… – А можно осмотреть Гефсиманский сад? – спросил Петров. – Конечно, можно! – с готовностью ответил араб. Полчаса спустя вся группа оказалась перед железной решеткой, за которой виднелась чахлая растительность. – Войдите! – раздался прозаический голос гида, и он привычно отворил калитку. Гости переступили границу сада. Степан остановился в недоумении. Перед ним была невысокая церковь, а справа от нее – небольшой квадратный палисадник с несколькими тощими деревцами. В центре палисадника стоял невероятно толстый обрубок какого-то могучего ствола, спиленный или сломанный на высоте пяти-шести метров от земли. Корни его как-то хищно впивались в землю и были покрыты густым слоем моха. От обрубка отходило с десяток тонких ветвей, унизанных зелеными листьями продолговатой формы. – Так это и есть Гефсиманский сад? – недоверчиво спросил Петров. – Да, это Гефсиманский сад! – с подчеркнутой торжественностью подтвердил гид, и вдруг голос его стал каким-то дрожащим, чуть не молитвенным. – Здесь Христос провел свою последнюю ночь… Здесь он молил своего отца: «Да минет меня чаша сия!» Но отец не внял его мольбам, и на рассвете стража схватила Христа. Вдруг отворилась дверь церковного здания, и оттуда вышел монах. С подобострастными поклонами он стал скороговоркой объяснять по-английски. – Вот это, – монах указал на толстый обрубок, – та самая смоковница, под которой отдыхал и молился Христос. Ей две тысячи лет. Вы, конечно, пожелаете увезти с собой на память… – И монах уверенно протянул Петрову листок бумаги, на одной стороне которого был печатный текст, а на другой был прикреплен засушенный лист смоковницы. – Каждый листок – один шиллинг, – деловито напомнил монах. – Может быть, ваши спутники тоже захотят приобрести святые листья, каждый для себя? Это приносит счастье… Петров мягко отвел руку монаха и с улыбкой ответил: – Благодарим вас, но мы не привыкли покупать счастье на шиллинги. Потом начался медленный спуск по склону котловины вниз к городу. На пути попались длинные ряды старинных могил – еврейских и мусульманских. Остановившись, араб с важностью произнес: – Тут похоронены те, кто верил, что Страшный суд произойдет как раз на этом месте. Чтобы не опоздать на него, эти люди завещали предать свои тела земле именно здесь. – Ну да, – понимающе кивнул головой Потапов. – Они, видимо, очень торопились на Страшный суд. Араб понял иронию и неодобрительно посмотрел на Потапова, однако не сказал ни слова. Когда подошли к воротам «святого Стефана» – одному из главных въездов в город, – лицо гида вновь приняло мрачно-торжественное выражение, и голосом, в котором звучали элегические ноты, он сказал: – Здесь начинается «Via dolorosa».[8] Последний крестный путь Христа. Он не длинен – всего какой-нибудь километр, – но сколько с ним связано горестных воспоминаний!.. И привычной, деловой походкой гид повел всю группу по узкой и тесной улице, перекрытой в нескольких местах каменными сводами. Несмотря на яркий день, здесь было сумрачно и сыро. Старинные каменные дома и домики уныло смотрели на мир подслеповатыми окнами. Пахло гарью. Где-то пищала кошка. Где-то лаяла собака. А гид тем временем спокойно шел своей ровной, уверенной походкой и деловито пояснял: – Вот казарма… Здесь Христа бичевали… Шагов через сто он сообщил: – А вот здесь на плечи Христа был возложен крест… Еще шагов через сто он указал на какой-то дом: – Здесь Понтий Пилат, глядя на Христа, воскликнул: «Вот человек!» Одна из стен этого дома сохранилась со времен Пилата… Петров со скрытой иронией спросил: – А не сохранилась ли, простите, та чаша, в которой Понтий Пилат умывал свои руки? – Как же, сохранилась! – не поняв иронии, воскликнул гид и добавил чуть смущенно: – Только лет двадцать назад она, к сожалению, разбилась. Араб через каждые несколько минут провозглашал: – Вот здесь Христос встретил свою мать, пресвятую деву Марию… Вот здесь он отдыхал, прислонив крест к стене дома… Вот здесь святая Вероника отерла пот с лица Христа… Вот здесь Христос упал под тяжестью креста… Вот здесь он вторично упал под тяжестью креста… И каждый раз гид на мгновение останавливался, поворачивался к своей группе и указывал на какой-либо дом или стену. При этом в голосе его и жестах была такая уверенность, точно он сам был очевидцем событий, о которых рассказывал. Наконец подошли к Голгофе. Здесь стоял большой двухэтажный храм очень замысловатой формы, с большим куполом, увенчанным золотым крестом, с колоннами, сводами, порталами, всевозможными украшениями. – Этот храм построен на том месте, где был распят Христос, – тоном, не допускающим сомнений, заявил араб. – Но я не могу в него войти, я подожду вас снаружи… В храме имеются свои гиды. Действительно, едва путешественники переступили порог храма, как какой-то юркий монах подхватил их и повел по сложным, запутанным ходам и переходам этого огромного здания. – Храм основан, – бесцветным голосом сообщал монах, – в 336 году после рождества Христова, когда святая равноапостольная Елена, мать императора Константина Великого, открыла здесь крест, на котором был распят Христос… В 614 году храм был сожжен персами… Потом благочестивые люди его восстановили… Потом, в 936 году, храм был снова разрушен… Потом… Речь монаха была быстрой, равнодушной, привычной, слова сыпались, как сухой горох, и складывались в какой-то свиток дат и событий, из которого ясно было одно: на протяжении веков здесь разыгрывалось много боев и пролилось много крови. Наконец монах привел путешественников в мрачное помещение с несколькими горящими светильниками и, указывая на толстую плиту из желтовато-розового мрамора, сказал: – Это камень миропомазания. Здесь святой Никодим и Иосиф Аримафейский помазали миром тело Христа после снятия его с креста… И, не задерживаясь, он пошел дальше. Еще несколько приделов, несколько коридоров, несколько поворотов, лестниц, перил – и вся группа очутилась в обширной часовне, которая делилась на две части: большую и меньшую. – Вот здесь лежит кусок камня, который ангел отвалил от могилы Христа, – сообщил монах, указывая на высокую мраморную вазу с камнем, стоявшую в первой части часовни. Потом он сделал несколько шагов в сторону второй, меньшей части часовни. – А тут, – продолжал монах все так же уверенно, – находится величайшая святыня христианского мира – гроб господень. Перед путешественниками лежала тяжелая каменная плита, на которой было высечено изображение Христа. На стене имелось еще одно изображение Христа – уже «воскресшего»; оно утопало в сиянии бесчисленных ламп и светильников. Два монаха явно скучали около гроба. Проводник двинулся дальше. Пошли капеллы. Целая вереница капелл. Капелла явления Христа Марии… Капелла разделения риз… Капелла каменных уз… Капелла темницы Христовой… Капелла тернового венца… Капелла поднятия креста… Капелла святой Елены… Капелла святого Логгина… Под самый конец экскурсии монах, ловко вскарабкавшись по крутой лестнице вверх, привел советских путешественников на Голгофу. Это была мрачная часовня на скале, главной достопримечательностью которой являлся большой престол из цельной мраморной плиты. Указывая на престол, монах торжественно провозгласил: – Здесь стоял крест, на котором был распят Христос! Вы видите под престолом круглое отверстие? Оно осталось от креста! – И, помолчав, добавил: – А вот здесь, по бокам престола, два других отверстия, отделанные мрамором. Здесь стояли кресты двух разбойников, которые были распяты вместе с Христом. – Простите, – не удержалась Таня, – а откуда известно, что крест Христа был вкопан в землю именно здесь? Монах с некоторым удивлением взглянул на Таню и безапелляционным тоном ответил: – Это установила святая Елена, мать императора Константина… Она сама была здесь! – Через сколько лет после смерти Христа? – снова спросила Таня. Монах подумал, посмотрел на своды храма, точно что-то подсчитывая, и, наконец, сказал: – Через триста двадцать пять лет. – Но как же можно было через триста двадцать пять лет точно установить, что крест Христа стоял именно в этом месте? – О, мадам! – с видом оскорбленного превосходства воскликнул монах. – Святой Елене это было указано божественным видением. – Ах, вот что! – невольно вырвалось у Тани. Монах не знал, как понять ее восклицание. Ему почудилось в нем даже что-то ироническое. Но так как замечание было сделано очаровательной туристкой (а сердцу монаха ничто человеческое не было чуждо), то он предпочел уверить себя, что его объяснение воспринято Таней как истина. На следующий день знакомство с Иерусалимом продолжалось. Теперь гид повел путешественников к площади, на которой грозно возвышалась мечеть Омара. Они довольно долго шли какими-то тесными улочками и переулками, вьющимися вокруг площади, и Таня, как обычно, впереди. Вдруг она взволнованно воскликнула: – Что это такое? Петров, Потапов и Люсиль поспешили на ее возглас и тоже замерли в изумлении. За поворотом улицы открывалось глубокое и узкое ущелье. С одной стороны, на обрыве небольшого холмика, стояла линия маленьких арабских домов, с другой – мрачно возвышалась стена, сложенная из громадных каменных глыб. Глыбы – тяжелые, четырехугольные – лежали в несколько ярусов одна на другой и поднимались метров на пятьдесят над землей. От времени и непогоды камень кое-где выветрился и потемнел. В трещинах местами пробились мох, желтая трава и кустарник. Вдоль всей этой мрачной стены стояла длинная цепочка евреев. Тут были мужчины и женщины, длиннобородые старики и молодые парни, девушки и маленькие дети – все в старинных религиозных одеждах, с молитвенниками в руках. Евреи истово кланялись, вполголоса бормотали молитвы, и от этого воздух был полон жужжания – будто здесь сердито гудел огромный рой шмелей. Потом вся цепочка падала на землю, горячо лобызала холодный камень стены, вновь поднималась и жужжала, вновь падала и целовала стену… Должно быть, этот ритуал длился веками, так как камни от прикосновений и поцелуев блестели, как полированные. Вся картина производила жуткое и гнетущее впечатление. – Это стена еврейского плача, – равнодушно разъяснил араб. – Это все, что осталось от древнееврейского храма Соломона. Каждый день приходят сюда здешние евреи и сокрушаются о гибели своего бывшего царства. Но это им не поможет, теперь здесь земля арабов! – зло и резко сказал гид. – Уйдем отсюда поскорее! – воскликнула Таня. – Слишком уж пахнет здесь религиозным изуверством, средневековьем, кострами ведьм, безумием… Едкие слова гида напомнили советским путешественникам о реальном Иерусалиме, о Иерусалиме 1942 года. Каким мирно-идиллическим он казался с высоты Масличной горы! И каким внутренне разоренным, полным острейших национальных, социальных и политических противоречий он был в действительности! Вот верхняя, нагорная часть города, та, что широким внешним поясом громоздится по откосам котловины. Хорошо мощенные нарядные улицы, многоэтажные дома, дуговые фонари… Университет, школы, больницы, почтово-телеграфные конторы… Прекрасное здание библиотеки… Всюду зелень, парки, сады… Шикарные магазины, кафе и отели… Знаменитый отель «Царь Давид», автомобили лучших заграничных марок… Это европейский, или, вернее, еврейский город. Здесь живут главным образом евреи иммигранты из других стран, евреи купцы, промышленники. А в дальних, бедных кварталах – евреи ремесленники и рабочие. Вот через несколько улиц нижняя, центральная часть города, та, что прилепилась к плоскости впадины, – маленькие, восточного типа домики, высокие заборы, узенькие, кривые улицы и переулки, ослики и мулы, бродячие собаки, мелочные лавочки. Темный крытый базар, где в бесчисленных палатках, балаганчиках, клетушках стучат молотки, кричат продавцы, тараторят женщины, свистят и дудят ребятишки… Это арабский город. Здесь живут последователи аллаха, тринадцать веков назад завоевавшие Иерусалим, в течение многих поколений трудившиеся здесь и считающие себя его хозяевами. Между еврейским и арабским городом идет долгая, упорная, жестокая война, искусно раздуваемая англо-американскими колонизаторами. Война в политике, в экономике, в общественной жизни, в сфере религии, в быту… Война с кровью, погромами, убийствами из-за угла, террористическими актами, вооруженными восстаниями… Целый день советские путешественники бродили по Иерусалиму, и чем дальше, тем все более мрачным, искаженным болезненной судорогой выступало перед ними лицо этого города. – Сколько жителей в Иерусалиме? – спросил Петров. – Считают – сто пятьдесят тысяч, – ответил гид. – А кого больше: арабов или евреев? Гид сначала помолчал, а затем дипломатично ответил: – Арабы говорят, что арабов больше, а евреи говорят, что евреев больше. И потом, указав на улицу, которую они в тот момент пересекали, гид бесстрастно, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил: – По этой улице евреям ходить нельзя. Если еврей здесь пойдет, арабы его убьют. А есть улицы, по которым нельзя ходить арабам. Если араб пойдет, евреи его убьют… Вечером советские путешественники разговаривали с Альфаном. Все сидели у камина в гостиной отеля. В камине, по английской традиции, пылал огонь, приятно потрескивало дерево. Делились впечатлениями дня. Таня рассказала Альфану о своем разговоре с монахом на Голгофе. Альфан рассмеялся и затем с галантностью истинного француза воскликнул: – Браво, мадам! Вы попали в самую точку… Воображаю, какая была физиономия у монаха! Вашими устами, мадам, говорил здравый рассудок и историческая наука. Подумайте сами! Шекспир умер в 1616 году, то есть триста двадцать четыре года назад. А между тем сколько споров и дискуссий идет о том, кто был действительно автором его великих творений! Да и существовал ли вообще Шекспир? И этот спор ведется в наше время, при книгопечатании, прессе, целых фалангах литературоведов и историков! А тогда?.. – Альфан сделал презрительный жест рукой и затем продолжал: – Монахи утверждают, будто бы та женщина, которую они именуют святой Еленой, не только открыла место Голгофы, но и нашла крест, на котором был распят Христос, гвозди, которыми он был прибит к кресту, даже яму, оставшуюся от креста там, где он был вкопан в землю. Ну, не смешно ли? Елена была в Иерусалиме в 325 году, то есть с момента смерти Христа до ее появления на Голгофе прошло столько же времени, сколько прошло между смертью Шекспира и нашими днями. Как мог более трех веков сохраниться деревянный крест? Да он давным-давно истлел бы! И как могла сохраниться яма, где он якобы стоял? Ведь ее давным-давно засыпало бы пылью и песком! Наконец, как могли через 325 лет отыскаться гвозди, которыми Христос был прибит к кресту? Да, стоит лишь подойти к поповским небылицам с точки зрения самого элементарного здравого смысла, и они рушатся, словно карточный домик! Альфан поправил дрова в камине и, ядовито усмехнувшись, снова заговорил: – Да и только ли что?.. В храме, который вы осматривали, вам, несомненно, показывали «Капеллу тернового венца». Таня утвердительно кивнула головой. – Так вот, – продолжал Альфан, – эта капелла воздвигнута на том самом месте, где, по утверждению монахов, на голову Христа был возложен терновый венок. Но когда было «установлено», что это событие произошло именно здесь? Монахи отвечают: в 1384 году! Через четырнадцать веков после смерти Христа! Опять явная чепуха… Или еще: на крестном пути Христа вам, конечно, показывали свод и дом, в котором Пилат будто бы произнес слова: «Вот человек!» – Да-да! – вспомнила Таня. – Нам показывали… Это мрачный дом средневекового стиля… – Вот именно! Но знаете ли вы, когда было «установлено», что Пилат именно здесь сказал свои знаменитые слова? Монахи отвечают: в пятнадцатом веке! Через тысячу пятьсот лет после смерти Христа! Кто поверит в такую нелепость? Можно было бы привести еще десяток примеров подобного жульничества монахов, но стоит ли? – Разумеется, не стоит, – вмешался Петров. – Вы, мосье Альфан, вероятно, знаете, что мы, советские люди, давно не верим в подобные выдумки. Меня интересует другое: как и когда вообще сложился культ Иерусалима? – Охотно отвечу, – с готовностью откликнулся француз. – Но прежде позвольте сделать одно замечание… Обратили ли вы внимание на то, что «Храм гроба господня», который вы осматривали, является своего рода интернационалом церквей? – Интернационалом церквей? – с недоумением спросил Потапов. – Что вы имеете в виду? – Должно быть, вам не бросилось это в глаза, – продолжал Альфан. – Да-да, месье и мадам, я не шучу: весь этот храм расчерчен на кусочки и каждый кусочек принадлежит тому или иному вероисповеданию. Например, Капелла явления Христа, построенная на месте, где Христос будто бы явился своей матери, принадлежит католикам; Капелла святого Логгина – греко-православной церкви; Капелла разделения риз – армяно-григорианской церкви, и ей же принадлежит Капелла святой Елены, Малая капелла принадлежит коптам, и так далее. Да что капеллы! Нередко в одной и той же капелле различные предметы культа принадлежат различным церквам. Например, в Капелле ангела из шестнадцати светильников пять принадлежат грекам, пять – армянам, пять – католикам и один – коптам. Еще забавнее в Капелле гроба господня: здесь не только все светильники расписаны по разным вероисповеданиям, но даже отдельные украшения имеют разных хозяев. Мраморный барельеф, изображающий вознесение Христа, принадлежит грекам; картина, висящая с правой стороны, – армянам, а картина, висящая слева, – католикам! Могут, пожалуй, сказать: ну что ж, и хорошо, что все христианские исповедания объединяются здесь в общем почитании того, кого они считают своим богом. Но какое тут объединение! Редко можно встретить такую вражду и ненависть, какие царят в отношениях между различными исповеданиями именно здесь, на могиле Христа. Взаимные интриги, препирательства, подсиживания, обманы… Дело иногда доходит до резни… Ах, если бы вы знали, сколько крови пролилось в течение веков на мраморную плиту «гроба господня»! Вот как чтят церкви память того, кто, по их же словам, был воплощением любви и мира! Альфан брезгливо поморщился и, точно желая поскорее забыть о преступлениях церковников, воскликнул: – Но довольно об этом!.. Вы, месье Петров, спрашивали меня, как сложился культ Иерусалима? Извольте, я расскажу. Началось это в четвертом веке нашей эры. Римская империя в то время находилась в состоянии полного разложения, она распадалась на части, каждая из которых провозглашала и низвергала различных императоров. Шла бесконечная борьба за власть между многочисленными претендентами. В 306 году умер император Констанций Хлор. Римский престол наследовал его сын – Константин, впоследствии прозванный «великим». У Константина имелись соперники; двадцать лет он вел войну за власть, пролил море крови и в 325 году, наконец, стал единодержавным монархом. Почему он победил? Конечно, известную роль тут сыграли личные таланты Константина, но главное все-таки было не в этом. Главное было в христианах! Константин очень скоро заметил, что в тогдашней Римской империи есть только одна сила, которая способна служить цементом, связывающим воедино разрозненные части империи, – христианство. И он решил опереться на христиан. В 313 году Константин издал свой знаменитый эдикт о веротерпимости и в течение последующих лет резко улучшил положение христиан в подвластных ему владениях. Это имело очень большое значение. Легенда говорит, будто накануне решающей битвы со своим главным соперником – Мавксенцием – Константин во сне увидел огненный крест, и голос свыше сказал ему: «Сим победишь!» Проснувшись, Константин приказал нарисовать на своих знаменах крест. Это так вдохновило христиан – в войсках Константина их было очень много, – что в тот же день Мавксенций был наголову разбит. Весьма вероятно, что сам Константин выдумал эту столь выгодную ему легенду, но она хорошо отражает действительное положение вещей: именно покровительство христианству принесло Константину торжество. Ловкий маневр, не правда ли? Альфан потер руки от удовольствия, точно он сам был если не Константином, то его главным советником, и затем продолжал: – Константину нужно было укрепить завоеванную власть и как-то объединить расползавшиеся части империи. И для этого он опять-таки решил использовать христианство. Перенеся столицу из Рима в Византию, он основал Константинополь и возложил свои главные надежды на восточную половину империи, где христиане были особенно сильны. Надо было придать этой части блеск и ореол, создать в ней какой-то притягательный для христианства центр. Ведь христиане, так хорошо послужившие ему в прошлом, могли послужить и в будущем! И вот умный император решает «открыть» Иерусалим! В том же, 325 году он отправляет туда свою престарелую мать Елену, снабдив ее надлежащими инструкциями. В результате Елена «находит» там, где нужно, крест, гвозди и прочие атрибуты «страстей господних». Затем Константин строит в Иерусалиме храм – родоначальник того храма, который вы видели вчера. Это и было началом культа Иерусалима… Альфан сердито переворошил угли в камине и, отложив щипцы, продолжал. – У Константина была еще одна причина, уже более личного свойства, для того чтобы послать свою мать в Иерусалим. Видите ли, то немногое, что сохранилось о ней в истории, заставляет думать, что «святая равноапостольная Елена» в реальной жизни была… ну, скажем так: легкомысленной женщиной, веселой Магдалиной. Известно, что она была дочерью трактирщика. Известно, что до двадцати восьми лет она не выходила замуж, а в двадцать восемь лет родила сына Константина, будущего императора, от римского военачальника Констанция Хлора, тоже будущего императора. Известно далее, что в 293 году нашей эры Констанций Хлор, усыновленный императором Максимианом, разошелся с Еленой, как с женщиной «низкого происхождения», и женился на падчерице императора. Однако сын Елены, Константин, остался верен матери, и, когда в 306 году, после смерти Констанция Хлора, он был провозглашен императором, ей стали воздаваться большие почести: она была возведена в сан «августы», ее изображение чеканилось на монетах. – Недурная карьера: от кабацкой девицы до императрицы! – засмеялся Степан. – Да, это была особа с карьерой… и с изюминкой, – усмехнулся Альфан. – Однако «низкое происхождение» и прошлая жизнь грузом давили на ее имя, а в известной мере и на имя Константина. Надо было стереть память об этом. Но как? Есть французская пословица: «Когда черт состарится, он идет в монахи». Вот то же самое случилось и с Еленой. На склоне лет, при поддержке сына, а вероятно, и по его подсказке, Елена приняла христианство и ушла в монастырь. Первый покров забвения был наброшен на прошлое веселой Магдалины. А когда в 325 году Константину понадобилось проделать свой иерусалимский маневр, он отправил свою мать в Палестину. Там она успешно выполнила задание сына и получила за это соответствующую награду: после смерти была причислена к лику святых. По тем временам это… это… Альфан несколько раз щелкнул пальцами, не находя подходящего слова, и, наконец, расхохотавшись, сказал: – Это было равносильно… ну, хотя бы возведению в сан герцогини, если перевести на понятия девятнадцатого века. Тем самым на прошлое Елены был наброшен еще один покров забвения. Церковный покров… Петров рассмеялся: – Небесная герцогиня! – Вот именно! – весело подхватил Альфан. Потом он сразу как-то посерьезнел и уже совсем другим тоном заключил: – Так начался культ Иерусалима. И вот уже свыше шестнадцати веков ядовитый туман лжи окутывает древний город. Эта ложь оказалась очень выгодной мирским и духовным владыкам. Шестнадцатого ноября утром Люсиль проснулась в слезах. Быстро перебежав через комнату, она шмыгнула под одеяло к Тане, с которой спала в одном номере. – Что с тобой, Люсиль? Почему ты плачешь? – Я видела сон… – Какой сон? – спросила Таня. – Я видела во сне папу и маму, – продолжала всхлипывать Люсиль. – Мама тянулась ко мне, звала… А я… я хотела к ней побежать и не м-могла. Н-ноги не двигались… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|||||||