 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Кларк Артур Чарльз :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Омен. Последняя битва. |
Перекресток: путешествие среди армянModernLib.Net / Приключения / Марсден Филип / Перекресток: путешествие среди армян - Чтение (стр. 13)
— В Турции уже построили два моста через Босфор. А здесь только эта развалина. И рыбы не стало — вся рыба сдохла! Отравили! Вот что значит Советский Союз! На пароме моряк познакомил меня с доктором, который ехал в Новороссийск. Он был знаком с кем-то из работников гостиницы. Мы приехали в город в сумерках, и мне без лишних вопросов дали комнату. — Будьте в порту завтра в пять утра, — сказал доктор. — Может быть, вам повезет — иногда бывает рейс в Сочи, хотя обычно его нет. В тот вечер в ресторане гостиницы, где труппа русских танцовщиц давала представление для партийных боссов, вдруг стали раскачиваться и звенеть люстры. В ту же ночь в Грузии произошло сильное землетрясение. На фоне этого, войны в Осетии, забастовок и перебоев с топливом русские в гостинице потеряли всякую надежду выяснить, что вообще происходит: в Грузии было слишком неспокойно — слишком много борьбы, слишком много проблем. Задолго до полуночи я вышел из столовой и поднялся лифтом на пятый этаж, где находилась моя комната. Меня заинтересовали апартаменты гостиницы. Мне хотелось узнать, как они отделаны, за счет чего достигалась эта чрезмерная роскошь. Такая расточительность требовала особого таланта. Очевидно, здесь не останавливались ни перед какими тратами: лучшая мраморная облицовка, лучшие бронзовые светильники, лучшая мебель с Украины, лучшие ковровые покрытия из Казахстана, украшавшие лестничную клетку… Это был дворец плановой экономики, безликий храм государства. Я упаковал вещи, готовясь к раннему старту: надо было попытаться уехать пятичасовым рейсом. Я вышел и постоял на балконе, глядя на корабли, стоявшие на рейде в подковообразном заливе. Над ними тянулись темные линии Кавказского хребта. Ночь была ясная. По Би-Би-Си сквозь треск помех прорывались новости о землетрясении: двадцать погибших, множество разрушенных деревень… Что преследовало меня? Откуда это странное чувство разлада, сопровождавшее меня все путешествие в Армению и становившееся тем сильнее, чем ближе я к ней подъезжал? Я проспал уже часа два, когда раздался стук в дверь. Я не обратил на него внимания. — Милиция, милиция! Англичанин, откройте! Черт побери! Я скатился с постели, сразу же представив себе вопросы и неприятности, отправку самолетом в Москву и Бог знает какие еще наказания. Больше всего я боялся, что от меня ускользнет возможность, к которой я теперь приблизился вплотную, — возможность совершить последний бросок — через Грузию в Армению. — Милиция и милиция! — Иду! За дверью стоял мужчина в коричневом костюме. У него были глубокие проницательные глаза. Поверх коричневого костюма — черная кожанка в стиле КГБ. Одна из танцовщиц цеплялась за его руку. Лениво усмехаясь, он помахал бутылкой водки. — Давай выпьем. Выпей с девушкой и милиционером! Когда он сказал мне, что он армянин, я почему-то не удивился. Рано утром на следующий день я отправился вдоль залива к порту. Солнце еще не вышло из-за гор. В неподвижном воздухе разносились запахи весны: цветов, почек, сосновой смолы и свежеокрашенных памятников советской эпохи, обновленных к празднику Первого мая. Рейс на Сочи должен был состояться, но судно шло только до Туапсе. В Туапсе я сошел лишь затем, чтобы узнать, что судно пойдет-таки в Сочи, но мест нет. Толпа, собравшаяся у сходней, устремилась на борт. Некоторое время я смотрел на нее, размышляя, как же мне все-таки покинуть берег. Другого пути, кроме этого судна, не было. Я вынул пятидолларовую банкноту и вновь поднялся на сходни. — Да, — кивнул матрос и протянул руку за купюрой, но ветер выхватил ее и неожиданно понес, переворачивая и крутя, по палубе, на мгновение прислонив к столбу, прежде чем унести совсем. Затем она соскользнула вниз и оказалась в воде. Взгляды всех собравшихся последовали за бумажкой, вздрагивавшей на поверхности воды, и я почувствовал внезапный стыд за свое собственное неловкое богатство: здесь, В гавани, плавало их двухмесячное жалованье. Я испытал облегчение, когда купюра исчезла между бревнами пристани. Путешествие в Сочи было скрашено водкой, чаем и игрой в нарды с командой. «Русский сервис», — поясняли они, отвечая на жалобы пассажиров. В Сочи выяснилось, что судно пойдет дальше. — В Сухуми? — спросил я. — В Сухуми проблема. — Какая проблема? — Война. — В Поти? — В Поти проблема. Землетрясение. Идем в Батуми. Итак, мы минуем это беспокойное побережье единым прыжком. А я-то предполагал, что на это придется потратить несколько дней. Весь день Черное море испускало какое-то серо-голубое сияние. Серебристые волны подпрыгивали, бились о берег и расстилались у берегов Кавказа: Ни малейших признаков паники или беспорядка не было заметно ни на поросших лесами склонах побережья, ни среди гордого пантеона покрытых вечными снегами вершин. Вечером, удобно расположившись на верхней палубе и вытянув ноги, я услышал, что супружеская пара говорит по-армянски, и обратился к ним. Оба повернули ко мне бронзовые лица, рассматривая меня с интересом. «Вы не говорите по-русски, но говорите по-армянски? Вы странный человек!» Минасьяны отдыхали несколько дней поблизости от Сочи. Они настаивали, чтобы я остановился у них на квартире в Батуми. Впрочем, долго настаивать им не пришлось. Я помог им поднять палатку по лестнице на девятый этаж к двери их квартиры, обитой кожзаменителем. Она распахнулась, обнаружив толпу детей. У Минасьянов было десять детей. Детей было так много, что у старших уже были свои дети, родившиеся раньше, чем их дяди и тети. Они выскочили из тесных комнат, заключив нас в массовое объятие, прыгая, визжа и болтая наперебой, показывая место на потолке, которое прогнулось и треснуло прошлой ночью во время землетрясения. Наутро в доме было тихо. Я шепотом попрощался и на цыпочках прошел к двери. Десять пар обуви выстроились в коридоре в порядке возрастания размера. У меня было немного одесского шоколада, и я оставил его двоим самым младшим детям. А двоим самым старшим я оставил блок американских сигарет. Я тихо закрыл за собой дверь и зашнуровал ботинки на лестнице. В то утро, бродя по пыльным улицам Батуми, я впервые почувствовал, что Армения досягаема. Советская власть не распространялась на Кавказ, следовательно, я мог не тревожиться о своих документах. В порту мне объяснили, как пройти к железной дороге, и я вошел в здание вокзала с чувством облегчения. Но поездов не было. Единственный путь в Ереван лежал через Тбилиси, а все поезда в Грузии остановились вследствие забастовки. На автобусной станции я нашел автобус, но стоило ему выехать из города, как он сломался. Несколько часов я просидел на обочине дороги, ожидая замены автобуса и наблюдая, как остальные пассажиры разыгрывают пародию на воинственных кавказцев. Азербайджанцы расселись на своем багаже, споря друг с другом, затем они попытались восстановить водителя-абхазца против армянина, жена которого упрашивала кондуктора-лезгина, стоявшего с каменным лицом, найти для нее и мужа место в автобусе. А автобуса все еще не было. Лезгин смотрел на армянина, армянин — на азербайджанцев. В стороне хмуро стоял подтянутый русский полковник, всем своим видом показывая, что без этих надоедливых людей Родина стала бы значительно лучше. Следующий автобус вывез нас из лесистых районов Черноморского побережья Грузии в страну горных долин и стремительных потоков. Затем сломался и он. Ко времени нашего прибытия Тбилиси был погружен в зловещую темноту, напоминающую затемнение во время войны. Я нашел комнату в армянском квартале, но надо было раздобыть еду. По темным улицам, гонимый ветром, носился мусор. Большая крыса сбежала по эскалатору метро. Улицы были пустынны. Мои надежды утолить голод, похоже, были тщетны, ввиду траура по жертвам землетрясения все вокруг было закрыто. Но, к счастью, ресторан гостиницы «Тбилиси» был открыт, и там, вылавливая вилкой кубики шашлыка, окаймлявшие большую тарелку с рисом, ужинал киевский корреспондент лондонской «Таймс». У его локтя стояла бутылка грузинского вина, и он был недоволен отсутствием в Тбилиси лишь двух вещей: зубной пасты и вертолета, который мог бы перенести его в зону землетрясения. Следующее утро было прохладным и серым. Тяжелые облака все еще нависали над горами вокруг Тбилиси, но в районе вокзала я обнаружил первые признаки Армении. Цепочка армянских такси с открытыми дверями ожидала пассажиров. От таксистов веяло свежим духом предпринимательства, а на дверцах и стеклах их машин были прикреплены наклейки с видами Арарата, Эчмиадзина и озера Севан. В одном из таких такси собралось четверо: обвешанный золотыми цепочками армянский фарцовщик в блестящей черной рубашке, армянская пара из Бухары (голубые глаза на их обветренных в пустыне лицах сияли, словно сапфиры) и девушка-литовка, которая, как выяснилось, была с фарцовщиком. В это время Армения была в блокаде. В течение трех лет азербайджанцы блокировали все пути на восток, включая газопровод и главную железную дорогу. Дорога через Грузию не действовала вследствие забастовок, а вдоль турецкой или иранской границы не было никаких коммуникаций. Только аэропорт и две узкие, побитые морозами и землетрясением дороги соединяли Армению с остальным миром. Одна из этих дорог вилась перед нами через лес, озаренный ярким утренним светом. Листья буков вздрагивали и трепетали на тонких ветках. При мысли об Армении у меня резко улучшилось настроение. Я глянул на своих спутников, ожидая увидеть, что они чувствуют то же самое. Фарцовщик спал, его подруга выглядела хмурой. Только у армян из Бухары можно было заметить признаки оживления, и, когда, еще в Грузии, мы остановились у источника, чтобы умыться, они, словно золотоискатели, вглядывались в воду в своих сложенных ковшиком ладонях. День плавно переходил в вечер, когда деревья на вершинах, плавно окаймлявших длинную долину, поредели. Вдоль дороги тянулась вереница деревянных домиков. В их тени прятались последние кристаллики инея. За домиками цвели яблони. Козы щипали свежую траву, а в овчарнях блеяли ягнята. На этой узкой полосе зима, казалось, быстро отступала, словно старая гвардия коммунизма, а весна, казалось, наступила за один день. На перевале находилась каменная будка погранпоста и два солдата. Один из них сидел, откинувшись, на стуле. Его гимнастерка была расстегнута, грудь подставлена солнцу, глаза закрыты. На его коленях лежал автомат. Второй вразвалку вышел из будки и зевнул. При виде такси он медленно помахал рукой и дернул за веревку, поднимая деревянный шлагбаум на пути в Армению. Шесть месяцев пути через двадцать стран пришлось мне пройти, чтобы оказаться здесь, у этой высокогорной границы с сонными пограничниками, у рубежа маленького государства Армения с его голыми холмами. Это было все, что уцелело от древней страны, от старинного золота Армении. Оставшаяся за моей спиной диаспора была лишь осколком этого золота. Поверхность земли, расстилавшейся за шлагбаумом, казалось, выровнялась. Опрокинутые чаши далеких вершин нависали над линией горизонта. Все выглядело слишком маленьким на этой высокой равнине: города — словно отары овец, отары овец — словно камни, а камней, которыми славится Армения, отсюда вообще не было видно.  Стела десятого века, монастырь в Одзуне. III Армения «Ты видишь эту сонную вершину? Вон там? Выше. Ты знаешь, что это?» — «Нет», — сонно ответил другой. «Это — Арарат». Прими меня с нежностью и мудростью, о моя новая страна. Я иду пропеть свою песню под твоим октябрьским флагом. 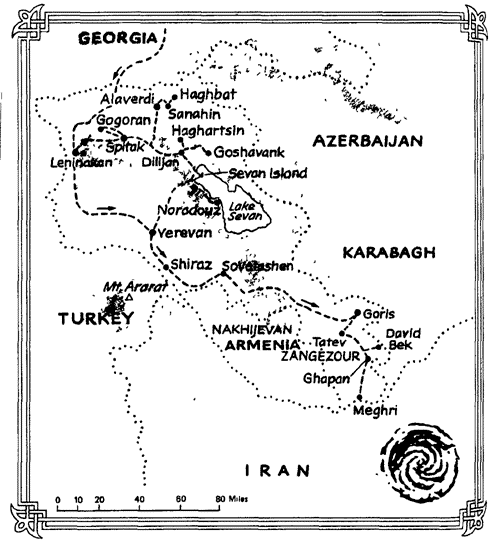  Позади одного из мрачных многоэтажных домов Еревана, в которых люди, должно быть, чувствовали себя не дома, а в консервной банке, тянулась безымянная полоска пустыря к другому, столь же угрюмому блочному дому. Посреди этой пустынной полоски приютился маленький деревянный домик сапожника. Впервые я обратил внимание на наметившуюся дырку где-то в Трансильвании. Однажды вечером, расшнуровав ботинок, я увидел на его внутренней стороне разрыв примерно в два дюйма. Меня мгновенно охватил немой ужас, похожий на первый приступ лихорадки. У меня не было другой пары на смену, и день за днем в течение долгих месяцев я натягивал эти ботинки как самую большую ценность в моем гардеробе. День за днем я наблюдал, как дыра увеличивается. Она росла в обоих направлениях: вперед — к мыску, и назад — к пятке. Я пытался найти сапожника, чтобы починить ботинок, но все лишь пожимали плечами, отделываясь междометиями «Ну!» и «Нет!». К тому времени, когда я приехал на Украину, трещина перестала расползаться, и я почувствовал, что смогу добраться до Армении. Я не сомневался, что в Армении обязательно смогу починить свой ботинок. Лучи позднего солнца проникали в домик сапожника и ложились на его передник неровными лоскутами. Сапожник носил очки со стеклами в форме полумесяца и работал быстро, то наклоняясь, то распрямляясь над кожаной подметкой с неровной поверхностью. Напротив него на потрепанном автомобильном заднем сиденье расположился чванливый тип. Одна его нога в носке стояла на картонной коробке. Я снял ботинок и вручил его сапожнику. Он нащупал дыру, потянул ее вправо и влево, затем поскреб заросший щетиной подбородок и пожал плечами. За моей спиной послышалось неясное бормотание о русских. Сапожник тут же протянул мне ботинок. Я повернулся к высокомерному типу и сказал ему по-армянски, что я не русский. — Поляк? — Британец. — Извините, я подумал, что вы русский. Сапожник вновь принялся чинить мой ботинок. Мрачный тип подвинулся, дав мне усесться рядом с ним на автомобильном сиденье, и достал бутылку водки. — Давно здесь, в Армении? — Нет, я только что приехал. — Ах, из Лондона! — Да. — Какая погода в Лондоне? Дождь, наверное. — Я ехал окольным путем. — Окольным? Как это? — Через Грузию, Россию, Украину, Молдавию, Румынию. — Румыния? Это далеко! Мой ботинок уже был натянут на колодку. Сапожник захватил край разрыва плоскогубцами и стал выворачивать его. Я моргнул и отвернулся. К стенам домика была приколота невероятная мешанина зрительных образов: репродукция картины крымского армянина Айвазовского, изображающей бурю на море, скульптурный портрет поэта Паруйра Севака, календарь с фотографией Его Святейшества Католикоса. — Вы мне не верите? Я ученый, я видел место, где они готовят эти специальные бомбы. Они закладывают эти бомбы в геологические разломы и устраивают землетрясения где хотят. — Давайте выпьем еще водки. Подошва моего ботинка теперь отставала от пятки, словно лоскут оторванной кожи: сапожник продергивал иглу через кожаный верх. В дверном проеме замаячила женщина, державшая в руке вечернюю туфлю со сломанным каблуком. — Заходите! Заходите! — настойчиво произнес ученый. Мы потеснились, и она примостилась на сиденье, закинув ногу в чулке на другую, обутую. Вскоре мы заговорили о дефиците мяса, об азербайджанской блокаде, а затем, вполне естественно, о Вардане и персидских войнах пятого века и об арабском нашествии седьмого века. И о генерале Андранике, герое армянского Сопротивления, который возглавил партизанские отряды в борьбе против турок и был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Мы говорили об армянских поэтах, и мои собеседники читали наизусть Севака, Сиаманто и Чаренца. Мы выпили еще водки, и ученый угостил меня еще несколькими невероятными историями: он работал на ядерном реакторе. У Армении была своя бомба. Туринская плащаница принадлежала армянину. На мгновение воцарилась тишина. Солнечный свет половиком улегся на пыльном полу и мелкой рябью — на задней стене. Сапожник постукивал молотком, и у меня невольно возникало ощущение, словно Армения то попадает в фокус, то выскальзывает из него. Женщина вздохнула: — Они еще там, возле Оперы. — Много? — спросил ученый. — Очень много. — Я видел их. — Ученый повернулся ко мне. — Вы видели их сегодня возле Оперы? — Да, видел. Траурный кортеж черных «Волг» спускался с гор. Движение на ереванских улицах замерло, и машины медленно подъехали к зданию оперного театра в центре Еревана. Семь гробов, семь фидаинов. Местный журналист рассказал мне эту историю. Советское командование пыталось депортировать армян. Ответом было упорное сопротивление местных сил фидаинов, которые поднялись на их защиту. Население одной из деревень оказалось особенно непокорным, и советский командир дал команду прекратить огонь. Он лично отправился на переговоры с армянами. Семь фидаинов во главе со своим командиром вышли навстречу. На всякий случай каждый из них держал в руке ручную гранату. Соглашение о перемирии было достигнуто, и полковник направился к линии своих войск. Но, не дойдя до нее, он внезапно бросился на землю и приказал своим солдатам открыть огонь… Лишь одного из фидаинов смогли положить в открытый гроб. Я стоял на ступенях оперного театра и смотрел, как их гробы проплывают над головами толпы. Здесь собрались десять, пятнадцать, двадцать тысяч армян. Они были безмолвны, и каждый поднимал над головой сжатую в кулак руку. На ступенях позади меня стояла охрана из полудюжины фидаинов. Они казались людьми из легенды: серо-голубые глаза, светло-коричневый оттенок кожи и поросль черных волос на головах и подбородках. Пулеметные ленты крест-накрест перечеркивали грудь каждого, и готовый к бою ствол автомата вздымался, словно третья рука. На их черной форменной одежде было изображение генерала Андраника.  Похороны фидаина, Ереван. Но одна из женщин затмила собой их почти потустороннее присутствие. Она шагнула к одному из гробов, не сводя взгляда с его наклонной крышки. В гробу покоились останки ее мужа. Она обняла гроб и откинула назад голову. Я ожидал услышать рыдание, но вместо этого женщина только сжала губы и стиснула кулаки. Все, что говорилось об Арарате, было правдой: все штампы, которые раньше вызывали у меня улыбку, оказались истиной. Пару дней я пытался сопротивляться Арарату. Но я видел контуры горы повсюду — они маячили в конце кварталов, заполняя свободное пространство неба между домами сталинской застройки. Я наблюдал те же самые очертания более рельефно на фоне оранжевого заката. Однако в самом величии горы сквозило нечто навязчивое и амбициозное, и потому я перенес свое восхищение на ее более скромного, но более совершенного по очертаниям соседа, на конус Малого Арарата. Но однажды ранним утром, стоя на ступенях Матенадарана над Ереваном, я впервые увидел гору во всем ее блеске. Она была великолепна. Она возвышалась над копошащимся городским муравейником. Она возвышалась над банальными, стертыми картинками диаспоры. Она предстала неправдоподобно, неестественно высокой. Хотя я находился в сорока милях от нее, меня не покидало ощущение, что достаточно сделать один шаг — и можно будет свободно бродить по ее покрытым складками склонам. В свете раннего утра снежная вершина сияла, словно корона. Я больше не мог игнорировать ее присутствие. Не прошло и недели — и она полностью овладела мною, заставив украдкой оглядываться на нее, искать ее взглядом в конце улиц, выходящих на запад, и печалиться, когда ее очертания оказывались скрытыми от глаз. Подобно всем армянам, я тоже теперь испытывал страсть к этой горе.  Гора Арарат. Второе место после любви к Арарату, к Масису, в душе армян занимает страсть к родному языку. «Это народ, — писал Мандельштам, — который любуется ключами от родного языка, даже когда не собирается отворить ими дверь сокровищницы». Матенадаран — алтарь этого культа. Расположенный на верхних склонах Еревана, откуда полностью виден Арарат, он служит хранилищем десяти тысяч манускриптов и сотен тысяч исторических документов. У входа восседает Месроп Маштоц, человек, который изобрел полк букв с тридцатью шестью воинами. Трудно переоценить значение алфавита Месропа. Армяне и их алфавит неотделимы друг от друга — один не мог бы существовать без другого. Об этом единстве сложены легенды. Из 1915 года дошел до нас рассказ о женщинах, перед смертью выводивших на песке Дейр-эз-Зора буквы армянского алфавита с тем, чтобы дети не забыли их начертания. Поврежденные манускрипты армянского средневековья хоронили, словно рыцарей, со всеми подобающими почестями. Книга проповедей из Муша — огромная рукопись тринадцатого столетия, состоявшая из шестисот телячьих кож, была вывезена из Турции в 1915 году двумя женщинами, бежавшими из плена, причем она оказалась для них слишком тяжелой, так что им пришлось разделить ее на две части. Говорят, что на заре советской эпохи большевики обратились к известному филологу. Они хотели, чтобы он переработал алфавит и тем самым ускорил ассимиляцию армян. Он отказался. Они связали его и жгли ему лицо сигаретами, но он стоял на своем. Тогда они обратились к другому филологу и стали пытать и его. В конце концов этот человек сдался. Спустя годы он заболел и утратил дар речи. Он написал первому филологу, прося приехать. Явившись, тот застал своего старого коллегу при смерти. Ему вручили записку. «Пожалуйста, — умолял больной, — прости меня…» — Я прощаю тебя, — сказал первый филолог. — Но это ничего не значит. Скоро ты будешь в мире ином. Что ты скажешь, когда встретишься лицом к лицу со святым Месропом? Французский филолог Антуан Милле восторгался алфавитом Месропа, называя его шедевром, а Маргарет Мид предложила выбрать армянский в качестве языка международного общения, считая его самым подходящим на эту роль из всех языков мира. За Матенадараном, в толще горы, проложен туннель, который ведет к бункеру, предназначенному для защиты от ядерного поражения. Вся библиотека может быть перенесена сюда в считанные часы, и этот факт служит лишним горьким напоминанием о том, что Слово переживет людей. Здесь ли сердце Армении? Возможно, что здесь. Если армянский язык — кровь, гонимая толчками этого сердца до отдаленных уголков диаспоры, тогда в самом деле сердцем должен быть Матенадаран. А может быть, сердце Армении — Арарат? Неприкосновенный Арарат. Арарат, украденный турками. Арарат, к которому демон Язатас приковал Артамазда. Но Артамазд однажды освободится от оков и спасет Армению… Или сердцем является Эчмиадзин? «Свет Господний, сошедший на землю», престол Католикоса всех армян, величайшая святыня, куда каждый приезжающий армянин заходит, чтобы зажечь свечу, место, где освящается миро для крещения каждого армянского ребенка. Именно здесь расколотое самосознание армянской нации соединяется со своим символом, Армянским Христианством. Ни разу за советские годы Католикос и его вартапеты не отказались от Евхаристии, так же как и в предыдущие шестнадцать столетий. Под сводами центральной апсиды расположен позолоченный купол, несколько ниже — сонм святых, а еще ниже — бархатный покров алтаря. Это незыблемая и неизменная святыня для разбросанных по всему свету армян, их Кааба. Но в глубине земли, под алтарем, древнее, чем все то, что находится сверху, древнее абсолютного большинства мест поклонения в мире, здесь, в самом центре Армении, был когда-то расположен храм огня. Сердце Армении — христианское, но ядро его — стихийное, языческое, и оно сохранилось. В Ереване было жарко. Я пытался настигнуть весну на побережье Черного моря, а она уже была здесь, наполняя воздух теплом и белизной проплывающего тополиного пуха. Я обосновался в принадлежавшей молодой семье квартире со сводчатой дверью и несколькими врезными замками. Снаружи были цементные ступени и облупившаяся краска, внутри — бесценная коллекция живописи, русских икон, солнечных российских пейзажей и бронзовых будд из Сухотаи. Не столько сам Ереван, сколько ощущение того, что я наконец добрался до цели, привело меня после приезда в состояние оцепенения и покоя. Впервые за долгие недели я выспался. Я получил возможность спокойно оглядеться. Мне не надо было беспокоиться о документах и границах: я был среди друзей. Так продолжалось около трех дней. Затем передо мною вновь встали вопросы, послужившие причиной моего путешествия. Разумеется, я надеялся, что сама Армения, скорее то, что от нее осталось, поможет мне понять проблемы диаспоры и причины ее выживаемости. Но Ереван предстал передо мной скорее советским, чем армянским городом. Его стилизованные площади и муниципальные здания — далее его автобусные остановки — преобразили традиционные мотивы армянской архитектуры в странную и вместе с тем безликую смесь. Я подготовился к отъезду из Еревана. Один из моих знакомых, воспользовавшись старыми партийными связями, обеспечил мне возможность пожить в коттедже в лесу возле Дилижана. В последний перед отъездом день в Ереване я поднялся к памятнику жертвам резни 1915 года. Мощеная дорога к нему была необычайно мрачной. Два сооружения, подобные копью и щиту, вставали из земли: стройный обелиск и ряд наклоненных внутрь бетонных блоков. Вечный огонь горел под этими плитами. Вокруг него целый ряд высоких, по пояс, увядающих гвоздик: они были принесены скорбящими двадцать четвертого апреля, в отмечаемую ежегодно траурную дату. Из трех частей монумента: пламени, плит и обелиска, две из них, две последние и наиболее заметные, символизируют землю и ее утрату. Двенадцать бетонных плит обозначают двенадцать утраченных областей Западной Армении, в то время как обелиск разделен длинной тонкой линией на две части, что символизирует разделение Западной и Восточной Армении. Для меня это служило подтверждением истины, скрытой за фактом резни: потеря земли была столь же глубокой раной, как и утрата жизни. Этот факт преследовал судьбы всех изгнанников, с которыми я беседовал в диаспоре. Он стоял за каждой историей, которую они мне рассказывали. Это не уменьшало ужасов резни, скорее придавало им дополнительную глубину, позволяя увидеть корни всего происшедшего и как бы приблизить его, сделать почти осязаемым. Из всех бывших советских республик Армения стала первой, осуществившей земельную реформу. Села теперь перестали быть придатками государственной машины. Мысль об армянских селах вызвала у меня желание стряхнуть с себя впечатления от продолжительного пребывания в городских домах диаспоры. Я пешком пересек Ереван и сел в автобус на Дилижан. Он писал, что каждое живое существо обречено на гибель, и семена жизни восстают из смерти: мир продолжает существовать как результат этого противоречия.  Я уезжаю из Еревана и его знойного марева. Лишь Арарат возвышается над городом. Гора парит и вздымается, словно изображение на огромном экране; от нее исходит какая-то властная сила. Полдень стремителен и ярок. Высокие склоненные коконы тополей обрамляют дорогу из Еревана. На плато автобус проезжает мимо заброшенных теплиц бывших совхозов, мимо запутанной сети тросов и опор, мимо нелепых скульптур, неуклюжих памятников и автобусных остановок в форме рыбы. Озеро Севан гладкое, словно зеркало. На его поверхности дрожат и извиваются вершины и хребты гор. Женщина поднимается в автобус. Из ее набитой форелью сумки сочится кровь. Жаркое горное солнце раскаляет автобус, словно жестянку. Густые леса покрывают склоны гор до самого подернутого дымкой горизонта. Дорога делает несколько немыслимых петель, и вдруг внизу появляется опрокинутая бетономешалка. В стороне от шоссе в лес уходит дорога, которая, петляя, вьется вплоть до самых коттеджей Дома творчества композиторов, любопытного обветшалого наследия эпохи коммунизма. Большую часть недели в Доме творчества я провел в ничегонеделании. С каждым днем лес становился зеленее и трава на лугах выше. Я разложил на дубовом столе в своем коттедже все свои наброски и записи и полностью погрузился в медленный, размеренный ритм жизни этого места. За Домами творчества творческой интеллигенции, разбросанными в живописных уголках бывшего Советского Союза, стояло понятие «культуры» с его строго определенными местами и функциями в системе государства. Разместить композиторов здесь, в горах, где звучат птичьи трели и журчание ручьев, обеспечить их готовой едой в столовой, освободить их от утомительных повседневных забот — и пусть они создают прекрасную, трогающую сердца людей музыку. Дом творчества был частью разрушающейся системы партийной экономики, параллельной экономики, более или менее равномерно распределявшей блага и наказания. Но теперь вся эта система пришла в упадок. Некоторые из Домов творчества перешли в сферу теневой экономики мафии. В соседней долине находился Дом творчества кинематографистов, который теперь не имел ничего общего с кинематографией, но стал удобным пристанищем для ереванских бандитов, привозивших сюда проституток.  Остров на озере Севан: Дом творчества писателей и церковь. Дом творчества композиторов сохранил какой-то смысл своего первоначального предназначения. В моем коттедже, как и в других, по-прежнему стояло пианино, и во многих уголках поросшей лесом территории композиторы создавали и перерабатывали свои произведения. Однажды, устав от одиночества в своем коттедже, я присоединился к группе композиторов с семьями, которые решили отправиться в горы на пикник. Мы собрали немного еды: на кухне нам дали хлеба и сыра, у кого-то нашлись яблоки, у меня был большой пакет миндаля, купленный в городе. Стоял отличный весенний день. Мы лежали на траве и смотрели на лесистую долину, протянувшуюся в сторону Дилижана. Два или три облака плыли на фоне безбрежного голубого неба между вершинами гор, жуки сновали у верхушек деревьев. Дети собирали колокольчики, гонялись друг за другом и дрались, а я беседовал с обычно молчаливым, бородатым композитором Ашотом об особенностях армянской музыки. Большая часть традиционной музыки, объяснил он, основывалась не столько на мелодии, сколько на том, что он называл «тоническим домом» — на мотиве или последовательности нот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|||||||