 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Нортон Андрэ :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Борхес Хорхе Луис :: Лондон Джек :: Грин Александр :: Картленд Барбара Популярные книги:: Час Орды :: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: Парк-авеню 79 :: Секта тридцати :: Свободные навсегда :: Зовите меня Джо :: Рассказ о семи повешенных :: Шотландский блокнот :: Терминатор III |
Тайный посол (№3) - Чёрный всадникModernLib.Net / Исторические приключения / Малик Владимир Кириллович / Чёрный всадник - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Владимир Кириллович Малик Чёрный всадник ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  НАБЕГ  В последний день декабря 1678 года Арсен Звенигора с Романом Воиновым и Ненко перебрались по льду на левый берег Днепра и вдоль Сулы устремились на север. Торопились — хотели встретить Новый год в Дубовой Балке среди своих. Пронизывающий холодный ветер зло сёк лица колючим снегом, слепил глаза, танцевал и кружился в вихре, как свора ведьм и чертей, застилая все вокруг густой белесой пеленой. Усталые голодные кони с трудом преодолевали снежный круговорот, с натугой взбирались на крутые холмы. А в долинах, в глубоких оврагах окунались по грудь в пушистые сугробы, как в свежее пенистое молоко. Всадники тоже устали и ехали молча. Арсен прокладывал путь, пристально вглядываясь в неясные очертания холмов и в едва заметные в снежной мгле рощи, чтобы не сбиться с дороги. Собственно, никакой дороги не было — пробирались напрямик, но эти места казаку были хорошо знакомы, так как не раз проезжал он здесь. Его товарищи полностью полагались на своего провожатого — надвинули башлыки до самых глаз, низко наклонили головы к гривам лошадей и, казалось, дремали. А метель не утихала. Небо дрожало в неистовом гневе и, будто гигантская мельница, без устали непрерывно стряхивало, кидало, швыряло из-под невидимого жернова целые потоки ледяной Муки, которую сразу же подхватывал осатаневший ветер и мчал над притихшей землёй. Арсен плотнее запахнул полы кожуха и, сняв рукавицу, ладонью смел с бровей и ресниц жёсткий намёрзший снег. А мысленно был уже в Дубовой Балке, в низенькой, тёплой хатке. Представил, как в этот предновогодний вечер мать со Стешей и Златкой готовят праздничный ужин, а мужчины — дедушка Оноприй, Младен, Якуб, Спыхальский и Яцько, — управившись по хозяйству, сидят на лавках, за столом и возле лежанки[1], в которой весело гудит огонь, и поджидают щедровальщиков[2]. Щедрый вечер[3]! На этот раз ты будешь особенно радостным в доме старой Звенигорихи. Только бы успеть добраться до хутора! В воображении возникло лицо Златки. На её пухлых губах блуждает грустная улыбка, а в темно-синих глазах затаился невысказанный вопрос: «Арсен, когда же, милый, я дождусь тебя? Когда, наконец, ты повесишь на колышек в глухом углу хижины свою саблю-разлучницу, когда расседлаешь своего боевого коня и забудешь про нескончаемые пути-дороги, про кровавые битвы, про полные тревог и опасностей дни и ночи?..» Ему слышится её нежный грудной голос, в котором звучит дивная музыка чужих южных наречий… «Златка! Любимая! Мы с тобой теперь никогда больше не расстанемся, навсегда соединим наши судьбы! Я лечу к тебе, невеста моя, чужеземочка дорогая, чтобы с этих пор до конца нашей жизни быть вместе. Ты не будешь больше чувствовать себя среди этих широких степей отломанной ветвью. Златка! Мне так хочется видеть тебя счастливой, чтобы моя земля стала и для тебя родною и дорогой…» Мысли его были вдруг прерваны какими-то звуками, долетевшими из глубокого оврага. Арсен подождал, пока подъедут его товарищи. — Вы слышали? Кажись, где-то ржал конь! — А что тут — село или хутор? — спросил Роман. — В том-то и дело, что ни села, ни хутора… О, слышите?! До них донеслось едва различимое в завывании бури тревожно-болезненное ржание. — Должно, путники, — высказал предположение Роман. — И носит же в такую лихую пору!.. Кто бы это мог быть? Будем надеяться, не людоловы? — Сейчас узнаем, — ответил Арсен. Они спустились в овраг. Здесь было немного потише. Метель ревела где-то вверху, неслась над белой бесконечной равниной, а сюда врывались только отдельные вихри и выстилали между невидимыми холмами пушистое снеговое одеяло. К отчётливому ржанию коня теперь присоединился человеческий стон. Он слышался снизу, словно из-под снега или из глубокой ямы. Всадники спешились. Подошли ближе к тому месту, откуда раздавались эти звуки, и в полузанесенной снегом вымоине увидели вороного коня. Вздрагивая от холода, он с трудом поднимал мокрую голову и жалобно ржал, будто умолял о спасении. Под ним лежал его хозяин. Всей своей тяжестью конь придавил ему ногу, и человек, превозмогая боль, тихо постанывал. Арсен спрыгнул вниз. Конь потянулся к нему мягкими заиндевевшими ноздрями и попытался подняться. Его хозяин тоже зашевелился и открыл глаза. — Крепись, дружище! — произнёс Звенигора. — Сейчас мы тебе поможем!.. Втроём они приподняли коня, высвободили из стремени ногу незнакомца. Помогли ему встать и вылезти из вымоины. Это был высокий, крепкий на вид человек. Его статную фигуру плотно облегала суконная бекеша, подбитая лисьим мехом. Сабля на боку и два пистолета за поясом, дорогая смушковая шапка с малиновым верхом и добротные сапоги с посеребрёнными шпорами свидетельствовали о военных занятиях незнакомца и о том, что он — не сирый да убогий, а вполне зажиточный казак. Он отряхнул с себя снег, несколько раз согнул и разогнул правую ногу. Потом перенёс на неё вес всего тела. Нога была цела, не повреждена, но, видимо, болела или затекла, так как незнакомец долгонько, кривясь, притопывал ею. Наконец выпрямился перед своими спасителями и, тронув небольшие, но густые темно-русые усы, одарил всех приятной белозубой улыбкой, снял шапку, степенно поклонился. — Добрый день, люди добрые! Спасибо сердечное за то, что спасли! А то уже подумывал — пропаду! — И он крепко пожал всем руки. — Кого ж это бог послал мне на помощь? — Запорожцы. Звенигора, Роман Воинов да Ненко, — сдержанно ответил Арсен. — А ты кто? — Семён Гурко, абшитованный[4] казак Нежинского полка. — Почему абшитованный? Твой возраст не позволяет ещё оставить военную службу. — Возраст не позволяет, да обстоятельства заставили… Жену похоронил, дочку замуж отдал. Пожил некоторое время с молодожёнами, но вижу — лишний я в их новой семье. Потому и решил — ведь теперь я вольная птица! — махнуть в Запорожье. Понятно, не бока отлеживать да саламаху есть, а тоже нести войсковую службу… Да вон как вышло: чуть было голову не сложил в этой чёртовой карусели… Ещё раз благодарствую за спасение! — Судьбу свою благодари… Вот только как же ты теперь? Без коня в такую непогодь далеко не уйдёшь! Гурко молча развёл руками, будто говоря: «А что мне остаётся делать?» — Поедем с нами, — предложил Арсен. — Доберёмся до тёплого жилья, а там подумаем, как быть дальше… — Гм, легко сказать — поедем с нами… Пеший конному не товарищ! — возразил Гурко. — Это правда. Но мы тебя, друг, не оставим здесь погибать! Как-нибудь доберёмся вместе до Дубовой Балки. А там и коня для тебя раздобудем… Ну, нечего мешкать! Вечереет, а нам ещё добрых вёрст пятнадцать ехать! — Если так, то погодите малость, — сказал Гурко. — Я мигом! Он ловко спрыгнул в вымоину, наклонился над конём. Обеими руками обнял его голову, сбил с буйной вороной гривы снег. Конь коснулся руки хозяина дрожащими губами, жалобно заржал. — Прощай, мой Черныш, — глухо произнёс Гурко, вынимая из-за пояса пистолет. — Ты честно и преданно послужил мне… А я… Вот единственное, — он взвёл курок, — чем могу отблагодарить… Прости меня!.. Он приложил пистолет к уху коня и отвернулся, чтобы не видеть широко раскрытых чёрных глаз, из которых то ли слезы катились, то ли стекала талая вода. Раздался короткий выстрел. Конь встрепенулся и затих. И вьюга начала укрывать его лёгким белым саваном, из-под которого страшно и неестественно торчали сломанные, вывернутые вверх передние ноги. Гурко расстегнул на коне подпругу, снял седло и уздечку. Проворно и легко, будто ему было лет двадцать, а не сорок и будто не он полдня пролежал, коченея, в холодном снегу, выпрыгнул наверх, вскинул седло на плечо и сказал: — Ну вот, я готов! Если берете меня с собой, то постараюсь не отстать… — Э-э, человече, не больно-то ценишь ты нас, ежели думаешь, что мы позволим тебе идти пехтурой!.. — возмутился откровенный и честный Роман Воинов. — Вот, пожалуйста, мой серый! Приторачивай покрепче седло сзади и поезжай, а я малость пройдусь пешечком, а то ноги совсем затекли… А потом меня сменит Ненко, да и Арсен будет не прочь… Ежели помогать в беде, так гуртом! Неспроста же у вас говорят: гуртом и родного батьку колотить легче! Нежинский казак заразительно засмеялся: — Разрази меня гром, если вы не чудесные ребята! А? Ей-богу, стоило помёрзнуть в снегу, лишь бы встретиться с вами! Сразу видать, что настоящие запорожцы, а не какие-то бродяги. Арсен и Роман, переглянувшись, расхохотались. А Ненко, не совсем поняв, что сказал весёлый путник, которого только счастливый случай спас от смерти, с удивлением наблюдал эту сцену. — Угадал, батько! — сказал Арсен, вытирая рукавицей слезы на глазах. — Один из нас — бывший янычар, турок, то бишь отуреченный болгарин, — он показал на Ненко. — Другой, — кивнул на Романа, — донской казак… А третий, — ткнул рукавицей себя в грудь, — недоученный спудей[5]. Ну, а все вместе — самые настоящие запорожцы! — О! — вырвалось у нежинца, и он захохотал громче всех. Дружный хохот, к которому, догадавшись теперь, о чем шла речь, присоединился и Ненко, перекрыл завывание вьюги. Можно было подумать, что четверо этих людей сошлись не среди взбудораженного ураганным ветром дикого поля, а где-то в уютной тёплой корчме, за кувшином доброго пива, возле красивой и острой на язык шинкарки. Насмеявшись, они быстро собрались и нырнули в снежную муть. Арсен снова двигался впереди. За ним верхом — Ненко и Гурко. А Роман, ухватившись за уздечку, привязанную к седлу, поспешал сзади по прибитому копытами снегу. Буря не утихала. Когда путники выбрались из оврага, им показалось, что она разыгралась с новой силой и ещё быстрее мчалась по беспредельным просторам белой степи. За маленькими оконцами, которые мороз разрисовал причудливыми кружевами, глухо завывает ветер, кидает в стекла сыпучим снегом, гогочет в широкой, сплетённой из лозы трубе. А в хате натоплено, по-праздничному уютно. Перед иконами горит лампадка, под потолочной балкой на деревянной подставке — восковая свеча, в устье печи потрескивает желтоватым пламенем связка смолистой щепы. В красном углу стоит большой сноп ржи, перевязанный тугим перевяслом из лугового сена и украшенный густыми багряными гроздьями калины. На столе, застланном вышитой скатертью, в глазурованных мисках — кутья и узвар, вареники с творогом, сметана, пироги с маком, шулики[6], два кольца колбасы, которая так и поблёскивает поджаренными боками. А посередине, на широком деревянном подносе, — крутолобый белый каравай. Старая Звенигориха с девчатами — Стёхой и Златкой — суетятся возле печи и стола. Дед Оноприй пристраивает в красном углу, за снопом, горшочек с кутьёй и кувшинчик с узваром — домовикам, душам умерших, чтобы добрее и ласковей были к дому и ко всем, кто живёт в нем. Младен с Якубом молча сидят на лавке. Яцько подбрасывает в лежанку дрова, а Спыхальский, хотя и осунувшийся после ранения, но уже весёлый и оживлённый, потому что в последние дни почувствовал — мускулы наливаются новой силой, снуёт по хате и, потирая руки, заглядывает в миски, кувшины и бутылочки, которые все ставит и ставит на стол Звенигориха. Усы его шевелятся, как у кота, когда тот чувствует поживу, а голубые глаза радостно светятся: он заранее смакует обильный ужин! — То, паниматка, есть чудесный, вельми роскошный праздник — ваш щедрый, то бишь предновогодний, вечер! — философствует он, обращаясь к старой хозяйке. — Ни у какого другого народа не видал ничего лучшего!.. Какие блюда! Какие напитки! Ух! Аж дух захватывает, холера ясная! — Он сглотнул слюну и прищёлкнул языком. — А этот трогательный сноп ржи, что до сих пор пахнет — уй! уй! — чебрецом, свежей солнечной соломой и далёким-далёким летом! Эти жёсткие звенящие колосочки и кисло-сладкая красная калина меж ними!.. Как мило и остроумно! Накануне рождества и Нового года вносить сноп в хату, ставить на почётнейшем месте — в красном углу — и желать, чтобы Новый год был таким же щедрым и богатым для хозяев, как этот золотой сноп! — Он подмигнул Стёхе, которая как раз раскладывала на столе деревянные ложки. — Аминь на добром слове! — усмехнулся в седую бороду дед Оноприй. — Твоими б устами да мёд пить, пан Мартын! — За этим дело не станет! Был бы только мёд! Га-га-га! — захохотал Спыхальский и хлопнул ладонью Яцько, который, наклонившись, раздувал в лежанке жар. — Будет тебе, хлопец, тутай фукать! Ведь и у тебя небось, как и у меня, сосёт под ложечкой! Пойдём-ка во двор да пощедруем под окном паниматке, авось и к столу покличет! — Можно и к столу. Отчего ж? И даже без щедривки… — ответила мать Арсена. — Вот разве что ещё минутку подождём: может, какой гость прибудет! Все поняли, какого гостя ждёт она. Только не верилось, чтобы в этакую непогодь Арсен с Романом пустились в дорогу. Потому и промолчали. Звенигориха расценила это по-своему и сразу засуетилась: — Да нет, это я так… Какие уж гости в такой поздний час! Будем садиться к столу! Прошу, прошу… Чем богаты, тем и рады! Но Спыхальский возразил: — Э-э, нет, паниматка! Какой же щедрый вечер без щедривочки? А ну-ка, Яцько, Стёха, Златка! Пошли со мной — да споём! В это мгновение за окном послышался топот ног, загудели приглушённые мужские голоса. И тут же донеслось: Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кiльце ковбаски! — Ой, Арсен! — радостно вскрикнула мать и в изнеможении опустилась на скамью. — Это его любимая щедривка! Стеша метнулась в сени. Грохнул засов. Вместе с морозным воздухом, искристыми снежинками, что завихрились у порога, с шумом метели в хату вошли четыре белые фигуры. И кожухи, и шапки, и рукавицы, и даже лица вошедших так запорошило снегом, что среди них не было никакой возможности узнать Арсена. Все были похожи на сказочных дедов-морозов, которые нежданно-негаданно появились тут. Но вот они стянули с голов лохматые шапки, и три сильных голоса пропели: Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям — на здоров'я!.. Что здесь произошло! Ликованию не было конца! Все повскакивали с мест и бросились к прибывшим. — Арсен! — Роман! — Ненко! Весёлые восклицания, смех, щебетание девчат, льнувших к своим наречённым, слезы матери, объятия и поцелуи! Ненко не отпускали от себя Младен и Якуб. Для них его появление было такой неожиданностью, что они никак не могли опомниться. Златка отошла на минутку от Арсена и, тоже обняв брата, чмокнула его в холодную щеку. Только казак Гурко стоял у порога молча, словно боялся вспугнуть радость и счастье, которые так неожиданно заполнили и всколыхнули этот гостеприимный, тёплый дом. Когда первая волна чувств наконец улеглась, Арсен произнёс: — Дорогие мои, как видите, мы с Романом вернулись не одни. Вот это — Ненко, Златкин брат, сын Младена и большой друг Якуба! Ненко поклонился, пожимая дружески протянутые руки. Звенигориха — она уже знала историю его жизни — поцеловала Ненко в голову. — О Езус, Мария!.. — воскликнул Спыхальский. — Арсен, ведь ты настоящий чудодей! Колдун! Где и как ты поймал сю птаху, яка так обрадовала сердца Младена, Златки, Якуба? — В самой что ни на есть Сечи, брат!.. А ещё познакомьтесь с нашим новым товарищем, который прибился к нам в дороге… Казак Гурко! Гурко сбросил бекешу и, приветливо улыбнувшись, поцеловал руки Звенигорихе. — Спасибо, мать, за чудесного сына! Он со своими друзьями сегодня спас меня от смерти. Дай боже ему счастья и лучшей доли! Звенигориха расчувствовалась, поднесла к глазам кончик косынки. — Спасибо, добрый человек, за ласковые слова. Садитесь все, прошу вас! — А и правда, пора юж сидать до столу, — засуетился Спыхальский. — А то наши гости, думаю я, так проголодались в дороге, как борзые после охоты! Вернулся как раз и дед Оноприй, который ставил лошадей в конюшню. С тех пор как семья Звенигоры, спасаясь от турецко-татарских набегов, перебралась из родного Каменца на Левобережье, пожалуй, не было счастливее минут в их хате, чем в этот щедрый вечер. И хотя беспрерывные войны, вражеские набеги да житейские невзгоды и беды оставили не один болезненный рубец на сердце каждого из присутствующих, хотя в их мирной беседе не раз всплывали горькие воспоминания про утраты и тяжёлые переживания, все же за столом преобладало весёлое, радостное настроение, которому способствовало и то, что они чуть ли не впервые собрались все вместе, и то, что, прогремев над их головами, унеслись, как им казалось, в прошлое страшные войны и лихолетье, и то, наконец, что сидели они за обильным столом, заставленным дарами щедрой полтавской земли. Разомлевший Оноприй, поблёскивая покрасневшей лысиной, неустанно потчевал гостей: наполнял чарки сливянкой, грушовкой, калгановкой, малиновкой, остропахучим пьянящим мёдом. Каждую чарку Спыхальский поднимал над головой, рассматривал на свет лампадки, затем напевал услышанную от старой Звенигорихи песенку, очень полюбившуюся ему: Ой, чарочко манюсiнька, Яка ж бо ты гарнюсiнька, Нi сучечка, нi пенёчка — Вып'ю тебе до донечка! Потом восклицал своё неизменное: «Нех жие сто лят!» — и выпивал, долго прищёлкивая после этого языком. Гурко поначалу отмалчивался. А когда дед Оноприй вынес из-за печи кобзу, сразу оживился, глаза его заблестели. — Дай-ка мне, дедусь! Взяв кобзу в руки, пробежал пальцами по струнам. Мелодичный перезвон печально поплыл по хате, и к нему добавился такой сочный задушевный голос, который всех заворожил. И полилась чудесная, нежная мелодия. Та забiлiли снiги, забiлiли бiлi, Ще й дiбровонька. Та заболiло тiло каpацьке? бiле, Ще й головонька. Песню подхватил Арсен. Два сильных, красивых голоса, сливаясь в один чистый звонкий поток, задрожали, как ветви явора под ветром, заворковали весенними ручьями, отозвались в сердцах неповторимой красой ясного лунного зимнего вечера… Песня захватывала, очаровывала, все слушали её затаив дыхание. 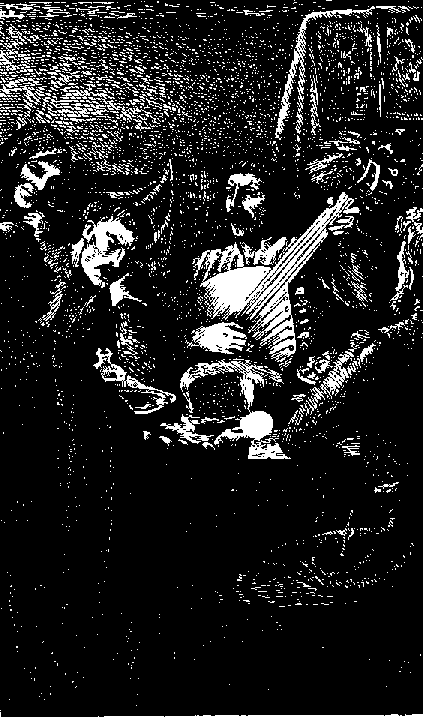 Спыхальский замер, только из-под прищуренного века скатилась по щеке и повисла на кончике уса одинокая слеза. Несмотря на внешнюю грубоватость и болтливость, пан Мартын был по-детски чувствителен и чуток ко всему прекрасному. Песня растрогала его, разбередила душу, напомнила про нелёгкие последние годы жизни, про то, что и у него сейчас, как и у казака из песни, что захворал в заснеженной степи, никого не осталось, кроме друзей, с которыми он делил хлеб и соль. И когда рассыпался серебристым перезвоном последний аккорд кобзы, он еле слышно прошептал: — Боже, какие чары! Дьявольские чары! Ваша песня, панове, то есть высшее проявление вашего духа, вашей поэтической натуры! Семён Гурко с удивлением посмотрел на поляка. — Ты правильно мыслишь, пан… Однако не все наши соседи, к сожалению, думают так, как ты. Твои земляки, например, паны Синявские, Сапеги, Яблоновские, Собеские, Потоцкие, лезут на Украину, видать, не для того, чтоб услаждать слух нашими звонкоголосыми песнями, а чтобы набить своё брюхо нашим хлебом, салом да мёдом, а карманы — деньгами! — Только прошу пана не причислять и меня к этой компании! — воскликнул обиженно пан Мартын. — Я, мось-пане, дело другое! Гурко усмехнулся. — Похвально слышать это. Я с удовольствием жму твою честную руку, пан! — И нежинский казак крепко обнял Спыхальского за плечи. — Но ведь таких, как ты, маловато!.. А если вспомнить, что сделали с Украиной крымчаки да турки! Страшно представить! На Правобережье каждый второй погиб, каждый третий в неволе, каждый четвёртый бежал на Левобережье, на гетманщину, под защиту Москвы, которая сейчас одна спасает нас от погибели… И только каждый пятый или, может, шестой, если не седьмой, остался ещё там, скрываясь и бедствуя в лесных чащах. — О, пан хорошо знаком с положением края! — в свою очередь удивился Спыхальский. — Ещё бы! Есть голова на плечах! — с достоинством ответил казак. — К тому ж сколько лет ходил с левобережными полками по Украине — то против Выговского с поляками, то против Ханенко с татарами, то против Дорошенко да Юрася Хмельницкого с турками… Дрались они, резались за Богданову булаву, грызлись, как бешеные собаки! Но ни у одного из них не было и нет Богданова ума и Богдановой силы. Вот и довели нашу отчизну до полного разора, проклятые!.. Гурко умолк и задумался. На его высоком, слегка покатом лбу между темно-русых бровей пролегла резкая морщина, а на глаза упала печальная тень. Арсен переглянулся с Романом. Так вот какого гостя послала им судьба сегодня! Да, это не простой казак, как они и подумали вначале, пока ехали с ним на хутор! Величественная внешность его сочеталась с глубоким и острым умом. Арсену показалось, что его новый знакомый очень похож на Серко: такая же могучая фигура с крепко посаженной на широких плечах большой характерной головой, такой же властный взгляд серо-стальных глаз; чувствовалось, он так же болел душой о судьбах отчизны и народа. Только черты лица у него мягче, добрее. Может, потому, что моложе лет на двадцать пять, а то и тридцать? — А давно был на той стороне, батько? — спросил Арсен, имея в виду Правобережье. — Говоришь так, будто вчера оттуда… — Я два лета провёл под Чигирином в войсках гетмана Самойловича… Был и в самом Чигирине. Перед падением его наш полк вывели из пекла. Должно быть, это и спасло меня от смерти… — О, так мы были где-то совсем рядом! — воскликнул Арсен. — Значит, хлебнули лиха из одного ковша!.. Долго, далеко за полночь, светился огонёк в уютной хатке Звенигоры. Продолжалась живая беседа, воскрешалось минувшее, звучали песни. И стороннему наблюдателю могло бы показаться, что так жили они всегда, что не было за их плечами ни крови, ни смертей, ни горя, ни военного лихолетья… Они искренне предавались кратковременному счастью. Заброшенные сюда жизненными обстоятельствами из разных уголков земли, они чувствовали себя в этом обществе, под этим гостеприимным кровом как дома, и никому не хотелось думать и гадать, какие нежданные удары может преподнести им своенравная судьба завтра. И у каждого из них сегодня было своё ощущение счастья. Старая мать умилялась детьми, дедушка Оноприй — внуками и вкусными наливками, Арсен утонул в синих Златкиных глазах, а она стыдливо льнула к нему, украдкой поглядывая на отца и брата — не видят ли?.. Стёха и Роман тоже никого и ничего не замечали, их головы, обе увенчанные пышными пшенично-русыми волосами, касались друг друга, как цветущие подсолнечники. У Младена и Якуба сердца были полны радостью за Ненко, который отныне принадлежал им не только телом, но и душой, а Ненко впервые в жизни ощутил любовь и ласку родных людей, и от этого до сих пор не знакомого чувства у него щекотно дрожало сердце, а к горлу подкатил ком. Спыхальский и Яцько, не переживая ни за кого и ни за что, с наслаждением лакомились роскошными, как им казалось, яствами и напитками и были рады-радехоньки и за себя и за своих друзей. Лишь об одном казаке Гурко ничего определённого нельзя было сказать: для всех он оставался ещё загадкой. Однако, судя по тому, как раскраснелись от наливок его обветренные на морозе щеки, как он пел песни, можно было думать, что и гость чувствовал себя прекрасно. Это был щедрый вечер в их жизни! По-настоящему щедрый, ласковый, тёплый, весёлый. И они, люди неспокойно-жестокого времени, по достоинству ценили его. Поэтому и преобладали в хате за гостеприимно-богатым столом непринуждённость, дружелюбие и поэтическая простота чувств, которые делают человека счастливым. Когда прокричали вторые петухи, в окно кто-то постучал. Это были Иваник и Зинка. Вытащив из карманов кожухов по горсти зёрна, они сыпанули его на пол, на стол, на образа, на всех, кто сидел за столом. Смех, радостный гомон, запахи ржаного и пшеничного зёрна, смешанного с горохом, ячменём и куколем, наполнили хату. — На счастье, на здоровье, на Новый год! Уроди, боже, жито, пшеницу! — приговаривал, посыпая, Иваник. — Вы, тётка, знаете-понимаете, дайте паляницу! А Зинка защебетала: Сiю-вiю-посiваю, 3 Новим роком вас вiтаю! 3 Новим роком вас вiтаю — Щастя й радощiв бажаю! Их пригласили к столу. Иваник сел на лавке, а Зинка — на скамье, где, потеснившись, дал ей место Спыхальский. — Идём… смотрим — светится у Звенигор, — сразу затараторил порядком захмелевший уже Иваник. — Эге-ге, говорю Зинке, должно, Арсен прибыл из Запорожья! А ну-ка, жинка, засеем его! Не поднесёт ли чарочку, знаешь-понимаешь? Зинка незаметно толкнула мужа под столом ногой — не болтай, мол! А сама — сильная, ладно сбитая, с мороза румяная — глянула чёрными искристыми глазами на сидящих вокруг мужчин… И, встретив восторженный взгляд Спыхальского, смутилась. Пан Мартын ещё летом, когда впервые попал с Арсеном в Дубовую Балку, приметил эту на диво крепкую и статную молодицу, а теперь, увидев её в новом красивом наряде, с блестяще-чёрными, слегка завитыми волосами, полную сил и здоровья, так и разинул рот от удивления. О Езус, да это же просто красавица! Такой бы не в холопской хате возиться с чугунами и горшками, а в магнатском дворце отплясывать мазурку да краковяк! Он лихо подкрутил вверх свой встопорщенный ус и попытался почтительно, даже по-шляхетски галантно поклониться, чувствуя в тесноте локтем тепло её тела. — Приветствую, пани! Как поживаешь? — Благодарствую, милостивый пан. Живём помаленьку… А ты, вижу, поправляешься от раны? — Слава Иисусу, поправился… — А то я говорю своему: жаль будет, если помрёт такой хороший человек! — О пани, то было б совсем плохо!.. Бр-р-р!.. Особенно если принять во внимание, что на этом свете остались бы такие славные молодицы, как ты, — польстил вполголоса своей соседке Спыхальский. Но тут у него мелькнула неожиданная мысль: может, Зинка тоже неравнодушна к его особе, если сказала такое? И он спросил: — То и вправду жалела бы обо мне, пани? — А почему бы и нет? — О, мне очень приятно слышать это из твоих уст! Значит, пани давненько заприметила меня? — Тебя, пан, все молодицы на хуторе давненько заприметили, — уклонилась от прямого ответа Зинка. Спыхальский крякнул, покраснел от удовольствия и слегка, как бы ненароком, подтолкнул её локтем. Женщина не отвела его руку, не рассердилась, а только искоса глянула на мужа: не видит ли?.. Но Иваник, занятый в это время огромной кружкой мёда, поднесённой дедом Оноприем, и ароматной, с чесноком, колбасой, не слышал беседы Спыхальского с Зинкой, не видел его ухаживаний за нею. Или же прикидывался, что не видит. До самого утра в хате стоял весёлый гомон, слышались то шутливые, то заунывно-печальные песни. Наступил новый год. Быстро промелькнули святки. На семейном совете было решено, что свадьбы обеих молодых пар — Арсена и Златки, Романа и Стеши — лучше всего справить одновременно, в зимний мясоед[7]. Венчаться должны были в Лубнах. И вот однажды утром, ещё до рассвета, Арсен с Романом, Спыхальским и Семёном Гурко, который ради такого события в жизни своих новых друзей отложил поездку в Запорожье, выехали верхом в Лубны, чтобы договориться обо всем в церкви. Дорога была трудной. Толстое одеяло снега — коням по брюхо — укрыло бескрайние степи. И куда ни глянь — ни единого следа! Поэтому ехали медленно и в Лубны добрались только к вечеру. Миновав редкие колючие заросли боярышника и тёрна на склонах Сулы, всадники въехали в город. Смеркалось. Из печных труб, которые, казалось, торчали прямо из сугробов снега, взвивались в небо сизые дымки. Со дворов доносился собачий лай. Скрипели над колодцами высокие журавли. На крутом обрывистом холме, над Сулой, высилась казачья крепость. Холм этот окружали два земляных вала — верхний и нижний — и зубчатый гребень дубового частокола, за которым темнели военные склады, конюшни, дома полковой и сотенной старшины. На башнях виднелись в синей мгле фигуры дежурных казаков. В церковь ехать было уже поздно, и друзья остановились на ночлег в корчме на базарной площади. Накормив и напоив лошадей, поставили их на отдых в конюшню, а сами после сытного ужина сразу улеглись спать, чтобы пораньше встать и, побывав в церкви, постараться засветло вернуться домой. Но среди ночи их разбудил тревожный звон колоколов. Друзья вскочили, выбежали во двор. На сторожевых башнях крепости взвивались к небу длинные языки пламени: горели бочки со смолой. Со всех сторон — из крепости, с колокольни городского собора, из Мгарского монастыря и из окрестных сел — доносились звуки набата. На крепостных стенах суетились казаки, в огненных отблесках пламени они казались маленькими суматошными привидениями. — Цо то есть? Татары? — спросил ошалевший от неожиданности Спыхальский, на ходу натягивая кожух. — Похоже, что нападение, — ответил Гурко. — Седлаем, хлопцы, коней! Кто б там ни был — крымчаки ли, другой ли черт, — мы должны быть готовы к худшему! Привычно кинули коням на спины седла, затянули широкие подпруги, и мгновение спустя четыре всадника быстро вылетели из ворот постоялого двора и через базарную площадь помчались к крепости. Туда же торопились пешие и конные казаки Лубенской сотни, а также горожане, для которых крепость была единственной защитой от врага. Здесь уже бурлила людская толпа. Никто толком не знал, что случилось. На площади посреди крепости, перед большим деревянным домом, покрытым гонтом[8], выстраивались казаки. Горожане жались вдоль заборов, хат и конюшен, чтобы не мешать военным. Крики, вопли, тревожный звон колоколов, ржание лошадей, бряцание оружия, шипение горящей смолы в бочках — все это в первую минуту оглушило Арсена и его товарищей. Но вот шум начал стихать: на крыльце войсковой канцелярии появилась полковая старшина. — Кто это? — спросил Арсен у казаков, показывая на двоих, что вышли вперёд. — Полковники Ильяшенко да Новицкий. Дородный седоусый полковник Ильяшенко вытащил из-за пояса пернач[9]. На площади установилась тишина. — Казаки! Горожане! — послышался его громкий голос. — Только что мы получили известие… Клятвоотступник и предатель Юрась Хмельницкий и его шуряк Яненченко с большими татарскими отрядами перешли Днепр. Они уже ворвались в Горошино и Чутовку… Ирклиевская, Оржицкая и Лукомская сотни вступили в бой и сдерживают ворога… Мы выступаем немедленно! Нам на помощь идёт Миргородский полк, и, даст бог, мы разгромим супостатов в поле и выгоним за Днепр! У Арсена похолодело под сердцем. Тяжёлая весть ударила, как ножом. — Плохи дела, — прошептал он. — Уже сегодня татары могут быть в Дубовой Балке… Ни у кого не нашлось ни слова утешения, всем было ясно, какая смертельная опасность нависла над небольшим мирным хутором. Только чудо могло спасти дубовобалчан от аркана людоловов. — Что же делать? — схватился Арсен за голову. — Надо выручать наших! — Скачем туда! — воскликнул Роман. — Может, успеем ещё! — И вправду, айда, панове! Мы вольные птахи! Чего нам ждать казаков? — распалился Спыхальский. Только Гурко молчал. — А ты что скажешь, батько Семён? — нетерпеливо спросил Арсен. В последнее время все они стали называть нежинца отцом — и потому, что он был старше их, и за острый ум, и за большой жизненный опыт. Гурко внимательно посмотрел на своих товарищей, обнял Арсена за плечи. По его лицу промелькнула тень грусти. — Вы и вправду вольные птицы, — сказал он тихо. — Вы — не казаки Лубенского полка, а запорожцы и можете поступать по своему разумению… Я тоже не обязан становиться в ряды лубенцев… Но все же не советовал бы вырываться в поле одним, где мы станем лёгкой добычей людоловов. Поскольку полк выступает немедленно, мы ненамного опередим его… Вот я и думаю: надо ехать вместе с лубенцами. Но если вы решите вопреки всему ехать одни, то и я с вами! Арсен понимал, что Гурко рассуждает правильно. Если татары подошли к Горошину и Чутовке, то вскоре будут и в Дубовой Балке. А может, они уже там… Что тогда смогут четверо сделать против орды? Погибнут или попадут в неволю. Это не лето, когда за каждым кустом можно укрыться! Сейчас в голой заснеженной степи видно на много вёрст. Нет, ехать вчетвером не годится!.. Душу раздирала боль. В одно мгновение разбились вдребезги, разлетелись, как пыль на ветру, розовые мечты, взлелеянные на далёких дорогах чужбины, в бессонных ночах боев и походов, горячие надежды на счастливую жизнь с любимой Златкой. О, если б он смог за полчаса пролететь те полсотни вёрст, что отделяли его от неё, от родных и друзей! Но никакой волшебник не поможет ему в этом. Потому и остаётся единственный выход — присоединиться к лубенцам и принять участие в походе. А тем временем лишь надеяться на лучшее… Стеша и Златка взяли с шестка печи две миски с переложенными творогом и запечёнными в сметане налистниками и понесли к столу. Там за завтраком текла неторопливая беседа мужчин, порою заглушавшаяся резким шарканьем ухвата, которым Звенигориха двигала в печи. Внезапно с грохотом распахнулись двери и в хату с криками ворвались ордынцы. Охнув, Златка опустилась на лавку, а Стёха застыла с миской в руках посреди хаты. Потрясённые, замерли мужчины. Увидав на стенах развешанное оружие — сабли, пистолеты, ружья, — ордынцы ринулись к нему, сорвали с деревянных колышков. Затем окружили стол. Их чёрные узкие глаза загорелись жадным огнём. Грязные руки, пропахшие конским потом, хватали хлеб, куски жареного гуся, налистники и запихивали все в лоснящиеся рты. В минуту стол опустел. Младен, Якуб и Ненко сидели растерянные, не зная, на что решиться. Занятые едой, голодные ордынцы пока что их не трогали. В хату вошёл молоденький, тонкий, как камышинка, татарчонок в более богатом, чем у его одноплеменников, одеянии. На вид ему было лет шестнадцать. Он мало походил на татарина. Худощавое, продолговатое, с карими глазами под изломами чёрных бровей, лицо его было бы даже красивым, если бы не диковатая улыбка широкого рта, открывавшая хищный оскал белых ровных зубов. Ордынцы учтиво расступились, не прекращая, однако, грызть гусиные косточки. Юноша осмотрел хату и её домочадцев. Дольше, нежели на других, задержал взгляд на Стеше, которая стояла ни жива ни мертва с полупустой миской, подошёл к ней, двумя пальцами взял налистник и ловко кинул его себе в рот. — М-м-м, смачно! Очень смачно! — промолвил вдруг он на чистом украинском языке. — Спасибо хозяйке, которая умеет так вкусно готовить… Как моя ненька! — Быстро проглотил второй налистник, вытер руку об полу кожуха и вмиг посуровел. — А теперь собирайтесь все! — Собираться?.. Куда? В Крым?! — вскрикнула Стеша и выпустила из рук пустую миску. — Мы не крымчаки! Мы буджакские татары! — возразил юноша и гордо добавил: — Я Чора, сын аккерманского мурзы Кучука! — Один черт — что в Крым, что в Буджак… Неволя всюду одинакова! — буркнул дед Оноприй. — Хватит болтать! Собирайтесь и выходите! — прикрикнул Чора и направился из хаты. Всех вытолкали во двор. Хуторской выгон был запружён испуганными людьми. За толпой наблюдали конные ордынцы. Посреди площади на возвышении гарцевал на горячем коне чернобородый всадник. Чора подвёл к нему своих пленных, почтительно поклонился. — Отец, весь хутор уже здесь. Вот привёл последних! — Ладно, Чора. Ты молодец у меня, будешь хорошим воином! Аккерманский мурза Кучук! Недобрая слава шла о нем по Украине… Пленные с испугом смотрели на его лицо, тёмное, обветренное, с острыми раскосыми глазами и большим, как и у Чоры, ртом… Страшный людолов! Продажа невольников стала его ремеслом. Каждый год он по многу раз делал опустошительные набеги на Украину, без жалости разорял села, угонял скотину, забирал в неволю людей. Хитрый и жестокий, он всегда умел избежать встречи с превосходящими силами казаков, и потому одноплеменники считали его счастливчиком, с которым безопасно ходить в военные походы. Его чамбул[10] всегда был полон искателей лёгкой наживы. Мурза тронул коня, подъехал к пленным. Ещё издали он заприметил девчат и остановился перед ними. Тяжёлый пристальный взгляд опустился на русокосую Стёху. Мурзе нравились белокурые. Девушка побледнела. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. О, она знала, что ей придётся вытерпеть, если ордынцы упрячут её в свои степные улусы! Неволя до конца дней, самая чёрная работа, надругательства и оскорбления — вот что ожидает её. Или же место рабыни-наложницы в гареме хана, мурзы или богатого турецкого бея… Кучук перевёл глаза на Златку. — Хорошенькие! — зацокал он языком. — Ты слышишь, Чора? За таких в Стамбуле можно взять по пуду золота! — Как и Чора, отец чисто говорил по-украински. — А то и по два, клянусь аллахом!.. Если мы не найдём другого места для них… — При этом он хищно усмехнулся и ещё раз пристально посмотрел на Стёху. Чора промолчал, видимо, не смел перечить отцу. А мурза наклонился с коня, пальцами взял Стешу за подбородок. — Как тебя звать, красавица? — Стёха, — чуть слышно ответила девушка, умоляюще глядя на мужчин, которые напряжённо следили за каждым движением мурзы. Она опасалась, что любое неосторожное их слово может привести к ужасным последствиям. Но и Младен, и Ненко, и Якуб, будто сговорившись, молчали, понимая, что сейчас они ничем не смогут помочь ни Златке, ни Стеше, ни родственникам Арсена, всякое вмешательство лишь повредит им. Жестокий Кучук не остановится перед тем, чтобы уничтожить любого, только бы устранить препятствие к овладению таким дорогим товаром. Кучук, заглянув в расширенные от ужаса глаза Стеши, произнёс: — Красивое имя… — Потом повернулся к Златке. — А тебя? Девушка не ответила и отвернулась. Мурза гневно выпрямился в седле. Над головой вдруг взметнулась нагайка. Но тут вперёд выскочил Яцько, заслонил собой девушку. — Не смей бить, мурза! — Паренёк побледнел, напрягся как струна. — Ты же знаешь, что у нас женщин не бьют! Мурза придержал руку, удивлённо вытаращился. — Кто ты такой, раб, что смеешь мне перечить? — И хлестнул Яцько по голове. — Иль не понимаешь, что и эти девчата, и ты, и все вы — мой ясырь! Хочу — бью, хочу — убью! — И он снова стеганул паренька. Неизвестно, чем бы закончилась для Яцько его стычка с мурзой, если б не появление ещё двух всадников. — Что здесь происходит? — спросил передний, осаживая резвого коня. Это был человек лет сорока. Одетый в добротный дублёный кожух с серым воротником и такой же опушкой, черноглазый, горбоносый, он гордо сидел в отделанном серебром седле, кидая по сторонам из-под собольей шапки быстрые взгляды. Мурза опустил нагайку. Его смуглое лицо расплылось в улыбке. — Приветствую пана полковника! Ничего особенного не произошло, проучил малость одного раба, чтобы почтительнее был! Яцько посмотрел на второго всадника, что прибыл вместе с красавцем полковником, и узнал в нем Свирида Многогрешного. От Арсена паренёк уже знал, что бывший невольник, с которым ему довелось пасти овец у турецкого помещика, стал старшиной в войске Юрия Хмельницкого, и, чтобы не попасться ему на глаза, быстро шмыгнул в толпу и из-за плеча дедушки Оноприя наблюдал, что же будет дальше? Тем временем полковник заметил бледных, напуганных девушек, которые стояли перед мурзой. Он внимательно рассматривал их, в задумчивости покручивая левой рукой небольшой чёрный ус, потом повернулся к Свириду Многогрешному и кивнул через плечо: — Эту семью я заберу с собой в Корсунь! — Слушаюсь, пан полковник, — поклонился Свирид Многогрешный. — Если я задержусь, поселишь их на острове, в замке. — Слушаюсь, пан полковник. У мурзы моментально слетела с лица улыбка. — Постой, постой, полковник! — сказал он, насупившись. — Прежде чем распоряжаться судьбой этих людей, неплохо бы поинтересоваться о моих намерениях относительно их. — Я слушаю, мурза, — повернулся к нему полковник. — Пан полковник может брать себе всех людей, кроме этих двух девчат. Они принадлежат мне! — На каком основании? — Военная сила в моих руках… Это мой ясырь! — Однако мурза Кучук должен помнить приказ великого визиря, что ни единой души нельзя брать в ясырь без разрешения на то ясновельможного гетмана! Мурзу передёрнуло. Он едва сдерживал гнев. — Так это с Правобережья… А здесь Левобережье, насколько я понимаю! — Все равно… Эти люди будут переселены на Правобережье и станут подданными Порты! Как же ты, мурза, осмелишься брать ясырь во владениях падишаха? — Но должен же я получить хоть что-то за свой поход! — воскликнул в сердцах мурза. — Или пан полковник думает, что я даром буду помогать гетману? — Почему же даром? Мурза получит, что ему положено… — «Получит, получит»! Мол, на тебе, боже, что мне негоже! А я привык брать то, что мне нравится!.. В конце концов, я могу и сам, без гетмана, пойти в поход на Левобережье и набрать пленных сколько захочу! — Конечно, можешь, мурза… Но сейчас мы здесь, на Левобережье, не для того, чтобы ты захватил ясырь, а для того, чтобы присоединить его к владениям падишаха! — Тьфу, шайтан! — плюнул мурза. — Будь я проклят, если ещё раз соглашусь на таких условиях помогать вашему гетману! — Не нашему гетману, а подданному и союзнику султана! — отрезал полковник. Понимая, что разговор становится небезопасным, мурза промолчал. Но по тому, как злобно сверкали его глаза и хищно кривился широкий рот, можно было безошибочно угадать, что он не оставил намерения завладеть девушками. Рядом с ним, тоже бледный от злости и ненависти, сидел, окаменев в седле, Чора. Молоденький мурза знал, что вмешиваться в разговор старших он не имеет права. Однако всей душой он, безусловно, был на стороне отца и хмуро поглядывал на полковника, который, казалось, не замечал его. Полковник с примирительным жестом сказал покладисто: — Не годится нам здесь ссориться, мурза, останемся друзьями! Прибудем в Корсунь — там побалакаем… А сейчас и других забот у нас хватает… Пан хорунжий, — обратился он к Многогрешному, — я хочу поговорить с народом. Прикажи, чтоб все подошли поближе и слушали внимательно! Многогрешный кивнул, поднялся на стременах и крикнул в толпу: — Земляки! Не бойтесь нас! Я хорунжий гетмана Юрия Гедеона Венжика Хмельницкого Свирид Многогрешный… А это, — он подобострастно поклонился в сторону своего спутника, — корсунский полковник Иван Яненченко… Он хочет говорить с вами! Подойдите сюда и внимательно слушайте! Хуторяне начали боязливо подходить, сбиваясь в одну большую толпу. Их плотно окружили конные татары. Многогрешный придержал коня. Вперёд выехал полковник Яненченко. — Люди! — Голос у него был резкий, сильный. — Мы пришли сюда, на Левобережье, не как враги, а как ваши освободители! Большинство из вас — выходцы, беженцы с правого берега… Каждому мила своя сторонка. Так вот, мы даём вам возможность возвращаться назад, на свою родину, что ждёт не дождётся ваших работящих рук. Там, на Корсунщине, Богуславщине, Уманщине, Винничине, ваши хаты, нивы, пруды и озера, там — могилы ваших дедов и прадедов!.. Даже дикие звери любят свой край… А вы же люди! Мы обещаем вам защиту от врага! Вы будете свободными! Бери земли сколько хочешь! Селись где хочешь! Никто не будет вымогать у вас ни подушных, ни мельничных, ни дорожных податей, которые вы платите здесь! Не будет там ни гетманских кабаков, которые ввёл ненавистный всем попович[11], ни воеводских постоев!.. Так вот, забирайте своё добро, запрягайте в сани коней или волов, усаживайте детей и стариков и айда с богом в путь! Толпа колыхнулась. Поднялся ропот. Радость, вспыхнувшая было, что это не басурманская неволя, начала постепенно гаснуть. Куда ехать? Как покинуть свои хаты, риги, повети, поля, засеянные озимыми? Что ждёт их в новом краю? Голод, холод, свирепые плети? Ведь всем известно, что на Правобережье почти все сожжено, истоптано, уничтожено!.. К каким же это молочным рекам с кисельными берегами приведёт их этот сладкоречивый полковник? Среди женщин послышалось всхлипывание. Потом одна из них заголосила. Глухо зарокотало басовитое мужское недовольство. Из толпы вперёд протиснулся Иваник. Зинка схватила его за рукав свитки, чтобы задержать, но муж отмахнулся от неё и остановился напротив полковника. — А если, примером, знаешь-понимаешь, я отсюда никуда не хочу ехать, любезный пан полковник? А? Как быть тогда? Могу ли я остаться с семьёй тут? Он поклонился полковнику в пояс и, выпрямившись, мял в руках кудлатую овечью шапку, почтительно ожидая ответа. Яненченко смерил его тяжёлым, суровым взглядом. — Ни одна живая душа здесь не останется! Поедут все!.. — Но почему же? Я здесь, туточки, знаешь-понимаешь, попривык, обжился… И не хочу вертаться, примером, на свою Уманщину, где турки и татары с Дорошенком все напрочь вытоптали, спалили, а людей либо забрали в полон, либо порешили… Там сейчас небось одни волки воют на пустошах да вороньё кружит над безлюдной степью… Яненченко ещё сильней нахмурился: — Поедешь, выродок! Ты слышишь? Поедешь! Мы силой заберём от Самойловича весь народ и переведём на ту сторону! Заселим Правобережье!.. — Гм, заберёте, знамо, если совладаете, — твердил своё упрямый человечек, снова кланяясь полковнику. — Да только… Иваник не успел закончить своей мысли, Яненченко вмиг выхватил из ножен саблю и занёс над головой. Ярость исказила полковничье лицо. В чёрных глазах сверкнул огонь. — Заткнись, шут! И он не сдержал бы руки… — Пан полковник! — закричала, вырываясь из толпы, Зинка, могучей фигурой оттесняя мужа. — У меня ж двое деток!.. Яненченко заколебался на какое-то мгновение, потом медленно, словно нехотя, убрал саблю в ножны. — Так вот мой приказ! — бросил в толпу. — Все мужчины и дети останутся здесь, а женщины и старики пойдут домой и запрягут коней или волов, заберут одежду да пожитки — и в путь!.. До Корсуня вас будет сопровождать отряд пана хорунжего! Кто вздумает сбежать, пускай сперва убедится, крепко ли держится голова на плечах! Наши друзья быстренько отделят её от тела! Или же заарканят и потащат в Крым или Буджак!.. Пан хорунжий, ты слышишь? Многогрешный кивнул. Спустя какой-то час обоз саней, нагруженных домашним скарбом хуторян, с отарой овец и стадом скотины выехал из Дубовой Балки в сопровождении изрядного конного отряда. Выбравшись по подъёму на гору, люди оглянулись назад, чтобы в последний раз взглянуть на родное жилище. И не поверили своим глазам: весь хутор пылал! По улицам метались всадники с факелами в руках, и за ними вспыхивали соломенные и камышовые крыши хат, поветей, риг. До неба взлетали малиновые языки пламени над стожками сена и соломы. Буро-сизый дым расстилался по широкой долине Сулы, покрывая искристо-белый снег чёрным пеплом. Обоз остановился. Заплакали дети, заголосили женщины. Мужчины в бессильном гневе сжимали кулаки. В огне гибло их имущество, нажитое тяжким трудом. Теперь у них не было никакого пристанища на всем этом холодном безбрежном свете. — Айда! Айда! — закричали конвоиры. — Трогайте, грязные свиньи! Обоз двинулся вновь. Дед Оноприй со своими санями оказался в голове обоза. Он с трудом брёл вместе с другими мужчинами непротоптанной целиной, щёлкал кнутом над серыми волами. Женщины сидели на санях, а Яцько шёл чуть сзади, исподлобья поглядывая то на всадников, которые конвоировали хуторян, то на чернеющее редколесье, где — он хорошо помнил — начинаются глубокие овраги. Когда обоз приблизился к лесу, парнишка внезапно рванулся в сторону и во весь дух, как заяц, помчался прочь. — Стой! Куда ты? Убьют башибузуки! — крикнул дед Оноприй. Яцько лишь махнул рукой и ещё быстрее понёсся сквозь тёмные заросли кустарников. — Стой! Стой! — послышался далеко позади голос Многогрешного. Несколько всадников развернулись и поскакали за беглецом. Одиноко просвистела стрела. Но Яцько уже шмыгнул в лес и запетлял между кустами боярышника, ореха, безлистной бузины… Всадники спешились и погнались за ним. Обоз остановился. Не все знали, что случилось впереди, потому поднялся крик. Одни думали, что неожиданно напали казаки и ведут с татарами бой, другим казалось, что, наоборот, татары решили никуда не вести хуторян, а порешить всех здесь. Этот крик ещё больше подстегнул Яцько, он вихрем вырвался из леса, перебежал полянку и очутился над обрывистым склоном заснеженного яра. Парнишке местность была хорошо знакома. Частенько бегал он сюда осенью с хуторскими сорвиголовами лакомиться горьковато-кислой, промёрзшей на первом морозце калиной, и сейчас, слыша за спиной вопли, топот ног, без раздумий ринулся с кручи вниз и почти по отвесной стене покатился в белую бездну глубокого оврага. Преследователи добежали до обрыва и остановились. Это были молодые, кривоногие от бесконечной езды на лошадях буджакские парни. Когда они глянули вниз, на их широких, скуластых, обветренно-бронзовых лицах появился ужас. Там, в глубине, взбивая за собой белую пыль из тонко просеянного ветерком снега, катился тёмный клубок. — Шайтан! — прошептал кто-то из них. — Только шайтан может решиться на такое! Выпавшие за последние дни снега были настолько глубоки, что низкорослые татарские лошади ныряли в сугробах, как в холодных волнах. Они быстро выбивались из сил и, взмокшие, останавливались, с жадностью хватая горячими губами сыпучий снег. Юрий Хмельницкий приходил в ярость от того, что все складывалось не так, как хотелось. Когда он, заручившись согласием великого визиря Кара-Мустафы, перешёл с несколькими тысячами крымских и буджакских татар замёрзший Днепр, то думал быстро овладеть Лубнами и Миргородом, а затем двинуться дальше на север — к Лохвице, Ромнам и Гадячу. Оттуда было уже недалеко и до гетманской столицы — Батурина… Он надеялся также, что левобережные казаки сразу же отшатнутся от Ивана Самойловича и примкнут к нему, а население будет встречать хлебом-солью. Но человек предполагает, а бог располагает. Сначала продвижение его войска задержали буйные метели и глубокие снега, а потом — небольшая казачья крепость в Яблоневом. Левобережные казаки стойко оборонялись и вовсе не думали сдаваться или переходить на его сторону. Обложив с крымчаками Яблонево, гетман приказал не церемониться с населением — всех людей выводить за Днепр, а жилища сжигать. С тем же самым столкнулся над Сулой и полковник Яненченко. Он намеревался прорваться на Миргородщину, но застрял под Лукомьем. Сколько раз посылал буджакских ордынцев с мурзой Кучуком на приступ. Лучники забрасывали крепость стрелами, сеймены[12] палили из янычарок, лезли по штурмовым лестницам на валы, но лукомцы облили валы водой, и нападающие скатывались по гладкому, как стекло, льду вниз. Несколько дней провёл полковник у стен этой крепости, но взять так и не смог. А когда с севера показались передовые отряды Лубенского полка, Яненченко отступил и стал лагерем на поле между Лукомьем и Оржицей. Из-за Сулы на помощь лубенцам прибыли конные сотни Миргородского полка, и полковники Ильяшенко и Новицкий, не мешкая, начали готовить своё войско к битве. Арсен Звенигора с друзьями был на правом крыле, на возвышении, откуда просматривалось почти все поле будущего боя. Сердце его тоскливо ныло от острой тревоги, рвалось в Дубовую Балку. Неведение угнетало казака. Но между ним и хутором всего в полуверсте сплошной стеной темнела конница ордынцев. Друзьям были понятны страдания Арсена, и они не приставали со словами сочувствия и утешения. Роман сам тяжко тосковал по Стеше, его большие голубые глаза помимо воли всматривались в белую даль, словно надеялись увидеть там любимую дивчину. Спыхальский и Гурко, сжав зубы, молча сидели на конях, ожидая приказа атаковать врага. Яненченко не выдержал и первым начал бой, надеясь смять миргородцев и отбросить к Суле, в болота, где было много незамерзших проталин. В случае победы ему открывался путь на Лубны, Лохвицу и Ромны. Потому и решился рискнуть. Он поднялся на стременах, вскинул вверх саблю. И сразу же загудела под снегом промерзлая земля, заколыхались над рядами бунчуки, прокатился над полем страшный клич — «алла, алла!». В то же время перед казачьими лавами промчался молодцеватый, подтянутый полковник Новицкий, с саблей в поднятой руке. — За мною, братцы! Вперёд! Две густые лавы, как две морских волны, сошлись в белом поле. Забурлило, заклокотало кровавое побоище. Ордынцы не сумели отбросить миргородцев, их боевой пыл быстро угас. А когда чаще стали падать убитые и раненые, когда казацкое «слава!» зазвучало громче, грознее, в сердца кочевников закрался страх, они дрогнули. И не потому, что были менее храбрыми или имели меньше сил. Силы были почти равны. И храбростью не обделил аллах своих сынов, с детских лет привыкших сидеть в седле, держать в руках саблю и лук. Причина была, пожалуй, в другом: они воевали только ради грабежа, ради военной добычи. А грабители, как известно, никогда не отличаются стойкостью в бою… Казаки же защищали свой край, свои жилища, своих жён и детей, это придавало им силы и стойкости. Презирая смерть, они дрались до последнего, не жалея самой жизни, и не отступали ни на шаг. Увидев, как дрогнули передние ряды ордынцев, Яненченко понял: ещё минута — и его войско покатится назад. Тогда уже ничто не остановит воинов до самого Днепра. И он крикнул нескольким десяткам казаков, что служили у Юрия Хмельницкого: — Вперёд, друзья! Покажем союзникам, как нужно драться! На белом жеребце во главе кучки своих телохранителей он врезался в лаву лубенцев. Из-под копыт его резвого коня снег разлетался комьями. Сверкала на солнце кривая сабля. Приободрённые его удалью, понукаемые мурзой Кучуком, татары вновь усилили натиск. Арсен Звенигора издали приметил всадника на белом коне. — Роман! Мартын! Обходите этого коршуна с боков, а мы с батькой Семёном двинем ему в лоб! — крикнул он товарищам. — Не сам ли гетман это? — Нет, то не Хмельниченко, — возразил Гурко. — Разрази меня гром, если это не Яненченко… Ей-богу, Иван Яненченко! С ним вместе я учился в Киевской коллегии, а позднее скрещивал сабли, когда Самойлович водил левобережных казаков против Дорошенко. Теперь он корсунский полковник… — Вот его нам как раз и треба схватить! Татары тогда мигом повёрнут назад, — сказал Арсен. — Скорей, други! Он пришпорил коня и помчался наперерез Яненченко. За ним — Гурко, Роман и Спыхальский. Позади неслись казаки Лукомской сотни.  Арсен вихрем налетел на Яненченко и схватился с ним. Полковник был силён и ловок. Его тёмное, как бронза, лицо злобно оскалилось: он, видимо, подумал, что сможет легко выбить молодого противника из седла. Но с первых же ударов почувствовал, что перед ним не юнец, а опытный и бывалый казак. Поэтому, нанося Арсену удар саблей, он левой рукой выхватил из-за пояса пистолет и направил казаку прямо в грудь. Прогремел выстрел. Но Арсен на мгновение раньше резко склонился в сторону, к левому стремени, и тоже выхватил пистолет.  Яненченко не ожидал такого поворота событий. Он был уверен, что противник его падает, и не успел увернуться от выстрела Звенигоры, стрелявшего почти в упор — их лошади едва не столкнулись. На кожухе полковника у самого сердца зачернела дыра, однако он даже не покачнулся. — На нем панцирь! — крикнул Гурко. — Бей саблей! Арсен взмахнул саблей. И если бы полковник не рванул поводья и не кинулся наутёк, если бы между ним и Арсеном не вклинились его телохранители, неизвестно ещё, чем бы закончился для Яненченко этот поединок. Ему наперерез ринулись Роман со Спыхальским и десяток молодых казаков. Поняв, что он попадает в западню, полковник отпустил поводья и что было силы огрел коня саблей по крупу. Дюжий рысак прижал уши и вихрем помчался в поле, спасая своего хозяина от верной смерти. — Хватай его! Ах он пся крев! — взревел Спыхальский, видя, что полковник уходит. Однако ни у Спыхальского, ни у Романа, ни у Гурко лошади не отличались резвостью, и Яненченко быстро оторвался от них. Только Арсен не отставал. Как чёрная молния, мчался он следом за полковником по заснеженному белому полю. Яненченко оглянулся, и на его бронзовом, загорелом лице промелькнул страх: казак вот-вот догонит… А там… — На помощь! — закричал он испуганно. К нему на выручку бросился с несколькими десятками воинов мурза Кучук. Арсен на всем скаку врезался в лаву ордынцев. От его внезапного натиска первый ряд дрогнул, подался назад. Несколько всадников упали на землю. У остальных сразу пропал боевой задор… К казаку немыслимо было подступиться, его сабля, как смерч, неистовствовала над вражьими головами, а сильный, распалённый боем конь грудью теснил низкорослых косматых татарских коней. Когда подоспели друзья, Арсен с новой силой, с новой удалью накинулся на ненавистных захватчиков. Упало ещё несколько врагов, а те, что уцелели, с воплями кинулись врассыпную. — Кара-джигит! Чёрный всадник! — кричали одни. — О аллах, это сам шайтан! — вопили другие. — Куда? Назад! — пытался остановить их мурза Кучук. Его никто не слушал. Повсюду воины разворачивали лошадей. Брошенные кем-то два слова — «чёрный всадник» — мгновенно, как огонь, опалили смертельным страхом сердца суеверных ордынцев. В их представлении «чёрный всадник» был наделён волшебной неуязвимостью, сверхъестественной силой, и встреча с ним не предвещала ничего, кроме смерти… — Кидайте на него аркан! — орал Кучук. Но голос мурзы тонул в криках, бряцании оружия и топоте копыт. Его оттеснили, увлекли за собой перепуганные одноплеменники. Он уже ничего не мог поделать. Да и кто остановит пришедших в ужас людей, которые бегут с поля боя? Кроме того, сам мурза не видел в этом походе, к которому его принудили Кара-Мустафа и хан Мюрад-Гирей, никакой выгоды для себя. Чем заплатит ему гетман Юрий Хмельницкий, если у него казна пуста, а подданных — горстка? Так за что же его люди должны расставаться с жизнью? Орда бежала на Оржицу, а оттуда полями — на Яблонево. Крымские салтаны[13], которые были вместе с Юрием Хмельницким, не ожидая, пока подойдут казачьи полки, сняли осаду крепости и начали поспешно отступать к Днепру. Только глубокие снега помешали лубенцам и миргородцам преградить им путь и разгромить наголову. За Оржицей, отделившись от казаков, что преследовали татар, Арсен с друзьями повернул к Дубовой Балке. Ехали быстро, хотя каждый понимал: надежды на то, что хутор остался целым, почти нет. Перед ними расстилалась безбрежная мёртвая белая равнина. Большое красное солнце медленно опускалось за далёкий горизонт, и на искристом снегу впереди всадников колебались длинные тёмные тени. Арсен невольно засмотрелся на свою тень, странно горбившуюся перед ним, и ему вдруг пришла на ум известная с детских лет поговорка: своей тени не догонишь! Но только ли тени?.. А счастье? Разве оно не похоже на призрачную тень? Сколько уже времени он гонится за ним, но догнать никак не может… Под сердцем вновь заныло. Ехал домой, как на похороны, не верил, что застанет своих там, ибо повсюду, где побывал Юрась Хмельницкий с ордой и его полковник Яненченко, оставались лишь трупы да пепелища. И все же в самой глубине сердца теплилась малюсенькая надежда. Вопреки всему теплилась… А вдруг Дубовая Балка, притаившаяся в оврагах, заметённых снегами, уцелела? Может, её миновали татарские чамбулы и родные сейчас встретят его радостными возгласами, приветливыми улыбками? Напрасная надежда! Когда под вечер с высокой горы внезапно открылся перед ними широкий вид на Сулу и её просторы, что белым покрывалом раскинулись до самого небосклона, они увидали Дубовую Балку, вернее, то место, где был хутор. Теперь там лежало чёрное пожарище. Всадники остановились. Долго молча смотрели на страшную картину. — Пся крев! — нарушил молчание Спыхальский. — Какое злодейство! И как только народ живёт на этой земле? Беспрерывные войны, набеги, кровь, смерть… Несчастный край! — Своею кровью мы защищаем здесь и Польшу, пан Мартын, — заметил Семён Гурко. — Однако ваше вельможное панство совсем не ценит этого. — Как это? Мне кажется, пан ошибается! — встопорщил усы Спыхальский. — Я могу привести десятки примеров из прошлого, которые убедят пана… Кто не знает Ивана Подкову, могучего рыцаря, который со своими казаками столько раз побивал османов и кочевников. А что с ним сделали король и магнаты? Схватили коварно и приказали казнить в угоду султану!.. Кто не знает на Украине, для чего была построена над порогами крепость Кодак? Для того, чтобы задушить Сечь, которая, что греха таить, принимала всех, кто бежал от панского гнёта… Но ни король, ни магнаты не понимали или не желали понимать, что этим самым подрывают безопасность всего края, ибо Сечь прежде всего вела смертельную борьбу против Крыма и Порты, которые поставили себе целью уничтожить до основания Украину и Польшу… — Сдаюсь, пан Семён, — мрачно произнёс Спыхальский. — Все, что ты говоришь, то святая правда… — Если бы мы, славяне, не грызлись между собой, как собаки, а сообща выступили против хана и султана, то давно бы уже кровавый меч османов лежал во прахе, притоптанный нашими ногами! И не свистел бы хищный аркан над головами наших жён, сестёр и детей! — Твоя правда, пан Семён! Пока Гурко и Спыхальский тихо вели беседу, Арсен отъехал немного в сторону и угасшими глазами смотрел на то место, где совсем недавно стояла его хата. Там сейчас не вился сизый дымок из трубы, не блестели весело на солнце стекла в маленьких оконцах, не скрипел журавль над колодцем… Груда головешек да почерневший снег вокруг — это все, что осталось от уютного жилья. Арсен застонал от боли и бессильной ярости. Вот и кончилось его счастье, угасли надежды. В один миг утратил все самое дорогое — любимую девушку, родных, жилище… Он ударил коня и помчался сломя голову в долину. Товарищи поскакали следом. На разорённом дворе, спешившись, Звенигора снял с головы шапку и долго стоял неподвижно, сразу постаревший, изменившийся в лице, убитый горем. Чувствовал, как что-то жжёт его изнутри, будто в грудь ему положили вместо сердца раскалённый камень, а горечь сжимала горло, как холодная петля-удавка. Он смотрел на пожарище и вроде бы видел печальные, заплаканные глаза матери, Златки, Стеши, дедушки… Где они? Что с ними случилось? Живы или погибли? А если живы, то куда повели их людоловы? Неужели погнали в неволю? Неужели уготована им та же участь, какую он изведал на чужбине? В его груди заклокотало глухое рыдание. Он сознавал, что с этих пор его жизнь пойдёт новым руслом и что на этом новом пути его ждут не просто невзгоды и мытарства, но и кровь, и смерть. Мысленно он клялся совершить все возможное и невозможное, чтобы отомстить своим обидчикам — Юрию Хмельницкому и Ивану Яненченко, а также тому, кто направлял их на чёрное дело, — великому визирю Кара-Мустафе. Не ведал, как он это сделает, где и когда встретит своих врагов, но знал твёрдо, что либо сам погибнет, либо отомстит им! Все в его душе перекипело. Она словно выгорела, стала пустой и каменной. Здесь, на родном пепелище, сразу потеряв самых близких людей, он понял, какое горе пережили сотни тысяч его соотечественников, какие муки приняли они и какой ненавистью наполнены их сердца. Поклялся Арсен и впредь не знать ни жалости, ни сочувствия к тем, кто творит зло его народу, кто, как саранча, опустошает его землю, превращая её в дикое поле. Ему на плечо легла рука Романа. — Не убивайся так, брат! Этим беды не избыть. Рядом остановились Спыхальский и Гурко. Оба суровые, озабоченные. Горе товарища острой болью отдавалось в их сердцах. — А и вправду, Арсен, хватит тужить, — тихо произнёс нежинец. — Давайте лучше гуртом подумаем, что делать. — Что тут придумаешь? — Холера ясная! Да что мы — в худшем положении не бывали? Припомни, друже мой! — воскликнул Спыхальский, стараясь изобразить на лице подобие весёлой улыбки, чтобы подбодрить друга. Но улыбка вышла бледная, вымученная. — И выпутывались каждый раз! — То, пане-брат, было совсем другое, — ответил за Арсена Роман. — Там мы думали только сами за себя. А теперь… Они не заметили, как позади них, на том месте, где раньше стоял соломенный шалаш над погребом, а теперь лежала куча чёрного пепла, тихонько приподнялась обгоревшая ляда и сквозь узенькую щёлочку на них глянули чьи-то глаза, долго привыкали к свету, и вдруг вспыхнули радостью. Крышка с грохотом откинулась — и из тёмной ямы показалась простоволосая всклокоченная голова Яцько. — Арсен! — радостно закричал паренёк и, выпрыгнув из погреба, кинулся в объятия друзей. — Яцько! — Арсен прижал его к груди. — Ты живой?! А где же наши?.. Что с ними? Казак с надеждой смотрел на погреб, словно ожидая, не появится ли оттуда ещё кто-нибудь. Но Яцько, перехватив этот взгляд, печально покачал головой. — Не, не, там больше никого нету… Татары всех забрали — погнали за Днепр… — Значит, живы? — Да, живые… — А ты как?.. — Я сбежал по дороге… До вечера сидел в яру. А потом пришёл в хутор и спрятался в погребе. Накидал туда соломы, вымостил себе гнездо. Там хотя и темно, зато тепло… Я знал, что вы вернётесь сюда… — Спасибо тебе, Яцько… Теперь рассказывай все по порядку. Парнишка начал рассказывать. Все слушали молча, не перебивая и не переспрашивая. Только когда он назвал имена Многогрешного и Яненченко, Арсен быстро переглянулся с товарищами и с досадой покачал головой, будто бы говоря: «Как жаль, что полковник выскользнул из наших рук!..» Весть о том, что всех хуторян ордынцы погнали не в неволю, а на переселение в Корсунь, немного подбодрила казаков, и, когда Яцько закончил свой рассказ, они начали живо обсуждать положение. — Вот теперь ясно, — сказал Спыхальский. — Мы должны ехать в Корсунь и вызволить наших… Только что делать с Яцько? У него же нет коня… — Кто сказал, что нету? — вскинулся парнишка. — В лесу у меня припрятан чудесный конь! Тут их много бродило после боев… Так я поймал одного возле стожка на лугу и привязал в лесу, подальше от вражьего взгляда… — Ну, тогда ты совсем славный хлопец! Я тебя ещё больше уважаю, Яцько! — И Спыхальский похлопал паренька широкой ладонью по спине. — Друзья, не можно тратить время попусту… — Погоди, погоди, пан Мартын, — охладил горячего поляка Гурко. — Давай-ка прикинем, что мы будем делать в Корсуне… — Как это что? — надулся Спыхальский, который не терпел, если с ним не соглашались. — Вызволим Златку, Стёху… Всех наших… — Вчетвером? — Почему вчетвером? — обиделся Яцько. — А я? — Ах да, да… Прости, Яцько, — серьёзно сказал Гурко и сразу же добавил: — Даже впятером мы там, как мне кажется, мало что сможем сделать. — Нужны гораздо большие силы… — Я тоже так думаю, — сказал Роман. — У Яненченко сотни татар… Арсен молчал, понимая, что решающее слово за ним. В первое мгновение он готов был сразу же броситься вслед за своими, но слова Гурко охладили его пыл. Действительно, что они впятером сделают? Да и припасов на дорогу у них нет никаких — ни сухарей, ни сушёного мяса, ни сала. Даже пороха маловато. И вместе с тем сердце его разрывалось при мысли, что Златка в руках людей, которые не привыкли считаться с девичьей красой и молодостью. Для них это был товар, ценившийся на восточных рынках дороже всего. Он колебался. — Как же теперь быть, батько Семён? — спросил наконец Арсен. — Трудно тут что-либо советовать, — ответил Гурко. — Вернее, не трудно, а опасно… Как бы не ошибиться… — И все-таки мы должны на что-то решиться. — Безусловно… Поскольку впятером мы не поможем нашим, то нам нужно немедля мчаться в Сечь. Если, конечно, там есть друзья, которые захотят пособить вам… — Друзья есть. — Вот и добре. Поездка в Сечь, а потом в Корсунь займёт не более десяти дней… Пусть даже две недели… Но и отсюда до Корсуня нам добираться дней пять… Так что за это время, можно думать, с твоими родными, Арсен, ничего не случится. К тому же не забывайте, что с ними Якуб, Младен, Ненко. Мне кажется, они найдут какую-нибудь возможность вступиться за Златку и за всех остальных… — Я тоже на это надеюсь, — согласился Арсен. — А как ты думаешь, Роман? — Без запорожцев нам не обойтись, — коротко ответил дончак. — Ну, если так, тогда покормим коней — и айда в дорогу! Путь не близкий, а время не ждёт. ПАЛИЙ Заметённая снегами Сечь показалась путникам совсем безлюдной. На площади — ни одной живой души. Возле церкви, войсковой канцелярии и возле оружейной, где всегда околачивались те, кому нечего было делать, тоже никого. Только на башнях маячили часовые да из широких, обмазанных глиной труб над приземистыми куренями лениво поднимались в мглистое сизое небо голубые утренние дымки. У Арсена возникло опасение: вдруг он не застанет близких друзей в Сечи? И обычно-то на зиму многие разбредались кто куда мог. А сейчас… За годы войны исчерпались запасы хлеба, казацкие хозяйства пришли в упадок, с Украины почти никакого подвоза, и братчики, у кого была собственная хата-зимовник или было к кому податься — к родным, знакомой вдовушке или просто в наймы к своему же, но богатому братчику-запорожцу, — после победы над янычарами и выборов кошевого разошлись из Сечи. И все же он не ожидал, что Сечь так опустеет. Что же случилось? То ли все вымерли, то ли черт их забрал? Хорошо ещё, если в курене наберётся какая-никакая сотня казаков… Друзья привязали лошадей к коновязи и зашли в Переяславский курень. Здесь было полутемно, так как замурованные морозом маленькие окошки пропускали немного света. В печке и лежанке потрескивали дрова. На нарах, несмотря на позднее утро, храпели десятка два или три запорожцев. А те, что проснулись, занимались кто чем хотел — латали одежду и обувь, вырезали из вербы и липы ложки, ковганки[14], острили сабли, резались в карты… Оказалось, что людей в курене не так уж и мало. Это ещё больше удивило Арсена, ему было известно: Серко никогда не позволял людям бездельничать. Он считал лень первым врагом воина. Почему же сейчас такая поблажка? Если б праздник какой или воскресенье — но нет! — Доброе утро, братчики! — поздоровались прибывшие, стягивая с голов покрытые инеем шапки. — Арсен! Голуба! Какими судьбами! — воскликнул Метелица и раскрыл медвежьи объятия. Старый казачина всегда был рад видеть молодого казака, к которому чувствовал отцовскую любовь. С лежанки, швырнув на пол вытертый, латаный-перелатаный кожушок, соскочил дед Шевчик и засеменил к Звенигоре. Метелица и Шевчик одновременно подошли к Арсену, поцеловали в холодные, заросшие густой темно-русой щетиной щеки. Бросив на стол карты, от окна мчался, перескакивая через скамьи, проворный, щеголеватый Секач. Как всегда, он был одет в новый, хорошо пригнанный жупан, на ногах красовались красные сапоги на железных подковках, а зеленые бархатные шаровары, казалось, только что вышли из-под руки портного… Только одно не вязалось с его нарядным видом — на нем не было сорочки. Очевидно, проиграл. Однако это не испортило ему настроения. Собственно, сколько Арсен помнит, настроение у Секача никогда от этого не ухудшалось. Проигравшись до нитки, он исчезал на недельку-вторую, а потом опять появлялся прекрасно одетый, на добром коне. Поговаривали, что у него в Киеве есть богатая молодая вдова, безумно влюблённая в запорожца, которая и снабжает своего любимца и деньгами, и одеждой. Другие возражали и говорили, что Секач — настоящей фамилии его никто не знал — сын какого-то богатого пана или купца, а может, даже самого киевского архиепископа… Но это были, разумеется, только предположения… А в жизни это был острый на язык, хорошо знакомый с риторикой, поэтикой, греческим и латинским языками щеголеватый сорвиголова, безоглядно храбрый в бою, безмерно щедрый в дружбе красавец запорожец. Таким знали его все, а о другом не спрашивали… Он подбежал к Арсену, обеими руками ударил его по плечам. — Арсен, брат! Ты снова с нами!.. Но как же ты оставил молодую жинку? Иль, может, выгнала? Га-га-га! Зашевелился весь курень. Новый человек — это всегда какие-то новости. А тут прибыло сразу пятеро… Казаки, кроме тех, кто ещё не очнулся ото сна, столпились вокруг вошедших. Каждому хотелось услышать, что творится в мире, что нового на Украине, как называли запорожцы все украинские земли, кроме самого Запорожья. — Ну, чего ж ты молчишь, Арсен? — дёрнул казака за рукав Шевчик, который так и пританцовывал от нетерпения. — Рассказывай! — Что рассказывать? — вздохнул Арсен. — Ничего радостного нет… — Что стряслось, сынку? — спросил встревоженно Метелица, сразу заметивший, что в глазах Арсена притаилась глубокая тоска. — Юрась Хмельницкий с ордою напал на Левобережье. Опустошил всю южную Лубенщину… Людей угнал на правый берег, села спалил… Моих тоже забрал… И наречённую, и мать, и сестру… — У, проклятущий! — отозвался кто-то из казаков. — Вот я и приехал к вам, братцы, за помощью… Как видите, нас только пятеро — идти с такими силами на Хмельниченко да на Яненченко неразумно. А если бы нашлась среди вас какая-нибудь полсотня или сотня охотников-добровольцев, тогда бы мы могли смело пойти на Корсунь, куда увели моих родных и всех лубенцев… — А почему бы и не пойти нам? — воскликнул Секач. — Весь курень пойдёт! — А как же! — прошамкал беззубым ртом дед Шевчик. — Я первый пойду! — Он выпятил сухую грудь вперёд, поднял голову, от чего стал похож на задиристого петуха. — За справедливое дело и голову не жаль сложить! Когда-то все одно придётся помирать! И не гоже казаку на печи дожидаться щербатой, чтоб ей пусто было! Ещё несколько запорожцев, близких друзей Арсена, согласились идти в поход. Но многие молчали. Метелица, понурившись, чесал заскорузлыми пальцами затылок и смущённо посматривал на Арсена. — Не знаю, что и сказать, сынку, — наконец промолвил он. — Конечно, я тоже хотел бы пойти с тобой… Но тут такая закавыка… — Какая, батько? — Дозволит ли кошевой? — Я думаю, Серко позволит. — В том-то и дело, что Серко сейчас у себя на хуторе… В Грушевке… Отдыхает старик… А наказным кошевым атаманом оставил Ивана Стягайло, нашего куренного… Ты сам знаешь, какой он… Скупой — зимой снега не выпросишь, а своевольный да упрямый, как осел! Я ему в глаза не раз говорил это… Захочет — дозволит, а муха какая укусит не за то место — не дозволит! — А мы его и спрашивать не будем! — рассердился Секач. — Не кипятись, хлопче! Это дело не такое простое, как ты думаешь! — оборвал его Метелица. — Ведь самому понятно — без разрешения не пойдёшь, если не хочешь отведать батогов… А хотя бы и пошёл, то не далеко бы отошёл! Без кошевого не возьмёшь в дорогу ни пороху, ни олова, ни сухарей, ни солонины… Опытный и рассудительный Метелица, как всегда, был прав. — Что же ты посоветуешь, батько? — спросил Арсен. — А что я посоветую? Идти к Стягайло… Я тоже пошёл бы, да боюсь, что мой лик не очень нравится наказному атаману. Так что моё присутствие может и напортить тебе… Иван Стягайло приобрёл на Запорожье славу отчаянного, бесстрашного воина-казачины и скупого, ненасытного хозяина-жмота. В бою, распалившись, он не раз смело смотрел смерти в глаза, бросался туда, где было более опасно, и на теле имел столько шрамов, сколько, должно, не имел латок на своей одежонке последний нищий. Его рука не знала усталости, и тяжёлая сабля нагоняла страх на врагов. Не одному братчику приходила она на помощь, спасая в трудную минуту от неминуемой смерти… За это запорожцы любили и уважали Стягайло. Зато дома, в Сечи и на хуторе, он был совершенно другим человеком. Никто не имел больше, чем у него, земли, лесов, коней, скотины, пасек. Ни у кого из казаков-богатеев не было столько батраков и батрачек, как у Стягайло. И никто из них не был так скуп, как он. Все, что прилипало к его рукам, прилипало навеки… Во время дележа военной добычи, пользуясь своим атаманством, тянул к себе самые дорогие вещи, самые лакомые куски, а когда на куренной раде делили земельные угодья, магарычами, подкупами, а то и криком, потому как имел лужёную глотку, добивался для себя наилучших делянок… Не брезговал и ростовщичеством — давал своим братчикам-запорожцам деньги в рост и потом драл с них три шкуры. За это казаки ненавидели его и прозвали: Стягайло. Поначалу он злился, когда его так окликали, но ничего поделать не мог — кличка пристала как смола и вошла в запорожский реестр. А со временем привык к ней, смирился, хорошо зная, что у запорожцев часто встречаются фамилии, клички и похлеще, даже обиднее, оскорбительнее — разные Дериземли, Безштаньки, Голопупенки, Кривошеи, Рябые, — свою же настоящую фамилию давно забыл и никогда о ней не вспоминал. Он был видный казак, его не раз выбирали куренным атаманом. Но ему казалось этого мало, и он втайне примеривался к булаве кошевого. Ради такой заманчивой цели иногда даже раскошеливался — задабривал куренных атаманов и старых влиятельных казаков, а в день своего рождения ставил бочку горилки на сечевом майдане для голытьбы, надеясь, что на раде своим криком она может поддержать его. Таким был этот человек, от которого в значительной мере зависело сейчас будущее Арсена. Он очень хорошо знал Стягайло и сам, и по рассказам Метелицы, потому побаивался, идя с друзьями к войсковой канцелярии. На его стук в дверь послышалось громкое «войдите». Четыре казака вошли в светлицу и, отвесив поклон, остановились у порога. Стягайло сидел за столом и читал книгу. Арсен издали узнал «Синопсис» Иннокентия Гизеля, архимандрита Киево-Печерской лавры и профессора Киево-Могилянского коллегиума. Эта книжка появилась лет пять или шесть тому назад и сразу приобрела широкую известность на Украине и по всей России, потому что была первым учебником отечественной истории. Арсен сам увлекался ею. Отложив книжку в сторону и сняв с широкого седлоподобного носа маленькие очки в железной оправе, Стягайло внимательно осмотрел казаков, расправил длинные густые усы и прогудел, как в бочку: — Здорово, молодцы! С чем пришли? Арсен выступил вперёд и рассказал о нападении ордынцев на Лубенщину, об уничтожении хутора и об утрате семьи. — Так чего же ты хочешь, казаче? — Я хочу вызволить своих родных. Они, вероятно, в Корсуне… — Гм, чем же я могу помочь? — Дозвольте, батько, набрать желающих… да снарядить их припасами из войсковой казны. — Вот как! — Стягайло наморщил лоб. В глазах промелькнуло беспокойство. — Ты, казаче, думаешь, что говоришь?.. Да разве я могу без согласия на то царя или гетмана самочинно начинать поход против османов? Это же может вызвать большую войну! Обескураженный Звенигора развёл руками: ответ наказного атамана показался ему резонным. Но тут включился в разговор Семён Гурко. — Батько кошевой, с каких это пор на поход против извечных врагов наших нужно разрешение? — спросил он. — Тем более что с Портой и Крымом у нас ещё нет мирного договора… Стягайло с удивлением уставился на незнакомца. — Ты кто? Я что-то не припомню твоего лица… — Семён Гурко, отставной казак Нежинского полка. — Гм, а с каких это пор отставной казак с Левобережья указывает кошевому, что он должен делать? — с издёвкой молвил Стягайло. — Я не указываю. Я только высказал удивление… — Удивление можешь высказывать у себя на печи, а не перед кошевым! Каждый бродяга будет ещё поучать меня! — Сегодня я бродяга, а завтра стану запорожцем. С этим и прибыл сюда… — Вот как станешь, тогда и буду говорить с тобой! Только таких умников у нас и своих хватает — не знаем куда девать! Это была прямая угроза. Но Гурко пропустил её мимо ушей. — Не будем препираться, батько кошевой. Ведь прибыли мы не для того… Я думаю, что в ответ на нападение гетман сам пошлёт войско на правый берег, чтобы наказать Юрася, и вряд ли будет против того, чтобы какая-то сотня запорожцев приняла участие в этом походе… Нам нужны всего лишь порох, олово да хлеб или сухари. Неужели Сечь пропустит случай малость потрепать ханские чамбулы, которые, прикрываясь именем Юрася Хмельниченко, гуляют по Правобережью, как у себя дома? — Я повторяю ещё раз, казаче, что это не твоего ума дело, — упрямо стоял на своём Стягайло. — Как знать, как знать, — с вызовом и лёгкой иронией в голосе сказал Гурко. — Ты слишком самоуверен, казаче, — нагнув бычью шею и наливаясь кровью, гаркнул наказный атаман. — Но мы и не таким рога обламывали! — Батько, мы пришли сюда не ссориться и выяснять, кто из нас умнее, — вмешался Арсен, сдерживая гнев, закипающий в сердце. — Мы пришли за помощью… А коль мы невпопад, то можем и назад!.. Извиняйте, что побеспокоили… Идём, друзья! — Идите подобру-поздорову!.. И вот тебе моё последнее слово, казаче. Ты сам или со своими друзьями можешь ехать куда угодно — в Корсунь, в Канев или к самому черту в зубы! Но снаряжать за счёт Сечи военную экспедицию, чтобы вызволить твоих родных, я не позволю!.. У нас и без этого мало припасов. А хлеба и сухарей почти совсем нет. Сидим на саламахе… Вот так! Казаки молча поклонились и вышли. — Пся крев! — выругался Спыхальский, спускаясь с крыльца. — Остались на бобах, прошу пана! — И вправду, разве ожидали такого?.. — глухо отозвался Роман. — Что же будем делать, братья? — Поеду к Серко на хутор! — решительно заявил Арсен. — Неужели и он откажет мне? — Поезжай, Арсен! Езжай не мешкая! — поддержал друга Спыхальский. — А мы тем временем сговорим желающих да примем батьку Семена в кош… Езжай! Арсен молча кивнул, и друзья направились в курень. После обеда Переяславский курень загудел, как растревоженный улей. В сечевое товарищество принимали Семена Гурко. Обычно приём проходил тихо-мирно. Вновь прибывшего парубка или опытного казака, желающего вступить в запорожское товарищество, куренной атаман спрашивал, добровольно ли он вступает в семью славных рыцарей войска запорожского и согласен ли он слушаться своих атаманов. Если неофит говорил, что вступает добровольно и будет слушаться всех атаманов, его спрашивали, как он прозывается. Именно — как прозывается, и если новичок по тем или иным причинам не хотел, чтобы в реестре фигурировала его настоящая фамилия, то туда заносилась лишь кличка. Эта традиция установилась ещё с тех пор, когда крепостные крестьяне, бежавшие на Запорожье от панов, умышленно скрывали свои настоящие фамилии, а панам или чиновникам короля, требовавшим выдачи беглеца, можно было сказать, что это не тот, кого они разыскивают, а совсем другой человек, вот даже и фамилия у него другая… Если же клички не было, то наблюдательные запорожцы тут же на ходу придумывали её, чаще всего подмечая какую-нибудь черту характера или внешности новоиспечённого казака. «Нехай будет Рябоштаном!» — выкрикивал кто-нибудь, намекая на пёстрые, рябые штаны прибывшего. Или: «Да он глухой, как тетеря[15], пускай Тетерей и прозывается!» Так и записывали… С этой минуты новичок становился запорожцем. Если он был юношей или взрослым человеком, но не знакомым с военным делом, то его называли молодиком и прикрепляли к старому бывалому казаку, который года за два или за три должен был научить своего подопечного орудовать саблей и копьём, метко стрелять из ружья, пистолета, гаковницы[16] и пушки, копать шанцы, выстраивать походный табор из возов, ездить на коне, мастерить чайки[17] и плавать на них и ещё множеству больших и малых дел, с которыми полагалось уметь справляться запорожцу. Обучение проводилось не даром. Молодик обязывался служить «батьке» и отрабатывать на зимовнике, то есть в хозяйстве своего учителя. Но встречались и такие учителя-бессребреники, как старый Метелица, которые за науку не требовали ничего, кроме кружки горилки да уважения… Если же вновь обращённый был опытным воином, он сразу вливался в состав запорожцев, курень принимал его как равного. Однако сегодня традиция нарушилась. Когда Семён Гурко подошёл к группе седоусых казаков и, поклонившись, как положено, попросился в Переяславский курень, наказной куренной атаман Могила, назначенный на то время, пока Стягайло будет наказным кошевым, сказал: — Человече, я не против… Как говорится, мне все равно… Но лучше, ежели мы покличем кошевого. Что-то у него на тебя зуб, кажись, есть… Правда, по нашим обычаям, мы можем принять тебя и без кошевого, но он решил сам присутствовать на куренной раде, и не годится перечить атаману. Тем более что он — наш куренной… И Могила послал молодика за Стягайло. Эти слова наказного куренного неприятно поразили Гурко. Значит, кошевой уже успел переговорить о нем с видными казаками куреня, от которых прежде всего зависит его судьба. Да, злопамятный человек и, кажется, не большого ума… Ждать пришлось недолго. Красный от мороза и от кружки крепкого мёда, который он любил принимать перед обедом, Стягайло поздоровался, скинул кожух и сел к столу. — Ну, что тут? — спросил мрачно. — Да вот, батько, новичок просится в наш курень, — сказал Могила. — Новичок? Кто же это? — Стягайло притворился, что не замечает Семена Гурко. Гурко вышел вперёд, поклонился. — Это я, батько. — А-а, это ты… Нежинский казак… Как же тебя звать? — Семён Гурко. — Сколько лет тебе? — За сорок повернуло. — А в войске сколько? — Двадцать. — Ты, кажется, грамотный? — Малость кумекаю. Учился в Киевской коллегии. Кошевой пристально разглядывал казака, будто хотел разгадать его самые сокровенные мысли. Что ж, красивый, сильный и рассудительный. Смотрит смело, держится независимо, словно и впрямь важная птица. «Примешь на свою голову такого разумника, а через год-другой он, чего доброго, даст тебе коленом под одно место и спихнёт с куренного… Знаем мы таких! Не раз уже случалось!» — подумал Стягайло, а потому, хотя и пытался сдержать свои чувства, сказал сердито: — Ну, что ж, я не против. Но просись, хлопче, в другой курень. У нас и так много народа! Даже спать негде, когда соберутся все… А вот в Незамаевском да Мышастовском куренях маловато. Шёл бы туда! — Однако, батько кошевой, мне хотелось бы со своими товарищами… — Мышастовский курень рядом… Вот и будете вместе! — А в походе? В бою?.. Разве дело в том, чтоб вместе только спать или из одной миски саламаху хлебать? — Тебя не переговоришь, — насупился Стягайло. — Не в меру умен и настырен этот новичок, — поддержал кошевого низенький и круглый, как бочка, казак Покотило, давний приятель Стягайло. — Ты, человече, слыхал, что тебе сказано? И не кем-нибудь, а самим кошевым! Забирай манатки — да иди себе без оглядки! Гурко медлил, собираясь с мыслями, как бы помягче ответить, но его опередил Роман Воинов. — Братья, я не понимаю, что тут происходит? Человек просится в наш курень, а его допрашивают, как на суде! Прогоняют, как собаку… А ты-то, Покотило, хоть знаешь ли, что за человек перед тобой? Да ты батьке Семёну и в подмётки не годишься! — Чья бы мычала, а твоя бы молчала! — тонко взвизгнул Покотило. — Кто ты такой!.. Сам шатаешься черт знает где, а не успеешь заявиться на Сечи — свои порядки устанавливаешь! — Тебя забыл спросить, что мне делать! — отрубил Роман, тряхнув своим пышным пшеничным чубом, который он, как и Арсен, не сбрил вопреки запорожскому обычаю. — Если бы все сиднем сидели по зимовникам, как ты, да держались за подолы своих жинок, давно бы уже ордынцы переловили нас всех, как перепёлок! Покотило вспыхнул и схватился за саблю: — Щенок! С кем разговариваешь?.. Я тебе в батьки гожусь! За спиной Романа тяжело засопели Спыхальский и Метелица. Начал пробираться вперёд Секач. У Шевчика от волнения покраснела тонкая шея. — Кто посмеет тронуть Романа? — рявкнул Метелица. — А ну, выходи! Но сперва будешь иметь дело со мной! — И со мной! — встопорщил усы и зло повёл глазами Спыхальский. — Да нехай и про меня не забывает! — выскочил вперёд Шевчик. Весь курень зашевелился. Послышались крики, ропот. Все столпились вокруг спорщиков. Одни становились на сторону кошевого и Покотило, другие поддерживали Романа и Метелицу. Большинство же казаков не знали, из-за чего ссора, и сгрудились посреди куреня, просто ожидая интересного зрелища, но понемногу и они начали втягиваться в спор. Лишь наказной атаман Могила не присоединялся ни к тем, ни к другим. В душе он не одобрял поведения Стягайло, но и выступить против не смел, так как, будучи сейчас куренным, обязан был поддерживать кошевого. Масла в огонь подлил Секач. Поблёскивая новым бархатным жупаном, он протиснулся к самому столу и завопил: — Братчики, чего наказной кошевой выдумывает? Спокон веку у нас был обычай, что новичка принимает в кош курень… Потому и сейчас мы должны решать — принять или не принять. А Иван Стягайло в этом случае имеет не больше прав, чем мы! — А и вправду, возгордился, старый черт! — прошепелявил беззубым ртом Шевчик. — Забыл, как грязюкой мазали голову, чтоб помнил, откуда вышел! — Распоясался, что и удержу нету! — послышалось откуда-то сзади. — Сущий мироед! Дука[18]! Стягайло от гнева покраснел, но молчал. Чувствовал, что криком сейчас не возьмёшь. У людей прорывалось озлобление, копившееся долгое время, и он знал, что ему надо дать выход, чтобы избежать взрыва. За его спиной стягивались знатные казаки-богатеи. — Кто там кричит на кошевого? А ну-ка выйди сюда! — заверещал Покотило. — А кукиш с маком не хочешь? — Иди сам сюда — обомнём тебе бока! — Тихо, братчики! Тихо! — закричал Могила, видя, что запорожцы вот-вот вцепятся друг другу в чубы. В поднявшемся шуме его не слышали. Тогда вскочил Стягайло и гаркнул так, что глина посыпалась с потолка: — Будет вам, иродовы дети! Нашли время для крика! Поразевали рты, как голенища, и думают, что их кто-то испугается! Заткнитесь, говорю!.. Разве я против того, чтоб этого человека принять в наш курень? Кто слыхал такое? Кошевой выдержал паузу, внимательно прислушиваясь к затихающему ропоту. За многие годы казакованья он хорошо изучил этих людей и знал — в критическую минуту нельзя переть на рожон, а нужно отступить, успокоить возбуждённых запорожцев, которые в гневе могут натворить черт знает что, а когда они угомонятся — вновь взять поводья в руки и делать с ними все, что вздумается… Почувствовав лёгкое изменение в настроении толпы, ошарашенной таким неожиданным коленцем наказного, Стягайло немного понизил голос: — Я сказал только, что в Мышастовском и Незамаевском куренях людей поменьше и не так тесно! Но если вам хочется принять его непременно к себе, так, по мне, — хоть всю гетманщину принимайте! — Принять! Принять! — раздались голоса. Казаки вмиг забыли о ненависти, вспыхнувшей в их сердцах. Кто-то намекнул, что новичку следовало бы ради такой оказии поставить товариществу бочонок горилки. Но тут вновь подал голос Покотило. Обида переполняла его, и ему хотелось хотя бы чем-нибудь пронять тех, кто оскорбил его самолюбие. — Как же его принимать, когда у него и прозвища никакого нету? — спросил он. Однако настроение запорожцев уже улучшилось настолько, что они восприняли это как шутку. Кто-то крикнул: — И вправду — треба прозвище! — Треба! Треба! — Так дадим ему прозвище! — Дадим! Дадим! — А какое? Задумались казаки. Кое-кто наморщил лоб. Другие начали осматривать новичка со всех сторон, пытаясь к чему-нибудь прицепиться. А Семён Гурко спокойно стоял в кругу казаков, улыбаясь доброй подкупающей улыбкой, и с высоты своего роста — он едва не подпирал кривую матицу старого, вросшего в землю куреня — оглядывал ясными глазами сечевое товарищество, среди которого предстояло ему отныне жить, делить радости и горе, жизнь и смерть. Какие разные лица, фигуры! Люди старые, и пожилые, и совсем молодые… Но всех их объединяла любовь к отчизне, ради которой они поклялись сносить и тяготы военной жизни, и разлуку с семьями, ради неё нередко проливали и свою и чужую кровь, расплачивались жизнью… Теперь они притихли, как дети, и напряжённо думали, какую же кличку дать этому русому красавцу с обветренным мужественным лицом и высоким, слегка покатым лбом? И никто не решался произнести какое-либо язвительное или обидное слово, которым чаще всего наделяли новичков. Большая крепкая фигура, умный взгляд серых глаз, который проникал в самую душу, ладно сшитая одежда — ничто не давало повода для насмешливого прозвища. Но как-то нужно назвать! Спыхальский тихонько посмеивался и подталкивал Гурко в бок — попался, мол! А Покотило, чтобы окончательно развеять плохое впечатление о себе, с вкрадчивой улыбкой воскликнул: — Ну, вот видите? Как же его принимать? Он ничего такого не сделал даже для того, чтоб прозвище ему придумать! — А и вправду, леший его забери! — показал свой единственный зуб Шевчик. — Он ничем ещё перед нами не отличился. Ничего не отчебучил! Гурко на мгновение задумался, посерьёзнел и, хитро подмигнув деду, усмехнулся весело: — Ну, за этим дело не станет! Если вам так уж хочется, чтоб я отчебучил что-нибудь, могу и отчебучить! Хотя и вышел давно из этого возраста! На выдумки я всегда был мастак!.. Только, чур, не обижаться! Сами напросились! И он начал протискиваться к двери. По мере его продвижения в курене стихал шум. Всех томило любопытство: что удумал новичок? Какой фортель выкинет? Чем развеселит их?.. Может, и вправду он необычайный выдумщик, шутник и острослов? Таких они любили, потому что и сами были не против пошутить, подтрунить над кем-нибудь, до слез насмеяться. Проходя мимо печки, в которой полыхало малиновое пламя, Гурко остановился. Видно, в голову ему пришла новая, неожиданная мысль. Его выразительные серые глаза заискрились смехом. Хмыкнув в усы, он вдруг нагнулся, выхватил из огня горящую хворостину и быстро выбежал в сени. 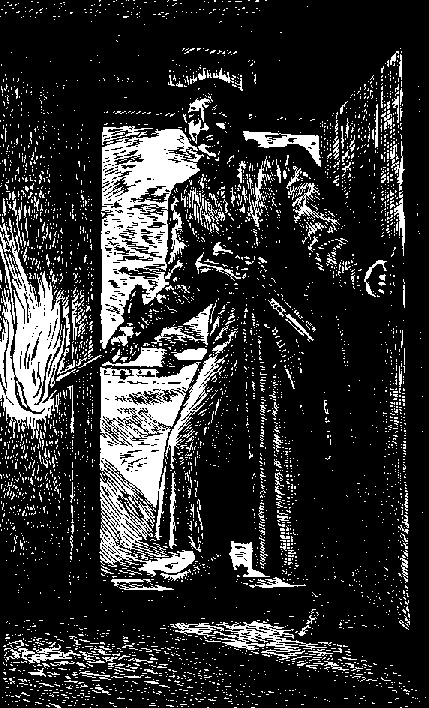 Запорожцы проводили его недоуменными взглядами. — Гм, что же он надумал, разумник? — нарушил всеобщую тишину Покотило. — А и вправду, интересно — что? — выскочил вперёд дед Шевчик, вытянув из потёртого воротника свитки сморщенную, как у индюка, шею. — Не чертей ли поджаривать? Тогда куренной Могила приказал одному молодику: — Пойди-ка погляди! Тот помялся — очень не хотелось выходить на холод, — набросил на плечи кожушок и медленно направился к сеням. Минуту спустя влетел назад возбуждённый, перепуганный. От порога выпалил: — Горим, братчики! — Как? Где? — переполошились запорожцы. — Говори толком, вражий сын! — гаркнул Стягайло, вскакивая. — Курень горит! Подпалил этот проклятый палий[19]! Запорожцы опрометью бросились к двери, толкая и давя друг друга, выскакивали во двор и от неожиданности замирали: камышовая крыша куреня пылала в двух местах, как стог сухого сена. А с подветренной стороны стоял Гурко и подносил горящую хворостину под стреху. — Ты что ж это делаешь, треклятый?! — налетел на него Стягайло. — Да за это тебя надо у столба до смерти засечь, разбойник! Надо же придумать такое — поджечь курень! Огонь разгорался. В сечевой церкви ударили на сполох в колокол. Изо всех куреней высыпали запорожцы и, увидев пожар, мчались кто в чем был к переяславцам. — Воду, воду давайте! Засыпай снегом! — неслись крики. — Срывайте камыш! — Выносите из куреня оружие, чтоб не погорело! На шум сбежалась вся Сечь. Появились деревянные ведра. Запорожцы стали цепочкой и начали подавать воду. Несколько человек длинными баграми срывали с крыши снопы камыша, отбрасывали в сторону и там затаптывали в снег. Все куренное добро — ружья, сабли, пистолеты, посуду, одежду — вынесли и свалили подальше общей грудой. Вскоре пожар погасили. С обгоревшей крыши, чернеющей безобразными рёбрами стропил и слёг, поднимался сизый дым, смешанный со смердящим паром. Сам курень не пострадал, он был обмазан толстым слоем глины и загореться не мог. Казаки постепенно успокаивались. Но вдруг зарокотал громкий голос Стягайло: — Довбиши[20], бейте в литавры! На раду! Все на раду! Тревожно загудели литавры. Запорожцы дружно повалили на сечевой майдан, посреди которого высился гладко отёсанный дубовый столб, выстраивались по куреням в круг. Вполголоса допытывались друг у друга: что случилось? По какой причине собирается рада? Никто ничего толком не мог объяснить. Понятно стало лишь тогда, когда молодики вывели под стражей Гурко, а Стягайло закричал: — К столбу его ведите! К столбу! Накажем киями[21] проклятущего палия! На майдане нарастал гул. Казаки из других куреней, не зная, что произошло у переяславцев, поддержали кошевого и тоже закричали: — Казнить его! Казнить! — Он спалил бы всю Сечь! — За такое нужно хорошенько погладить по спине! Кто-то принёс из оружейной охапку увесистых палок. Выкатили бочку горилки и вынесли деревянный ковш. Молодики быстро привязали Гурко к столбу. Все было готово к экзекуции, которая на Сечи называлась «столбовой смертью». Поражённые переяславцы некоторое время молчали. Вот как все обернулось! Шутка привела к смертоубийству! Приём в товарищество превратился в кровавую расправу. Разве это справедливо? Поначалу послышался глухой ропот. Запорожцы начали перешёптываться. Потом раздались крики. Недовольные стали группироваться вокруг Воинова и Слыхальского, а также Метелицы, который не скрывал своих чувств и мыслей, вдоль и поперёк понося Стягайло. — Надо спасать батьку Семена! — кричал Роман. — А то, как я вижу, кое-кто шуток не понимает! — Или не желает понимать, чёртов сын! — гудел Метелица, не сводя свирепого взгляда с наказного кошевого. — Проклятый дука! Кровопивец!.. Такой дорвётся до булавы — так все мы останемся без головы! А тем временем Стягайло действовал быстро и решительно. Не вдаваясь в долгие разговоры и объяснения, он подошёл первым к столбу, зачерпнул из бочки ковш горилки — выпил и, вытерев ладонью усы, сказал: — Братчики, казним палия, который хотел спалить нашу мать Сечь! Который хотел довершить то, чего не удалось сделать янычарам! Видать, этого человека подослал Юрась Хмельниченко… Так не будет ему пощады! Он схватил палку и со всего размаха ударил Гурко по спине. За ним вышел Покотило. Перекрестился. Зачерпнул ковш горилки… Выпить он не успел. С криками возмущения и руганью к нему ринулась группа запорожцев. Впереди мчался быстроногий Секач. Он толкнул Покотило так, что тот пропахал носом снег. Метелица, держа в руке саблю, заслонил собою Гурко, крикнул во всю силу могучих лёгких: — Братчики! Не троньте! Кто поднимет руку на этого человека, тот совершит мерзкое дело! Несправедливое дело! А впридачу отведает моей сабли!.. Роман и Спыхальский тоже выдернули сабли и стали рядом с Метелицей. К ним присоединилось ещё несколько переяславцев. Даже наказной атаман Могила, нагнув по-бычьи крутую шею и сверкая исподлобья чёрными глазами, подошёл к столбу и положил руку на пистолет, торчавший за поясом. Над майданом воцарилась грозная тишина, предвещавшая бурю. Минуту спустя Покотило, вскочив на ноги, выхватил саблю и кинулся на Секача. — Мальчишка! Как ты смел ударить меня?! Знатного казака! И за что? И ты ещё посмел выступить против кошевого? Да за все это я знаешь что сделаю? Посеку как капусту! Невысокий, толстый, круглый, точно бочонок, он тем не менее был достаточно искусный мастер драться на саблях. В первое мгновение Секач вынужден был отступить, едва сдерживая бешеный натиск разъярённого противника. Но вскоре потеснил его назад, стараясь выбить из руки саблю. Стягайло же отошёл в это время в сторонку, лихорадочно соображая, как поступить. Он не предвидел такого сопротивления и сначала растерялся, но, видя, что бунтовщиков немного, решил сразу покончить и с ними. — Эй, атаманы! — закричал он во весь голос, так, что эхо отдалось где-то на Днепре. — Эй, атаманы! Ко мне! Взять этих бунтовщиков! В холодную их! В холодную! Строй дрогнул. Из разных куреней выскочило несколько десятков казаков. Но большинство, обескураженные и возбуждённые необычными событиями — пожаром, столбовой казнью, откровенным выступлением многих переяславцев против Стягайло, оторопели и стояли в нерешительности. Майдан тревожно гудел. — Братчики! Кого в холодную? — взревел Метелица. — Меня? Хотел бы я увидеть смельчака, который посмеет это сделать! Несмотря на мороз, он был без шапки, в одной полотняной, распахнутой на груди рубахе и широченных синих турецких шароварах. В правом ухе поблёскивала золотая серёжка. Могучая грудь вздымалась, как кузнечный мех, а сильные ноги будто вросли в землю, как два дуба. И казалось, нет такой силы, которая могла бы стронуть его с места. Метелицу в Сечи знали все. Знали его силу, умение драться на саблях, отчаянную смелость, бескорыстность. Знали, что переяславцы не раз хотели избрать его куренным, но он отказывался, потому что не отличался ни властолюбием, ни честолюбием, а больше всего на свете ценил и берег собственную свободу и достоинство, сильнее всего любил Сечь, ставшую его домом, так как не имел ни кола ни двора, да товарищество сечевое, которое заменяло ему семью. Потому и его все любили, за исключением разве что некоторых богатеев, над которыми он частенько посмеивался. Когда переяславцы услыхали, что Метелице угрожает холодная, они почти все двинулись ему на помощь. Но тут вдруг раздался чей-то голос: — Серко в Сечи! Серко в Сечи! Моментально наступила тишина. Серко пользовался на Запорожье такой большой популярностью и симпатией, как никто из кошевых до него. Его уважали, боялись и — боготворили… Поэтому появление славного предводителя сразу всех отрезвило. Сотни глаз одновременно повернулись к воротам, навстречу двум всадникам, неторопливо приближавшимся на покрытых инеем конях. Серко въехал на майдан в сопровождении Арсена Звенигоры, снял шапку, поклонился товариществу. — Доброго здоровья, братья, атаманы, войско запорожское! — поздоровался он. — Доброго здоровья, батько кошевой! — откликнулись казаки. — Что у вас стряслось, к чему сошлись на раду?.. Иль собираетесь в поход на турка, иль отповедь чужеземным послам готовите? Сечь молчала. Запорожцы смущённо отводили глаза, опускали головы. Не знали, что ответить кошевому. Не слезая с коня, Серко окинул взглядом майдан. Увидев привязанного к столбу незнакомца, некоторое время пристально вглядывался в него. На лице промелькнуло удивление. — За что вы казните этого молодца? Вперёд медленно вышел Стягайло. Поклонился. — Батько кошевой, он подпалил курень… Чуть было не сгорела вся Сечь! — Как это подпалил? Для чего? — Должно, со злым умыслом… — Не может этого быть! — воскликнул Арсен взволнованно. — Я знаю этого казака! Я тебе рассказывал, батько, про него! Это какое-то недоразумение! — Да что ты слушаешь Стягайло! Брешет он, собака! — крикнул Метелица, не пряча тяжёлой сверкающей сабли. — Все было не так! Не понравился ему человек — вот он и решил учинить самосуд над ним! — Ка-ак?! Без суда — к столбу? Кто ж это дозволил? — Сам дозволил… Думал небось, после пожара никто возражать не станет, — пояснил Воинов. — Развяжите его! — приказал Серко. Арсен мигом спрыгнул с коня, подбежал к столбу, рубанул саблей верёвку. Гурко, потирая онемевшие запястья, весело улыбнулся белозубой улыбкой, — от чего весь мрачный майдан тоже повеселел, — и, обняв Арсена за плечи, приблизился вместе с ним к кошевому. — Спасибо, батько кошевой! Теперь верю, что поживу ещё… А то подумал: как отдубасят этими кийками, — он кивнул на груду длинных увесистых палок, — так и полетит моя душа к Вельзевулу в пекло! — Отчего же? Иль нагрешил? — усмехнулся Серко, глядя на улыбающееся лицо Гурко. — Бывало… да и кто на свете без греха? — А курень зачем подпалил, грешник? — Сказали переяславцы, что я ещё ничего этакого, выдающегося, не сделал. — Так ты и отчудил? — Отчудил, батько… — Захотел, чтобы Палием прозвали? — Честно говоря, тогда не думал, как меня прозовут… — Ха-ха-ха! — засмеялся Серко. — Что не говорите, братья, а надо иметь мудрую голову, чтобы придумать такое! Запорожцы, сгрудившиеся вокруг кошевого плотной гурьбой и слушавшие разговор, весело захохотали. Им начинал нравиться этот человек, которого они едва не отходили киями. — А вдруг бы сгорела вся Сечь? — спросил Серко. — Не сгорела бы, батько, — спокойно ответил Гурко. — Все курени заметены снегом настолько, что нечему гореть… Если б сгорел, то только Переяславский… Вперёд протолкался Спыхальский. — Холера ясная! — воскликнул он. — То и вправду есть мудро, прошу панства, отколоть такую штукенцию! Ну, кто из нас додумался бы до такого, спрашиваю вас? Не-е! Як бога Кохам[22], не!.. А курень наш Переяславский — одна только слава, что курень, скажу я вам! Стены покривились, прогнили — ветер так и свищет! Крыша продырявилась, и когда идёт дождь, то мы промокаем до костей или же тикаем к соседям! Разрази меня гром, если вру! — Правду казак говорит! Ей-богу, правду! — вмешался Метелица и повернулся к Стягайло и его приспешникам. — А вы, сукины дети, хотели за охапку гнилого камыша предать человека столбовой смерти! Да его благодарить надо, что заставил нас перекрыть своё же жильё! Что спалил к чёртовой матери это гнильё!.. Иль в днепровских плавнях перевёлся камыш? Иль у нас руки отсохнут, если мы по снопику свяжем и гуртом перекроем курень?.. — Да и поджёг я его не даром, — снова заговорил Гурко. — Я пришёл к вам, братчики, не с пустыми руками, а с толикой серебряных талеров, которые с радостью дарю переяславцам, чтобы за эти деньги подправили свой курень… А то и новый построили… — Он достал из кармана туго набитый бархатный кошелёк и подал Метелице. — Вот держи, батько! — Спасибо тебе, брат! — обнял его Метелица. — Вот только не знаю, как нам тебя все-таки звать: в курень принять-то приняли, а прозвища дать не успели! — Как назовёте, так и ладно. — Дозвольте, паны-братья, мне слово молвить, — сказал Серко. — Говори, батько, говори! — закричали казаки. — Нравится мне этот казак, чего там греха таить… И чует моё сердце, что принесёт он пользу товариществу нашему… Так что примем его в свой кош и дадим ему прозвище Палий, ибо такое он сегодня заслужил… — Палием, Палием прозвать! Нехай отныне будет Палий! — зашумели казаки. — Имени, по нашему обычаю, менять не станем, ибо имя — от бога, его поп дал… — продолжал Серко. — А прозвище, фамилия — от людей, вот мы её и сменили… Согласен ли, казак? Семён Гурко, который отныне должен был зваться Семёном Палием, а свою родовую фамилию предать забвению, поклонился товариществу и кошевому: — Спасибо, батько кошевой, спасибо, батько крёстный! Пока жив, не забуду, кто дал мне это запорожское имя! И постараюсь не срамить его никогда… А вам, братчики, спасибо за почёт, которым удостоили меня! Ведь если б вы не привязали меня сегодня к этому столбу, чтоб всыпать мне с полтысячи киев, так разве знал бы кто сейчас какого-то там Семена Гурко?.. Никто… Так благодарствую за то, что без славы прославили Семена Палия! Ну, а славу я постараюсь добыть саблей своею! — Ты гляди, как чешет! Хоть и молодой, а голова! — прошамкал дед Шевчик, поблёскивая единственным зубом. Палий поклонился ещё раз, потом порылся в карманах, вытащил горсть серебряных монет, подбросил их на ладони. — А теперь, братья, положено крестины справить! Ставлю на всех две бочки горилки… Зовите шинкаря! Над толпой прокатился одобрительный гомон, в котором слышалось никому до сих пор незнакомое, только что рождённое имя — Палий, которое вмиг стало известно всему запорожскому войску. Как и надеялся Арсен, Серко разрешил набрать добровольцев для похода на Правобережье, приказав за счёт запорожской казны снарядить отряд порохом, сухарями, пшеном, салом и сушёной рыбой. Собирались быстро, так как время не ждало. Добровольцев было порядочно, но отправлялись только те, кто имел коня. Таких оказалось немного — всего сто семьдесят человек. До захода солнца они получили в оружейной порох и олово, в амбарах — пшено, сало, сухари, рыбу и соль. Кто обносился, тот наскоро латал одежду и обувь или менялся с товарищами на более тёплые, менее поношенные вещи… Выступать решили рано поутру. А вечером Серко собрал всех в войсковой канцелярии на раду. Просторная комната наполнилась до предела. Сидели на лавках, на скамьях, внесённых джурой[23] кошевого, стояли вдоль стен и посредине — кто где мог. Суровые, сосредоточенные лица освещались жёлтым колеблющимся светом восковых свечей. Серко вышел из боковой комнаты, остановился у стола. В последнее время он стал заметно стареть. Усы совсем побелели, а под глазами появились синие отеки. Однако держался он ещё молодцом: грудь колесом, плечи расправлены, как у парубка, голова высоко поднята. У себя на хуторе, в Грушевке, он успел отдохнуть, и приезд Звенигоры был вполне оправданным поводом, чтобы возвратиться снова в Сечь, куда он уже и сам рвался. Окинув взглядом притихших запорожцев, кошевой начал говорить: — Братья, я собрал вас для того, чтобы перед вашей далёкой дорогой сказать несколько слов… Причина поездки всем известна: каждый из вас согласился добровольно помочь нашему товарищу Арсену Звенигоре освободить его родных. Об этом знаете вы, знает вся Сечь, и потому могут знать и те, кто интересуется, как и чем мы тут живём… Но это, как говорится, для посторонних ушей. На самом деле задание ваше будет значительно шире, важнее… Прошелестел удивлённый шёпот. Неужели кошевой подозревает, что среди них могут быть чужеземные соглядатаи? — Я никого не подозреваю, — продолжал Серко, — но мы живём в тревожное время, среди врагов и должны не только делами, но и словами не вредить себе… Так вот, первейшее условие успеха — полная тайна!.. Случилось так, что после осады Чигирина и сдачи его, в чем я обвиняю не войско, а наших полководцев — гетмана и воеводу, — об этом, кстати, я откровенно написал Самойловичу в своём письме, Правобережная Украина осталась под властью турок. Её правителем султан назначил Юрася Хмельницкого. Мы все любили и уважали великого, славного Богдана, но не можем тем же платить его беспутному сыну. Из всех гетманов, которые были после Богдана, он более всего виновен перед отчизной и нанёс ей наибольший, может статься, непоправимый вред. Говорю я это для того, чтобы вы знали, что с турками и ордынцами у меня никогда не было никаких дружеских договоров, я никогда военной силой не становился на их сторону и никогда не стану на сторону тех, кто им помогает! — Мы это знаем, батько, — басовито прогудел Метелица. — Вы завтра выступаете на Правобережье и встретитесь с теми, кто служит султану Магомету. Не так уж много их, но мне хотелось бы, чтоб совсем не было таких! — Смекнули, батько, — снова отозвался Метелица. — А если смекнули, то больше не буду об этом говорить… Скажу о другом: главное ваше задание будет вот в чем. До Корсуня вы пойдёте одним отрядом, сделаете там что надо, то есть вызволите родных Арсена, а потом разделитесь на четыре группы. Старшим наказным атаманом, иначе — полковником, я назначаю Семена Палия… А после Корсуня атаманство над отрядами примут Самусь, Искра, Абазин и Палий. Вы пройдёте от Корсуня до Днестра, Збруча, Случи и Ирпеня, разведаете, что там делается, как живёт народ, покажете ему, что мы про него не забыли, поднимете его, сообща разгромите небольшие татарские и турецкие заставы, где встретите… А весной возвратитесь в Сечь! — Понимаем, батько, — закивали головами запорожцы. — Ну, а коль понимаете, то счастливого вам пути! Все вышли, кроме Палия, Звенигоры, Воинова и Спыхальского, которым кошевой велел остаться. Серко прошёлся по комнате, потом остановился перед Палием, положил ему на плечо руку. — Ты, должно быть, удивлён, казак, что сразу после крестин атаманом стал? — Удивлён, батько. — Привыкай… Правду говоря, я хотел назначить Арсена, но он нарассказал про тебя столько, что хоть кошевым сразу выбирай! — Он, видимо, преувеличил, батько. — Вот я и хочу сам убедиться, то ли ты и вправду орёл, то ли лишь похож на него… Ну, ну, не обижайся, я пошутил… Атаманом действительно должен был быть Арсен, но, очевидно, в этом походе у него будет много других забот. Поэтому, зная про вашу дружбу и про ту славу, которую ты так быстро приобрёл в Сечи, — кошевой усмехнулся, а за ним улыбнулся и Палий, — я и назначил тебя полковником. — Благодарствую, батько. Серко помолчал некоторое время, думая о чем-то своём, сокровенном. Затем разогнал на лбу глубокие морщины и сказал: — Друзья, вашему отряду будет особое задание… После того как освободите семью Арсена, вы проберётесь в Немиров, резиденцию Юрася Хмельницкого. Я долго был винницким полковником и хорошо знаю те места. Там есть где укрыться, один Краковецкий лес может принять под защиту во сто раз больше людей, чем у вас… Если вам посчастливится, выведаете важные секреты турок, нужные не только Сечи, но и Батурину, и Москве. Вы понимаете, о чем я говорю. Война не закончена. Не исключено, что этим летом она разгорится снова. Потому нам и интересно было бы знать, куда ударит Кара-Мустафа и какими силами… После этого вы пойдёте на Ирпень, разведаете, что делается на Полесье… — Слишком трудное задание, — задумчиво произнёс Палий. — Не представляю, как мы сможем выполнить его. — Об этом позаботится Арсен, — улыбнулся доброй улыбкой Серко. — Ему не привыкать… — Все, что смогу, сделаю, батько, — твёрдо сказал Арсен. — Бывало и тяжелее… — Я полагаюсь на твою сообразительность и твоё счастье, голубчик, — тихо проговорил кошевой. И тут же добавил: — На этом и порешим… А теперь идите — готовьтесь в дорогу, а то ведь с рассветом выступать! В ОСИНОМ ГНЕЗДЕ На седьмой день тяжёлой дороги, перед полуднем, обоз изгнанников с Левобережья прибыл под присмотром конного отряда в Корсунь. Лица пощипывал лёгкий морозец. В ярко-голубом небе ослепительно сияло солнце. Но несмотря на прекрасную погоду в городе было безлюдно, как и повсюду на Правобережье, где довелось проезжать переселенцам. Многие части города выгорели во время вражеских набегов, а там, где жильё уцелело от пожаров, все дышало запустением. Заборы скособочились, хлева и риги зияли рёбрами стропил и слёг, когда-то белые стены хат теперь облупились, окна чернели страшными дырами, а дворы были завалены сугробами снега… И только кое-где виднелись следы людей. В двух или трех хатах скрипнули двери — выглянули старенькие бабуси в каких-то дерюгах, но, завидев вооружённых всадников и обоз измученных пленников, торопливо спрятались в сенях. Лишь замок на каменистом острове посреди реки проявлял зримые признаки жизни. Даже издалека было видно, как там весело поднимаются вверх сизоватые дымки, как бродят тёмные фигуры. Слышался перезвон молотов в кузнице. Оставив обоз на широкой заснеженной площади над Росью, Свирид Многогрешный поскакал к перекидному мосту. Переселенцы сбились в группки и вполголоса переговаривались меж собой, насторожённо поглядывая на охрану. — Корсунщина — неплохой край, — знаешь-понимаешь, — рассуждал вслух исхудавший, почерневший, но, как всегда, разговорчивый Иваник. — Ничем не хуже Посулья. А может, ещё и получше… Но жить тута, под турками, будет не сладко. Ой, нет, совсем не сладко!.. Мне бы только до весны дотянуть — и задам стрекача за Днепр! — Поймают — голову открутят! — кивнул кто-то на ордынцев. — Они и так не помилуют. У саней деда Оноприя было тихо. Ненко, Младен и Якуб молча разглядывали чужой город, а женщины, примостившись среди узлов и мешков, с грустью смотрели на шумные пороги, где даже в лютые морозы бурлила стремительная вода, пробиваясь между глыбами камней и льда. Вдруг все заволновались. Из замка выехало несколько всадников. Впереди на вороном коне гарцевал красивый, богато одетый мужчина средних лет. Позади него ехал полковник Яненченко. А ещё дальше — свита, состоящая преимущественно из татар. — Юрась Хмельницкий! Юрась Хмельницкий! — прошелестело вдоль обоза. Все сразу прекратили разговоры и впились взглядами в человека, имя которого последние два года наводило ужас на всю Украину. Так вот какой он!.. Младшему сыну прославленного гетмана Богдана Хмельницкого Юрию — в семье и в народе его называли Юрасем — было шесть-семь лет, когда его отец в 1648 году поднял всенародное восстание против польско-шляхетского господства на Украине. Рано потеряв мать, Юрась рос болезненным и молчаливым мальчиком. Отца своего, обременённого государственными заботами и бесконечными войнами и походами, видел изредка. А потом, когда был отдан в обучение в Киевскую коллегию, долгие годы и вовсе не встречался с ним. В отличие от старшего брата, Тимоша, энергичного, умного и храброго, но рано погибшего юноши, который в семнадцать лет возглавлял Чигиринскую казачью сотню, а затем водил в бои целое войско, Юрася, всегда тихого, вялого, бездеятельного, больше привлекала келья схимника и ряса монаха, чем гетманская булава, оказавшаяся после смерти брата и отца в его слабых руках. После поражений, которые потерпели русско-украинские войска в войне с Польшей сначала под Любаром и Чудновом, а позднее — под Слободищем, Юрась подписал с Польшей позорный и тяжкий для Украины и для себя Слободищенский трактат 1660 года. Вопреки воле народа, он разорвал Переяславский договор с Россией и вновь отдал Украину на поругание польской шляхте. Волна народных восстаний против польско-шляхетских захватчиков принудила Юрия Хмельницкого в начале 1663 года отречься от гетманства и под именем Гедеона постричься в монахи. Но этот его шаг не мог помочь Украине: долгие десятилетия она оставалась разделённой на две части — Левобережную и Правобережную, что в корне подкосило силы народа, бросило его в пучину братоубийственных войн и восстаний, не утихавших на протяжении всего следующего столетия. Завистливые, хищные соседи с юга и запада, пользуясь разъединенностью Украины, то и дело нападали на неё, стараясь отхватить себе как можно больший кусок. Только Россия ограждала её от окончательного разорения. Жизнь самого Юрася после отречения складывалась трагично. Через год он был обвинён в измене правобережным гетманом-самозванцем Павлом Тетерей, арестован и передан польским властям. Почти три года провёл он в мрачных, сырых казематах Мариенборгской крепости на севере Польши. Освобождённый из заточения, чернец Гедеон, как Юрась называл себя теперь, полностью отрёкся от мирской жизни и поселился в Уманском монастыре. Хотя было ему в то время лет двадцать пять, он выглядел значительно старше своего возраста, уставшим, надломленным душевно. На бледном лице застыла печать скорби и боли, а чёрные погасшие глаза давно утратили способность улыбаться. Десять тяжёлых и бурных лет, что прошли после смерти Богдана Хмельницкого, изнурили, вымотали его слабое тело и больную душу. Казалось, что в монастырских стенах Юрась наконец-то нашёл себе тихую, спокойную обитель, где он мог прожить безбедно до конца дней своих, укрыться от яростных бурь, то и дело сотрясавших украинскую землю. Но увы! Даже молитвы и монастырские стены не спасали монахов от басурманского аркана. Юрася вместе со всей братией схватили людоловы и потащили в Крым, а хан, узнав, что молодой хмурый чернец — сын покойного гетмана Ихмельниски, как называли Богдана Хмельницкого ордынцы, и сам бывший гетман Украины, отправил его в Турцию в подарок султану. Там некоторое время он сидел в одиночке Семибашенного замка — тюрьмы для политических преступников и соперников султана, потом, когда правительство Османской империи, пользуясь услугами Дорошенко, стало настырнее направлять свою экспансию на север, на Украину, Юрась был назначен архимандритом в один из православных монастырей турецкой столицы. Немощный и безвольный, он очень скоро согласился помогать туркам в их захватнических походах. И когда правобережный гетман Петро Дорошенко, от которого отшатнулся народ из-за его пагубной политики дружбы с султаном, вынужден был сложить оружие и сдаться левобережному гетману Ивану Самойловичу и царскому воеводе Григорию Ромодановскому, султан неожиданно вытащил Юрася из стамбульского монастыря на свет божий и провозгласил «князем Малороссийской Украины». С таким пышным, но маловразумительным титулом, полученным от извечного злейшего врага украинского народа, объявился Юрась во главе восьмидесяти пяти земляков-предателей из бывших невольников летом 1677 года под Чигирином. Его подкрепляло стотысячное турецкое войско великого визиря Ибрагима Шайтан-паши. Однако напрасными оказались надежды султана и самого Юрася на то, что народ, верный славному имени Богдана Хмельницкого пойдёт за его сыном. На Украине Юрасево «войско» увеличилось — смешно сказать — всего на полтора десятка человек и состояло из сотни сорвиголов, которым не доверял даже сам «князь». Через месяц Ибрагим Шайтан-паша, потерпев поражение, позорно бежал из-под Чигирина, оставив после себя разорённые, сожжённые села и города Правобережья и трупы тысяч людей. На следующий год Магомет IV послал двухсоттысячное войско для завоевания Украины. Великий визирь Мустафа поклялся бородой пророка, что овладеет Чигирином и всей Украиной. В его обозе снова плёлся проклятый народом Юрась… Кара-Мустафа Чигирин взял, но закрепиться в нем, а тем более завоевать всю Украину не смог. Разбитые под Бужином турецкие войска покатились назад, безжалостно уничтожая все на своём пути. Правобережье почти совсем опустело. Сотни тысяч людей бежали на левый берег, а тех, кто не успел спрятаться или убежать, ордынцы и янычары уничтожили или угнали в неволю. Некогда многолюдный край — от Чигирина на востоке до Каменца и Житомира на западе — вследствие гетманских распрей, польско-шляхетских набегов и особенно турецко-татарского нашествия пришёл в упадок, обезлюдел. В сёлах, где прежде было сто — двести дворов, уцелело по две-три хаты, в которых нашли приют старики и малолетние, каким-то чудом спасшиеся от вражеских сабель и арканов. От Чигирина, Канева, Умани, Фастова и многих других городов сохранились лишь названия. Все, кто остался в живых, разбежались по лесам, пещерам, питаясь дичью, желудями и грибами… Народ не без основания считал виновником разорения родного края Юрася Хмельницкого, который не только не препятствовал чужеземцам грабить Украину, но нередко и сам приказывал уничтожать села и города, не признающие его власти. Имя Юрася стало ненавистным на обоих берегах Днепра. И не удивительно, что все переселенцы — от старого до малого — хмуро воззрились на этого человека. Остановив коня перед притихшим обозом, Юрась молча рассматривал людей. А они тем временем пристально разглядывали его. Невысокого роста, тщедушный, узкий в плечах, чисто выбритый, он прямо, как-то одеревенело сидел в седле, и на его бледном, невыразительном, хотя и достаточно красивом лице не отразилось ни малейшего чувства. Только раз, когда на руках у молодой матери заплакало испуганное дитя, он вдруг едва улыбнулся. Но улыбка не скрасила его лица, потому что глаза оставались мрачно-холодными, непроницаемыми, словно стеклянными. Да и появилась она на какое-то мгновение и сразу, без всякого перехода, исчезла. Одет он был весьма изысканно: темно-синего сукна бекеша, подбитая лисьим мехом, бобровая шапка-гетманка с самоцветом и двумя павлиньими перьями надо лбом, на боку — дорогая сабля, за поясом — булава, изготовленная перед первым чигиринским походом чеканщиками Стамбула, на ногах — красные сапоги. Оглядев молчаливых переселенцев, их убогий скарб на санях, жалкую отару овечек и вереницу исхудавших за время перехода коровёнок, он кивнул полковнику и, когда тот подъехал, что-то тихо сказал ему. — Люди, подойдите ближе! — поднялся на стременах Яненченко. — С вами хочет говорить ясновельможный гетман! Оставив детей на санях, мужчины и женщины столпились перед гетманом и его свитой. — Люди! — произнёс Юрась. — Правобережная Украина — отныне ваш дом, ваш край! Отсюда большинство из вас вышли, сюда и вернулись. Селитесь в Корсуне, в ближайших сёлах, живите вольно, богато!.. Хватит вам гнуть спину перед богопротивным поповичем — Самойловичем, которого я, даст бог, одолею и, рано или поздно, притащу сюда на аркане на справедливый суд народа и суд божий!.. Властью, данной мне султаном турецким Магометом, я буду защищать вас от него, от его приспешников, от царских воевод и польских панов! У вас теперь один хозяин — я, гетман и князь Украины, вызволенной из ляшской неволи моим отцом Богданом Хмельницким! А кто из вас посмеет не подчиниться полковнику или отважится на отпор его людям, тот будет нещадно бит или казнён!.. Вам понятно? — Понятно, пан гетман, — вылез вперёд неугомонный Иваник. — Вот только одну малость никак не докумекаю, знаешь-понимаешь… — Ну, что именно? — А ежли на нас нападут татары аль, примером, турки… Как тогда? Давать им отпор аль беспрепятственно позволить заарканить себя и покорно идти на галеры?.. А, примером, жинкам нашим да девчатам — в ихние гаремы?.. Юрась Хмельницкий уставился тусклыми глазами на Иваника, как на какое-то диво. Долго молчал. Потом громко воскликнул: — Дурак! Турки и татары — мои союзники! Они не трогают моих подданных. Они пришли на нашу землю не для того, чтобы порабощать, а для того, чтобы освобождать! — Нашу душу от тела, знаешь-понимаешь, — не удержавшись, буркнул Иваник и, увидав, как дёрнулась рука гетмана к сабле, проворно шмыгнул в толпу, где Зинка тут же наградила его сильнейшим тумаком в спину, чтобы не был таким умником. Вперёд выехал полковник Яненченко. — Люди! Сейчас вас разведут по хатам, где вы сможете обогреться и пожить до того времени, когда окончательно выберете себе пристанище… Но перед этим я хочу отобрать несколько хлопцев и девчат для службы в замке… Вот ты!.. И ты!.. И ты!.. Он указывал пальцем прямо в насторожённые глаза парубков и девушек, и те, побледнев, пятились, пытаясь спрятаться среди односельчан, но два дюжих казака, что сразу выскочили вперёд, быстро хватали их за рукава и отводили в сторону. Перед Златкой и Стёхой Яненченко на мгновение замялся. Их красотою он был поражён ещё там, на хуторе, когда сцепился из-за них с мурзой Кучуком. Собственно, парубков и девчат он начал отбирать для того, чтобы эти красавицы не так выделялись в толпе, ибо прежде всего интересовали его они. Но он не хотел, чтобы гетман обратил на них внимание. Поэтому совсем небрежно, будто между прочим, ткнул в девчат сразу двумя пальцами — указательным и средним: — И вы! — Ой! — вскрикнула Стёха и схватила Златку за рукав. Златка испуганно молчала. Никто не заметил, как перекинулись быстрыми взглядами мурза Кучук с сыном Чорой. Полковничьи пахолки[24] подбежали к девушкам. Младен, Ненко и Якуб напряжённо следили за тем, что происходит на площади. Когда на хутор напали татары и начали выгонять людей, они договорились друг с другом пока что не сознаваться, кто они такие, чтобы в подходящее время освободиться самим и освободить всех своих. Теперь же решили, что такой момент наступил. Ненко вдруг вышел из толпы и, обращаясь к Яненченко, быстро заговорил по-турецки: — Не трогай этих девушек, ага! Заклинаю тебя аллахом — не трогай! Одна из них — моя сестра, которую я нашёл в этом чужом для меня краю, а другая… другая — моя полонянка, которую я намерен был забрать с собой… Ты меня понимаешь? Оставь их при мне, ага! Яненченко вытаращил глаза. Он достаточно хорошо знал турецкий язык и все понял. Одного не мог уразуметь — откуда тут взялся этот турок? Поняли, о чем говорил Ненко, и другие. Из-за спины Юрия Хмельницкого, который тоже бегло говорил по-турецки, выехал старшина гетманской охраны Азем-ага, мрачный человечище, с узкими хитрыми глазами и тяжёлой нижней челюстью, сильно выдававшейся вперёд. Остановившись перед Ненко, он пристально осмотрел его, а потом спросил: — Ты кто такой? — Сафар-бей, бюлюк-паша отдельной янычарской орты[25] в Сливене. — Как ты сюда попал, ага? Почему очутился среди этих чужих для тебя людей? — Нас здесь трое — янычарских старшин, — спокойно пояснил Ненко. Они заранее обдумали с отцом и Якубом, как им держаться, когда настанет время говорить о себе. И он указал на Младена и Якуба, которые поклонились гетману и Азем-аге. — Во время нападения на Сечь мы попали в плен к казакам… Мы приносим аллаху и вам искреннюю благодарность за то, что освободили нас, ага! — Ты сказал, что одна из этих девушек — твоя сестра… Это правда? — Да, ага. — Эта? — Азем-ага показал на Златку. — Да, ага, — подтвердил Ненко и обратился к сестре. — Адике, приветствуй наших освободителей! — Я приветствую вас, эфенди, — поклонилась Златка гетману. — Я рада встрече с вами, высокочтимый ага, — повернулась она к Азем-аге. — Пусть бережёт вас аллах! — Гм, и вправду турчанка, — буркнул Азем-ага и кивнул на Стёху. — А та? — Это сестра казака, который взял нас в плен… Он относился к нам хорошо и даже помог разыскать Адике, захваченную запорожцами во время морского похода… Его нет здесь, и мы опекаем его родных… Поэтому просим оставить девушек с нами! Азем-ага наклонился к гетману и вполголоса что-то долго пояснял ему. Юрась Хмельницкий утвердительно кивнул, посмотрел на девушек, на Ненко и приказал Яненченко: — Оставь этих девчат, пан Иван, — сказал он. — Ты себе найдёшь других, а этих я заберу с собой в Немиров… Да прикажи отобрать с полсотни семей на крепких санях и с сильными, выносливыми лошадьми — я их тоже возьму с собой. И не забудь про тысячу злотых, которые ты должен прислать мне… А то… Яненченко втянул голову в плечи и побледнел от гнева и оскорбления. Он никак не ожидал, что гетман заберёт девчат да ещё напомнит так неуместно о дани. Думал, что разговор, который состоялся сегодня утром между ними один на один, никому не будет известен, и вдруг гетман разгласил его в присутствии всей свиты. Тот разговор тоже имел оскорбительный характер. Хмельницкий после завтрака без всяких объяснений потребовал, чтобы Яненченко каждый год привозил ему за полковничий пернач тысячу злотых. А когда полковник заметил, что вряд ли сможет наскрести с немногочисленного и обедневшего населения такую сумму, гетман разгневался и сказал, что сможет, иначе отдаст полк[26] кому-нибудь другому, более находчивому, который сумеет достать какую-то жалкую тысячу. Это означало, что придётся не только стягивать с народа последнее, но и повытрясти свои карманы. И все же он согласился, так как ему ничего не оставалось делать. А теперь вот гетман вторично напомнил об этом. Многозначительное «а то» прозвучало тихо, но зловеще, как суровое предостережение. Возможно, оно было сказано так, между прочим, а возможно, и с умыслом, чтобы полковник не начал оспаривать намерения гетмана забрать с собою пятьдесят семей и этих двух девчат-красавиц, которые так приглянулись ему… «Чтоб ему пусто было, — подумал Яненченко. — С этим бесноватым, полоумным Юрасем каши не сваришь. Хотя он и родичем доводится, а лучше держаться от него подальше…» Он склонил в знак согласия голову и крепко, так, что суставы на пальцах побелели, зажал в руке повод. Занятый своими мыслями, сражённый бестактным замечанием гетмана, Яненченко не заметил, как радостно сверкнули глаза мурзы Кучука, услышавшего, что девушки поедут в Немиров. Миновав разорённые, безлюдные местечки — Лысянку, Жашков и Дашев, измученные, промёрзшие, голодные путники добрались наконец до Немирова. Непонятно, почему этот маленький, хотя и живописный городок Юрий Хмельницкий облюбовал для своей резиденции. Вероятно, потому, что здесь была вполне надёжная крепость, или потому, что в городе и его окрестностях осталось больше населения, чем над Росью? А может, потому, что отсюда было недалеко и до границ Турции, и до Каменца, который стал центром Каменецкого пашалыка, на правах отдельной провинции присоединённого к империи, где в случае опасности мог найти убежище гетман-неудачник? Или так приказали ему его хозяева — султан и великий визирь? Поселился он на Выкотке, высоком, каменистом полуострове, окружённом с трех сторон широкими прудами. Казалось, это урочище самой природой создано для того, чтобы здесь построили крепость. Правда, бывшее польское укрепление во время казачьих войн было основательно разрушено, но земляные валы с дубовым частоколом были ещё крепкими и надёжно защищали гетмана от внезапного нападения. Жил Юрась в солидном деревянном доме, когда-то принадлежавшем польскому воеводе. В соседних домах расположилась его личная охрана. А неподалёку, в Шполовцах, единственном предместье, сохранившемся от пожаров и разрушения, разместилось гетманское войско — восемьсот татар, двести валахов[27], двадцать восемь сербов и восемьдесят казаков. Войско небольшое, можно сказать — мизерное, но и его нечем было кормить. Поэтому случалось, что изголодавшиеся ордынцы отправлялись в села, где ещё удавалось чем-нибудь поживиться, отбирали у крестьян последнее — коровёнку, овцу или мешок зёрна. Когда Юрась во главе обоза подъехал к Выкотке, на плотине показался татарский отряд. Перед собой лучники гнали небольшую отару овец. Позади на санях везли мешки с мукой и зерном, на арканах тянули несколько насмерть перепуганных мужчин. 1, 2, 3, 4, 5 |
|||||||||