 |
|
Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович :: Сименон Жорж :: Лондон Джек Популярные книги:: Война и мир. Том 1 :: Справочник по реестру Windows XP :: The Beach :: Покупаем Юпитер :: Арестант :: Шипы и розы (Шепот роз) :: Миша Ласкин :: Дюна (Книги 1-3) :: Ivy Day In The Committee Room :: Ключ |
Эпоха викингов в Северной ЕвропеModernLib.Net / История / Лебедев Глеб Сергеевич / Эпоха викингов в Северной Европе - Чтение (Весь текст)
Глеб Лебедев Эпоха викингов в Северной Европе Введение «Эпохой викингов» в скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) называют период, охватывающий IX, X и первую половину XI столетий. Время воинственных и дерзких дружин отважных морских воинов-викингов, первых скандинавских королей-конунгов, древнейших дошедших до нас эпических песен и сказаний, эпоха викингов открывает начало письменной истории этих стран и народов. Что же происходило в эту эпоху и что составляло её историческое, социально-экономическое содержание? Эти вопросы являются предметом острых дискуссий. Одни историки склонны видеть в походах викингов едва ли не государственные акции, подобные позднейшим крестовым походам; или, во всяком случае, военную экспансию феодальной знати. Но тогда остаётся загадочным её чуть ли не мгновенное прекращение, и как раз накануне западноевропейских крестовых походов на Восток, от которых немецкие, а за ними — датские и шведские рыцари перешли к крестоносной агрессии в Прибалтике. Следует заметить, что походы этих рыцарей и по форме, и по масштабам мало общего имеют с набегами викингов. Другие исследователи видят в этих набегах продолжение «варварской» экспансии, сокрушившей Римскую империю. Однако становится необъяснимым трехсотлетний разрыв между Великим переселением народов, охватившим в V-VI вв. весь европейский континент, и эпохой викингов. Прежде чем ответить на вопрос — что такое походы викингов, мы должны ясно представить себе скандинавское общество в IX-XI вв., уровень его развития, внутреннюю структуру, материальные и политические ресурсы. Одни историки (главным образом скандинавские) считают, что ещё за три столетия до эпохи викингов, в V-VI вв. на Севере Европы сложилось мощное централизованное феодальное государство — «Держава Инглингов», легендарных конунгов, правивших всеми северными странами. Другие, напротив, полагают, что даже в XIV в. скандинавские государства лишь приблизились к общественным отношениям, характерным, скажем, для Франции VIII в., а в эпоху викингов ещё не вышли из первобытности. И для этой оценки есть некоторые основания: право средневековой Скандинавии сохранило много архаичных норм, ещё в XII-XIII вв. здесь действовали народные собрания — тинги, сохранялось вооружение всех свободных общинников — бондов, и вообще, по замечанию Энгельса, «норвежский крестьянин никогда не был крепостным» (4, с. 352). Так был ли феодализм в Скандинавии XII-XIII вв., не говоря уже о IX-XI вв.? Специфика скандинавского феодализма признаётся большинством медиевистов; в советской науке она стала предметом глубокого анализа, которому посвящены многие главы коллективных трудов «История Швеции» (1974) и «История Норвегии» (1980). Однако собственной оценки эпохи викингов, безусловно переходной, марксистская наука ещё не выработала: как правило, освещение её оказывается достаточно противоречивым, даже в рамках единой коллективной монографии. Между тем ещё сорок лет тому назад один из первых советских скандинавистов Е.А.Рыдзевская писала о необходимости противопоставить «романтическому» представлению о викингах глубокое изучение социально-экономических и политических отношений в Скандинавии IX-XI вв., основанное на марксистско-ленинской методологии [187, с. 14]. Сложность для историков заключается в том, что эпоха викингов в значительной части — эпоха бесписьменная. До нас дошли немногочисленные магические либо поминальные тексты, написанные древнегерманским «руническим письмом». Остальной фонд источников— либо зарубежный (западноевропейские, русские, византийские, арабские памятники), либо скандинавский, но записанный лишь в XII-XIII вв. (саги — сказания о временах викингов). Основной материал для изучения по эпохе викингов даёт археология, и, получая от археологов их выводы, медиевисты вынуждены, во-первых, ограничиваться рамками этих выводов, во-вторых, испытывать ограничения, наложенные методологией, на которой они основаны — естественно, в первую очередь позитивистской буржуазной методологией скандинавской археологической школы. Археологи, прежде всего шведские, ещё с начала XX в. затратили значительные усилия на разработку так называемого «варяжского вопроса», который рассматривался в русле «норманской теории» образования Древнерусского государства (274; 365; 270). Согласно этой теории, основанной на тенденциозном толковании русских летописей, Киевская Русь была создана шведскими викингами, подчинившими восточнославянские племена и составившими господствующий класс древнерусского общества, во главе с князьями — Рюриковичами. На протяжении XVIII, XIX и XX вв. русско-скандинавские отношения IX-XI вв. были предметом острейшей дискуссии между «норманистами» и «антинорманистами», причём борьба этих научных лагерей, возникших первоначально как течения внутри буржуазной науки, после 1917 г. приобрела политическую окраску и антимарксистскую направленность, а в крайних своих проявлениях часто носила и откровенно антисоветский характер [233; 237]. Начиная с 1930-х годов советская историческая наука с марксистско-ленинских позиций исследовала «варяжский вопрос». Учёные СССР на основе обширного фонда источников раскрыли социально-экономические предпосылки, внутренние политические факторы и конкретный исторический ход процесса образования классового общества и государства у восточных славян. Киевская Русь — закономерный результат внутреннего развития восточнославянского общества. Этот фундаментальный вывод был дополнен убедительным доказательством несостоятельности теорий «норманского завоевания» или «норманской колонизации» Древней Руси, выдвигавшихся буржуазными норманистами в 1910-1950-х годах. Таким образом были созданы объективные предпосылки для научного исследования русско-скандинавских отношений IX-XI вв. Однако результативность такого исследования зависит от изучения социально-экономических процессов и политической истории самой Скандинавии эпохи викингов. Эта тема длительное время не разрабатывалась в советской исторической науке. Основные обобщения фактического материала, создававшиеся на протяжении деятельности многих поколений учёных, принадлежат скандинавским археологам [299; 272; 324]. Этот «взгляд с Севера», безусловно ценен громадным объёмом точных данных, лежащих в его основе. Однако та методологическая основа, на которую опираются эти учёные, ведёт к описательности, поверхностности, а порой и к серьёзным противоречиям в характеристике общественного развития Скандинавии эпохи викингов. Эти же недостатки присущи западноевропейским учёным-скандинавистам в работах, где основное внимание уделено внешней экспансии норманнов на Западе и сравнительным характеристикам экономики, культуры, социального строя, искусства скандинавов и народов Западной Европы [309; 413; 314]. При несомненной ценности этих сопоставлений, «взгляд с Запада» представляет общество викингов статичным, по существу, лишённым внутреннего развития (хотя и подарившим человечеству яркие образцы «варварского» искусства и культуры). Первые опыты анализа археологии викингов с марксистских позиций представляют собой своего рода «взгляд с Юга», с южного побережья Балтийского моря. Именно тогда был поставлен очень важный вопрос о значении славяно-скандинавских связей для общества викингов [348; 329]; были вскрыты существенные аспекты экономического и социального развития. Однако, ограничив себя анализом археологического материала, исследователи не смогли реконструировать конкретно-исторические этапы социального развития, проследить его проявление в политической структуре и в духовной культуре Скандинавии IX-XI вв. «Взгляд с Востока» на Скандинавию, со стороны Древней Руси, по необходимости должен объединить тему внутреннего развития скандинавских стран с темой русско-скандинавских связей, а тем самым завершить характеристику Скандинавии эпохи викингов в Европе IX-XI вв. Предпосылки для решения такой задачи созданы не только всем предшествующим развитием мировой скандинавистики, но и достижениями советской школы скандинавистов, определившимися к началу 1980-х годов. Становление этой школы связано с именами Б.А.Брима, Е.А.Рыдзевской, а её наибольшие успехи — прежде всего с именем выдающегося исследователя и организатора науки М.И.Стеблина-Каменского. В его работах, а также в трудах таких учёных, как А.Я.Гуревич, Е.А.Мелетинский, О.А.Смирницкая, А.А.Сванидзе, И.П.Шаскольский, Е.А.Мельникова, С.Д.Ковалевский и других, сосредоточены принципиально важные результаты изучения скандинавского средневековья. Опираясь на эти достижения, можно осуществить соединение археологических данных — с ретроспективным анализом письменных источников, реконструировать основные характеристики общественно-политической структуры, системы норм и ценностей Скандинавии IX-XI вв. За последнюю четверть века (с 1956 по 1980 г.) усилиями советских скандинавистов издан на русском языке основной корпус литературных памятников, относящихся или восходящих к эпохе викингов: «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда Снорри Стурлусона», образцы поэзии скальдов, крупнейшие исландские «родовые саги», свод «королевских саг» — «Хеймскрингла» («Круг Земной Снорри Стурлусона»), рунические надписи со сведениями о Восточной Европе. Это значительно облегчает исследователям работу с оригиналами, а также — проверку выводов и наблюдений со стороны специалистов-историков смежных областей медиевистики. В значительной мере заново систематизированы археологические данные. За последние 10-15 лет коллективными усилиями проведены новые исследования ряда древнерусских памятников, освещающих русско-скандинавские отношения; а их результаты обобщены в серии коллективных публикаций [85; 86, 87]. Советские археологи всё более целенаправленно обращаются и к изучению древностей викингов на территории самой Скандинавии. Возрастает уровень научного сотрудничества, реализующегося в совместных изданиях [410], конференциях, обмене археологическими выставками [203]. Всё это создало качественно новую базу, позволяющую, с позиции историко-материалистической, марксистско-ленинской методологии, опираясь на комплексное изучение археологических материалов, письменных и других данных, последовательно рассмотреть все доступные изучению аспекты внешнеполитической жизни, социально-экономического, государственно-политического и культурного развития Скандинавии IX-XI вв. I. Норманны на западе 1. Экспозиция. Два мира Эпоха викингов для Западной Европы началась 8 июня 793 г. и закончилась 14 октября 1066 г. Она началась с разбойничьего нападения скандинавских пиратов на монастырь св. Кутберта (о. Линдисфарн) и закончилась битвой при Гастингсе, где потомки викингов, франко-нормандские рыцари разгромили англосаксов; те же тремя неделями раньше, 25 сентября 1066 г. при Стемфордбридже одержали победу над войском последнего из «конунгов-викингов», претендовавшего на английский престол норвежского короля Харальда Сурового (Хардрада) (А). «Послал всемогущий бог толпы свирепых язычников датчан, норвежцев, готов и шведов, вандалов и фризов, целые 230 лет они опустошали грешную Англию от одного морского берега до другого, убивали народ и скот, не щадили ни женщин, ни детей» -так под 836 г. писал в хронике «Цветы истории» Матвей Парижский [215, с. 14]. В XIII в. христианская Европа все еще помнила опустошительные вторжения с Севера. И причиной тому была не только интенсивность, но и неожиданность натиска. На исходе VIII столетия европейский континент представлял собой весьма неоднородную агломерацию племен, народов и государств. Римское наследие было поделено между тремя великими империями раннего средневековья: Ромейской (мы ее называем Византией), Франкской империей Каролингов, и арабскими халифатами (Мамлакат аль-Ислам). Границы феодальных государств разрезали в разных направлениях бывшие римские владения. Арабы захватили большую часть Испании, африканские и ближневосточные провинции. Франки завладели Галлией, подчинили земли германцев (до Эльбы). Византия, уступив славянам Фракию и Иллирию, сохраняла господство над Малой Азией и Грецией, и соперничала с франками за право обладать Италией. Внешняя граница феодальных империй Европы проходила, рассекая континент с севера на юг, — по Эльбе, верховьям Дуная, Балканам. В течение IX-XI вв. она постепенно выравнивалась и к середине XI в. примерно повторяла очертания традиционной римской границы, «лимеса», правда, продвинувшись кое-где на 500 км вглубь континента. Эта линия разделила Европу на два разных мира. К западу и югу от границы сохранялись традиции христианской религии и церкви, авторитет императорской власти, иерархическая структура управления. Продолжали жить (даже после глубокого упадка) античные города, функционировали старые римские дороги. Колоны и сервы обрабатывали поля бок о бок со свободными франками и славянами — потомками завоевателей. Вожди варваров получили звонкие титулы императорских придворных и правили милостью христианского бога. Ученые служители церкви наставляли высокорожденную молодежь в латинской и греческой премудрости, а монахи молились за спасение этого просвещенного мира. Сохранялась цивилизация классового общества, вступившего в феодальную формацию. К востоку и северу от имперских границ лежали необъятные пространства континента, покрытые девственными лесами, «мир варваров», barbaricum античной традиции. Здесь, до ледяных просторов Океана, жили бесчисленные языческие варварские племена. Широкий клин степей, простиравшийся от Волги до Паннонии, служил просторным проходом, по которому волна за волной в сердце континента вторгались кочевые орды: гунны, аланы, авары, болгары, венгры. Они стирали с лица земли своих оседлых предшественников, соседей, а затем и друг друга или гибли в борьбе с феодальными державами. Лишь последняя из этих волн, венгерская, смогла войти в семью народов Европы. Вдоль границы степной зоны, обтекая ее, расселялись славяне. Они заполонили пространства слабеющей Восточно-Римской империи, вдохнув в нее новые жизненные силы; создали несколько недолговременных государственных образований, основанных на союзе с кочевниками: таким был аварский каганат, разгромленный франками, и болгарское ханство, быстро трансформировавшееся в славянское царство. Наконец, в начале IX в. они создали свое первое феодально-христианское государство, Великую Моравию: общеславянская культурная традиция, зародившаяся здесь, развивалась затем на протяжении многих столетий [308, с. 175]. С севера и северо-востока соседями славян были летто-литовские (балты) и финно-угорские народы [318; 325], частично включившиеся (в ходе славянского расселения) в процесс формирования древнерусской народности [221; 179]. Южными соседями славян и финно-угров были тюркские племена, образовавшие в степях Евразии несколько могущественных каганатов. Для судеб Европы наибольшее значение из них имел Хазарский каганат, находившийся между Днепром, Волгой и Кавказом [16]. В политическую орбиту Хазарии попали некоторые славянские племена, обитавшие по Дону, Оке и Среднему Днепру. Родственные хазарам булгары разделились; часть из них ушла на Балканы и слилась со славянами, дав начало Болгарии. Другие, продвинувшись на Среднюю Волгу, создали государство со столицей Великий Булгар. Политическое влияние Волжской Булгарии охватывало финно-угорские племена Поволжья, Приуралья и Прикамья. Тюрки (хазары и булгары) были тесно связаны с культурным миром Средней Азии и Закавказья. В Итиле, столице хазар, пересекались торговые пути в Хорезм, Закаспий, Армению и Грузию, Крымскую Готию и византийские владения. Уже в начале VIII в. из Хазарии в обмен на восточноевропейские товары (пушнину, мед, воск, моржовую кость, рабов) среднеазиатское и иранское серебро проникало далеко на север, достигая земель обских и приуральских угров. Речные, морские и сухопутные пути с юга связывали европейский континент с миром Востока и Средиземноморья. С севера, отделенный водами Балтийского и Северного морей, над европейским континентом нависал Скандинавский полуостров, Scandia, Scadan, Scandza, англ.-сакс. Sconeg, Scedenieg — «прекрасный остров» [133, с. 21, 34, прим. 54], может быть, от Skеne (Sk Раннеримские и греческие источники почти ничего не знали об этой земле, Ultima Thule, затерянной на краю эйкумены, где-то в прибрежных пространствах Океана. Тем неожиданнее было появление многочисленных и воинственных народов, волна за волной обрушивавшихся, с конца III в. — на пограничные провинции, а в IV и особенно в V вв. — на всю территорию империи. Они громили римские войска, уничтожали города, захватывали земли, неудержимо распространялись с северо-востока на юго-запад, от Скандинавии до Испании захлестывая гибнущий рабовладельческий мир. К исходу VI в. это движение, как будто, исчерпало свои силы. Победители начинали смешиваться с побежденными; в бывших римских провинциях крестьянские порядки германских общин распространялись наряду с римским правом, подготавливая основу феодализма, а светские и духовные магнаты утверждали свои владельческие права, уже воплощая этот феодализм в жизнь. С принятием варварами христианства и, хотя бы формальным, включением в политическую структуру, унаследованную от Римской империи, процесс, который называют «римско-германским синтезом» можно считать завершившимся. Конечно, политическая карта еще не раз менялась: серьезные изменения принесли войны Юстиниана, арабские завоевания; неустойчивой была и северо-восточная граница христианского мира, вдоль нее продолжалось движение варварских масс, время от времени грозовыми разрядами били оттуда вторжения кочевников. Но определенный порядок уже установился, для Западной Европы Великое переселение народов было завершено. Пришельцы из неведомых северных земель сохраняли, конечно, связь со своими сородичами, оставшимися на родине. Но для цивилизованной Европы далекие страны на окраине мира стали, скорее, эпической нежели географической реальностью. Scandza лежала в той же сфере понятий, что и библейский «Гог и Магог»: это была некая точка отсчета в мифологизированном эпическом прошлом, по вовсе не составная часть политико-географической реальности христианского мира VIII столетия. Политическая карта Европы той поры уже несла в себе эмбрионы современных пародов и государств. В контурах Франкской империи угадываются основы Франции, Германии и Италии. Британия на западе и Болгария на юго-востоке Европы уже оформились как политические образования. Славяне расселились на территории нынешних Югославии, Чехословакии, Польши, Украины, Белоруссии и России. В конце IX в. пришли в Подунавье для «завоевания родины» венгры. Разъединенные и многочисленные северогерманские племена жили на территории будущих нидерландских и скандинавских государств. С лица земли исчезли огромные этнические массивы древности: кельты, фракийцы, иллирийцы, сарматы. Начиналась история современных европейских народов. Но структура континента резко отличалась от привычной нам. Европа VIII в. разделена, но разделена иначе, нежели Европа высокого средневековья и нового времени. Нет еще «Запада», объединяющего германско-романские страны от Норвегии на севере до Испании на юге Европы. Есть христианский, римско-византийский, «романский» мир, широкой полосой протянувшийся от Британии до Босфора; есть примыкающий к нему с юга мир мусульманский, включивший в себя иберийское звено будущего «Запада»; и есть противостоящий этим феодальным цивилизациям (при всех различиях, принадлежащим' одной социально-экономической формации), мир варварский, который объединял в своем составе германские, славянские и многие другие племена и народы. Мир устоявшийся, и мир становящийся — вот что разделяла внешняя, обращенная на север и восток граница феодальных империй. Мир, уже реализовавший возможности перехода к новому общественному строю, и мир, которому этот переход еще предстоял, где «феодальная революция» еще должна была развернуться, раскрывая внутренний потенциал устойчивого, по-своему процветающего и самостоятельного «варварского общества». Особое, пограничное положение между этих двух миров занимала Британия. Бывшая римская провинция была покинута римлянами задолго до того, как остров заполонили германские пришельцы, англы, саксы, юты. Они уже не застали здесь живого римского наследия, и иной культуры, кроме христианизированной кельтской (заповедником которой осталась в VI-VII вв. свободная от пришельцев Ирландия). Англо-саксы сохранили общественную структуру, более архаичную и варварскую, нежели у франков или вестготов. Превращаясь в феодально-христианскую, она в то же время оставалась во многом близкой структурам, сохранившимся в Дании и на Скандинавском полуострове — тех землях, откуда пришли новые обитатели Англии. Сохранялось и сознание этой связи. Героический эпос «Беовульф», записанный в англо-саксонском монастыре, повествует о данах и гаутах, его герои сражаются в Ютландии и Фрисландии, Средней Швеции и на датских островах. Взгляд повествователя все время обращен за море, он никогда не вспоминает об Англии; это — североевропейский языческий эпос, записанный англосаксонским христианином [201, с. 636-638]. К эпическим G Сохраняя память о своем родстве со скандинавским языческим миром, англо-саксы в это время были уже европейскими христианами; и для них Север стал частью языческого прошлого. Географически отделенная лишь Северным морем, Британия была ближе других стран к Скандинавии; но исторически она ушла вперед, в другую эпоху. Вероятно поэтому удар, последовавший с Севера на исходе VIII столетия, был особенно внезапным и потрясающим воображение. 2. Походы. Натиск викингов Первую полную сводку письменных известий о походах викингов, соединившую данные западноевропейских хроник и скандинавских саг, опубликовал в 1830-х годах шведский историк А.Стриннгольм [405; 215]. Обрисованная им картина принципиально не отличается от последующих изложений этой темы [309, с. 16-46]. Не пересказывая ее в подробностях, следует рассмотреть некоторые общие характеристики военного движения викингов на протяжении почти трех столетий. Это движение началось с разбойничьего нападения на Линдисфарн в 793 г. и последовавшего каскада подобных же налетов на церкви и монастыри британского и ирландского побережья [392, с. 9-17]. В дальнейшем характер действий норманнов неоднократно и резко менялся. Уже в первой трети IX в. боевые корабли викингов действовали вдоль всего западноевропейского побережья Атлантики. Сферу активности викингов на Западе можно разделить на различные по условиям и характеру военных действий три зоны. Первая зона, радиусом 1000-1200 км (R1) включала северные побережья Британских островов и Нидерланды, куда викинги проникали в течение летнего сезона небольшими отрядами из фьордов Норвегии или с островов Северной Атлантики, колонизованных норманнами к концу VIII в. Вторая зона, радиусом 1500-1600 км (R2), полностью охватывала Британские острова, а также территорию Франции до Гаронны и Луары и северо-западную часть Германии до среднего Рейна и Эльбы. Здесь отрядам викингов требовались промежуточные базы на морском побережье в устьях рек или на прибрежных островах Северного моря. Третья зона, радиусом до 3000 км (R3), включала центральную и южную Францию, побережья Испании, Италию и Сицилию. Она была доступна лишь хорошо организованным армиям (морским или сухопутным), способным вести многолетние кампании вдали от родины и промежуточных баз. Степень активности викингов в каждой из этих зон была различной. Охарактеризовать ее можно, суммируя некоторые данные средневековых источников (даты походов и нападений норманнов, количество судов и связанную с этим показателем численность войск викингов). Не принимая в каждом конкретном случае приводимые цифры за достоверные, из контекста мы можем выявить определенные общие тенденции. Известна предельная численность народного военно-морского ополчения (ледунга) в Скандинавии XII-XIII вв. — для Норвегии 311 кораблей (12-13 тыс. человек), для Швеции — 280 кораблей (11-12 тыс.), для Дании — 1100 кораблей (30-40 тыс.). Это значит, что в военных действиях должен был участвовать примерно каждый четвертый мужчина, способный носить оружие [348, с. 35, 141-142; 320, с. 381; 371, с. 119]. Видимо, подобным ограничением лимитировано и предельное число возможных участников походов викингов, не превышавшее 70 тыс. человек. Независимыми от количественных данных являются сведения источников об объектах нападений викингов: отдельные монастыри и церкви, города, а также целые области, бассейны рек, морские побережья. Такие указания имеются для значительных серий походов. В числе разграбленных викингами городов (иной раз неоднократно) упоминаются: на Британских островах — Коннемара, Лейстер, Муйдригль, Унхайль, Лейнстер, Армаг, Лиммерик, Портсмут, Линкольн, Дублин, Лондон, Кентербери, Уотерфорд, Эддингтон, Йорк; в Нидерландах — Дорестад, Утрехт, Нимвеген, Гент, Антверпен, Камбре, Берген-ом-Цоом; в Германии — Гамбург, Литтих, Маастрихт, Аахен, Кельн, Бонн, Кобленц, Майнц, Трир, Вормс, Цюльпих, Нейе, Ксантен, Дуйсбург; во Франции — Тур, Нант, Париж, Бордо, Лимож, Бозе, Руан, Шартр, Тулуза, Амьен, Реймс, Верден, Орлеан, Суассон, Пуатье, Анжер, Амбуаз, Турне, Булонь; на Пиренейском полуострове — Лиссабон, Севилья, и еще «18 городов» [в 963-969 гг.]. Приведенный список неполон, но достаточно показателен. Осада, захват и разграбление городов (иногда — нескольких подряд) требовали достаточно высокой организации воинских контингентов. Одним из ее показателей может быть известность предводителей викингов. Если первые отряды возглавлялись вождями, для нас безымянными, то в 830-40-х годах некоторые предводители уже известны по именам, о них складываются предания, иногда речь идет о полулегендарных «династиях вождей викингов». Больше 40 имен предводителей норманнских дружин сохранили для нас средневековые источники. Довольно трудно судить о масштабах опустошений и грабежей, учиненных норманнами, о ценностном выражении награбленной ими добычи. Можно привести следующие данные, в каролингских фунтах (409 г = 2 марки драгоценного металла — см. таблицу выплат викингам в Западной Европе IX-XI вв.) 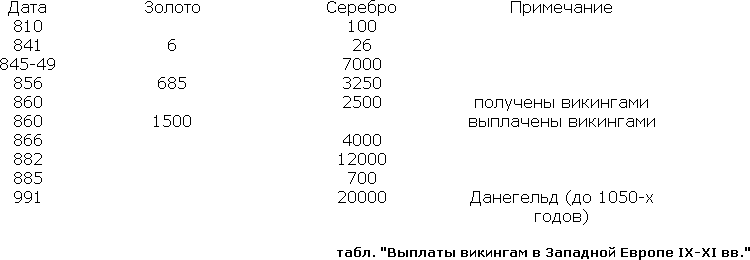 Суммирование имеющихся данных вряд ли допускает изощренную статистическую обработку: для этого они не слишком надежны. Но хотя бы простое наложение полигонов и гистограмм, полученных для разных параметров походов, с некоторыми неформализованными дополнениями, позволяет рассмотреть динамику походов на Западе этап за этапом, на протяжении всего периода (с 793 по 1066 г.). Это время можно условно разделить на этапы длительностью около 30 лет (что соответствует времени активной деятельности одного поколения). Первый этап (793-833 гг.) характеризуется высокой активностью норманнов в зоне r1, и эпизодическими появлениями в зоне r 2, даже r3 (побережье Испании). Частота нападений (условно определенная по отношению: р = число упоминаний нападений/количество лет), для r1 = 0,5, r2 = 0,13, r3 = 0,03. Реконструированная численность участников не превышает в сумме 16500 человек. Они действовали небольшими отрядами, главным образом нападавшими на церкви и монастыри прибрежных районов северной Британии и Ирландии. Наиболее крупное предприятие этапа — войны датского конунга Готфрида, около 810 г. опустошавшего побережье Фрисландии. Второй этап(834-863 гг.) отмечен возрастанием активности викингов в зонах r2 и r3. Частота нападений для r1 = 0,4, для r2 = 0,4, для r3 = 0,13. В практике викингов получили распространение два новшества: «страндхугг» (strandhugg, подобный древнерусскому «зажитью») — захват скота и другого продовольствия непосредственно в округе военных действий; и создание промежуточных баз на прибрежных островах, в устье Сены и Луары (длительное время в 850-х годах такой базой был занятый викингами Гент). Дружины викингов в это время уже способны к автономным действиям и могут подолгу находиться вдали от родины, они укрепляются организационно. Вероятно численность участников иногда достигала 77 тыс. человек, т.е. в это время экспансия, как будто, увлекла за море практически весь боеспособный контингент скандинавских стран. Во главе дружин, представляющих собой довольно крупные объединения в 100-150 кораблей (до 6-10 тыс. воинов) стоят хорошо известные современникам вожди: Рагнар Лодброг (и его легендарные сыновья), Бьёрн Ёрнсида (Ferrae costa, Железнобокий), Хастейн, Торкель, Готфрид, Веланд, Рерик Ютландский. Некоторые из них становятся конунгами захваченных владений (Олав Хвита, Сигтрюг, Ивар — в Ирландии), другие — феодалами (Хастейн — граф Шартрский). Эти случаи — исключение, они не меняют общего характера нарастающего военного натиска норманнских дружин. Третий этап(864-891 гг.). Наибольшей интенсивности достигают действия викингов в зоне r2. Фактически завершено завоевание северной части Англии и Ирландии, борьба разворачивается за оставшиеся еще свободными от норманнов области этих стран. На Британских островах образуются районы сплошного заселения скандинавов, «Область датского права» (denloo). Снижается интенсивность грабежей и набегов в завоеванных областях. Частота нападений в зоне r1 = 0,2, в зоне r2 = 0,4. Нет сведений о действиях в зоне r3. Действуют крупные и сравнительно высокоорганизованные объединения. Численность кораблей достигает от 200 до 400 (при осаде Парижа в 885-86 гг. объединяются силы в 700 кораблей — 40 тыс. воинов). В это время в походах находилось, как и на предшествующем этапе, не менее 77 тыс. человек (хроники называют этот контингент «Великой Армией»). Угроза норманнского завоевания стала реальностью не только для Англии, но и для Франкского государства (уже разделившегося на Восточнофранкское и Западнофранкское королевства, Германию и Францию). В разгар военных действий Великой Армии на Сене и Рейне, 1 мая 888 г. собор в Меце постановил включить в текст богослужения слова: A furore Normannorum libera nos, o Domine! («И от жестокости норманнов избави нас, Господи!») [215, с. 83]. Молитвы не помогали; опустошительное и жестокое нашествие продолжалось. Гораздо более эффективными оказались действия, предпринятые королем молодого Восточнофранкского государства Арнульфом. Феодальная армия германских земель была стянута к норманнскому лагерю в Лёвене. 1 сентября 891 г. баварские и саксонские рыцари в пешем строю атаковали укрепления викингов в Германии. На поле боя осталось свыше 9 тыс. скандинавов, 16 захваченных знамен были доставлены в Регенсбург, резиденцию Арнульфа. Немцы остановили норманнов. Незадолго до этого, в 890 г., викинги потерпели столь же тяжелое поражение в Бретани, потеряв 14 тыс. воинов [215, с. 85-89]. Если принять за истинные цифры потерь в обоих случаях, то следует признать, что при Лёвене и в Бретани погибли едва ли ни все норманны, находившиеся «в викинге» в 890-91 гг. (так как едва ли все 70 тыс. предполагаемых участников выходили в море одновременно). Поколение викингов 860 — 80-х годов было обескровлено. Так или иначе, поражение при Лёвене стало тем рубежом, который не только разделяет два этапа экспансии викингов, но и отмечает ее резкий спад. Четвертый этап(891-920 гг.) характеризуется активностью исключительно в зоне r2. В Англии к этому времени успешно завершилась «реконкиста Альфреда Великого» (умер в 899 г.), сумевшего стабилизировать отношения с датчанами, захватившими северную часть страны. Государство Альфреда Великого вступило в полосу мира и процветания, продолжавшуюся почти столетие. Викинги, получив отпор в Восточнофранкском королевстве, сосредоточили усилия на завоеваниях во Франции. Сюда в 890-х годах устремляются дружины норманнов, которые возглавил Рольв Пешеход (Роллон), основатель герцогства Нормандского. У нас нет данных о численности войск Рольва. Масштабы военных действий в Нейстрии с 896 по 911 г., сопоставимые с некоторыми кампаниями 863-891 гг., позволяют предположить, что это войско достигало 10-15 тыс. человек и вряд ли превышало 20-30 тыс. Одновременно с образованием в 911 г. феодального Нормандского герцогства во Франции [173, с. 36-47] разворачивается процесс консолидации северных государств, отвлекший значительные силы викингов внутренними событиями в Дании, Норвегии и Швеции [380, с. 259-276; 348, с. 94; 47, с. 113]. Следствием этого процесса была волна эмиграции, резко усилившаяся после открытия Исландии (около 874 г.). В конце IX — начале X в. пустынный остров в Северной Атлантике заселили примерно 400 бондов, покинувших Норвегию, чтобы не подчиняться власти первого единодержавного конунга, Харальда Прекрасноволосого (Харфагра). К 930 г. численность населения Исландии, видимо, достигла нескольких десятков тысяч человек [208, с. 19]. Они образовали сравнительно однородное крестьянское общество. Продолжением этой «крестьянской колонизации» на Западе было открытие в 982 г. Гренландии, а в 985-95 гг. — Винланда (Северной Америки) и появление в этих землях немногочисленных скандинавских поселений. Таким образом, начавшееся после 874 г. движение через Атлантику продолжалось более столетия; в него было вовлечено от 3 тыс. до 20 тыс. мужчин, способных носить оружие. Пятый этап(920-950 гг.) характеризуется ограниченными действиями в зоне r. Разворачивается борьба за Нортумбрию. Норманнский конунг в Дублине, Олав Рёде, мобилизовал в 937 г. огромный флот в 615 кораблей (масштабы действий снова приближаются к походам IX в.). Меняются организационные формы движения викингов. Наряду с «вольными дружинами» (уже не способными, как будто, объединяться в контингента, подобные «Великой Армии») викинги сражаются в составе королевских войск конунгов Дании, Норвегии, Швеции и других раннефеодальных государств, в качестве постоянных или временных (наемных) отрядов. В какой-то мере они образуют высший слой военно-феодальной иерархии (в Нормандии, северной Англии). В то же время в Исландии скандинавы сохраняют традиционный военно-демократический уклад, а следовательно и тот общественный потенциал, который характерен для викингов более раннего времени, периода зарождения и подъема движения. Шестой этап(950-980 гг.) связан с возобновлением активности в зонах r1 и r3. Франкское государство, ценой Нормандии, добилось безопасности от набегов викингов: их бывшие соплеменники в состоянии были обеспечить серьезный отпор пиратским налетам. Но в 960-х годах сравнительно крупные силы норманнов, несколько тысяч викингов, обрушиваются на побережья Испании. Возможно, в какой-то мере они базировались на Нормандию, пользуясь поддержкой герцога Ричарда. Возобновляется борьба на Британских островах. Норманнский конунг о. Мен, Магнус Харальдссон (969-976 гг.), опустошает Уэльс и вторгается в западные районы Англии. Начинается полоса вторжений, которые в конце концов (в 991 г.) вынудили короля Этельреда согласиться на уплату норманнам дани — Данегельда, «датских денег» (Danegeld). Англия и в дальнейшем остается основным объектом набегов викингов. Но по мере укрепления в скандинавских странах собственной государственности (особенно — в Дании) инициатива в организации походов все более переходит в руки конунгов, стихия «викинга» становится элементом государственной политики. Наступает эра «конунгов-викингов». Седьмой этап(980-1014 гг.) ознаменован концентрацией руководства набегами в руках северных конунгов. С 991 г. Этельред, король Англии, платил датчанам Данегельд. Походы Олава Трюггвасона и Свейна Вилобородого в 994-1002 гг. должны были стимулировать интенсивность этих выплат [223, с. 105]. Норманны пользовались постоянной поддержкой датских поселенцев в Англии, число которых после каждого нового вторжения возрастало. Этельред решился на отчаянную и кровавую акцию, оказавшуюся роковой для государства англо-саксов. 13 ноября 1003 г. по тайному приказу английского короля все датчане, находившиеся в Англии, были истреблены. В ответ Свейн с многочисленной армией вторгся в Англию, и после опустошительной трехлетней войны полностью подчинил страну. Второй поход, в 1012 г., носил характер карательной экспедиции. Лишь после смерти Свейна в 1014 г. Этельреду, с помощью норвежского конунга Олава Толстого (Святого) удалось вернуться в Лондон, где он и умер в 1016 г. Походы в Англию были самым масштабным, но не единственным предприятием норманнов этой поры. Обостряется борьба между скандинавскими государствами. В 1000 г. состоялась «битва трех королей» в водах Зунда. Свейн Вилобородый и Олав Шетконунг с норвежским ярлом Эйриком одержали победу над войском Олава Трюггвасона, который героически пал в бою. Восьмой этап(1014-1043 гг.) — время наибольших успехов «конунгов-викингов». Экспансия в государственно-организованном масштабе охватила различные районы Европы. 23 апреля 1014 г. при Клонтарфе норманны потерпели поражение, которое положило конец их владычеству в Ирландии, Впрочем, в это время, после смерти Свейна, викингов более всего привлекала Англия. Эта страна с конца X в. стала для датчан практически неисчерпаемым источником серебра. Данегельд, выплаченный в 991 г. в количестве 22 тыс. фунтов, в 1002 г. возрос до 24 тыс., в 1007 г. — до 36 тыс., в 1012 г. было выплачено 48 тыс. фунтов серебра. В 1016 г. преемник Свейна, Кнут Могучий, вторгся в Британию и добился полного контроля над страной. Отныне «датские деньги» выплачивались в сумме 80 тыс. фунтов. Они превратились в «ежегодный военный налог, шедший на содержание датской армии и флота и сохранявшийся в Англии вплоть до 1051 г.» [46, с. 119-122]. В 1018 г. и Норвегия вошла в состав «империи Канута Великого», как его называли европейцы. Могущество датских конунгов первой половины XI в. опиралось не только на денежные средства, выкачивавшиеся из Англии, но и на мощную иерархически построенную военную организацию. Численность ее не превышала 10 тыс. воинов, но это были отборные силы, качественно превосходившие дружины викингов и вобравшие их лучшие кадры. Небольшими, но хорошо организованными армиями располагали и герцоги Нормандские, развернувшие в середине XI в. феодальную экспансию в Средиземноморье (Сицилии и Южной Италии). Девятый этап(1043-1066гг.) — финал эпохи викингов, время последнего испытания народившихся новых сил, время их столкновения, в грохоте которого родилось государственное устройство средневековой Европы. Грандиозная держава Канута распалась после его смерти. Но ее образ оставался сияющей мечтой, вдохновлявшей преемников англо-датско-норвежского конунга. В 1041 г. Магнус Олавсон снова объединил под своей властью Данию и Норвегию. В Англии тем временем вспыхнуло восстание, руководители которого, Годвин и его сын Гарольд, пригласили на престол Эдуарда Исповедника, сына Этельреда, находившегося в изгнании, в Нормандии [223, с. 157]. Магнус готовился в поход на Англию; но в 1047 г., в разгаре приготовлений, он умер. Преемником Магнуса на норвежском престоле стал Харальд Суровый. Знаменитый воитель, зять киевского князя Ярослава Мудрого, предводитель варяжской гвардии византийского императора, воевавший с норманнами в Сицилии и Италии, Харальд — последний из «конунгов-викингов». В 1066 г., после смерти Эдуарда Исповедника, он вступил в борьбу за английский престол. Это была последняя попытка восстановить могущество «норманнской империи Севера». Флот Харальда вышел в море осенью 1066 г. Его войско насчитывало несколько тысяч одетых в железо пеших воинов (саги говорят о 200, Адам Бременский — о 300 кораблях; вероятнее всего, численность норвежцев была ограничена 5-12 тыс. человек). Это был последний поход северных викингов, отправлявшихся «завоевывать Англию». 25 сентября 1066 г. при Стемфордбридже под Йорком норманны встретились с войском нового англо-саксонского короля Гарольда. Норвежский конунг, который был к тому же замечательным скальдом, вдохновлял своих воинов боевой песней. В жестоком бою северные пришельцы были разбиты, Харальд Хардрада пал в битве. Через три дня, 28 сентября 1066 г., на берег Англии высадились воины нормандского герцога Вильгельма. Франко-нормандские рыцари на боевых конях, покрытые стальной чешуей доспехов, являли собой новую силу эпохи. 14 октября 1066 г. на полях Гастингса они разгромили победителей Хардрады, разом положив конец и англо-саксонскому периоду истории Англии, и эпохе викингов в Северной Европе. Северная окраина континента вступила в средневековье. На земле Британии начиналась эпоха викингов, с налетов дерзких разбойничьих банд «морских кочевников», бесстрашно бороздивших моря в поисках добычи и славы. На земле Бри-танин она и закончилась, в столкновении кованых ратей феодального мира. При Гастингсе потерпели поражение не только англо-саксонские «эрлы и кэрлы»: они были разгромлены именно потому, что ближе стояли к тому общественному порядку, пуповины которого еще не смогли разорвать в XI в. молодые скандинавские государства. Раннефеодальные королевства, только-только вышедшие из эпохи героического варварства, естественно, оказались слабее государств с уже сложившимся феодализмом, развивавшимся на основе римско-германского синтеза. Они могли с переменным успехом состязаться друг с другом. Но историческая перспектива раскрывалась в пользу высокоразвитого феодального строя, с вассальной иерархией, тяжеловооруженным конным рыцарством, сильной властью сюзеренов. Оптимальным образом этот строй был приспособлен к ведению войны, и ни сила натиска, ни героический энтузиазм варварских воителей, ни их сравнительная многочисленность не могли уравновесить мощи высокоорганизованной, базирующейся на прочных поземельных и иерархических служебных отношениях, обеспеченной дорогостоящим и совершенным вооружением военной машины западноевропейских рыцарских государств. Феодально-христианский мир Запада выдержал натиск норманнов и отбросил их. В конечном счете он поступился немногим: небольшие группы пришельцев были допущены в состав господствующего класса, и получили в лен завоёванные земли на окраинах христианских государств, на морских побережьях Франции, в Италии и Сицилии. За это они были обязаны вассальной верностью феодальным ценностям, они превратились в передовой, отборный отряд романского феодализма, его ударную силу. А при всех дискуссиях между историками [48, с. 7-25], на ранних этапах это был феодализм высшего типа, по сравнению с тем, который возникал за пределами древней Римской империи, который складывался значительно позднее и медленнее у славянских и германских народов Средней, Восточной и Северной Европы [227, с. 54-58]. Во всяком случае, в середине XI в. это был феодализм более боеспособный. Молодым раннефеодальным государствам предстояло еще набираться сил и опыта. В непосредственном столкновении с феодализмом сложившимся они пока проигрывали, как англо-саксы Гарольда проиграли битву рыцарской коннице Вильгельма. И не зря, наверное, книга, узаконившая новые феодальные повинности англичан, установленные Вильгельмом Завоевателем, получила имя «Книги Страшного Суда» (Domesday-book). Судный день, действительно, наступил после 1000 г., но не для христианского мира, напряженно ждавшего его, а для мира варварского, пережившего свой великолепный закат. 3. Постановка проблемы В масштабах Европы эпоха викингов выглядит как запоздалый финал эпохи Великого переселения народов: следует заметить, что в пределах континента движение племён не прерывалось ни в VII, ни в VIII вв. (славяне, болгары, венгры); и норманны включились в это движение в своё время, продиктованное конкретно-историческими и географическими условиями. В плане социально-политическом эпоха викингов завершилась, как и всюду, созданием раннефеодальных государств. Социальным содержанием эпохи викингов, несомненно, является некое широкое общественное движение; по наиболее ярким проявлениям можно обозначить его как движение викингов. Наиболее известной и привлекающей внимание стороной этого движения была экспансия норманнов, прежде всего (по не исключительно, как показывает более детальный анализ) — экспансия военная, принявшая форму походов викингов в Западной Европе. Однако за походами, внешней экспансией, стоят более глубокие внутренние процессы, определившие главный результат движения: формирование раннефеодального классового общества и средневековой государственности в скандинавских странах. Рассматривая этот процесс перехода от варварства к государственности в аспекте военной экспансии викингов, можно разделить его на три периода (в которых объединяются этапы, условно соответствующие поколениям). I. Ранняя эпоха викингов (I, II, III этапы, 793-891 гг.). Время натиска независимых, самоорганизующихся «вольных дружин», быстро перешедших от грабительских набегов на монастыри и церкви (разбогатевшие при Меровингах и англо-саксонских королях) к дальним экспедициям, захватам и завоеваниям. Англо-саксонские королевства не смогли противопоставить эффективного сопротивления этому натиску. Западно-франкское государство выдержало его с большим трудом. Восточнофранкское (будущая Священная Римская империя) смогло организовать отпор норманнам, и поражение викингов при Лёвене в 891 г. отмечает конец этого периода. II. Средняя эпоха викингов (IV, V, VI этапы, 891-980 гг.). Начало образования скандинавских государств. Силы викингов отвлечены внутренними событиями в Скандинавии. Время гражданских войн, морских грабежей, великих географических открытий норманнов. Спад военной экспансии, организационная перестройка движения. В конце периода возобновляются военные операции, свидетельствующие о сохранении социальных условий и сил, вызвавших к жизни движение викингов. III. Поздняя эпоха викингов (VII, VIII, IX этапы, 980-1066 гг.). Борьба и военная экспансия раннефеодальных королевств. Эра «конунгов-викингов». В столкновениях королевских армий движение викингов уничтожает собственный военный, социальный, людской потенциал. Социально-политическое содержание внешней экспансии викингов — процесс адаптации движения к формам феодальных отношений в Западной Европе, постепенного вовлечения норманнов в политические структуры западноевропейской государственности, в той мере, в какой этот процесс освещён письменными источниками, — давно и детально изучено историками. Собственно «история викингов» написана более полувека тому назад [339]. Однако недостаточно исследованными и потому остро дискуссионными остаются внутренние стимулы и факторы движения, его социально-экономический характер, организационная структура, а следовательно — социально-экономическая характеристика процессов, развивавшихся внутри скандинавских стран во второй половине I — начале II тысячелетия. Именно этим объясняется весьма широкий диапазон оценок, взаимоисключающие определения общественного строя Скандинавии эпохи викингов, а соответственно, ближайших к ней как предшествующих, так и последующих столетий. Одни историки склонны видеть здесь глубокую и длительно переживаемую первобытность, другие — высокоразвитую классовую государственность, на протяжении столетий (со времён династии Инглингов в VI в.) осуществляющую планомерную и последовательную внешнюю политику в континентальном масштабе. Основной проблемой остаётся определение внутренних причин, вызвавших массовую военную экспансию, движение викингов, начавшееся на рубеже VIII-IX вв., быстро развившееся в течение IX в и остававшееся устойчивым фактором европейской истории на протяжении X — первой половины XI в. Эти причины могут быть выявлены только при изучении собственно скандинавского материала, где письменные источники этого времени практически отсутствуют. Более поздние могут привлекаться ретроспективно, с опорой на скандинавский археологический материал. В этой сфере изучения ведущее место занимают обобщения и выводы, принадлежащие датским, шведским и норвежским учёным, в первую очередь археологам. Концепции ведущих скандинавских исследователей в той части, которая касается социальной природы эпохи викингов, достаточно уязвимы, так как обычно основываются на какой-либо одной стороне происходивших в Скандинавии IX-XI вв. социальных изменений, чаще всего на военной экспансии, походах викингов. Найденные для них объяснения обычно не связываются с другими процессами, не менее важными для характеристики социального содержания этого периода. В скандинавской литературе до сих пор находит сторонников выдвинутая более ста лет назад Й.Стеенструпом гипотеза о перенаселении (вызванном полигамией) как основном стимуле движения викингов [394, с. 218]. Из современных исследователей это положение разделял крупнейший датский археолог Й.Брёндстед, дополнивший его выводом о противоречиях в скандинавском обществе, вызванных утвердившимся обычаем наследования всего имущества старшим сыном [299, с. 23-24]. Брёндстеду энергично возражал видный шведский археолог Хольгер Арбман: «…современные историки видят в викингах движение бедного населения, вынужденного к экспансии давлением избыточного населения, перенаселённости в стране, неспособной прокормить всех. Как мы видели, археологические источники несомненно указывают на возрастающее население, однако они не дают пи малейшего намёка на бедность — но на всевозрастающее, основанное на твёрдой базе процветание» [272, с. 49]. Но и Брёндстед высказывая своё мнение, констатировал при этом отсутствие причин, способных вызвать миграцию сколько-нибудь значительных масс населения [299, с. 25]. Предлагаемые им объяснения военной экспансии в конечном счёте сводятся к развернувшимся в североморском регионе поискам норманнами торговых путей (что противоречит разбойничьему характеру экспансии норманнов на Западе) и специфике «северного образа жизни». Но и пути, и «северный образ жизни» в тех чертах, в каких его рисует Брёндстед, сложились задолго до эпохи викингов и сами по себе не могут объяснить начавшегося движения. Более аргументирована позиция Арбмана, который проследил нарастающий прогресс материального производства во второй половине I тыс. н.э. и обратил внимание на становление характерного для Скандинавии комплексного хозяйства [272, с. 47]; по мере повышения продуктивности северных «ферм» (на которых использовался и труд рабов) появилась возможность высвобождения части населения из сферы сельского хозяйства, реализованная в северной торговле и походах дружин викингов. Однако Арбман преувеличивал естественность, органичность этого процесса. Движение викингов, согласно его концепции, не связано ни с внутренними противоречиями, ни с социальными изменениями в скандинавском обществе. «Основными естественными ресурсами походов викингов, — писал он, — были их искусство в мореплавании и уверенность в своих судах» [272, с. 49]. Подобная идеализация общественного развития Скандинавии вряд ли правомерна. И «возрастающее процветание», и появление парусных судов на Севере засвидетельствованы археологическими материалами для значительно более раннего времени, однако сложение этих условий отделено от начала походов викингов почти двухсотлетним периодом, в течение которого либо уверенность норманнов в своих судах была недостаточной, либо не было иных, социальных условий для начала их экспансии. Арбман раскрыл лишь определённые материально-технические предпосылки походов викингов, не исследуя общественных отношений, в которых эти предпосылки складывались и затем реализовывались. С позиций марксистской историографии эпоха викингов как отдельный исторический период долгое время не рассматривалась. Соответствующие обзоры включались в состав более общих работ по скандинавскому средневековью. Лишь в конце 1970-х годов появилась книга польского археолога Л.Лециевича, специально посвящённая эпохе викингов. Норманнская экспансия и связанные с нею изменения экономики и социальной структуры Скандинавии рассматриваются здесь как часть широкого процесса феодализации, урбанизации, государствообразования, охватившего barbaricum от Норвежского моря до Каспийского. Политическая экспансия — черта многих образующихся раннефеодальных государств, но в Скандинавии она срослась с народными миграциями; их причину Лециевич видит в слиянии процесса демографического роста с первыми опытами организации общества на новой, классовой основе [348, с. 185-186]. Это объяснение, с одной стороны, даёт возможность рассматривать процессы, разворачивающиеся в Скандинавии эпохи викингов в более широком историческом контексте, показывает их закономерный характер. Но с другой стороны, оно преувеличивает некоторые особенности экономического развития северных стран. Нет оснований для вывода о хозяйственном кризисе накануне эпохи викингов; но даже если бы он и был, Скандинавия и в это, и в позднейшее время располагала значительными ресурсами для внутренней колонизации, реализованными столетия спустя после эпохи викингов, в XII-XIV вв. [47, с. 51; 89, с. 47]. Демографический рост в Скандинавии второй половины I тыс. н. э. сам по себе не вызывал катастрофических последствий, вынуждавших к движению (что отмечал в своё время Арбман). В то же время политическое развитие скандинавских стран от варварских племенных союзов до средневековых государств прошло несколько этапов и длилось несколько столетий. Определённые «предгосударственные традиции», связанные с легендарной династией Инглингов, уходят корнями в VI в. Очевидно, в этом развитии происходили какие-то радикальные изменения, и их суть, определившая историческую специфику эпохи викингов именно IX — первой половины XI столетий, остаётся нераскрытой. Между тем именно «движение викингов», по-видимому, определило в конечном счёте те особенности общественного строя средневековой Скандинавии, которые смущают умы исследователей. Даже такому авторитетному учёному, как А.Я.Гуревич, феодальное общество — со свободным крестьянством, народным ополчением, вечевыми сходками-тингами — кажется то особым, специфически северным вариантом феодализма [47, с. 150-200], то «дофеодальным» обществом [53, с. 15], Другого советского медиевиста С.Д.Ковалевского анализ скандинавских источников приводит к парадоксальному выводу: «…общественные отношения в Швеции к середине XIV в. находились примерно на той же стадии развития, как во Франкском государстве до времени Карла Великого…» [89, с. 266], — а пятьдесят лет спустя Швеция приходит к позднесредневековой сословной монархии [194, с. 114-119], словно одним прыжком преодолев полутысячелетнее отставание! [238, с. 141-143]. Специфика скандинавского феодализма не может быть раскрыта без изучения условий его генезиса. Очевидно, именно в эпохе викингов следует искать признаки оформления общественных институтов, наложивших особый отпечаток на дальнейшее развитие Скандинавии. Внешняя экспансия была лишь одной из форм проявления более глубоких, внутрискандинавских социальных процессов. II. Викинги в Скандинавии Это с Сигурдом мы На деревьях моря Ветер попутный И нам, и смерти Волны встают Выше бортов Ныряют ладьи Кто нас окликнул? 1. Европейский север во второй половине I тыс. н.э. В первой половине I тыс. н.э. Скандинавия была периферийной областью мира германских культур римского времени, уходящих корнями в середину I тыс. до н.э., к ясторфской культуре Северной Германии и Дании [409, с. 21]. На протяжении тысячи лет в недрах этого мира шло постепенное и неуклонное формирование германской этнической общности, северную ветвь которой составили скандинавы. Основой хозяйства было пашенное земледелие и скотоводство. Население сосредоточивалось в наиболее благоприятных ландшафтах Южной и Средней Швеции (Вестеръётланд, Эстеръётланд, Упланд), юго-западной Норвегии, побережья Ютландии, осваивало датские острова, а также Эланд и Готланд на Балтике. В середине I тыс. н.э., после некоторых колебаний в заселенности, связанных с миграциями II-IV вв., и возможно, объясняющихся кризисом интенсивного земледельчески-скотоводческого хозяйства [320, с. 380-432; 246, с. 79-91], меняется система расселения [300, с. 47-55; 378, с. 61-66; 361, с. 43-47; 400, с. 10; 363, с. 213-214; 45, с. 231]. Прежние деревни, многодворные поселения первых веков нашей эры сменяют обособленные большие дворы хуторского типа. Складывается экономика этих хозяйств, с населением около 50-100 человек, ставшая характерной затем для Севера на протяжении ряда столетий: большой удельный вес скотоводства (стойловое содержание скота — зимой, выпас на горных и луговых пастбищах — летом); единообразная структура посевных культур (устойчивое преобладание ячменя, постепенное распространение ржи и пшеницы, отсутствие проса — обычного для хозяйств Средней Европы); аграрная деятельность со значительным дополнением охотой, рыболовством, морским промыслом, добычей и обработкой металла, соли [376, с. 16; 323, с. 157; 396, с. 14-16; 395; 272, с. 29; 300, с. 283-285]. Технической базой этой экономики стали распространившиеся с VI в. железные хозяйственные орудия: рабочие части плуга, мотыги, лопаты, представленные в сериях погребений и кладов VII-VIII вв. В это время появляются серпы, косы-горбуши, ротационные жернова [300, с. 94-104; 154, с. 44-47]. Социальной базой северного «комплексного хозяйства» был «одаль» — неотчуждаемое наследственное владение большой семьи, домовой общины, состоявшее из усадьбы и прилегающих к ней пашен, лугов, лесных участков, водных угодий [44, с. 70-96]. По размерам и структуре одаль отличен и от земельных наделов, археологически засвидетельствованных у германцев в начале нашей эры, и от синхронного крестьянского аллода па континенте [300, с. 94-104; 154, с. 44-47]. Перестройка социально-экономических институтов, по-видимому, произошла в середине I тыс. после переселения части избыточного населения, выразившегося в движениях готов, гепидов, герулов — из южной Скандинавии, англов и ютов — из Ютландии, что и проявилось в колебаниях заселенности этих областей [363, с. 160-172; 409, с. 81]. Эти переселения способствовали установлению более прочных связей с континентом. Мигранты сохраняли какие-то связи с соплеменниками на родине: так, около 512 г. в южную Швецию вернулась часть герулов [Procop., VI, 15]. Поток римских импортов, который в I-V вв. был представлен монетным серебром, в кладах насчитывающих до 1500 монет (Синдарве, Готланд), бронзовыми сосудами (около 700 находок), стеклом (свыше 260 находок), в конце римского периода наполняется золотом [401, с. 274-295, 332-333]. Начинается «золотой век Севера» (вторая половина V-VI вв.). В нескольких десятках кладов Готланда, Элаида, Борнхольма найдено свыше 700 восточно— и западноримских золотых монет — солидов (чеканка которых началась после 395 г.). Наиболее ранние клады сосредоточены на Эланде (450-490 гг.), клады Борнхольма зарыты между 475-525 гг., клады Готланда датируются 500-560 гг. Ранние вещи дунайско-фракийского круга, например гривна из Бурахус, указывают на связи с восточноримскими провинциями (где к этому времени относится знаменитое «сокровище готов», золотой клад в Петроасе) [368]. Основным источником поступления золота на Север были дани, добыча, выкупы, полученные германцами в ходе готских, гуннских, лангобардских войн с Империей. Захваченное золото дошло до нас главным образом в виде массивных изделий местного ремесла: спиральных колец, витых браслетов, шейных гривен Они известны как по одиночным находкам, так и в составе кладов, достигающих веса 12 кг золота (Турехольм, Сёдерманланд). Наиболее эффектные шарнирные воротничковые гривны из Ханненов (Фюнен), Оллеберга и Мене (Вестеръёталанд), Фьерестадена (Эланд) богато украшены в раннем германском «зверином стиле» [231, с. 16-17]. Процесс переработки драгоценных изделий местными мастерами, создания нового мира образов и форм отразился в эволюции северных брактеатов, возникших в подражание западноримским медальонам IV в. [359]. Около 400 г появляются местные медальоны группы А (по Моптелиусу) с профильным изображением, заключенным в концентрические орнаментальные зоны; композиция и сюжет этих брактеатов напоминают латинские образцы. Брактеаты группы С — сложившийся местный тип и образ. Римский кесарь преображен в скандинавское божество, аса: профиль мужчины со вздыбленными волосами, выкатившимися глазами, энергично сжатым ртом (напоминающий образы кельтского искусства) высится над фигурой скачущего животного с рогами и козлиной бородой: можно угадать в нем древнесеверного бога-громовержца Тора с его козлами. На этих брактеатах встречаются рунические надписи: «Хьяльд начертал для Кунимунда руны на вельском жите» (римском золоте) (Чюркё, Блекинге); «Вигар, герул, сделал этот оберег» (Фьорес, Халланд). Последняя надпись перекликается с известием Прокопия о возвращении герулов. Руны, асы, магическая сила золота — этот круг представлений вводит нас в мир скандинавской мифологии и эпоса, песен «Эдды». Большинство кладов — сакрального характера, продолжающих древнюю северную традицию. Многие из драгоценных вещей связаны с традиционными германскими святилищами, продолжавшими функционировать (Хавур на Готланде, Вимозе, Торсбьерг, Нюдам, Иллеруп, Порскер в Дании, Шеруп в Сконе, Шедемоссе на Эланде и многие другие). Вокруг этих центров, расположенных обычно посреди сгустка поселений и могильников [401, с. 257, 278, 333; 300, с. 288-290; 409, с. 195, 322], объединялись культовые союзы, которые со времен Тацита, если не раньше, были у германцев, видимо, ведущей формой социально-политической организации [321, с. 106-107]. Архаический пласт верований сохранялся на Севере по крайней мере до V в. н.э. [160, с. 14]. Итак, в области и экономики, и идеология V век был переходным временем. Комплексное хозяйство одаля, как и эддическая религия, характерные для эпохи викингов, уже как будто складывались; но они сосуществовали с более архаичным укладом, постепенно вызревая в его недрах. Яркие новые явления — клады золота, каменные общинные укрепления, звериная орнаментика (I стиль, по Салину [384]) рождались словно на столкновении традиций, восходящих к раннему железному веку, и тенденций, уводящих в средневековье. Первым, ближайшим следствием этих тенденций, общего подъема хозяйства, притока заморских ценностей, было укрепление и расцвет традиционного племенного строя. Один из его центров, может быть, крупнейший, возник в Упланде (Средняя Швеция). Это — Старая Упсала, с VI по XI в. главный храм Одина, Тора и Фрейра, резиденция королевского рода конунгов племени свеев. По преданию, здесь правила восходящая к главе богов Одину династия Инглингов, от которой происходили все «легитимные генеалогии» конунгов Швеции, Норвегии и Дании IX-XI вв. Храм и его идолы, священная роща, обряды и жертвоприношения в Упсале известны по описанию Адама Бременского, составленному около 1070 г. [Adam, IV, 27]. Ко временам легендарных Инглингов относятся «Великие курганы» Упсалы, самые знаменитые из серии монументальных насыпей, сооруженных в Средней Швеции в эпоху Великого переселения народов и последующие столетия [401, с. 349-353]. Три кургана, расположенные цепочкой к юго-западу от упсальского святилища, однотипны по устройству и погребальному обряду. На естественном возвышении устраивалась площадка, перекрытая слоем глины и служившая местом кремации; среди вещей, уничтоженных в пламени костра — драгоценное оружие (золото с гранатовой инкрустацией), парча, стекло; в составе жертвоприношений — кости собаки, лошади, быка, свиньи, овцы, а также кошки и петуха (петух Сальгофнир будит эйнхериев в Вальхалле, дворце Одина; кошка — священное животное Фрейи, его жены; собака сопровождает всадника в Вальхаллу на изображениях готландских стел VIII-XI вв.). Остатки сожжения помещали в глиняную урну или сгребали в кучку на кострище. Над погребением сооружали каменную насыпь высотой 1-2,5 м, а затем насыпали земляной курган (самый высокий из них, западный в Упсале, достигал 12 м). Эпическая традиция связывает курганы Упсалы с конунгами племени свеев Ауном, Эгилем и Адильсом. Сын Эгиля Оттар (упомянутый в «Беовульфе») погребен, по преданию, близ Венделя в кургане Оттарсхёген. Курган раскопан [351]. По обряду он близок упсальским, среди вещей — золотой солид Василиска (476-477 гг.). Курган Оттара датируется временем около "500 г.; для остальных «курганов Инглингов» предлагались различные датировки; наиболее вероятные из них — в интервале 500-550 гг. [259]. В погребальном обряде упсальских курганов черты ритуала, типичные для Средней Швеции, гиперболизированы до монументальности: «Великие курганы» выделяются и размерами, и конструкцией (требовавшей большого труда), и роскошью погребального инвентаря, и обилием жертв. Безусловно, Упсала в VI в. была центром довольно крупного объединения, в «Великих курганах» погребены, видимо, конунги свеев, вожди, возглавлявшие сложившийся к середине I тыс. н.э. союз племён. Среднешведское племенное объединение, реальная, а не эпическая «Держава Инглингов», представляло собою высшую ступень развития традиционного племенного строя, основы которого у германцев зафиксированы еще" на рубеже нашей эры, а закат наступал в середине I тысячелетия. К этому времени традиционные институты, власть королей-жрецов достигла небывалой мощи. Упсальские курганы воплощали тот же идеал конунга, выражая его в погребальном обряде, в величественности монументальных насыпей, что и строфы «Эдды»; Будешь велик как никто под солнцем, станешь превыше конунгов прочих. Щедр на золото, скуп на бегство, обличьем прекрасен и мудр в речах Не только хронология событий (гибель бургундского королевства на Рейне в 437 г.) сближает по времени эпос и «древности Инглингов». Песни «Эдды» пронизаны тем же мироощущением, которое запечатлели эти древности. Мир сверкающих золотых колец, гривен и браслетов, кроваво-красного оружия с гранатовыми инкрустациями, величественных королевских курганов создавал этот эпос. Только современник Инглингов Упсалы мог воскликнуть: Не знаю я золота с полей Гнитахейд что нашей добычей давно бы ни стало! У нас семь палат полных мечами их рукояти в резьбе золотой конь мой, я знаю, коней всех ретивей, острее мой меч, красивей мой шлем из Кьярова дома, кольчуга из золота, и лук мой лучше всех гуннских луков! В середине I тыс. Север создал эпос, клады золота и звериный стиль, «Великие курганы». Сформировалась законченная и завершенная общественная структура, которая казалась вечной, как мир эпической героини: Брюнхильд в покоях ткала покровы дружина и земли ее окружали земля и небо покоились мирно в час, когда Сигурд чертог увидел Но в этом мире зрели уже силы, готовые взорвать его изнутри. В «Песне о Хлёде», одной из ранних в «Эдде», молодой герой вступает в спор с конунгом: Я хочу половину наследия Хейдрека доспехов, мечей, скота и приплода, сокровищ казны, жерновов скрипящих, рабов и рабынь с их ребятами вместе. И лес знаменитый что Мюрквид зовется на готской земле могилы священные камень чудесный в излучинах Данпа, кольчуг половину, у Хейдрека бывших, земель и людей и блестящих колец! Конунг отвечает: Скорее расколется щит сверкающий, и с холодным копьем столкнется копье, и воинов много падет на траву, прежде чем Тюрвинг начну я делить, или дам тебе, Хумлунг, долю наследства! Копья столкнулись, и воины пали. Согласно эпической традиции, переданной в «Хеймскрингле», династия Инглингов пресеклась в годину кровавых распрей. Эти обобщенные и отрывочные сведения не противоречат общему впечатлению, которое оставляет археологический материал: довольно единодушно археологи пишут о «цезуре», разрыве в древностях после 550 г.: нет кладов золота, прекращается развитие I звериного стиля (лишь на рубеже VI-VII вв. возникает II стиль); распространяются укрепленные поселения (в пределах бывшей «Державы Инглингов» их насчитывается около 700 — в Средней Швеции, Эстеръётланде, на Готланде и Эланде) [396, с. 213-215; 323, с. 120-121; 343, с. 147-148; 401, с. 355-356]. «Золотой век» Севера заканчивается трагическим финалом. Однако несмотря на гибель многих поселений в огне внутренних войн, запустения не происходит. В третьей четверти I тыс. плотность населения в освоенных областях Скандинавии возрастает. К VII-VIII вв. лингвисты относят обособление норманнов от германской языковой общности. Именно в это время распространяются два важнейших технических новшества: железный лемех плуга, и прямоугольный парус на килевых судах. Экономика одаля обретает прочную основу и дальнюю перспективу. Два столетия, непосредственно предшествующие эпохе викингов, в Швеции называют вендельским периодом (550-800). Среднешведские памятники (иногда выделяемые в «вендельскую культуру»), однако, лишь в концентрированной и яркой форме выразили тенденции, общие для всех скандинавских стран в период, который в Норвегии называют «меровингским», в Дании — «германским временем» [355, с. 10; 349, с. 20; 390; 300]. Резко возрастает экономический потенциал хуторских хозяйств. Социальной основой их остается объединение родственников, принимающее облик «домовой общины» [47, с. 15-18]. Родовые отношения внутри основного производственного коллектива естественным продолжением имели родовые отношения вне его: народное собрание, тинг у скандинавов выступает прежде всего как коллективный орган родовых союзов. Отношения родовой иерархии пронизывали все сферы жизни скандинавов: экономической (право выкупа земли сородичами), социальной (кровная месть, вооруженная полицейская поддержка) идеологической (общие культы). Союзы родичей решали исходы тинга еще в Исландии XI в. [Сага о Ньяле, 134-146]. Вплоть до эпохи викингов народное собрание не имело иных внеродовых форм социальной организации, прежде всего — организации военной. Периодически, по мере надобности созывавшееся ополчение было механическим соединением сил родовых союзов, пронизывалось отношениями родовой иерархии, и его использование для целей, не совпадающих с целями родовых предводителей — невозможно. Мы не знаем в вендельский период военачальников-"херсиров" эпохи викингов, опирающихся на обособленную от родовых союзов дружину. Имущественная дифференциация, естественная в условиях экономического подъема, неизбежно принимала форму дифференциации родовой, выделения знатных, богатых и могущественных родов. Их главенствующее положение определялось прежде всего отношениями родовой иерархии и, в свою очередь, давало им несомненное преимущество в укреплении своей экономической и политической мощи. Во главе этой иерархии в конце VI — начале VII в. оказались, видимо, сменившие вождей крупных племенных союзов, легендарных Инглингов, «малые конунги» — sm Новые тенденции экономического и социального развития в VII-VIII вв. наиболее отчетливо проявились в центральной области Средней Швеции — Упланде. Здесь, на оз. Мелар появляется первое поселение устойчивого неаграрного характера, с отчетливо выраженными ремесленно-торговыми функциями. Оно возникло на о. Хельгё («Святом острове»), заселенном с III в. по X — начало XI в. Неаграрный характер Хельгё приобретает в середине I тыс. Судя по составу импортов, поселение уже в VII в. было включено в систему связей, охватывавшую практически весь европейский континент и выходившую за его пределы; в то же время стабильными и интенсивными были отношения с соседними внутрискандинавскими областями: из Норрланда и Смоланда ввозилось железо, из Скоие и Норрланда — шлифовальные камни; Хельгё опиралось на густо заселенную и хорошо организованную округу [330; 331, с. 23-24]. В этой округе начиная с рубежа VI-II вв. распространяется новый вид погребальных памятников: могильники с ингумациями в ладье. Этот обряд бытовал до середины XI в. Всего в Швеции известно около полусотни таких погребении, в основном они сосредоточены в Упланде [404; 349; 276; 268406; 399, с. 610-618]. Уже в первых по времени упландских комплексах новый ритуал представлен в сложившемся виде и остается неизменным на протяжении всего вендельского периода. К VII-III вв. в Упланде относится 12 датированных могил, из них 10 — полностью опубликованы. За пределами Упланда достоверно датируются вендельским периодом лишь могилы в Аугерум [Блекинге] и Набберор [Эланд]. В Упланде ингумации в ладье составляли в VII-III вв. небольшие замкнутые кладбища. В могилах вендельского времени на полностью раскопанных кладбищах Вендель и Вальсъерде похоронены только мужчины. Погребения женщин в ладье появились в Средней Швеции только в эпоху викингов [403; 404; 285; 277; 362, с. 104]. В каждом могильнике этого круга на одно поколение приходилось по одному мужскому захоронению в ладье. От рядовых могил эти погребения отличались пышным и сложным ритуалом. Покойника укладывали (или усаживали) в кормовой части ладьи, рядом с ним в определенном порядке складывали парадное оружие, в средней части ладьи, в ларцах или на скамьях — остальные вещи. Вдоль бортов и у форштевня ладьи хоронили жертвенных животных (от 3 до 17 голов скота, а иногда и соколов). В каждом погребении найдены обязательные наборы вещей: роскошное парадное оружие, пиршественная посуда, орудия труда, парадная конская сбруя. Графическая корреляция археологических признаков погребального обряда позволяет выделить «вендельский тип» погребений (Vt): мужские ингумации в ладье, в грунтовых могилах, с парадным вооружением, пиршественными и кузнечными наборами, верховыми лошадьми и большим количеством жертвенных животных [106, с. 155-180], Этот тип обряда надежно зафиксирован не ранее 570-600гг.. [276, с. 70-72; 287, с. 64; 273, с. 30]. Он резко отличен от традиционного для Средней Швеции обряда кремации, с захоронением под курганной насыпью. Погребения вендельского типа занимают совершенно особое место во всей совокупности погребальных обрядов Скандинавии VII-VIII вв. К этому времени обычай ингумации мертвых широко распространился в южной части Скандинавии (Ютландия, Зеландия, Вендсиссель, Борнхольм Эланд, Готланд, Сконе), нигде однако не вытеснив полностью обычая кремации (в Средней Швеции остававшегося господствовавшим) [298, с. 82-216; 300, с. 282-312; 406, 38-47; 398, с. 30-91; 399, с. 602-610; 390, с. 109-168]. Чрезвычайно однороден инвентарь погребений (в мужских могилах — детали одежды, иногда — фибулы, бытовые вещи, привешенные к поясу — ножи, оселки, отдельные предметы вооружения; в женских — наборы украшений; две фибулы на плечах, третья — на груди, ожерелья, подвески, булавки, и привешенные к поясу игольники, ключи, ножи). Эти вещи найдены в погребениях с различными способами захоронения (кремация — ингумация), и разнообразными погребальными конструкциями (курганы, каменные оградки-от прямоугольных до ладьевидных, намогильные стелы — поминальные камни, bautastenar); они представляют собой развитие местных, племенных традиций, как правило, зафиксированных на каждой из территорий еще в раннем железном веке. Картина осложняется, правда, общескандинавским процессом постепенного распространения с юга па север обычая ингумации мертвых, а также различными взаимными влияниями, естественными в условиях соседства. Однако для каждой области можно выделить особый, только ей присущий, или ведущий, тип могил (в Средней Швеции — урновые сожжения под невысоким курганом, в Сконе — «могилы с очагами» и т.д.). В то же время другие встречающиеся здесь варианты обряда имеют точные соответствия в соседних областях (так, в Сконе из Норвегии проникает традиция каменных оградок, из Средней Швеции — обычай возводить курганы, и пр.). Пестрота обряда объясняется, во-первых, различием древних племенных традиций, во-вторых, их взаимодействием. Социальная структура, стоящая за всеми этими вариантами — сравнительно однородна. Различия в оснащении могил (от мужских погребений с отдельными предметами вооружения, и женских — с ключами, до безынвентарных) не выходят за пределы различий внутри большесемейных домовых общин. Общество, зафиксированное «ансамблем некрополя» Скандинавии VII-VIII вв., состояло из таких, в общем, равноценных больших семей, объединенных в родовые союзы [110, с. 24-30]. Нет никаких признаков выделения более или менее широких общественных групп, не вписывающихся в эту структуру. Упландские ингумации в ладье вендельского типа на этом фоне выступают как погребальный обряд немногочисленной, но господствующей социальной группы. Замкнутые, состоящие только из погребений вендельского типа кладбища — это династические могильники местных вождей. Социальные функции вендельских династов, новым по характеру обрядом противопоставленных основной массе общинников, обрисовываются с достаточной полнотой. Наборы защитного и наступательного оружия, вероятнее всего, связаны с руководством военной организацией, ополчением. Вендельские мечи, копья, щиты, шлемы отделаны с исключительной пышностью и великолепием [283]. Особенно показательны шлемы. Их конструкция восходит к поздним восточноримским образцам [260, с. 158-166], а декор связан с сюжетами скандинавской мифологии или эпоса [288]; при этом изображенные на чеканных бронзовых позолоченных пластинах божества или герои вооружены, снаряжены и одеты точно так, как (если судить по инвентарю погребений) носители этих шлемов — вендельские династы. Торжественное, парадное вооружение и конская сбруя вряд ли предназначались для боя. Скорее, они служили для церемониальных выездов и ритуалов, связанных с регулярными сборами народного ополчения, которые совпадали как с религиозными праздниками, так и с собраниями тингов. Стрелы (без луков, но связками до полутора десятков), как и остальное оружие, следует рассматривать как символы власти (посылая стрелу, скандинавские конунги собирали ополчение и тинг [215, с. 307]). Пиршественные наборы в погребениях также, видимо, маркируют некие административные функции: в варварском обществе пир, начальная форма норвежской «вейцлы» или шведского «ёрда», был важной формой социальной связи вождя с подвластными ему общинниками [47, с. 30-31; 234, с. 76]. Пир одновременно выполнял и ритуальные функции. Гривна с привесками — «молоточками Тора», найденная в одном из погребений Вальсъерде вместе с кузнечным набором (древнейшая в Швеции) [285, I, t. 36], возможно указывает на особую роль вендельских династов в сфере культа: в упсальском храме идол громовержца, покровителя кузнецов Тора, занимал центральное место, между Одином и Фрейром. Концентрация в могилах вендельского типа импортов и роскошных ремесленных изделий (посуда, оружие, сбруя) указывают на монополию внешней торговли. Продукция местного и зарубежного ремесла, представленная в синхронных материалах Хельгё, поступая через этот и, может быть, другие подобные центры, сосредотачивалась в распоряжении вендельской знати. Ее особое экономическое положение подчеркивает и обилие скота в могилах — с гомеровских времен характерная черта родовой аристократии на раннем этапе ее возвышения. Для определения социальных функций вендельских династий исключительную ценность представляют наблюдения о связи между могильниками вендельского типа, и поселениями с топонимами на —tъn («ограда», «укрепление», ср. слав, «тын»); эти локальные центры ремесленно-торговой активности по средневековым источникам известны как административные центры территориальных округов Средней Швеции, хундаров [311, с. 47; 354, с. 37; 286, с. 34-35]. Среднешведский hundar, также как h Выросшая па родовой основе система территориальных округов, возглавленных династиями местной знати, пришла в VII-VIII вв. на смену централизованной племенной организации V-VI вв., с королями-жрецами во главе. Сходные территориальные структуры в более раннее время археологически фиксируются в Дании, а в более позднее время по письменным источникам известны в Норвегии (где до конца IX в. существовали независимые мелкие королевства-фюльки) [409, с. 194-197; 47, с. 93]. В одном из норвежских фюльков, Рогаланде [390, с. 220, 223], исследован курган VIII в. с погребением в корабле (Гуннарсхауг), хронологически предшествующим знаменитым «королевским курганам» Вестфольдингов (Усеберг, Гокстад, Туне); норвежский обряд, в эпоху викингов ставший привилегией высшей знати, генетически, по-видимому, связан со шведскими погребениями вендельского типа. Знать, возглавившая возникшие в VII-VIII вв. локальные объединения, не только сосредоточила в своих руках небывалую экономическую, политическую, идеологическую власть, но и создавала адекватные этой власти новые формы культуры. До нас дошли наиболее яркие ее проявления в художественном ремесле («вендельский стиль» [284]), ювелирном производстве, основывающемся на англосаксонской и франкской технологии (золото с гранатовыми инкрустациями в перегородчатой технике [280, с. 186-193]). Погребальный обряд вендельского типа относится к явлениям того же порядка, но генезис его остается неясным [362, с. 192-203]. Истоки вендельской традиции не удается опознать в немногочисленных ингумациях в ладье более раннего времени (Слусегорд на Борнхольме, Конгсхауг в Мере, Норвегия) [305, с. 213-239; 294, с. 175-194]. Наибольшее сходство вендельские погребения имеют с англосаксонскими курганами в Саттон-Ху и Снэп. Первый из них, с кораблем, погребальной камерой, оружием, королевскими регалиями, золотыми монетами и прочим исключительно богатым инвентарем, датируется не позднее 625-630 гг. [302; 312, с. 103-104]. Обычно английские памятники рассматривают как производные от среднешведских; однако детальный анализ основных компонентов культурного комплекса, представленного в Саттон-Ху и памятниках «вендельской культуры» позволяет в ряде аспектов допустить если не независимое развитие, то, по крайней мере, опору на некий общий, континентальный источник [414, с. 212-218]. В этом случае показательно, что англосаксонская традиция рано возникает, и рано обрывается по сравнению со шведской; но при этом она представлена намного более яркими и насыщенными образцами. В это время был создан «Беовульф», англосаксонский эпос, связь которого с памятниками круга Саттон-Ху не вызывает сомнений [301, с. 85-98]. Содержание эпоса между тем полностью связано со скандинавскими странами, с племенами гаутов и данов, свеев и ютов; здесь упоминается Оттар, конунг из рода Инглингов, похороненный в кургане близ Венделя; повествуется о кровавых межплеменных распрях, о междоусобицах в королевском роде свеев [Беовульф, 2922-3000, 2379-2399]. Осведомленность английских дружинных сказителей в скандинавских делах может свидетельствовать о направленности культурных, а может быть и политических импульсов в Северной Европе начала VII в. После цезуры, сбоя в развитии культуры Скандинавии, вызванной распадом племенного строя «державы Инглингов», выдвинувшаяся на ведущие социальные роли местная свейская племенная знать в своих новых культурных нормах могла ориентироваться на стереотипы, складывающиеся в среде близкой знати англосаксонской, — где, однако, эти стереотипы были быстро вытеснены христианской церковной культурой. Можно допустить, что одной из таких норм, заимствованных у англосаксов, стал богатый «королевский» антураж «кораблей мертвецов». Дальнейшая эволюция этого обряда выявляет глубокий кризис социальных позиций вендельской знати [106, с. 169]. Ингумации в ладье эпохи викингов (тип обряда Bg) отличаются от могил вендельского типа отсутствием роскошного парадного оружия и сбруи, жертвенных животных (кроме лошадей и собак), резко сокращается количество погребальных приношений. Из кризиса, прервавшего в IX в. развитие ритуальных традиций, вендельская знать вышла лишь в X в., утратив свое господствующее положение: из могил исчезли важнейшие атрибуты власти и могущества. В то же время внутренняя консолидация знатных родов проявилась, возможно, в том, что родовитым женщинам в эпоху викингов воздавали не меньшие почести, чем мужчинам: появляются женские ингумации в ладье, которые можно сопоставить с рассказом о погребении Унн Мудрой [Сага о людях из Лаксдаля, 7]. Видоизмененный обряд типа Bg перестал быть монополией вендельской знати. Сходные погребения появляются в Вестманланде, в Трендалаге, Согне, Хордаланде, Мере, распространяясь из Швеции в Норвегию [362, с. 162-180]; одновременно здесь появляются подкурганные ингумации в ладье (тип Nt). В Средней Швеции наряду с ингумациями возникает новый, сравнительно широко распространившийся обряд [105, с. 185-190] — сожжения в ладье под курганной насыпью (тип Birka — В]. По ряду признаков ритуал этих погребений близок поздним формам погребального обряда вендельской знати. Изменения в ансамбле некрополя, деградация элитарного и появление новых, сравнительно массовых вариантов обычая захоронения в ладье, отражают определенную социальную динамику: выдвижение новых общественных групп, конституированных новыми типами обряда, связано с упадком могущества и власти родоплеменной знати. Можно предполагать, что возвышение этой знати в VII-VIII вв. сопровождалось нарастанием внутренних противоречий между родоплеменной верхушкой, и свободными общинниками. Косвенным показателем такого противоречия были медленная мирная экспансия, эмиграция населения из Норвегии на острова Северной Атлантики [334, с. 51] и начавшееся в VI-VII вв. движение шведов на Аландские острова и восточный берег Ботнического залива. Эта эмиграция продолжалась на протяжении всего VII-VIII в., и к концу вендельского периода ее возможности, фонды безлюдных и слабозаселенных земель на островах и побережьях были исчерпаны. Именно в среде шведских поселенцев на Аландах появились самые ранние сожжения в ладье. В наиболее изученном могильнике Кварнбаккен 2 кургана с обрядом типа В относятся к VII в., 4 датированы VII-VIII в., 1 — VIII в., 6 комплексов рубежа VIII-IX вв., 6 — эпохи викингов. Серия сожжений в ладье открыта на финляндском побережье [314; 362, с. 56-58, 151-152]. Новый обряд, выработанный за пределами сферы гегемонии вендельской знати, с начала IX в. широко распространяется в материковой Швеции, а затем — и за ее пределами; аналогичные процессы прослеживаются и в других районах Скандинавии. С ними связана существенная и глубокая перестройка общественной структуры. Вендельский период окончился. Наступила эпоха викингов. 2. Общество эпохи викингов: бонды Исходное звено общественной системы Скандинавии IX-XI вв. — унаследованный от предшествующих столетий родовой коллектив, aett (шв. kind, kyn), союз родичей, объединяющий (если буквально следовать «Эдде» Снорри Стурлусона) всю генеалогическую протяженность мужских родственников. Прежде всего сюда входили кровные законные родственники (люди, рожденные в юридически нормативном браке), когда род (aett) невесты получал за ее приданое денежный выкуп — mund. Потомки от такого брака назывались aettborinn и вместе с принадлежностью к роду наследовали всю совокупность родовых прав. Кроме прямых, кровных, потомков в. состав aett входили люди, введенные в род, acttleidiigr, принятые в число членов клана с соблюдением особой ритуальной процедуры, которая давала право till gialls ос til g till sess ос til saetes — на место и сиденье til bota oc til bauga — на платы и кольца til allz r (G. 58) — [Законы Гулатинга, 58] Полный круг располагавших всей этой совокупностью прав членов клана выражало понятие fraendr (franta, frinta) — «родичи» [72, с. 101-105]. Самым существенным правом, сплачивавшим воедино всех членов aett, было право-обязанность отстаивать и защищать жизнь каждого из родичей, или мстить, или получать плату, законную виру за эту жизнь от убийцы и его рода [53, с. 47, 184]. Ядро клана составляли те, кто в средневековых судебниках назывался bauggilldsmenn — «люди, получающие (или платящие!) кольца (золота) = возмещение». Родовым правом на возмещение обладали также более отдаленные родичи. В «Законах Фростатинга» они обозначены как nefgilldismenn — «получающие деньги родичей» (от nefi — «родственник»). Сходным термином (от nef — «нос») называлась nefgilldi — «подать с носа», налог, по преданию введенный Одином, а в государственной практике утвердившийся во времена Харальда Прекрасноволосого. Не только расчеты с другими родовыми союзами, но и — позднее — выплаты государству, подати, налоги и дани конунгам распределялись более или менее в соответствии с родовой иерархией; baugar в Норвегии (как и аналогичные платежи в Англии) были не просто вирой, но, в более широком смысле, штрафом за различные тяжкие преступления, который взимался в пользу короля. Родовой коллектив, объединявший родичей совокупностью взаимных прав и обязанностей, обеспечивающих существование каждого из сородичей til brannz ос til b «Двор» — h Залогом единства родичей, обеспечивавшего их неприкосновенность, было неотчуждаемое, священное, как и дом и домашний мир, родовое земельное владение — o Одаль представлял собою наследственное владение, состоявшее из пахотных земель, луговых, пастбищных, лесных, водных и других угодий, которое, в принципе, находилось в нераздельной собственности aett. Даже в случаях временного раздела пашен в целях их посемейной обработки (hafnscipti) одаль оставался одалем, и находился в коллективном владении fraen Правом на родовое владение располагали Имущественное состояние такого бонда определялось понятием eign — «собственность»; eignar b К эпохе викингов восходит понятие f Сформировавшаяся на основе: 1) земельного фонда родовых владений; 2) движимого имущества, f Центральным субъектом скандинавского обычного права, восходящего к эпохе викингов и кодифицированного в X-XI II вв., был Бонд, будь он «полным» или «одиночкой», принадлежит к автономной крестьянской общественной структуре, когда она иерархически замыкается на домохозяина, когда вся полнота прав и власти в доме принадлежит тому, кто занимает в этом доме ondvegi, почетное хозяйское сиденье [G. 35, 266; F. X, 2, 8]. Высшим воплощением этой полноты крестьянских прав стала категория st Эпоха викингов, — и в этом ее историческое своеобразие, — была временем появления, наивысшего подъема и начала разложения слоя «могучих бондов», временем полного и последнего расцвета общественного строя, основанного на крестьянском землевладении. В рамках эпохи викингов можно проследить начало его подчинения господствующей феодальной иерархии и перерождения в уклад угнетенного класса феодального общества, — правда, угнетенного, но, в отличие от других европейских стран, никогда не закрепощенного [4, с. 352-353]. В IX-XI вв. скандинавские бонды, опираясь на родовое землевладение, одаль, создали достаточно стройную систему правовых норм, их гарантий, административно-территориальную организацию (обеспечившую эффективность функционирования правовой системы) и, наконец, военную организацию, интегрировавшую силы бондов в разных масштабах (от уровня первичного территориального округа, объединявшего несколько семей или родовых союзов, до уровня области или страны). Стимулируя в определенной степени внешнюю экспансию, движение викингов как производной от общества бондов новой военно-социальной силы, эти общественные институты прежде всего обеспечивали прочность социального статуса бондов в IX-XI вв., а затем, перейдя в средневековье, сохранили определенный комплекс прав, личную свободу, политическую самостоятельность скандинавского крестьянства, что и определило своеобразие северного феодализма. B В первом норвежском общегосударственном судебнике Landslov (1274 г.) «народное оружие» дифференцировано в зависимости от имущественного состояния бондов [L. III, 11]. Сама по себе показательная, эта градация позволяет сопоставить военный потенциал норвежского крестьянства с потенциалом правящего класса, представленного в дружинном уставе XIII в. [H В XIII в. даже высший слой бондов уступал низшей категории королевских дружинников, хотя и приближался к ней по вооруженности. Тем не менее, как и в IX-XI вв., бонд «с копьем и мечом» (med odde ос eggiu) являлся для выполнения важнейших общественных функций [G., 66, 121, 238]. 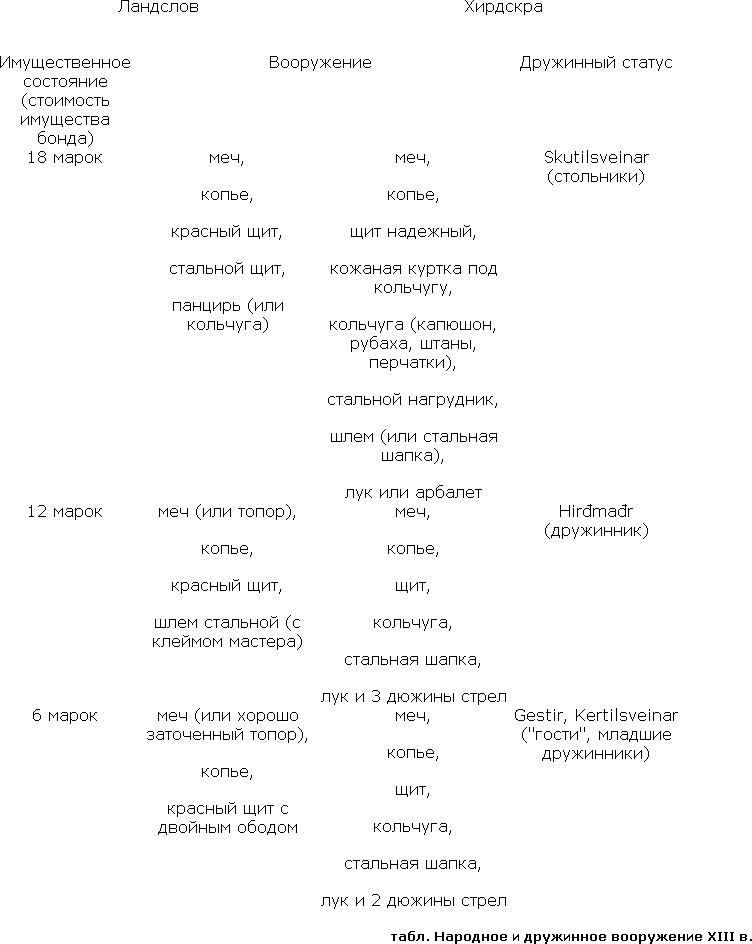 Вооруженные свободные группировались в сложную территориально-административную структуру. По мере разрастания родовых союзов от первичной, главной усадьбы h Ты сказал мне воин браги нету в доме Что ж тогда вы дисам в жертву приносили? — издевательски спрашивал бонда скальд Эгиль, оказавшийся нежеланным гостем на такой пирушке. Дисы — языческие божества плодородия, disaething назывался весенний тинг свеев в Упсале когда совершались жертвоприношения «во имя мир: и за победы конунга», устанавливался «мир дистинга» (disaethings fri Несколько соседских общин, grannar, объединялись в byg Бюгды, херады, фюльки (ланды, рики) управлялись — каждый — тингом соответствующего уровня. По крайней мере, с херада можно проследить и позиции племенной аристократии, «предводителей» — (h Смысл существования этой многоступенчатой системы заключался в поддержании того, что выражалось основным значением слова lag, l Именно сюда, на placitum, выносит rex — konungr свеев, скажем, такой вопрос, как принятие христианства [Rimbertus, XXIV]; конунг выступает, скорее, как власть исполнительная, верховный функционер племенной организации. Положение дел на тинге контролировали лагманы (l Во всяком случае, в эпоху викингов «карлы и ярлы» в политическом плане составляли нечто целое: родовитая знать ничем, кроме своей родовитости (выраженной в поэтических генеалогиях, возводящих владельцев к мифо-эпическим персонажам, а то и божествам) и периодических, ритуального характера приношений (gj Гарантией демократичности тинга был принцип его всеобщности, allsherjarting. В исследованиях А.Я.Гуревича детально прослежен процесс постепенного сужения числа участников тинга по мере прогресса феодализации Норвегии во второй половине XI-XIII вв. [47, с. 151-166; 48, с. 193-213; 53, с. 178-212]. Военно-демократическое право постепенно, по мере разложения элементов родовой организации, парцеллизации хозяйств и имущественной дифференциации бондов, для части из них становилось обременительной повинностью, которой стремились избежать или передоверить ее другим, более имущим. Для бондов, сохраняющих это право, оно превращалось в политическую привилегию, как и вооруженная служба, сближавшая верхушку бондов с господствующим классом, постепенно втягивавшим одальманов-хольдов в свой состав. Наряду с тингом и в функциональной связи с ним вторым основополагающим институтом скандинавского общества было народное ополчение, ледунг (норв. lei В основе ледунга — местные (областные, племенные) ополчения довикингской поры. Процесс их активизации, связанный с началом походов викингов, в течение IX в. подготовил постепенную консолидацию, а затем подчинение централизованному королевскому управлению. В середине X в., в правление Хакона Доброго (945-960 гг.) были заложены основы военно-территориальной организации, сохранявшиеся па протяжении последующих столетий. Конунг получил право сбора ополчения в различных масштабах — в виде halfs almenningr (полуополчения) или полного, allan almenningr [F., Ill, 3]. Исходной единицей мобилизации был manng В течение всей эпохи викингов, с начала IX до середины XI в., между народным ополчением, ледунгом, постепенно приобретавшим все более государственно-организованный характер, и королевской дружиной (hir 3. Викинги Социальная структура хундаров и фюльков вендельского периода не оставляла места для зарождения и консолидации новых общественных сил: элементы, вступавшие в противоречие с племенной знатью, опиравшейся на сакрализованный авторитет, словно «выдавливались» из общества, устремляясь на пустующие, не освященные племенными божествами земли, свободные от контроля местных вождей-жрецов; выходом поэтому стала не внутренняя колонизация (физически возможная, и много позднее осуществленная конунгами), а эмиграция на ближайшие острова к востоку и западу от Скандинавии. К исходу VIII в. фонд доступных для колонизации островных земель был исчерпан. Норманны вышли к прибрежным границам европейских государств, защищенным феодальной властью и недоступным для свободного заселения. Однако расположенные вдоль побережья, неукрепленные сельские церкви и монастыри оказались легкой добычей, раскрывая перед несостоявшимися переселенцами новые возможности: не случайно в ряду импортов Хельгё найден епископский посох, который вряд ли был предметом торговой сделки. Доступ к источникам движимых ценностей (f Широкий диапазон этих функций выявляется уже при анализе военной стороны норманнской экспансии; морские разбойники, завоеватели, переселенцы, военные наемники, королевские дружинники, наконец, феодалы (типа Хастейна или Рольва) — вот спектр «социальных ролей» викингов. Легендарная биография завоевателя Нормандии Роллона (Рольза, Хрольва Пешехода, — в исландских сагах) показательна для характеристики социальной природы викингов [215, с. 93-98]. Младший сын в знатном роде, вступивший в конфликт с конунгом; пират, грабитель, торговец, военный предводитель, постоянно ищущий места для поселения (от небольшого острова Вальхерен — до обширного герцогства Нормандского); подобное сочетание столь разнородных качеств — не исключение. Среди вождей викингов мы находим Атли, сына ярла, изгнанного из Норвегии [Сага об Эгиле, 76; Сага о людях из Лаксдаля, 5]; викинг Гуннар после походов в Швецию, Курляндию, Эстонию прибывает в Хедебю, для сбыта захваченной добычи в большом торговом городе [Сага о Ньяле, 29-31]. Эгиль Скаллагримссон и его брат Торольв в викингском походе торгуют с куршами до истечения установленного срока, а потом нападают на куршские селения и хутора [Сага об Эгиле, 46]. Как правило, эти «вожди» находятся иной раз в прямой зависимости от родителей — хавдингов или «могучих бондов»; в свой первый поход Торольв; сын Квельдульва, отправляется за счет отца [Сага об Эгиле, 1]. Другой герой той же саги, Бьярн, сын Брюиьольва, который «плавал по морям иногда как викинг, а иногда занимаясь торговлей», повинуясь воле отца, меняет свои планы и отправляется в торговую поездку вместо викингского похода: «И не надейся, — сказал Брюньольв, — боевого корабля и людей я тебе не дам» [Сага об Эгиле, 32]. Достаточно редки случаи превращения викингов в знатных хавдингов у себя на родине — именно потому, что викингами, как правило, становились младшие сыновья. Старший брат Рольва унаследовал отцовский титул ярла — Хрольв Пешеход отправился в изгнание. Хавдинг Скаллагрим, отец Эгиля, никогда не ходил в походы, а его младший брат Торольв с молодых лет — в викинге; Берганунд и Атли в той же саге наследуют высокое положение отца, о брате же их Хадде говорится мельком, что он «ходил в викингские походы и редко бывал дома» [Сага об Эгиле, 37]. Такие реплики — вряд ли просто стереотипный литературный прием: «Сага об Эгиле» сохранила в своем составе целую самостоятельную повесть, которая представляет собой прекрасный образец социальной психологии викинга, позволяя представить расстановку социальных сил в период крушения племенной системы и объединения страны при конунге Харальде Прекрасноволосом. Эту повесть можно назвать «Сага о Торольве, сыне Квельдульва»: она рассказывает о начале вражды исландского рода «людей с Болот» с норвежскими конунгами, и предваряет историю Эгиля, сына Скаллагрима и племянника Торольва [Сага об Эгиле, 5-27]. Здесь рассказывается о войне Харальда, в ту пору конунга одной из южных областей Норвегии, Вика, с конунгами других фюльков. Дед Эгиля, отец Скаллагрима и Торольва, Квельдульв, один из хавдингов фюлька Фирдир, отказался выступить против конунга Харальда, но после его победы отказался и пойти к нему на службу. Предложение конунга отверг и Скаллагрим — «при жизни отца, потому что он должен стоять выше меня, пока жив». Представители племенной верхушки, Квельдульв и Скаллагрим, таким образом, весьма сдержанно отнеслись к новым порядкам, создаваемым основателем норвежского государства. Но при этом Квельдульв прозорливо заметил, что младший его сын, Торольв, который сейчас «в викинге», наверняка не откажется пойти к конунгу на службу. Вернувшись, Торольв обрушивается на отца и брата с упреками — в дружине конунга «самые выдающиеся мужи», которых «уважают больше, чем кого бы то ни было здесь в стране». Ни племенная солидарность, ни родовая иерархия Торольва не останавливают, вообще — не принимаются в расчет: «Я очень хочу попасть в их число, если только они пожелают меня принять». Вместе со «своими людьми», сопровождавшими его в походе, Торольв вступает в дружину Харальда. Перед нами — новое социальное явление: викинг, в оппозиции к родовой знати, становится опорой королевской власти. Для него это — единственная возможность повысить свой статус на родине, поднявшись над племенной иерархией и вне ее. Впрочем, не обязательно на родине: социальная мобильность связана с территориальной. Позднее, уже после крушения «феодальной карьеры» Торольва, отец не без иронии советует ему покинуть страну: «Может быть, ему больше посчастливится, если он попробует служить английскому, датскому или шведскому конунгу». Добившись нового статуса, викинг стремится его укрепить и расширить. Товарищ Торольва умирая, завещает ему имущество и жену — помимо родичей, в силу каких-то внутридружинных отношений. Конунг не только утверждает это завещание, но и поручает Торольву сбор даней с лопарей, облекая его властью и правами «лендрмана», королевского вассала. Блестящая феодальная карьера викинга связана с разрушением родовых отношений во всех аспектах: в частности, нарушенный порядок наследования привел в конечном счете к гибели Торольва, оговоренного «законными» наследниками. Но пока попрание родовых прав викингом, пожелавшим стать «выше отца», вознаграждено королевским пожалованием, также вопреки родовому праву. Став королевским ленником, Торольв однако не утратил привычек и представлений викинга («ведь ты все равно никому не уступишь!» — предостерегал его отец). Это привело в конечном счете к конфликту с конунгом, ибо натура викинга никак не могла безболезненно принять ограничения и дисциплину феодальной иерархии. Торольв резко увеличивает дань с лопарей, разъезжая по Финмаркену с сильным отрядом. Объединяя, по обычаю викингов сбор дани с торговым промыслом, Торольв, как и конунг, его покровитель, стремится не только к интенсификации, но и к экстенсивному расширению сферы эксплуатации, к монопольному праву на неё. Он заезжает в отдаленные земли: уничтожает конкурентов — «колбягов»; вторгается с викингским набегом в земли карел. Затем заключает союз с князьком финского племени квенов, «конунгом Фаравидом». Они объединяют свои силы (при этом Торольв выставляет десять дюжин воинов, а Фаравид — тридцать дюжин, добыча же делится поровну). Сперва защищаясь от карел, а затем перейдя к грабительским нападениям на них, викинги Торольва и дружинники Фаравида быстро превращаются в силу, господствующую в Финмаркене. Возникает своего рода «квено-норманнское протогосударство». При этом нет и не может быть речи ни о численном перевесе, ни о завоевании, или хотя бы захвате норманнами каких-то ключевых пунктов [264, с. 1-12]. Союз вождя дружины викингов с князьком чужого племени, когда военно-техническое превосходство норманнов («У них были более крепкие щиты, чем у квенов», — поясняет сага) оказывается решающим фактором победы в межплеменной распре, — модель отношений, реализованная, видимо, не только в Фенноскандин, но и в Прибалтике, и на Северо-Западе Руси. Можно допустить, что именно связи такого рода объединили в IX столетии летописных варягов, северную «русь», словен ильменских, кривичей, чудь, мерю, весь. Никаких признаков «норманского завоевания» (подобного завоеваниям викингов в Ирландии, Англии, Нейстрии) здесь нет, как нет их и в предании о призвании варягов «Повести временных лет». Неизвестно, как развивался бы этот альянс дальше: конунг Харальд вмешался в события, не без оснований заподозрив, что Торольв «решил сделаться конунгом Халогаланда и Наумудаля» (северных областей страны). Торольв отправляется в почетную ссылку на юг, «где вся его родня» и «где можно будет следить, чтобы он не стал чересчур могущественным». Убедившись, что он утратил доверие конунга, находясь «в опале», Торольв пытается заняться торговлей; его торговый корабль с грузом товаров конфискуется конунгом. И викинг, перебравший все возможные в эту эпоху социальные роли — королевского дружинника, ленника, полунезависимого «феодала», купца, — возвращается к исходной своей ипостаси. Снарядив дружину, Торольв отправляется «в викинг», и после грабежей в Дании и Прибалтике начинает опустошать норвежские побережья, грабит поместья конунга и его «мужей», — т.е. вернувшись к привычным средствам, вступает в последнюю фазу борьбы. Викинги вроде Торольва, опустошающие скандинавские побережья и острова — типичное для эпохи явление. Но в «саге о Торольве» важна развернутая политическая мотивировка этой направленности «викинга», как формы борьбы с укрепляющейся королевской властью; викинги как социальная сила здесь солидаризируются с бондами, ропщущими на «отнятие одаля». Торольв естественным образом оказывается во главе своего рода «демократической оппозиции». Глубокая тайна, которой был окружен рейд королевской дружины, позволила напасть на Торольва врасплох и покончить с ним. А возвращаясь, дружинники конунга «увидели множество гребных судов во всех проливах между островами. На этих судах люди шли к Торольву на помощь... Здесь собралось множество вооруженных людей». Некоторые из них продолжили борьбу с «королевскими мужами» и затем покинули страну. Так поступили и родичи Торольва. Двойственность, точнее, многоплановость роли викингов в развитии социальных процессов выступает вполне отчетливо. «Социальная отчужденность» от племенной системы оборачивается высокой социальной мобильностью; собственно «викинг» — состояние временное, переходное (как и внутри «викинга» — временная, ограниченная и обычно вынужденная его форма — торговля). Ценностная направленность — обретение нового социального качества: феодала, королевского дружинника, купца, так или иначе принадлежащего к иной, новой, средневековой общественной структуре. Викинги — ее потенциальный «надстроечный элемент», при этом во многом избыточный. Новая структура ограничена, возможности ее невелики. Для многих «викинг» в силу этого становится пожизненным занятием, профессией. Несмотря на ее славу и привлекательность (впрочем, судя по сагам и руническим надписям, общественное отношение к викингам было более чем сдержанным; всевозможные хвалебные эпитеты в их адрес принадлежат скальдической поэзии, развивавшейся прежде всего в собственно дружинно-викингской среде), профессия эта оставалась непостоянной, рискованной. Отсюда — разнообразные формы активности викингов, все они суть социальный эксперимент, попытки реализации новых социальных качеств. Эти новые социальные качества появились как естественное следствие высвобождения и организации значительных социальных сил. Высвобождение, точнее, переключение «социально избыточного» элемента в новые, ранее незадействованные каналы деятельности произошло на рубеже VIII-IX вв.; организация в существенных чертах складывается уже в середине IX столетия. И то обстоятельство, что с этого времени в деятельности викингов на первый план выступает переселение (860-е годы — в Англии, 890-е — во Франции, Исландии, позднее — далее, за Атлантикой), раскрывает социальную базу движения. Основным, заинтересованным в нем общественным слоем были свободные общинники, бонды. Появление же в среде викингов «предфеодального элемента» — результат развития сложившейся, особой социальной структуры, дружин викингов с их устойчивой внутренней организацией и разнообразными функциями; эволюция этой структуры происходит постепенно, возможности ее реализуются не всегда, не сразу, и далеко не полностью. Массовый характер движения, его связь с широким общественным слоем бондов, дифференциация в ходе экспансии викингов различных новых социальных функций, активно воздействующих на революционное преобразование «варварской» племенной структуры в феодальную, государственную, — все это позволяет определить «движение викингов IX-XI вв.» как социальное движение, охватившее значительные, в том числе ведущие, общественные слои Скандинавии и так или иначе связанное с кардинальными, революционными общественными изменениями. Внутренняя организация этого движения, куда вошли представители разных социальных сил, слоев и групп, восстанавливается по отрывочным и разрозненным данным. Устойчивой реальностью дружины викингов, несомненно, стали только после 793 г. Лишь с этого времени можно допустить существование в качестве особого социального института «морских князей», saekonungr (Снорри относил их появление к глубокой древности). Титул этот, объединявший тех, у кого er r Вероятно, ближе к самосознанию дружинников IX-XI вв. часто употреблявшееся в скальдической поэзии название h В песнях «Эдды», как и в поэзии скальдов, термин «хольд» встречается исключительно в первичном, военном, значении. Скальды IX в. употребляют выражения hraustra vikinga — «храбрые викинги» и h К нижнему уровню этого же социального слоя принадлежит также эддическо-скальдический термин drengr, зафиксированный в рунических надписях и расшифрованный в «Младшей Эдде» Снорри: «Drengir зовутся лишенные надела юноши, добывающие себе богатство или славу; fardrengir (от far — „поездка“. — Е.М.) те, кто ездят из страны в страну. Konungsdrengir (королевские. — Е.М.) — это те, кто служат правителям. Drengir зовут и тех, кто служит могущественным людям либо бондам. Drengir зовутся люди отважные и пробивающие себе дорогу» [140, с. 187-188]. Этимологически dreng восходит к очень древнему семантическому полю; в основе — герм. *drangja, откуда готск. driugan, слав, «дружина», а с другой стороны — очень продуктивный корень dr «Дренг» внутри этого пласта представлений, так или иначе раскрывающих отношения «вождь — дружина», фиксирует важный и трудноуловимый момент социального сдвига: все приведенные Снорри характеристики точно соответствуют аспектам социального статуса викинга, каким он восстанавливается по другим источникам. С другой стороны, в судебниках XI-XIII вв. дренг — это либо свободный человек без своего хозяйства, «добывающий богатство и славу», имеющий при этом право жить в чужой усадьбе [G. 35]; либо, короче, — неженатый молодой человек, обязанный владеть неполным набором folkvapn, без лука и стрел [F. VII, 13, 15]. Расшифровка Снорри была не просто ретроспективой, а опиралась на реальности XIII в., отражавшие заключительный этап жизни явлений, расцвет которых относится к эпохе викингов, когда в рунических надписях «дренг» выступает синонимом терминов «дружинник, хускарл, фелаги» (по походу викингов), вообще заключает в себе идею «братства по оружию» [378, с. 41]. В сознании людей IX-XI вв., видимо, именно «дренги» отождествлялись с тем комплексом представлений, который для нас связан со словом «викинг», и который обозначил высвобождение из под власти племенного сакрализованного вождя, Дротта, выход из подчиненной божественному авторитету племенной дружины на свободное поле деятельности; правда, с оттенком неполноправия и незавершенности. Термин v При всей скупости данных, социальная терминология древне-северных памятников позволяет представить себе, во-первых, достаточно устойчивую, с элементами иерархичности внутреннюю структуру дружин викингов: li Военная организация, принадлежность к ней были лишь одним из условий прочного социального статуса. В состязании племенных ополчений, отрядов викингов и королевских дружин исход определялся тем, какая из сил поставит под свой контроль основные механизмы распределения совокупного общественного продукта. 4. Конунги. Образование государства в северных странах Преимущества конунгов были предопределены их принадлежностью к высшему звену административного аппарата, генетически — племенного, но без резкой ломки преобразовывавшегося в государственный. Конунг в полном объеме своих прав наряду с титулом herkonungr («вождь рати», как и saekonungr, акцентирующим военный аспект) именовался tj Власть конунга выражалась понятием r Эта власть восходила к племенным институтам: tj Превратить в полной мере tj Начиная борьбу за объединение страны, Харальд поклялся подчинить ее med skattum ok skyldum ok forr Обозначаемые чаще всего собирательным именем skattr и действительно восходящие к племенным skattgjafir, добровольным приношениям, дарам (gjafir), известным еще во времена Инглингов [Ynglinga saga, 9-10, 26], «дани-подати» включали и так называемые «носовые деньги», некий вид подушного обложения, tegngildi ok nefgildi [ Первоначально — пир, который бонды периодически устраивали в честь своего местного конунга или хавдинга, вейцла после «отнятия одаля» стала исключительно королевской прерогативой, которой конунг либо пользовался сам, либо мог пожаловать кому-то из своих приближенных. Со времен Харальда Прекрасноволосого конунги с дружиной регулярно разъезжали по стране, и население каждой местности обязано было к указанному времени доставить строго регламентированное количество продуктов. Численность дружины постепенно возрастала: при Олаве Святом (1016 г.) она возросла от 60 до 100 дружинников, затем превысила этот порог. Олав Тихий (1066-93 гг.) возил с собою уже 240 человек. Господствующий класс, складывающийся и объединяющийся вокруг конунга, существовал во многом за счет ресурсов крестьянского хозяйства бондов: «...вейцла послужила специфической организационной формой выкачивания из крестьянского хозяйства прибавочного продукта, первоначально — в виде натуральных поставок для королевских пиров» [47, с. 142]. Наряду с вейцлой хозяйственной базой конунга и его дружины становится своего рода «домен», комплекс земельных владений конунга, обозначавшийся термином konungsgardr, букв, «королевская ограда» [Magn Создание прочной экономической базы в виде королевских имений позволяло конунгу распоряжаться землями, контроль над которыми осуществлялся в виде вейцл и даней. Земли, точнее, право на доходы с них конунги раздают своим приближенным в виде ленного пожалования. Термин l Известны различные виды королевских земельных пожалований: dreckulaun — вознаграждение за устроенный для конунга пир; hei Отчуждая права старой родовой знати на традиционные, в общем, дары, дани, вейцлы, конунги не просто эксплуатировали древние племенные институты варварского общества, остававшиеся при этом, как иногда представляется, неизменными. Они предопределили целую серию глубоких социальных сдвигов, которые в конечном счете вели к преобразованию общества варварского в феодальное. Во-первых, это отчуждение подрывало позиции племенной аристократии, которая была вынуждена либо вступить с конунгами в борьбу и погибнуть, либо бежать из страны, либо получить вновь свои собственные, традиционные права, но уже в качестве королевского пожалования, т.е. адаптироваться к требованиям феодальной иерархии. Во-вторых, — конунги создавали единый государственный фонд средств, который позволял обеспечить постоянное содержание вооруженной раннефеодальной военной касты — королевской дружины и, опираясь на нее, повысить интенсивность эксплуатации, изымать часть экономического потенциала бондов, остававшегося раньше в их распоряжении. В-третьих, этим изъятием королевская власть существенно сужала возможности военной деятельности бондов, и прежде всего — дружин викингов (базировавшихся в конечном счете на ресурсах бондов и частично — родоплеменной знати); ограничивались и возможности поставленного под государственный контроль, превращавшегося в воинскую повинность народного ополчения — ледунга. В-четвертых, по мере развития этих процессов и стимулированной ими имущественной дифференциации бондов прогрессировала коммутация ледунга, который в XII-XIII вв. превратился (в Дании — полностью, в Норвегии и Швеции — частично) в денежный государственный налог. Разрушая таким образом традиционную племенную структуру (свободные общинники — знать), конунги формировали новый господствующий слой, скандинавский феодальный класс. Специфика этой общественной группы в Северной Европе заключалась в том, что вплоть до XIII в. сохранялась тесная консолидация феодалов — вокруг короля. «Основная часть господствующего класса составляла hir Королевская дружина, «хирд», первоначально называлась просто li Дружинников, подчиненных ярлам и херсирам, посаженным по фюлькам конунгом Харальдом Прекрасноволосым, Снорри называет her menn [Haralds saga ins h Наряду с основой формирующегося рыцарства (в XIII-XIV вв. пополненного слоем одальманов-вотчинников) в составе «хирда» подготавливались кадры королевской администрации; получая от конунга вейцлы на свое содержание, они со временем составили среднее звено феодальной иерархии: правители областей landhyrde (в Дании) [378, с. 23]; управители в королевских поместьях — bryti, Опираясь на выделенный из дружины раннефеодальный государственный аппарат — брюти, арманов, лендрманов, распоряжаясь значительными средствами королевского домена и выросшими из племенных приношений фискальными поступлениями, располагая постоянной и квалифицированной военной силой, конунг мог успешно решить задачу соглашения с tignir menn, знатью. Сохраняя старые титулы ярлов, херсиров, хавдингов (а порою, по воле конунга и меняя социальный статус), они превращались в королевских ленников, получая иной раз прежний, традиционный объем прав, — по с обязанностью выставлять конунгу войско и выплачивать дань. Основное, среднее звено вассальной иерархии, непосредственно связывавшее конунга с податным населением области, округа (херада) — лендрман. Звание lendr ma В первой половине XI в. в основном завершилось формирование этой раннефеодальной общественной структуры во всех скандинавских странах. Данные письменных памятников в сочетании с немногочисленными руническими надписями эпохи викингов позволяют констатировать, что к этому времени конунги добиваются единовластного контроля над территорией своих стран; подчиняют и в значительной мере перестраивают административную структуру; обеспечивают регулярное поступление налогов, платежей и повинностей, выступающих в виде начальной формы феодальной эксплуатации; создают иерархически организованную военную силу и обеспечивают ее частью изымаемого у бондов общественного продукта. Сложившаяся в конце IX — первой половине XI в. общественная система представляет собою особый, отмеченный еще К.Марксом вариант феодального строя, характеризующийся ленами, состоящими только из дани; исследования советских ученых подтвердили справедливость и обоснованность этой характеристики [226, с. 9-12, 87-99; 227, с. 52-53, 258, с. 76]. Созданный на этой основе феодальный класс был немногочисленным по сравнению с воинскими контингентами ледунга или «движения викингов». 12-15 тыс. профессиональных воинов, обеспеченных королевскими вейцлами, не в состоянии были успешно продолжить экспансию викингов, да и не слишком нуждались в завоеваниях, в изнурительной борьбе с рыцарством других стран. Для решения же внутриполитических задач этих сил было вполне достаточно. Новая общественная структура в письменных источниках фиксируется лишь в XI в., уже в сложившемся виде. Динамику ее формирования в IX-X вв. можно представить только на основе археологических данных. Соотношение этих данных для разных скандинавских стран будет различным. В Норвегии (а именно исландско-норвежские письменные памятники составляют основной фонд древнесеверных исторических источников) наиболее детально изучен процесс сельского расселения [370; 374; 323; 361; 382]. Изданы материалы норвежского «вика», Каупанга-Скирингссаля [292], однако сам этот центр значительно менее репрезентативен, чем шведская Бирка или датский Хедебю. Всемирно известные «королевские курганы» с погребениями в кораблях (Усеберг, Гокстад, Туне) [297; 366; 391] дают важный материал для истории королевской династии Вестфольдингов [296]. Массовые норвежские погребения изучены значительно менее систематично [390]. Таким образом, норвежские памятники позволяют детально проследить формирование усадебной системы, характеризующей положение бондов и в IX-XI вв. сравнительно стабильной, и дают яркие, во многом уникальные данные о погребальном обряде высшей знати, однако эти данные необходимо рассматривать в более широком контексте. Такой контекст для эпохи викингов создают прежде всего материалы шведского торгового центра IX-X вв. Бирки [269]. Их анализ на фоне всей совокупности древностей Швеции [399] позволяет выделить некоторые общие закономерности развития погребального обряда и стоящих за ним социальных изменений [109; 319]. Датские древности, систематизированные в сводной работе И. Брендстеда, недавно стали объектом новаторского исследования датского археолога К.Рандсборга, результат которого — реконструкция социально-экономических аспектов процесса образования государства [300; 378; 380]. Социально-политические процессы, изменения общественной структуры, производные от базисных социально-экономических, наиболее детально могут быть восстановлены по изменениям системы взаимосвязанных типов и вариантов погребального обряда, «ансамбля некрополя»; типы ритуала, восстановленные по материальным остаткам, отражают эволюцию определенных социальных норм, конституирующих те или иные общественные группы [110, с. 24-31]. Ансамбль некрополя скандинавов эпохи викингов объединяет несколько разновидностей более или менее массовых (статистически характеризуемых) вариантов и типов обряда: кремации типа А (в урне); В (в ладье); С (без урны, на кострище); ингумации типа D1 (в грунтовой могиле, в гробу); в погребальных камерах — типы D2, Е, F; в ладье (производный от вендельского обряда Vt тип Bg, и подкурганные погребения типа Nt). Каждый тип и вариант обряда характеризуется особым набором признаков, относящихся к виду погребения (кремация — ингумация), способу захоронения (в урне, гробу, камере и т.д.), конструкции погребального сооружения (размеры и структура насыпи, грунтовой могилы), составу и размещению погребального инвентаря. Материальные признаки, наблюдаемые археологами, есть не что иное как результат целенаправленных действий («ступеней ритуала»), состав, последовательность и количество которых позволяет, во-первых, связать типологически родственные варианты обряда в цепочки типов; во-вторых, определить тенденции их развития (усложнение или упрощение ритуала); в-третьих, выделить хронологические пласты, отражающие изменение социальных норм в раннюю, среднюю и позднюю эпохи викингов. За пределами рассматриваемой совокупности погребальных памятников остаются «королевские курганы» Норвегии, сосредоточенные главным образом на юге страны и связанные единым ритуалом в особую группу «погребений в корабле», тип Sg. Эти комплексы следует рассмотреть каждый в отдельности: Гуннарсхауг (или Сторхауген) в Рогаланде, самое раннее из погребений типа Sg (VIII в.). Под курганом высотой 6 м, диаметром 40 м в яме длиной более 20 м находился корабль, ориентированный с севера на юг. Вокруг корабля — защитная каменная кладка. В средней части судна устроена погребальная камера; среди разнообразных вещей — богатое оружие. Грёнхауг (там же, поблизости) — разграбленный курган аналогичной конструкции; оба, видимо, связаны с династией местных конунгов, одному из которых, противнику Харальда Прекрасноволосого, народная молва и приписывает «курган Гуннара», Гуннарсхауг [362, с. 67-79]. Усеберг в Вестфольде (дата по C14 760 плюс/минус 60). Курган высотой б м диаметром 44 м; корабль в основании насыпи перекрыт защитной каменной кладкой. В средней части судна — погребальная камера с захоронением двух женщин (около 30 и около 60 лет). Погребение сопровождали захоронения 14 лошадей, 4 собак и быка. Исключительно богатый сопроводительный инвентарь включает кровати, кухонную утварь, сундуки и бадьи, постели, украшения, ручной ткацкий станок, украшенные резьбой сани и четырехколесную повозку. Этот курган приписывают Асе, дочери конунга фюлька Агдир, Харальда Рыжебородого, жене конунга Вестфольда Гудрёда Великолепного, матери конунга Хальвдана Черного, бабке Харальда Прекрасноволосого. Гокстад в Вестфольде, середина — вторая половина IX в. Курган высотой 5 м, диаметром до 50 м скрывал яму, в которой находился корабль длиной 20 м, ориентированный с севера на юг. В средней части — погребальная камера, в древности разграбленная. По бортам висело 32 щита, вдоль бортов — костяки 12 лошадей и 6 собак. Сохранившийся в камере скелет высокого мужчины (рост 178 см), страдавшего хроническим суставным ревматизмом, идентифицируют с конунгом Олавом Гейрстадальфом, сводным братом и соправителем Хальвдана Черного (по Снорри, он был высокого роста и умер от «болезни ноги» [Сага об Инглингах, 49]). Туне в Остфольде, середина X в. Глиняная насыпь высотой 4 м и диаметром 80 м перекрывала установленный в основании корабль, ориентированный с северо-северо-востока на юго-юго-запад. Погребальная камера помещалась на корме, здесь находились скелеты человека и лошади; могила разграбленная. Ладбю (Дания). Единственное известное за пределами Норвегии погребение типа Sg — курган X в. представляет собою позднюю модификацию норвежского погребального обряда [408]. Королевские ингумации в кораблях маркируют статус высшего слоя раннефеодальной иерархии (использовавшей при этом вендельскую традицию). Основной слой этой иерархии в эпоху викингов представлен ритуалом камерных погребений, в Бирке образовавших сложную иерархию типов F-E-D2. В этом обряде континентально-германские традиции объединены с некоторыми вендельскими элементами и дружинно-торговыми атрибутами сожжений в ладье. Примерно сотня камерных могил Бирки документирует существование новой господствующей группы, иерархически организованной, вооруженной, контролирующей важнейшие функции шведского вика. Аналогичная ситуация — в Хедебю, где письменные источники позволяют связать камерные могилы с дружиной шведских конунгов-викингов и где открыта уникальная так называемая «ладейно-камерная могила» (Bootkammergrab), объединяющая черты нового дружинного обряда с ритуалом старой племенной знати; [263, с. 61-115; 334, с. 141-144]. В целом камерные погребения эпохи викингов должны быть отождествлены с общественным слоем, обозначенным в источниках IX в. (современных зарождению ритуала) как primores (potentes, principes, fidelibus — «могущественные», «знатные», «верные» (конунгу)), с теми, кто составлял совет при короле, congregatio, consilium [Rimbertus, X, XV, XXIV]; эквивалентом в скандинавской социальной терминологии может быть прежде всего gri Наряду с обрядами, представляющими королевские династии, племенную знать, раннефеодальный слой и широкие общественные группы, культивирующие либо языческие, либо христианский ритуал типа D1, в эпоху викингов распространяются сравнительно массовые обычаи подкурганного сожжения в ладье типа В (исследовано свыше 200 погребений), и типа Nt (ингумация мужчин с оружием в ладье; изучено свыше 80 курганов в Норвегии). Динамика развития обоих обрядов, типа Nt в Норвегии и типа В в Швеции, тождественна: резкий рост числа могил в начале эпохи викингов; число комплексов IX в. равно, если не превышает количество могил X в.; в XI в. эти обряды исчезают. Хронология, характер ритуала, концентрация в районах особой активности викингов позволяют связать эти ритуалы с дружинами викингов как особой социальной средой [106, с. 181-185]. Память об этой связи сохранилась в «Хеймскрингле»: описывая смерть первого из названных по имени «морских конунгов», saekonungr, Хаки, Снорри повествует: «Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки» [Сага об Инглингах, 23]. Ритуал погребения «морских конунгов», предводителей викингов, очень близок документированному археологически. «Хеймскрингла» донесла до нас, отнеся его, правда, к эпическим временам, некий фрагмент системы ценностей викингов как самостоятельной общественной группы. Тенденция к выделению военной организации, со временем консолидирующейся вокруг конунга, выявляется и в Дании. Сравнительно скромные погребения с оружием IX в. в X в. сменяются «курганами воителей», с погребальными камерами, верховым конем, набором оружия. Эти могилы сосредотачиваются вокруг Еллинга, резиденции конунга Горма Старого. К.Рандсборг расценивает их как памятники нового господствующего слоя организованного в виде вассальной иерархии вокруг «еллингской династии», возглавившей раннефеодальное Датское государство [378, с. 127-129]. Значительно полнее, нежели в сфере погребального ритуала, исследована деятельность этого слоя в области социальной и политической организации [378, с. 66-102]. В Дании впервые были выявлены и изучены сельские поселения особого типа, связанные с выделением раннефеодальной верхушки. В западной Ютландии, на поселении Форбассе, раскопаны постройки V в обычного сельского облика. В эпоху викингов жизнь здесь возобновилась" появились характерные длинные дома и полуземлянки. Во второй половине — конце X в. облик поселения резко меняется: выделяются три огромные «магнатские усадьбы» с просторными, огражденными заборами дворами (120х200 м) в центре которых большие комфортабельные дома «треллеборгского типа» (парадная зала с открытым очагом — посередине, и жилые комнаты — в торцах). В самой крупной из усадеб близ главного дома находились мастерские кузнецов и ювелиров, по периметру дворов — хозяйственные и жилые постройки. Размеры и структура «магнатских усадеб» характеризуют новый слой крупных земельных собственников, распоряжающихся значительными ресурсами, помощниками и слугами. В 70 км севернее Форбассе открыта подобная же группа усадеб в Омгорд (также сменившая обычное сельское поселение IX в.). С «магнатскими усадьбами» связаны (или возникли на их основе) так называемые «лагеря викингов», точнее, королевские крепости Аггерсборг, Треллеборг. Как и «могилы воителей X в.», магнатские усадьбы тяготеют к Еллингу, политическому центру Датской державы. Опираясь на формирующийся раннефеодальный господствующий слой, конунги еллингской династии приступили к созданию новой административной структуры, центрами которой стали возникшие в позднюю эпоху викингов датские города. Первые протогородские центры, Хедебю и Рибе в южной Ютландии, возникли в VIII в.; в IX в. их развитие продолжается, при этом Хедебю выдвигается на первое место. Рибе, Оденсе на о. Фюн и затем Орхус в северо-восточной Ютландии, представляют собой городские центры «второго ранга»: во всех этих городах во второй половине X в. были основаны первые епископаты. Пути, связавшие города Дании между собою, скрещивались в Еллинге; через него же проходил «Ратный путь», центральная магистраль, соединявшая юг и север страны и завершавшаяся в Виборге — тинговом и культовом центре на севере Ютландии. В первом десятилетии XI в. датские конунги основали Роскильде в Зеландии и Лунд в Скопе. Хедебю, Орхус и Лунд становятся основными центрами, вокруг которых группируются Рибе, Биборг, Оденсе и Роскильде. Для конца эпохи викингов, используя сведения Адама Бременского, Рандсборг выделил городские функциональные характеристики 18 центров. 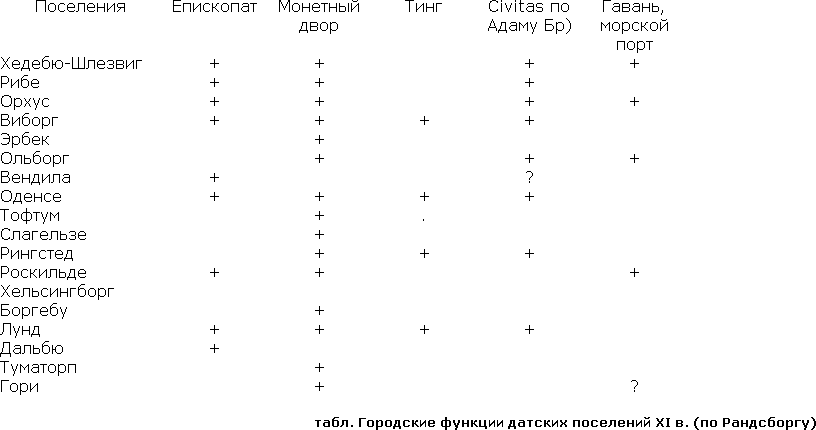 Полного набора функций, суммированных Рандсборгом, нет ни у одного из датских поселений. Четырьмя из пяти признаков располагают 6 центров: Хедебю-Шлезвиг, Орхус, Виборг, Оденсе, Роскильде, Лунд. По три признака — у Рибе и Ольборга, два — у Рингстед, по 1 — у 9 пунктов. Последние, видимо — королевские усадьбы, где эпизодически производилась чеканка монеты. Группа таких усадеб, известных по топониму «Хусбю» дополняет картину административной структуры еллингского государства. Важным элементом этой структуры были так называемые «лагеря викингов», круглые крепости, построенные по единому образцу и одновременно; Аггерсборг в северной Ютландии, Фюркат — в северо-восточной, Треллеборг — на западе Зеландии; вал Ноннебакен в Оденсе свидетельствует, что и этот город был когда-то «круглой крепостью»; видимо, та же ситуация — в Орхусе. Все они контролировали узлы важных путей. Сложилась историографическая традиция связывать «лагеря» с походами Свейна и Кнута 1003-1015 гг. Установлено, однако, что все крепости построены при Харальде Гормссене во второй половине X в., ни одна из них не функционировала после 1000 г. Расположенные по периметру основной области еллингского королевства, они обеспечивали его безопасность и контроль над окраинными провинциями и торговыми путями. Крепости располагали мастерскими, кладовыми, они были центрами ремесла, торговли, таможнями, а может быть и монетными дворами, играя роль экономического регулятора провинции и в то же время — выкачивая из нее продукцию, отчуждаемую в пользу центральной власти. Построенные по строгому плану, с небывалой геометрической четкостью застройки, архитектурными средствами они выражали мощь этой власти. Ворота — на все четыре стороны света, готовые послать королевскую рать навстречу любому врагу или непокорным; дома «треллеборгского типа», с ладьевидно изогнутыми стенами, наружными галереями, высокими кровлями, были самыми внушительными постройками своего времени. Вместе с валом Даневирке («Деяние датчан»), заложенным еще на рубеже VIII-IX вв. и реконструированным в 955-968 гг. (по дендродатам), крепости образовали единую оборонительную систему, завершившую важный этап государственного строительства, когда при Харальде Синезубом Дания обретает статус раннефеодального христианского государства. Фундамент этого государства закладывался, безусловно, в дохристианские времена. Древняя резиденция датских конунгов, Лейре в Зеландии, еще в X в. функционировала как языческое святилище. Те же функции первоначально выполнял Еллинг, фактическая столица Дании X в. Курган конунга Горма и его жены Тюры входил в состав монументального комплекса, оформлявшего языческое святилище (после принятия христианства при Харальде скрытое под второй земляной насыпью). Ядро первоначальных государственных территорий и в Дании, и в Швеции, и в Норвегии насыщено топонимами с именем Одина. И это — еще одно свидетельство длительного, на протяжении всей эпохи викингов, вызревания политического, социального, экономического потенциала сил, во главе которых на рубеже IX-X вв. встали королевские династии, возводившие свой род через легендарных Инглингов к Одину, верховному богу викингов. Деятельность этих династий подчинена одним и тем же целям, и пользуются они сходными средствами. Как и в Дании, норвежские конунги основывают в XI в. новые города: Нидарос (Олав Трюггвассон), Осло (Харальд Суровый), Берген (Олав Тихий). В Швеции в то же время были основаны Сигтуна, Скара, Сёдертелье, которые Адам Бременский назвал, как и датские города, civitates [89, с. 35]. Строятся и крепости: на шведско-норвежской границе Олав Святой основал Сарпсборг, но не идеально круглую, а более примитивную, мысовую, крепость [Сага об Олаве Святом, 61]. Разрастается королевский домен, закрепленный административными центрами husab Генеалогия скандинавских конунгов, лежащая в основе композиционной структуры «Хеймскринглы» Снорри Стурлусона, соединяет в себе качества исторического источника и литературного памятника, восходящего к эпохе викингов (Снорри опирался на «Ynglingat Родословие Инглингов делится на три пласта. Древнейший, отраженный в поэзии скальдов, «Эдде», систематизированный в «Саге об Инглингах» — мифический: он открывается именами Одина (Рига) и других асов, как создателей социального устройства, первоправителей. Этот пласт, при всей своей архаичности сравнительно поздний (как и культ Одина — Вотана в его скандинавском варианте), соприкасается с общегерманскими религиозными представлениями римской эпохи (Ингви-Фрейр, ср. Инге у Тацита), но формироваться он начал, видимо, в самом конце ее. Аллитерированная пара «Данп и Дан» (родоначальники данов, по хронологии Снорри жившие примерно в IV в. н.э.) несомненно связана с гидронимами Днепр и Дон, это сочетание могло появиться только после германо-сарматских контактов в Причерноморье (II-IV вв.). Таким образом, мифическая часть генеалогии соприкасается и переходит в эпическую, давшую основной фонд героических песен «Эдды». Эпический пласт генеалогии скандинавских конунгов, несомненно, содержит имена вполне исторических лиц, связанных с междоусобными войнами, переселениями, созданием племенных союзов [201, с. 654]. Принятая хронология, основанная на «Беовульфе» и других источниках (Григорий Турский), видимо, несколько растянута. События «гаутско-свейского» эпического цикла могут быть отнесены к первой половине VI в. Следующие два цикла, «датский» (предания о Хрольве Жердинке) и «свейский» (Ингьяльд Илльроде), относительно более поздние (до 650 г.). Ингьяльдом Коварным завершается династия Инглингов в Свейской державе эпических времен. Сказания о борьбе этого упсальского конунга с конунгами независимых местных «сотенных областей» (Фьяртюндаланда, Аттундаланда и др., составивших в XIII в. среднешведскую провинцию Упланд) точно соответствуют реконструкции событий, основанной на археологических материалах: племенной союз эпохи Великих курганов (VI — начало VII в.) распадается после 650 г., сменяясь мелкими королевствами родоплеменных «династий» вендельского периода. Вплоть до этого времени нет известий о норвежских конунгах, а когда они появляются, то речь идет только о конунгах отдельных фюльков. Вестфольдинги (породнившиеся с Инглингами через Олава Лесоруба, сына Ингьяльда, изгнанного из отчих владений) оставались одной из таких мелких династий, пока Харальд Прекрасноволосый не поклялся «завладеть всей Норвегией». Видимо, похожая ситуация сложилась и в Дании VII-VIII вв. Легендарный Ивар Широкие Объятия, от которого «произошли конунги датчан и шведов, те, которые были единовластными в своей стране» [Сага об Инглингах, 41] соединяет эпическую часть генеалогии с исторической. Область, связанная с его именем (от Восточной Англии до «Восточных стран», Austr), довольно точно соответствует первоначальной зоне активности викингов; этот образ можно считать персонифицированным выражением наступившей эпохи. Викингом был и современник Ивара, конунг Вестфольда Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на Еду: «Рассказывают, что его люди получали столько золотых монет, сколько у других конунгов люди получают серебряных, но жили впроголодь. Он был очень воинствен, часто ходил в викингские походы и добывал богатство» [Сага об Инглингах, 47]. Современником этих конунгов был король Дании Готфрид, в 800-810 гг. опустошавший земли фризов и балтийских славян, создатель «Датского вала» и воинственный противник Карла Великого. После его смерти франкам удалось крестить датского конунга Харальда Ворона (из другой династии), и затем до середины X в. следов централизованной королевской власти в Дании не выявляется. В 850-х годах юго-западную Ютландию превратил в независимое владение Рерик (которого отождествляют с Рюриком «Повести временных лет») [186, с. 299]; вскоре после этого шведский викинг Олав захватил Хедебю, где его потомки оставались конунгами вплоть до первой половины X в. Шведские конунги первой половины — середины IX в. известны только по Vita Anskarii. В Норвегии Вестфольдинги именно в это время создают пышный обряд погребений в корабле (курганы Асы и Олава Альва Гейра); подобные погребения были совершены и для конунгов в некоторых других фюльках. В целом же ранняя эпоха викингов (793-891) характеризуется низкой активностью скандинавских конунгов; если они и проявляли се, то во главе викингских дружин, сливаясь с десятками других вождей викингов за пределами Скандинавии; в общественно-политической жизни они выступают как группа, подчиненная доминирующей социальной силе — движению викингов. Рост этого движения выдвигал новых вождей, «щедрых на золото и скупых на еду», и далеко не всегда они принадлежали к племенным королевским династиям или родовитой знати. Лишь постепенно в этой стихии вольных дружин выкристаллизовались новые военные силы, и возглавившие их предводители, прежде всего — конунги из авторитетных старых династий, смогли подняться над когда-то равными им по рангу и происхождению конунгами всех остальных ландов и фюльков, превратившись в единовластных королей средневековых государств. Средняя эпоха викингов, как и поздняя, совпадает с основной, исторической, частью генеалогии скандинавских конунгов. Короли, которые впервые возглавили объединенные государства, Харальд Прекрасноволосый, Эйрик Энундссон, Горм Старый были, в общем, современниками; они действовали в конце IX — первых десятилетиях X в. В их деятельности много общего. Социальный тип конунга-реформатора, конечно, в реальных своих характеристиках с трудом выявляется сквозь стереотип созданного мышлением XII-XIII вв. образа. Тем не менее можно утверждать, что для всех этих конунгов типично упорное, последовательное претворение в жизнь намеченной однажды программы. Шаг за шагом Харальд сокрушает сопротивление конунгов мелких фюльков. Подчинив или уничтожив родовую знать, конунг-реформатор создает основы новой структуры управления. «Всюду, где Харальд устанавливал свою власть, он вводил такой порядок: он присваивал себе все отчины (одаль) и заставлял всех бондов платить ему подать, как богатых, так и бедных. Он сажал в каждом фюльке ярла, который должен был поддерживать закон и порядок и собирать взыски и подати. Ярл должен был брать треть налогов и податей на свое содержание и расходы. 'У каждого ярла были в подчинении четыре херсира или больше, и каждый херсир должен был получать двадцать марок (вейцлы) на свое содержание. Каждый ярл должен был поставлять конунгу шестьдесят воинов, а каждый херсир — двадцать. Харальд-конунг настолько увеличил дани и подати, что у ярлов теперь было больше богатства и власти, чем раньше у конунгов. Когда все это стало известно в Трандхейме, многие знатные люди пришли к конунгу и стали его людьми» Система вооруженного вассалитета (возможно, несколько модернизированная в изложении Снорри) в конце IX — начале X в. возникла не только в Норвегии; в Дании Горма Старого Еллинг превращается в столичный центр, окруженный «магнатскими усадьбами», где сидели служилые люди короля; в Швеции появляется иерархия камерных могил Бирки, в которой мы вправе видеть отражение военной организации, служившей опорой шведским конунгам, к этому времени объединившим страну и добившимся контроля над Эландом, Готландом, Блекинге, Всстеръёталандом [King Alfred's Orosius]. Королевская дружина вобрала в себя лучшие кадры викингов: «Харальд-конунг брал в свою дружину только тех, кто выделялся силой и храбростью и был во всем искусен» [Сага о Харальде Прекрасноволосом, 9]. Однако исчерпать весь потенциал движения викингов конунги были не в состоянии. «Самодействующая вооруженная организация» [3, с. 170] сохранялась и продолжала функционировать. По мере усиления своей власти, конунги вступают с викингами в борьбу. «Когда конунгу надоела эта докука, он однажды летом поплыл со своим войском на запад за море... и перебил там всех викингов, которые не успели спастись бегством. Затем он поплыл на юг к Оркнейским островам и очистил их от викингов. После этого он отправился на Южные острова и воевал там. Он перебил там много викингов, которые раньше предводительствовали дружинами» Противоборствуя с различными социальными силами — родовой знатью, общинным самоуправлением бондов, дружинами викингов, конунги-реформаторы методично и успешно добивались интеграции племенных областей. Создание государственных территорий Дании, Норвегии, Швеции стало первой политической реализацией нового экономического и социального потенциала, появившегося в результате успеха походов викингов 793-891 гг. Процесс образования этих государств еще не завершился к 940 г., но прошел уже свою начальную стадию. Силы, противостоявшие конунгам, во многом сохраняли свои позиции: продолжали функционировать традиционные племенные центры, языческие святилища; подчинявшаяся королю знать помнила о своих старых правах и не упускала случая восстановить положение (сохраняя при этом и новые созданные военно-административной организацией возможности). Подчиняя страну, конунги-реформаторы стремились поставить себе на службу прежде всего уже имеющийся традиционный племенной аппарат (новый еще предстояло создать). Функция верховного языческого жреца, предводителя народного ополчения сохранялась за конунгом. Но соответственно сохранялась и основа общественной организации, порождающей движение викингов, сохранялось равновесие социальных сил, и это положение не менялось до конца средней эпохи викингов [891-980 гг.]. Поздняя эпоха викингов (980-1066) — время стабилизации северных королевств после нескольких этапов борьбы за первенство, проявившейся в попытках создания Северной державы при Кнуте Могучем, Магнусе Добром и Харальде Суровом. Правящие династии, породнившиеся между собою и со многими правителями соседних стран, составили как бы единый королевский род, силой оружия урегулировали взаимные претензии и, опираясь на военно-вассальную организацию, поставили под контроль народное ополчение — ледунг, а в значительной мере и силы викингов, с которыми многие конунги X-XI вв. были тесно связаны. Это время выдвинуло новый яркий тип деятелей, объединенных общими ценностными установками и сходным способом действий; в советской литературе им дано определение конунги-викинги [47, с. 90-91; 77, с. 18; 118, с. 44-53]. Жесткая связь с военной организацией; радикальность действий (не всегда успешных); последовательная и жестокая борьба со всеми элементами племенного строя (старой знатью, общинным самоуправлением, обычаями и законами, языческими культами, и наконец, богами), — вот типические черты их деятельности. Конунги-викинги Олав Трюггвасон, Олав Святой, Харальд Суровый — это конунги-миссионеры, силой оружия утверждавшие на Севере новую религию и новые порядки. Время их правления — всегда время резких, хотя порою непрочных, перемен, знаменовавших качественные сдвиги в процессе становления государства. Конунгов-викингов периодически сменяли правители иного типа, конунги-конформисты: они отличались склонностью к компромиссам, готовностью отказаться от некоторых достижений своих предшественников, религиозной терпимостью. Но именно они поставили под контроль военную силу ледунга (Хакон Добрый), кодифицировали обычное право в сохранявшихся до XIII в. Законах Гулатинга и Фростатинга (Хакон), судебнике Gr «Добрые», «Спокойные», «Мирные» конунги, сменявшие конунгов-викингов, закрепляли достижения своих воинственных предшественников и готовили почву для столь же активных преемников. Шло количественное накопление изменений, подготавливавшее качественные преобразования на пути феодализации скандинавских стран. В Дании и Норвегии этот процесс завершился примерно одновременно, около 1066 г., после гибели последнего из конунгов-викингов, Харальда Хардрады. В Швеции — позднее, при новой династии, основанной в 1056 г. гаутским ярлом Стейнкилем (сыном Рагнвальда, родича и наместника в Ладоге киевской великой княгини Ирины-Ингигерд, дочери Олава Шетконунга и жены Ярослава Мудрого). На протяжении XI в. проходило формирование новой общественной структуры, в рамках которой военно-территориальная организация бондов была подчинена военно-феодальной организации королевской власти, а для дружин викингов как особой формы социального движения в конце концов не осталось места. В итоге этого диалектического процесса была решена главная задача общественного развития: как писал о специфике становления классового общества в Скандинавии Фридрих Энгельс, здесь «родовая организация переходила в территориальную и оказалась поэтому в состоянии приспособиться к государству» [3, с. 150]. Страны Северной Европы стали классическим примером того, как «органы родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, в роде, во фратрии, в племени, а весь родовой строй превращается в свою противоположность: из организации племен для свободного регулирования своих собственных дел он превращается в организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его органы из орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против собственного народа» [3, с. 164-165]. Этот процесс в северных странах начался, в виде «Державы Инглингов», в середине I тыс. Вендельский период, еще пронизанный родовыми отношениями, сменяется эпохой викингов, когда инициатором общественного развития становится «организация для грабежа соседей». Стимулированные ее деятельностью процессы ведут к кристаллизации нового господствующего класса, вступающего в противоречие с «самодействующей вооруженной организацией населения», народным ополчением бондов. К концу эпохи викингов королевская власть, опираясь на систему военного вассалитета, контролирует территориальную организацию бондов с ее вооруженной силой, выступая как стоящее над этой организацией государство. «Эта особая публичная власть необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы... Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были не известны родовому устройству общества» [3, с. 170-171]. Вооруженные люди, объединенные иерархической организацией, королевские крепости с сосредоточенными в них гарнизонами, и другие «вещественные признаки» государства, особой публичной власти, появляются уже в X в. Следовательно, именно в течение эпохи викингов в скандинавских странах начинается, разворачивается и — в основных своих чертах — завершается процесс образования классового общества и государства. Принципы марксистско-ленинской методологии, примененные к исследованию скандинавского историко-археологического материала, позволяют обосновать и раскрыть историческое содержание эпохи викингов в Северной Европе как периода становления классового, раннефеодального строя. Перестройка социальных отношений, завершившаяся созданием государственности, связана с перераспределением не только экономического, но и культурного потенциала общества, его материальных и духовных ценностей. 5. Северная торговля. Вики Образ викинга, жестокого и отважного морского разбойника, грабителя и убийцы, надолго заслонил в глазах европейцев (не только средневековых хронистов, по и историков нового времени) другие грани эпохи. Лишь в XX в., и особенно в последние десятилетия, в научной литературе стала осознаваться парадоксальная на первый взгляд ситуация: эпоха бури и натиска, военных опустошений и грабежей, была одновременно эпохой активного экономического строительства, создания прочной системы трансконтинентальных коммуникаций и центров, расцвета международной, устойчивой и многосторонней «северной торговли» [334, с. 17-46, 161-242; 336, с. 310-312; 328, с. 142; 85, с. 81-82]. Города, пути, транспортные средства для этой торговли были те же, что и для военных походов викингов. Оба вида деятельности разворачивались на одной и той же арене. Основные же предпосылки для северной торговли сложились задолго до эпохи викингов, и вне Скандинавии. В течение всего VII в. происходит последовательный подъем экономики северо-восточных областей Франкского государства. Наряду с мелкотоварным крестьянским хозяйством и ремеслом (сукноделие у фризов) возобновляется городское производство гончарной керамики, стекла, железных изделий. Рейн, Шельда, Маас приобретают значение важных торговых путей. Здесь возникают центры, известные под латинско-германским названием vicus (герм. Wik, в значении «порт, гавань, залив»). Уже в VIII в. они играют заметную роль в экономике, в некоторых из них начинается чеканка монеты. Франко-фризская торговля втягивает в свой ареал Британию, Ютландию, Скандинавский полуостров, достигает Ладоги [55, с. 54-63; 266, с. 238; 272, с. 40]. Формируется западная ветвь морских торговых путей. В то время начинается движение в восточной части континента, по Волжскому пути. Уже в VIII в. арабское серебро из стран Переднего Востока и Средней Азии, через Северный Кавказ по Волге распространяется далеко на север, достигая обских угров, а к рубежу VIII-IX вв. — Волго-Окского междуречья и Ладоги [59, с. 144-146; 122, с. 9, 19; 249, с. 86-100; 157, с. 96-110]. Складывается восточная ветвь трансъевропейской системы торговых связей. В конце VIII — начале IX в. западная и восточная ветви смыкаются на Балтике образуя уникальный в своем роде «серебряный мост», перекинутый через североевропейский barbaricum, и связавший пространства от Британии на западе до Прикамья на востоке, от окраинных областей Норвегии на севере до причерноморско-каспийских степей на юге Европы. В сложении этой трансконтинентальной системы важную роль сыграли норманны и славяне. В начале IX в. фризские фактории в Скандинавии уступают место норманнским поселениям, таким, как Скирингссаль-Каупанг в Норвегии, Хедебю и Рибе в Дании, Бирка в Швеции. На южном берегу Балтики, в землях славян и балтов, к началу IX в. возникли свои центры — Ральсвик на Рюгене, Менцлин на Пеене, Колобжег и Волин в Поморье, Трузо (Эльблонг) в земле прусов, Зеебург (Гробини) в Курземе, Даугмале на Даугаве. Вместе с Ладогой они завершили оформление циркумбалтийских коммуникаций на раннем этапе. Все более активную роль играют речные пути. Немецкий Гамбург на Эльбе связывал Франкскую империю не только с фризами и норманнами, но и с глубинами западнославянского мира. Возрастает значение Вислы, Немана, Западной Двины, Невы. С подключением к этой водной системе Днепровской магистрали образуется новый канал международного общения — Путь из варяг в греки. Находившиеся на нем города — Новгород, Полоцк, Смоленск, Киев — увеличивают прочность и жизнеспособность системы. Их партнерами со временем становятся города «нового поколения» — Старый Любек, Старгард (Олденбург), Мехлин (Мекленбург), Росток, Шверин, Аркона, Щецин, Гданьск, Сигтуна, Лунд, Орхус, Нидарос, Берген, Осло, — те самые, на основе которых столетия спустя сформируется Ганза. «Северная торговля» конца VIII — первой половины XI в. впервые представляла собой налаженное движение встречных потоков товаров, затрагивавшее так или иначе весь континент и выходившее за его пределы. Западные страны (в первую очередь Франкская империя) вывозили на север серебро и изделия высококвалифицированного ремесла [266, с. 142-156; 334, с. 40-46; 401, с. 468, 474]. Структурно близкий ассортимент товаров экспортировал мусульманский Восток [59, с. 146-148; 401, с. 471-473]. С Севера экспортировалось главным образом сырье; определенное значение имел и транзит товаров. Важнейшей статьей вывоза была пушнина: соболь, горностай, черно-бурая лисица, бобр — из Восточной Европы; меха куницы, белки — из Восточной Европы и скандинавских стран; шкуры оленя, моржа, тюленя — из Скандинавии. Вывозили также мед, воск, лен, выделанные кожи, дерево, янтарь, мамонтовую и моржовую кость. Заметное место в экспорте занимала торговля рабами и рабынями [59, с. 146-148; 334, с. 180-209]. В обмене между славянами и скандинавами зафиксирован вывоз на Север славянской гончарной керамики и ввоз скандинавских железных изделий, каменных сосудов, продукции ювелирного ремесла [348, с. 177-178]. В циркулировании этой массы материальных благ были свои особенности, заставляющие говорить о «торговле» лишь с известными оговорками. Основные товары северного экспорта могли поступать на рынки в результате не экономической деятельности (как дани или военная добыча). Не случайно большое место в этом обращении занимает работорговля [303, с. 174]. Дань мехами («скорою») взимали не только древнерусские князья, но и норвежские хавдинги [ПВЛ, 946 г.; King Alfred's Orosius, Periplus]. Точно так же и встречный поток товаров мог достигать Севера не только в результате торговых сделок; первые партии арабского серебра поступили в Скандинавию, скорее всего, в качестве отмеченной русской летописью «варяжской дани» [171, с. 69]. Военное вмешательство и морской разбой так же, как систематические грабежи торговых центров (они, в частности, привели к запустению Дорестада во второй половине IX в.) [266, с. 14], существенно корректировали динамику обращения товаров. Рабы-христиане так же, как «датское серебро», составляли ощутимый вклад в «северную торговлю», при этом вовсе не зависевший от доброй воли западноевропейских партнеров норманнов. Столь же значительным фактором было, видимо, практически непрерывное перераспределение ценностей в среде самих викингов, осуществлявшееся вооруженной рукой. Эта торговля, сопровождавшаяся высокой военной активностью и еще лишенная твердой правовой основы, порождала своеобразные организационные формы. Временные объединения компаньонов («товарищей»), felag могли создаваться как для торговых поездок, так и для военных походов [142, с. 154]. Структура отношений внутри военной дружины и купеческого товарищества если не совпадала, то была очень близкой. Сложным, внутренне противоречивым и переходным по своему характеру образованием были и центры «северной торговли» — вики [335; 344]. При всей зыбкости и нечеткости структуры, они стали местом кристаллизации качественно новых социально-экономических функций. Здесь концентрировалась торговля и зарождалось ремесло, здесь развивались формы городского самоуправления и права, формировались новые общественные группы — купцы, ремесленники, а на определенном этапе — и раннефеодальный дружинный слой [31, с. 11-17]. И хотя семантическое соотношение wik — vikingr остается дискуссионным [407, с. 101-102; 377, с. 22], историческая взаимосвязь этих явлений бесспорна: оба принадлежат переходной эпохе, воплотили ее генеральные тенденции развития. Вики и структурно близкие им центры развивались, во многом отступая от классической схемы генезиса раннего города: рост земледельческой округи — подъем земледелия — разделение труда, отделение ремесла — развитие обмена, выделение торговли — концентрация ремесленно-торговых функций в неаграрных поселениях [132, с. 140-144]. Межобластной обмен, связанный с различной хозяйственной специализацией разных районов Скандинавии, видимо, уже зарождался в вендельское время. В эпоху викингов, на рынках виков бонды, конечно, охотно покупали местного производства железные изделия и горшки из жировика в обмен на свою сельскохозяйственную продукцию: а она, в свою очередь, пользовалась спросом у фризских и немецких купцов наряду с пушниной или корабельными канатами [314, с. 191]. На основе центров локальной торговли, местных рынков возникли многие города Скандинавии XII-XIV вв. [387, с. 15-17; 89, с. 60-61]. Однако трудно сказать, насколько эти локальные центры определяли динамику торговли в VIII-IX вв., так как археологически такие местные рынки, не связанные с внешней торговлей, не изучены. Рунические надписи, которые косвенным образом (упоминания о строительстве мостов, дорог, переправ) свидетельствуют о налаживании внутренних коммуникаций, появляются лишь в конце эпохи викингов [401, с. 501]. Показательно и происхождение специальных терминов для обозначения местных торговых центров: они заимствованы либо из староанглийского (ceaping = k Основанная прежде всего на внешних связях торговая функция вика предшествовала его функциям как центра развития ремесла [334, с. 161-261], и последнее в течение эпохи викингов так и не обрело законченной цеховой организации. Отсюда — отсутствие прямой преемственности между Виками IX-XI вв. и собственно средневековыми городами Дании, Норвегии, Швеции. Эти обстоятельства заставляют историков делать оговорки о «частичном» отделении ремесла, «особом» развитии международной торговли, выделении «экономически мощного слоя» без его точной историко-социологической атрибуции [235, с. 62-82]. Но подобные оговорки не раскрывают сути явления. Она же заключается в том, что вики, как и «северная торговля», были следствием не только непосредственно экономического развития. Для их расцвета огромное значение имело систематическое поступление на Север значительных материальных ценностей, добытых не экономическим путем. В. известной мере расцвет виков есть результат походов викингов; наряду с торговым оборотом, именно военная добыча составляла устойчивую гарантию процветания этих центров. Суммируя все известные данные и характеристики северной торговли, общества эпохи, викингов и его внешних контрагентов, можно выделить внутренние и внешние факторы, определившие динамику развития виков. Внутренние факторы: — подъём экономики Скандинавии в VI-XI вв.; — вызванный этим подъемом рост могущества родоплеменной знати в VII-VIII вв., создание предпосылок для обмена, налаживание его путей и центров, монополизация внешней торговли родоплеменной знатью, что со временем ведет к обострению противоречия между знатью и свободными общинниками; — экспансия викингов, как способ разрешения этого противоречия; — дифференциация в ходе экспансии ее различных аспектов: а) колонизационного, связанного с общественным слоем бондов и реализованного во второй половине IX — первой половине X в. на Британских островах, в Исландии, в Нормандии; б) торгового, выразившегося в выделении слоя «торговых людей» и организации в XI в. первых купеческих объединений [334, с. 177]; в) военно-феодального, воплощенного в деятельности профессиональных военных дружин, вожди которых основывали новые владения или включались в сложившиеся феодальные структуры других государств; этот слой выступает в конечном счете основным потребителем в сфере северной торговли, а на определенном этапе (около середины X в.) стремится занять в ней господствующие позиции (ср. «торговлю русов», дружинников киевского князя, ежегодно сбывавших в Константинополе собранную дань — Const. Porph., 9) [186, с. 318-342]. Внешние факторы: Западные — перемещение ввиду арабской опасности в VII в. центра Франкской державы на север; — подъем экономики северо-восточной Франции и Фрисландии; — торговая активность фризов в VII — первой половине IX в. Восточные — поступление с конца VIII в. арабского серебра в Восточную Европу; — формирование к началу IX в. Волжско-Балтийского пути; — включение в торговые связи славянских, финно-угорских, балтских племен. Генеральная тенденция, определившая действие всех этих факторов — формирование в Европе раннефеодального строя, с соответствующим перераспределением излишков общественного производства. В передовых обществах (Франкская империя, Византия, Арабские халифаты) этот процесс регламентировался раннефеодальным государством. На периферии феодального мира, в «варварских обществах» Северной и Восточной Европы, накопленные богатства циркулировали более свободно. Если в условиях застойной структуры племенного общества (норманны вендельского периода, саксы перед франкским завоеванием, прусы и пр.) поступавшие ценности монополизировались племенной знатью, то в условиях широкой экспансии, ослабления этой структуры у славян времен расселения в Средней и Восточной Европе и у скандинавов эпохи викингов приток новых средств стимулировал активность обширного «военно-демократического» дружинного слоя, а сами средства — многократно, нередко насильственным путем перераспределялись. Лишь постепенно, в ходе длительной конкурентной борьбы выделились наиболее организованные и сильные коллективы, объединившиеся вокруг могущественных и авторитетных вождей, первых князей и конунгов предфеодальных государственных объединений. Центрами этого перераспределения ценностей, а проще говоря — местами дележа награбленной добычи, даней и выкупов, а также полученных в обмен на эти средства заморских товаров — драгоценностей, украшений, оружия, дорогих тканей, рабов, серебра и прочих атрибутов социального престижа, и стали древнесеверные вики — исторические предшественники городов Северной Европы. Ряд формальных характеристик объединяет все эти «торговые места», или, по определению видного западногерманского археолога — медиевиста Г.Янкуна, «города старшего типа» [336, с. 312]. Вики характеризуются системно связанными признаками: в отличие от городов — столиц областных или племенных территорий, они нередко расположены на «ничейной земле», на пограничье племен и народов (что обуславливало их свободу от юрисдикции местных властей); находясь на важных торговых магистралях, они, как правило, удалены от морского побережья на сравнительно безопасные места; по крайней мере, на раннем этапе вики не имели укреплений, оборонительные валы сооружались по мере роста поселения (в Бирке и в Хедебю они появились лишь в X в.); вики отличались значительной площадью, в несколько раз превышавшей площадь современных им западноевропейских городов; численность населения была непостоянна, пульсирующая в зависимости от торговых сезонов; динамика застройки, на раннем этапе — свободная, с «пятнами селитьбы», постепенно уплотняющаяся, приобретающая регулярный характер с элементами городского благоустройства (мостовые, набережные, колодцы и прочее); вики окружены могильниками с разнообразными вариантами обряда; связанные в массе с чужеродным населением, пришлым, не располагавшим правами на землю в округе, эти могильники теснятся близ виков, накладываясь на территорию поселений; вещественный материал фиксирует сравнительно ранние следы торговой деятельности, местное ремесло организуется позднее, на определенном этапе существования торговых центров; расцвет виков ограничен VIII-X вв., в XI в. они исчезают, сменяясь основанными королевской властью «городами младшего типа», которые со временем перерастают в средневековый правовой город. Сходство структуры объединяет фризские и скандинавские вики и ряд синхронных им западнославянских поселений (Ральсвик, Менцлин, ранний Волин). В Восточной Европе она представлена в так называемых «открытых торгово-ремесленных поселениях» (ОТРП): Ладога, Рюриково городище под Новгородом, Гнездово под Смоленском, Тимерево под Ярославлем [30, 139]. Все они составляли единую систему центров и путей, двигаясь по которой арабское серебро достигало Британии, а изделия ирландских ювелиров — Верхней Волги [274, с. 14; 70, с. 170, 226]. Один из первых виков Скандинавии, Рибе, возник близ западного побережья Ютландии как звено в североморской системе фризско-скандинавской торговли, не позднее середины VIII в. [371, с. 225-268]. Поселение открытого типа было связано водным путем с заливом Северного моря и поддерживало интенсивные контакты с Дорестадом и другими фризскими виками. Рибе сохранял значение и после образования ряда новых виков и городов. В 948 г. здесь (как в Орхусе и Хедебю) был учрежден один из трех первых датских епископатов. Норвежский вик Скирингссаль (Каупанг), как и Рибе был тесно связан с североморскими центрами. Поселение возникло у выхода из Ослофьорда в открытое море, на южной окраине ареала «королевских курганов» Вестфольда, у подножья скалистой гряды, вдоль берега удобной бухты, защищенной цепью островов. С поселением связаны могильники Ламэйя и Бикьхольберг, где раскопано около двухсот погребений [292]. Наиболее ранние комплексы датируются началом эпохи викингов, могил позднее середины X в. — нет. Расцвет Сккирингссаля относится к 870-890 гг. (когда он отмечен в «Орозии» короля Альфреда). Среди могил Каупанга — свыше 100 курганов с сожжениями (в 3-х из них ладейные заклепки, фиксирующие обряд типа В). Серия ингумаций в ладье типа Nt — одна из самых значительных в Норвегии [364, с. 269]. Грунтовые могилы с ингумациями в гробах принадлежат, видимо, иноземному населению: этот обряд в Норвегии эпохи викингов нигде, кроме Скирингссаля. не зафиксирован [291, с. 48]. Сочетание разных вариантов обряда свидетельствует о сложном составе населения, объединявшем норвежцев, выходцев из Швеции, Дании (ингумации в гробах известны в Хедебю), Западной Европы. Скирингссаль функционировал лишь в период поступления арабского серебра (до последней четверти X в.); он был теснейшим образом связан не только с западными (фризскими и английскими), но и с другими скандинавскими центрами, контролировавшими морские пути на Балтике. Эти центры — Хедебю и Бирка, дают основной материал для характеристики северных виков. При этом Хедебю, где планомерными раскопками исследована территория поселения и ближайшие окрестности города [334], позволяет представить динамику развития вика во времени. Бирка, благодаря сведениям о ней в «Vita Anskarii» и систематичным исследованиям огромного могильника [269], представляет важные данные для анализа социальной структуры древнесеверного торгового центра эпохи викингов [347, с. 141-159; 109, с. 141-158; 319, с. 77-86]. Хедебю располагался в самой узкой, южной части Ютландского полуострова, там, где в сушу с востока врезается фьорд Шлей. Речная система Лидер — Треене связывала его с Холлингстедом на берегу Северного моря и позволяла пересечь «ютландский засов» кратчайшим путем между Балтийским морем и Северным. Поселение на Шлей, на берегу бухты Хеддебюер Hoop, возникло в начале VIII в. (может быть, на исходе VII в.) как фризская торгово-ремесленная фактория. Ее следы — небольшое неукрепленное поселение и грунтовый могильник на правом берегу ручья, протекающего южнее «полукруглого вала» Хедебю. Исследованы сожжения в урнах («яйцевидные горшки», типичные для северо-восточного побережья Фрисландии), а также ингумации с южной ориентировкой, которые Янкун датировал VIII в. (они перекрыты могилами с западной ориентировкой и наборами овальных фибул IX в.) [334, с. 126-128]. Это поселение уступило место в начале IX в. новому, быстро приобретающему упорядоченный план и динамично растущему. Ось застройки образовывал ручей (русло его было выпрямлено и укреплено деревянной набережной с мостками), перпендикулярно ему располагались улицы, разделенные на прямоугольные огражденные участки, застроенные сравнительно единообразными прямоугольными домами (в двух случаях отмечен классический stallhaus, с жильем и стойлами под одной кровлей). Размеры построек от 3X3 до 17,5X7 м; они сменяют друг друга на одних и тех же местах. Стабильность застройки свидетельствует о частной собственности на земельные участки в городе (при этом некоторые дома, по наблюдению Янкуна, использовались лишь для сезонного пребывания). Набережные, мостовые и другие элементы городского благоустройства дают основания для вывода об определенной кооперации сил обитателей Хедебю для производства этих работ [334, с. 118-122; 386, с. 30-39]. Много находок, связанных с местным ремеслом: остатки стеклодельной печи (стекло шло на изготовление бус), обильные железные шлака, литейные формы и матрицы. Ремесленники Хедебю владели техникой литья в односторонней форме, с утраченной формой, филиграни и грануляции. Найдены также полуфабрикаты костяных гребней разных стадий изготовления, янтарные изделия и заготовки, а с начала X в. в Хедебю производилась и гончарная керамика. Концентрация всех этих находок на сравнительно небольшом участке позволяет сделать вывод о выделении в X в. особого ремесленного квартала [334, с. 165-174, 251]. Мастера-ремесленники, однако, составляли лишь часть населения этого города. Многочисленные находки, связанные с торговлей, и прежде всего гирьки и монеты, позволяют судить о формировании в среде скандинавского населения Хедебю еще одной новой социальной группы — купцов. По наблюдениям Янкуна, в Хедебю кроме гирек, соответствующих северным мерам веса — марке (204,6 г), двойному эре (49,9 г), эре (24,3 г), эртогу (8,6 г), есть веса 7,8 г, 5,09 г, 2,2 г, 0,2 г, равные или кратные весу найденных в Хедебю монет. Не позднее 825 г. в Хедебю начинается чеканка первых северных монет [358, с. 195, 202]. Мы вправе видеть в «торговых людях» Хедебю творцов денежной системы европейского Севера, инициаторов денежного обращения. В самых ранних культурных слоях широко представлены импорты, вплоть до рейнской и западнославянской керамики [332]. В середине IX в. поселение занимало площадь около 5 га, с запада к нему примыкал могильник, насчитывавший не менее 1000 погребений типа D1 [385; 304]. К югу от него открыто небольшое обособленное кладбище, из 10 камерных могил типа D2, второй половины IX — начала X в. [263, с. 61-115]. Шведский обряд позволяет связать этот памятник с известиями письменных источников о шведском викинге Олаве, захватившем Хедебю. Его сыновьями были Хноба (Кнуб, Chnuba? — известен конунг на Шлей с таким именем) и Гюрд, последним из этого рода был Сигтрюг. В окрестностях Хедебю есть два рунических камня, на которых шведско-норвежским письмом вырезаны надписи: «Асфрид поставила сей памятник по Сигтрюгу, сыну своему и Клуба», и «Асфрид, дочь Одинкара, поставила сей камень по конунгу Сигтрюгу, сыну своему и Кнуба. Горм вырезал руны» [334, с. 87-93]. Кнуб, Гюрд, Сигтрюг, Одинкар, Асфрид, Горм — это имена членов династии, восходящей к викингу Олаву (и связанных с нею людей), во второй половине IX — начале X в. правившей в городе. К ней же относится, несомненно, и такой памятник, как «ладейно-камерная могила», исследованная в 1908 г. Ф.Кнорром [289]. Шведское господство в Хедебю было недолгим. В X в. кладбище с камерными могилами захлестывается городской застройкой, достигшей площади 24 га и окруженной «полукруглым валом» [334, с. 81-82]. В этом состоянии город пережил свой расцвет и встретил упадок. С середины X в. датские конунги устанавливают свой контроль над Хедебю. В 948 г. здесь был учрежден епископат. С представителями королевской администрации, возможно, связаны богатые погребения в курганах близ Хедебю. Один из них стоял севернее вала (здесь в разное время найдены оружие, золотые и позолоченные вещи X в.). Возле другого, с погребением конца X в., стоит рунический камень с надписью: «Конунг Свейн поставил сей камень по Скарду, дружиннику своему, который ездил на Запад, но умер ныне при Хедебю». Второй камень, в память f В борьбе со Свейном Эстридссеном норвежский конунг Харальд Суровый около 1050 г. напал на Хедебю и разрушил город. Из края в край пылал Хедебю в ярости битвы. Крепко грозное это деянье Свейна грустить заставит. Ярое пламя ввысь вздымалось крыши круша хоромин Я созерцал его ночь напролет попирая града забрало, — так воспел скальд Харальда гибель датского торжища. Судьбу виков в конечном счете решили конунги. После разгрома 1050 г. Хедебю уже не оправился; его упадок заметен еще в конце X в., а последний удар вику на Шлей нанесли славяне в 1066 г. Во второй половине XI в. функции торгового и административного центра взял на себя возникший к северу от Хедебю Шлезвиг [411, с. 101-113]. Основные этапы развития Хедебю отразили судьбы северных виков в целом. В VIII в. — фризская фактория, контролировавшая выход на Балтику, на первом этапе экспансии викингов (793-833 гг.) Хедебю превращается в скандинавский вик, с пестрым, но культурно однородным населением. В конце IX в. шведские викинги, захватив город, утверждают здесь собственную «династию» и укрепляют вик. Затем власть над Хедебю оспаривают друг у друга датские конунги и германские кайзеры. Город растет, благоустраивается, совершенствует укрепления, организуется, становится центром христианской религии. Наконец, он гибнет — достигнув статуса королевского владения, но не выдерживая конкуренции с новыми городами, основанными конунгом и состоящими под его защитой. Бирка, «старейший торговый город Швеции» [267], прошла путь развития, во многом близкий Хедебю. Вик на оз. Мелар возник еще в пору расцвета Хельгё, поблизости от него, на о. Бьёрко. В северной части острова, над глубоко врезанной бухтой, высится обрывистая скала. На ней находилось городище Borg, окруженное валом с тремя воротами. К северо-востоку от Борга расположены еще две бухты. Название одной из них, Kugghamn, от фризского kugg — «корабль», видимо, связано с торговой активностью фризов. Вторая, «Крестовая гавань» Korshamn, возможно, напоминает о христианской миссии Анскария в 830 и 852 гг. От Куггхамна и Корсхамна до Борга, вдоль береговой линии протяженностью 600 м, лежит знаменитая «Черная Земля», Svarta jorden, или Bystan — «поселение» (площадь, занятая культурным слоем). С востока она ограничена земляным валом, с шестью воротными проемами (южная часть насыпи не сохранилась). За валом — крупнейший курганный могильник Швеции, Hemlanden (1600 курганов и каменных кладок). Близ северной и южной части вала, на границе Хемландена с «Черной Землей», раскопками открыты два грунтовых кладбища, сливающихся с курганным могильником (некоторые курганы в древности были перекрыты насыпью вала, в которую, в свою очередь, были впущены грунтовые захоронения [269, с. XIX]). Подобный же грунтовый могильник располагался к северу от Борга. Рядом с ним в поздний период существования Бирки на искусственной укрепленной террасе были выстроены жилища, вероятно, для военного гарнизона города: расположенные над гаванью, они позволяли контролировать одно из самых уязвимых мест в системе обороны вика [269, с. XX]. К югу от Борга — еще два курганных могильника, с ладьевидными оградками и обычными насыпями. Несколько небольших кладбищ, расположенных на о. Бьёрко к юго-востоку от основного скопления памятников Бирки связаны с более поздними поселениями XI-XV вв. Судя по данным фосфатного анализа, площадь поселения IX в. была несколько больше территории в 12 га, огороженной в X в. валом, и достигала 16 га. Обильный материал, полностью еще не опубликованный свидетельствует об оживленной ремесленной деятельности: сотни фрагментов гребней, полуфабрикаты и отходы документируют косторезное ремесло. Обработка стекла, заготовка бую — стеклянных, сердоликовых, из горного хрусталя и янтаря — связаны с производством, основанным как на местном, так и на привозном сырье. Развита была обработка камня (сосуды из жировика, точильные бруски), литье бронзы, обработка благородных металлов, ткачество, кожевенное дело. Технический уровень характеризуют приемы филиграни по золоту и серебру или простейшие способы дамасцировки — в кузнечном ремесле [261, с. 13-19; 282; 278; 279]. Обработка железа, поступавшего из металлургических центров в горных округах на северо-западе Средней Швеции, так же как и массовое производство на рынок других видов ремесленных изделий, свидетельствуют о тесных взаимосвязях Бирки с округой [262, с. 63]. Труднее судить о других функциях Бирки. Здесь, безусловно, находились не только дома и склады купцов, пристани и корабельные сараи, мастерские ремесленников и жилища, обслуживающего все эти отрасли деятельности люда. Судя по близости королевской усадьбы Адельсё (на соседнем острове, в виду города), Бирка играла важную административную роль в «домене» свейских конунгов [401, с. 463]. Конунг бывал здесь, что подчеркивает ее административно-политические функции. Не случайно Бирка была избрана и центром новых идеологических функций, здесь началась первая проповедь христианства в Швеции. Для восстановления структуры вика на оз. Мелар, как политико-административного и культового центра, надежных данных пока нет. Неясен характер укрепленного Борга (хотя здесь открыты ранние погребения по обряду сожжения, с богатым инвентарем) [269, с. 127-131]. Обособленный, возможно дружинный, квартал известен с X в. Столь же неясна структура церковной организации. Правда, в северной части Хемландена зафиксирован каменный фундамент постройки, размером 30X15 м; подобная же кладка, 30X12 м есть в южной части Хемландена (обе — на территории, защищенной валом X в.). Первую из них еще в XX в. народная молва называла «Kyrkan» — «Церковь» [269, с. XXI]. Именно вокруг этих неисследованных построек располагаются два грунтовых могильника с массовыми ингумациями: возможно, это — христианские кладбища возле церквей, основанных Анскарием [109, с. 155]. Подробности миссии Анскария (Ансгара) в Бирке известны благодаря его жизнеописанию, составленному Римбертом около 875-888 гг. [Rimbertus, X-XXVII]. Бенедиктинские монахи Ансгар и Витмар были посланы на Север императором Людовиком Благочестивым и архиепископом реймсским Эбо, который был назначен папским легатом в северных странах после крещения датского конунга Харальда Ворона (в Майнце, в 826 г.). Миссионеры (по дороге ограбленные викингами) прибыли в Бирку в 829 или 830 г. Они были приветливо встречены конунгом Бьёрном, и «префектом вика» Хертейгром, построившим сразу после прибытия бенедиктинцев первую в Швеции, церковь. Проповедь христианства, разрешенная королевским советом, на первых порах шла успешно. Примерно десять лет в Бирке действовали епископ Гаутберт и священник Нитхард, подчинявшиеся архиепископу реймсскому. Ансгар стал архиепископом гамбургским. «Языческая реакция» наступила в середине IX в., и связана, видимо, с возросшем размахом экспансии викингов на ее втором этапе (834-863 гг.). В 845 г. викинги разграбили Гамбург. Одновременно вспыхнуло языческое восстание в Бирке [353, с. 31]. Нитхард был убит, Гаутберт — изгнан. Лишь в 852 г. Ансгар снова посетил Бирку и смог добиться поддержки нового конунга, Олава, а также тинга Бирки, которые разрешили построить церкви и содержать при них священников. «Языческая партия», однако, сохранила сильные позиции. Епископы Эримберт, Ансфрид и Римберт (тезка биографа) не смогли добиться больших успехов. Последние известия об активности христианской церкви в Бирке относятся к 936 г., когда здесь умер прибывший с новой миссией архиепископ гамбургско-бременский Унно. Судя по динамике развития языческих погребальных обрядов, по появлению богатых камерных могил с захоронениями знатных воинов в сопровождении наложницы и верхового коня, под курганом, «языческая реакция» в Бирке X в. одержала верх [109, с. 153-157]. «Vita Anskarii» донесла до нас сведения не только об идеологической борьбе в вике IX в., но и о его социально-политической структуре. Европейские священники воспринимали Бирку как главный порт шведского королевства, portus regni, vicus. Верховной властью над городом располагал rex, король, конунг свеев. В Бирке упоминается конунг Бьёрн (Bern) [Rimb., X], правивший в 830 г.; затем — изгнанный свеями конунг Энунд (Anondus) [Rimb., XVI]; правивший ранее описываемых событий конунг Эйрик (Ericus) [Rimb., XXIII] и в 850-х годах — конунг Олав (Oleph) [Rimb., XXII]. Конунги, судя по этим известиям, бывали в Бирке наездами, и пользовались ограниченной властью. Городом управлял praefectus vici [Rimb., XI], опиравшийся на неких «могущественных», «знатных», «первых», «верных» (конунгу) — potentes, principes, primores, fidelibus [Rimb., X, XVI, XXIV]. Они составляли совет при короле, congregatio, consilium. Особо важные вопросы или конфликтные ситуации совет выносил на placitum, народное собрание (так было в 852 г.). Наряду с primores, выносившими на обсуждение вопрос о разрешении христианской проповеди, народное собрание составляли populi, среди которых Римберт особо выделил multi negotiatores [Rimb., XVI, XXIV]. Principes, negotiators, populi — «знать», «купцы», «народ»; попытки выявить отражение общественной структуры в археологическом материале предпринимались неоднократно. Для характеристики. Бирки как целого важна прежде всего неоднородность кладбищ, составляющих ее некрополь [109, с. 141-158]. Наиболее ранние погребения Бирки (например, № 349) относятся к VIII в. Первоначальное ядро кладбища составляло курганное поле Хемланден, где сосредоточено большинство погребений типа А. Этот «общинный могильник» (hemland шв. — «родина») функционировал на протяжении всего времени существования Бирки и связан, видимо, с основной частью ее населения, в которой прежде всего можно видеть populi Римберта. Некоторые богатые сожжения типа С (с гирьками, монетами, остатками ларцов, стеклянными бокалами) [402; 105, с. 186], возможно, отразили статус и жизненный уклад какой-то части negotiatores. В IX в. к северу от Борга формируется кладбище, резко отличное от курганного поля Хемланден. Здесь раскопано около 200 бескурганных ингумаций в гробах или в деревянных камерах простейшей конструкции (тип D). Севернее Борга сосредоточены самые ранние камерные могилы Бирки. Среди них немало женских погребений с христианскими атрибутами, инвентарь мужских — сравнительно скромный, хотя как правило, включает оружие, пиршественную утварь, украшения. В обряде камерных могил здесь в наибольшей степени прослеживается христианское влияние. Могильник севернее Борга можно рассматривать как первое христианское кладбище Бирки, возникшее, может быть, сразу после проповеди Ансгара. Если вспомнить, что миссионеров поддержал praefectus vici, вслед за ним — и другие primores, а в Бирке к тому времени уже жили знатные христиане (из Фризии), то камерные могилы севернее Борга можно отождествить именно с общественным слоем, скрывающимся под термином principes. Аналогичную интерпретацию камерных могил в Хедебю предложил в свое время Янкун [333, с. 477]. Ингумации в гробах на этом кладбище могли быть могилами крещеных populi, а с большей вероятностью — иноземных negotiators. В IX в. к югу от Борга появляются два кладбища, где ведущим обрядом (наиболее высокие курганы, сложный ритуал, богатый инвентарь) выступает обычай сожжения в ладье (тип В), специфический для эпохи викингов ритуал, возможно, связанный непосредственно с дружинами викингов как особой формой социальной организации. Обособленный характер «кладбищ викингов» в Бирке не противоречит такому отождествлению [106, с. 85]. В X в. все описанные кладбища продолжают функционировать, но наиболее многочисленные и богатые могилы сосредотачиваются на двух новых местах — возможно, близ основанных миссионерами церквей. Возникнув, как христианские кладбища, с большим количеством ингумаций в гробах, они затем приобретают очень сложную структуру: здесь представлены практически все варианты обряда, известные в Бирке, а ведущее положение занимают богатые камеры типа F — погребения воина с наложницей и конем. Полтора десятка таких погребений образуют высшую ступень военно-дружинной иерархии primores, в X в. — языческих дружинников языческих конунгов, сосредоточивших в своих руках большую политическую, военную, административную власть, контролирующих торговлю, и, судя по ритуалу нового типа, активно ищущих новых идеологических ценностей. «Языческая реакция», в виде которой шли эти поиски, вполне закономерна; подобным же образом отвергал христианство воинственный киевский князь Святослав: «дружина моа сему смеятися начнуть» [ПВЛ, 955 г.]. В пору активной и успешной экспансии, направленной главным образом против христианских стран, вожди и силы, направлявшие эту экспансию, до конца X (а в Швеции и в XI) в. пытались мобилизовать, обновить, реформировать старые языческие верования. Социальная топография могильника Бирки неадекватна описанию общественной структуры у Римберта; однако она позволяет археологически атрибутировать ведущую военно-дружинную организацию, видимо, подчиненную (непосредственно или через своих предводителей — «префектов вика») конунгу, составлявшую не более 10% от общей численности населения Бирки (раскопано около сотни камерных погребений), и поставившую под свой контроль важнейшие функции города, прежде всего — торговую (в камерах сосредоточены наиболее многочисленные и богатые импорты). Могильник Бирки дал основной материал для характеристики поселения на Мелар как торгового центра. В 1175 погребениях, раскопанных с 1874 по 1934 г., сосредоточена крупнейшая коллекция древностей эпохи викингов, отразившая связи с Востоком (арабское и сасанидское серебро, стекло, глазурованная керамика — «люстр», ткани) и Западом (серебро, стекло, керамика, оружие, ювелирные изделия, резная кость, ткани) [266, с. 145-167; 270, с. 140-143; 281, с. 130-132; 317; 389; 340, с. 229-250; 381, с. 132-140]. Судя по исходным ареалам восточноевропейских импортов, также представленных в Бирке, ее связи с исламским миром осуществлялись по Волжскому пути, и прекратились не позже 970-х годов [358, с. 221]. Для западных связей большое значение имели отношения с Хедебю и другими североморскими центрами. Роль Бирки в этой системе торговых городов была, видимо, значительной: с нею связывают зарождение городского права, норм средневековой юрисдикции, известных позднее как Bj Реконструкция системы торговых центров эпохи викингов на Севере во многом — дело будущего. Не все они выявлены: лишь в 1970-х годах началось изучение «вика» на Готланде — открытого поселения в бухте Павикен, существовавшего с конца IX до конца XI в., т.е. позже и значительно дольше Бирки (что соответствует уже сложившимся представлениям о соотношении Бирки и Готланда в балтийской торговле) [356, с. 82-94]. В то же время в материалах Павикена немало общего и с Биркой, и с другими северными виками VIII-X вв. Для всех изученных крупных центров эпохи викингов характерна единообразная структура товарооборота и организации торговли. Она базировалась на использовании общей валюты: на раннем этапе (конец VIII — первая половина X в.) — арабского, позднее — немецкого, а с начала XI в. — английского серебра (поступавшего в качестве Данегельда). Ритм распространения всех этих явлений в денежном обращении был единым не только для скандинавских виков, но и для значительно более обширного ареала, охватывавшего все заселенные области Скандинавии, земли балтийских славян, Польшу, Прибалтику, Финляндию, Древнюю Русь [170, с. 39]. В товарообороте виков представлены одни и те же категории импортов как западных (рейнское стекло, керамика, ювелирные изделия, оружие, сукна), так и восточных (драгоценные ткани, произведения стеклоделов, глазурованная посуда — «люстр», драгоценности, ювелирные изделия). Несомненно, реальная структура товарооборота была значительно более сложной, чем можно судить по археологическим материалам. Ремесло виков прошло важный этап развития — от традиционного, общинного, основанного на местном сырье, к городскому, базирующемуся на заимствованной технологии и привозном сырье [58, с. 103-104]. В то же время процесс этот, во многом стимулированный специфической конъюнктурой виков, остался незавершенным. Развитие ряда производств (судя по их позднейшему сокращению) несколько опережало собственные внутренние потребности скандинавского общества. Общественная структура виков характеризуется тенденцией к социальной стратификации. На раннем этапе преобладает общинное, военно-демократическое начало. К рубежу IX-X вв. вырастает новый господствующий слой, сооружаются городские укрепления, появляются военно-дружинные кварталы и кладбища. К середине X в. крупнейшие вики стали опорными пунктами христианской религии, позиции которой, правда, оставались еще очень слабыми. Возрастает роль конунгов в жизни виков. Сменяются эти поселения «городами младшего типа», основанными королевской властью (Шлезвиг в Дании, Сигтуна в Швеции, Берген в Норвегии). Во второй половине X — начале XI в. вики, с их самоуправляющейся военно-демократической структурой (в рамках которой, видимо, определенное место находили и дружины викингов), уже не соответствовали социальным требованиям раннефеодального общества, достигшего определенной степени стратификации и государственной централизации. В то же время питательная среда виков, свободная община бондов в этих условиях во многом исчерпала свой потенциал, что отразилось как в упадке движения викингов, так и в замирании северной торговли. Однако в IX-X вв. вики выступали как экономические центры наиболее развитых областей, ставших ядром государственных территорий. В то же время новые социально-экономические функции виков объединили в них местное и пришлое население — чрезвычайно разнородное и по социальному статусу, и по этническому происхождению. Бонды и ремесленники, купцы и воины, домочадцы и слуги из разных скандинавских областей (свеи, гауты, норвежцы, датчане) жили бок о бок с рабами и рабынями, захваченными на Западе или купленными на Востоке; волей или неволей здесь селились искусные мастера-ювелиры и косторезы — фризы, англосаксы, гончары-славяне и денежники-франки, купцы из Фрисландии, Англии, славянских стран. В разноэтнической, своем роде интернациональной среде виков формировалась качественно новая раннегородская культура. Она близка во многих своих проявлениях на пространстве от Британии до Волги, так как едины интернациональные факторы, ее породившие. «Городская культура Балтики» пронизана общими стимулами и импульсами [346, с. 236-239]. Единая валютная система, пути сообщения, средства морского, речного и сухопутного транспорта создают достаточно стабильную сеть для распространения общебалтийских идей, образов, типов. Общие градостроительные принципы проявились в планировке поселений, связи с водными коммуникациями, системе укреплений. В городах «Балтийского культурного сообщества» распространились близкие приемы строительной техники, городского благоустройства (деревянные мостовые, причалы, набережные, колодцы). Бытовали общие типы кухонной, тарной и столовой посуды, обуви, одежды, предметов личного туалета, украшений, оружия. В далеких друг от друга центрах зафиксированы и некоторые выработанные в виках типы погребального обряда, а следовательно, и связанные с ними идеологические представления. Воплощая в конкретно-вещественных формах такие новые общественные явления, как денежное обращение, стабильный и многосторонний обмен, дифференцированное ремесло, классовая стратификация, вики в Скандинавии были генеральной линией своего рода «городской революции». В «городской культуре Балтики» были найдены впервые новые культурные нормы и формы, позднее в разных странах развивавшиеся различными, часто несхожими, путями. В то же время ни в одном из случаев «городская культура Балтики» не стала доминирующей, не вытеснила местных традиций, а лишь обогатила и стимулировала их. В Скандинавии это проявилось в развитии одновременно с «культурой виков» и в тесной связи с нею более обширного культурного комплекса. Ритм этого развития совпадает с динамикой виков, как и она, в свою очередь, с динамикой экспансии викингов. Ранняя эпоха викингов — время становления виков; средняя — период их расцвета, поздняя — упадка. Те же фазы проходит развитие материальной и духовной культуры Скандинавии эпохи викингов, и во всех доступных нам проявлениях оно пронизано действием тех же закономерностей. 6. Материальная культура Хозяйственно-технический базис скандинавского общества мало меняется по сравнению с предшествующим периодом. В основе — земледельческо-скотоводческая экономика небольших прочных хозяйств. Повсеместно применяются железные пахотные орудия, технология земледелия совершенствуется медленно. В составе сельскохозяйственных культур большое место занимает ячмень (до 60%), постепенно повышается доля ржи и пшеницы; в скотоводстве намечается дифференциация хозяйств, специализирующихся, в зависимости от условий, на разведении свиней, или коров, или овец [348, с. 44; 378, с. 56]. Орудия земледельческого труда — те же, что в VII-VIII вв.: железные лемехи, серпы, косы; распространяются ротационные каменные жернова [375, с. 122-124]. Сохраняется уклад жизни, типы жилищ, приемы домостроительства сельских усадеб; по-прежнему они состояли из одного или нескольких «длинных домов» (60-40х10 м, с каркасной конструкцией, двускатной кровлей, стойлами для скота, жилым помещением с очагом в центре). В эпоху викингов этот тип жилища развивается в комфортабельные дома так называемого «треллеборгского типа», с очагом в большом центральном помещении и вспомогательными комнатами — в торцах здания. Так же строились хозяйские дома «магнатских усадеб» X в. Наряду с ними в эпоху викингов распространяются «длинные дома» значительно меньших размеров (без хлева под одной крышей с жильем), небольшие, квадратные в плане постройки, а также полуземлянки (в предшествующие столетия, использовавшиеся кое-где как мастерские, а в X в. широко распространенные в сельских и городских поселениях Сконе и соседних территорий) [357, с. 67-72]. Традиционной во многом оставалась и одежда — из шерстяных и льняных тканей, меха, кожи. Мужской наряд обычно состоял из узких штанов, длинной рубахи и куртки, выпущенной поверх и подпоясанной. Носили также плащи, скрепленные на плече фибулой или булавкой (с кольцевидным навершьем и длинной иглой); зимой — одежду из овчины и меха других животных. Женщины одевались в длинные платья с бретелями на плечах (их скрепляли парой фибул, обычно черепаховидных). Новшества, характерные для эпохи викингов, относятся главным образом к материалам для парадной одежды, различным дополнительным украшениям, в меньшей степени — к покрою (так, под восточным влиянием появились шаровары со множеством складок, подвязывавшиеся под коленом) [111, с. 23; 160, с. 13]. С Востока пришла мода на наборные пояса, к которым подвешивали (кроме оружия) различные бытовые вещи (нож, оселок, кресало, кошелек). Женщины также носили на поясе или на цепочке, прикрепленной к одной из фибул, ключ — символ достоинства полноправной хозяйки, гребень в футляре, иногда — ножик и различные подвески-украшения. Ожерелья (из стеклянных, каменных, металлических бус и привесок), браслеты, шейные гривны, перстни, шитые золотом налобные ленты дополняли парадный женский наряд. Браслеты, гривны, перстни, налобные повязки носили и мужчины. Все эти украшения, как и цветные ткани для праздничных нарядов (восточные и западноевропейские сукна, шелк, парча), составляли наиболее динамичную и яркую сторону мужского и женского убора эпохи викингов. Основа наряда оставалась, однако, глубоко традиционной и в принципе однородной. Как и в сельском хозяйстве, в образе жизни и в одежде динамизм эпохи проявился в наименьшей степени. Ассортимент орудий ремесленного труда представлен формами, сложившимися еще до эпохи викингов и практически неизменными сохранившимися до начала индустриальной эпохи [401, с. 457]. Они предназначаются для разнообразных специализированных ремесел, основанных на сложившихся технологических циклах и устоявшихся наборах орудий. В то же время, судя по выразительным комплексам в Бюгланде, Местермюр и др. сохранялось объединение различных специальностей в руках одного ремесленника [290, с. 25-80]. Качественные сдвиги происходят в развитии транспортных средств. Люди эпохи викингов пользовались для передвижения зимой по снегу лыжами, по льду — костяными коньками и железными ледоходными шипами (крепившимися к обуви, а также и к конским копытам). Разработанными образцами представлена конская сбруя: стремена, шпоры, ремни и уздечки, плети с набором звенящих колец, седла с металлическими накладками. Сани, четырехколесные повозки так же, как мощение улиц и строительство мостов, свидетельствуют о развитии наземного транспорта, причем многие существенные инновации относятся именно к эпохе викингов [314, с. 257-262]. Однако ведущее значение приобретает водный, морской транспорт. Корабли викингов представляли собой качественный скачок в развитии северного судостроения, от «кораблей свионов», описанных Тацитом (и археологически представленных находкой в Хьортспринге) — к «драконам» (dreki, мн. ч. drakkar) с парусом и длинными веслами [315, с. 47-55]. Судя по изображениям на готландских стелах, первые паруса, сплетенные из полос ткани [может быть, кожи] появились в VII-VIII вв. К этому времени уже был выработан Т-образный в сечении киль, клинкерная обшивка с железными заклепками. Конструкция обеспечивала прочность и гибкость корпуса, позволяя наращивать его размеры и совершенствовать мореходные качества. Киль со шпангоутами и клинкерной обшивкой, фальшборт, палубный настил, составная мачта и длинные весла — основные элементы конструкции нового типа судов. Во вполне сложившемся виде он представлен находками в курганах Усеберга и Гокстада. Этот тип судов был, по существу, универсален: одинаково приспособлен для передвижения в открытом море, прибрежных водах и по большим и средним рекам, внутренним водоемам; пригоден для транспортировки людей я грузов, для пиратских набегов и торговых поездок. В течение эпохи викингов прослеживается тенденция к дальнейшему наращиванию размеров судна: «длинные корабли» (langskipar) поздней эпохи викингов были самым эффективным выражением престижа и претензий их владельцев (вплоть до «конунгов-викингов»). Однако уже к средней эпохе викингов, видимо, были достигнуты их пределы, т.к. длина отражалась на прочности конструкции. Универсальность нового типа судов была исчерпана. В позднюю эпоху викингов начинается дифференциация, появляется перспективный новый тип грузового корабля — knorr, и в находке из Скульделёв (XI в.) представлены уже различные типы судов [371]. Прогресс северного судостроения позволил решить важнейшие проблемы массовых коммуникаций: передвижения на дальние расстояния значительных масс людей, регулярной циркуляции товаров, постоянного контакта между морскими торговыми центрами, прибрежными районами, с внешним миром. Выражение «корабль — жилище скандинава» стало крылатым. Корабли становятся центральным мотивом изобразительных композиций на готландских камнях, важным элементом наиболее сложного и пышного погребального обряда («королевские курганы» Норвегии), одним из центральных образов эддической и скальдической поэзии. Новые средства морского транспорта обеспечили высокую мобильность представителей различных общественных групп; бонды не привязаны более к одалю и хераду, им доступны новые земли и дальние острова. Корабли стали одной из важнейших материально-технических предпосылок и средств для решения назревших к исходу VIII в. социальных коллизий. Обеспечивая циркуляцию и концентрацию материальных ценностей, морские суда викингов стали самостоятельным социальным фактором: на корабле действовали особые правовые нормы, объединявшие экипаж; деление по кораблям легло в основу военно-административной системы ледунга [47, с 181-186; 89, с. 108]. Процесс совершенствования военной организации норманнов еще более ярко проявился в резком расширении и быстром развитии арсенала викингов. Наряду с традиционными, ланцетовидными копьями (типы А, Е, по Петерсену) скандинавские ремесленники в IX — первой половине X в. осваивают западные, франкские образцы («копья с крылышками», тип В): вырабатываются местные их разновидности — типы L и D. В середине X в. от заимствования, повторений северные мастера переходят к творческой переработке импортных образцов, стремясь в новых типах наконечников совместить боевые качества традиционных местных и западных копий. Так возникают типы К, G, Н, М. В сходном ритме идет развитие массового северного оружия, боевых топоров. Унаследованные от предшествующих периодов типы А, В, D, E модернизируются, вырабатываются различные варианты «топора с бородкой» (типы С, F, Н); с другой стороны, совершенствуется модель широколезвийного топора с равномерно расширяющимся лезвием (типы I, К, L). Наибольшее разнообразие типов приходится на вторую половину IX в. Они отразили поиск наиболее эффективных форм. В X в. этот поиск завершается определенной унификацией: синтез обеих ведущих линий был найден в виде боевых секир викингов — топоров типа М, с очень высоким коэффициентом полезного действия. Мечи эпохи викингов представлены примерно тремя десятками типов [272, с. 27-152; 82, I, с. 19-20; 360, с. 111-112]. Их группировка с учетом взаимоотношений признаков различных уровней (функционального, конструктивного, декоративного, семантического [113, с. 74-87]) позволяет рассмотреть этот набор типов в виде культурно-исторической типологии. I группа типов объединяет ранние формы, с прямой гардой и верхним перекрестьем, треугольным навершием (типы А, В, Н, С, 92, 76). Бытование их ограничено самым началом IX в., когда дружины викингов только начали освоение «каролингских мечей». II группа типов (К-О) демонстрирует переход от заимствованной в Британии формы IX в. к характерному для первой половины X в. варианту со сложной рукоятью и богатым декором. Тип О — парадное дружинное оружие. Представленные здесь новшества (изгиб гарды и верхнего перекрестья, сложная профилировка навершья, богатая орнаментация) характерны еще для значительной серии мечей второй половины IX-X вв. III группа типов все эти новшества демонстрирует в наиболее полном и развернутом виде. Это — ведущая группа форм в культурно-исторической типологии. Уже в IX в. сравнительно простые, близкие I группе исходные типы (72) сосуществуют с богато украшенными мечами типов Е, D, V. В X в. совершенствуется их конструкция (вогнутые гарды, сложно-профилированные навершья). Мечи типов R, S, Т найдены в богатых воинских погребениях дружинников высокого ранга. Во второй половине X в. в связи с наметившимся обособлением военно-дружинной организации, концентрацией ее социальных функций меч становится атрибутом сравнительно узкого и четко ограниченного раннефеодального слоя. Сокращается его семантическая многозначность, возрастают требования к утилитарным, боевым качествам. IV группа — проявление именно этой тенденции; она выделяется в ходе эволюции III группы, отделяясь от нее в X в. Развитие типов V, W, U, X, 124 идет в направлении все большей специализации оружия за счет сокращения декоративных и семантических признаков. Конечное звено — мощный рубящий меч тяжеловооруженного воина фиксирует рубеж между эпохой набегов и походов викингов и временем действия феодальных войск. Одновременно с этим богатое парадное оружие, распространенное в викингской среде, выходит из употребления так же, как сошли со сцены в борьбе с королевской властью дружины викингов. V группа типов (F, М, 93, Q, отчасти — Р) развивается примерно так же, как и I группа. Это — военно-демократическое оружие, folkvapn, по мере распространения III-IV групп постепенно выходящее из употребления, но удержавшееся в социальной практике ополчения — ледунга. VI группа типов — интересный пример развития оружия, связанного с теми же социальными категориями, что и I и V группы, но получившего дополнительный функционально-технический импульс извне. Исходные формы (типы I, 77, может быть, Р) возникли, судя по мечам типа 73, на основе I группы, осложненной восточным воздействием: выгнутая гарда, выпуклое навершие — это конструктивные особенности кочевнической сабли [274, с. 31]. Не случайно, видимо, к этой группе тяготеют и собственно древнерусские, богато украшенные мечи, найденные в Восточной Европе: типы Z особый, и «Скандинавский» — с орнаментированной в северном стиле рукоятью и клеймом славянского мастера на клинке [82, с. 37-41]. VII группу составляет редкий на Севере тип G. Итак, исходное разнообразие сравнительно простых типов ранней эпохи викингов (А, В, 72, F, 73) сменяется к XI в. жестким набором специализированных форм (124, AЕ). Процесс «выслаивания» из военно-демократической общины сначала отделившейся от нее, а затем утвердившейся над нею военной организации отразился в эволюции оружия с зеркальной точностью. «Пик» этого процесса, этап наибольшего разнообразия богатых и ярких форм, расцвет «культуры викингов», относится к середине IX — середине X в., охватывая главным образом среднюю эпоху викингов; затем начинается спад, специализация феодальной культуры. Те же этапы развития культурного процесса (начало IX в. — исходный рубеж, середина IX — середина X в. — расцвет новых форм, конец X в. — упадок «культуры викингов») отразились в других группах древностей. Ювелирное ремесло и его продукция характеризуют уже не только военно-дружинную, но и во многом противоположную (хотя и взаимосвязанную, и дополняющую) женскую «субкультуру» украшений, с непосредственным (через орнаментальный стиль) выходом в область художественного творчества. Оно стало важным показателем развития социальных норм, а также состояния материально-технических ресурсов и распределения ценностей в древнесеверном обществе уже в середине I тыс. н.э. Одновременно с сооружением «Великих курганов» Упсалы распространился северный звериный орнамент ( I стиль, по Салину). Вендельский период стал следующей ступенью развития скандинавского прикладного искусства (II стиль). К концу VIII — началу IX в. возможности этого развития кажутся уже исчерпанными, эпоха викингов получила от предшествующей поры в наследство тяжеловесный, вычурный, перегруженный множеством второстепенных деталей и дополнений III стиль, в бесконечных вариациях повторяющий и комбинирующий мотивы и образы, выразительные возможности которых полностью были раскрыты и исчерпаны искусством VI-VIII вв. Однако на рубеже VIII-IX вв. металлические украшения получили беспрецедентное распространение. Искусство эпохи викингов ориентировалось не на изготовление немногочисленных, уникальных драгоценных изделий — вотивных гривен, посвящаемых богам, королевского парадного вооружения, сбруи, — а на массовое, тиражированное производство эффектного, и сравнительно доступного металлического убора. Вещи изготавливались чаще всего из бронзы (нередко — с позолотой) реже — из серебра, вероятно, еще реже — из золота. Они предназначались для свободных мужчин и женщин, социальный статус которых был если не равным, то, во всяком случае, сопоставимым. Отсюда — сравнительная однородность маркирующих этот статус украшений, а их массовость стала основой, во-первых, для типологического разнообразия, во-вторых, для развития новых вариантов стиля звериной орнаментики. Три основных стиля характерны для эпохи викингов. С 840-х по 980-е года распространен стиль Борре (названный по одному из курганов Вестфольда), вытеснивший как тяжеловесную орнаментику III стиля, так и разнообразные экспериментальные поиски рубежа VIII-IX вв., отобразившиеся, в частности, в усебергской резьбе (отделка корабля, повозки, саней). Центральный образ (представленный уже в этих ранних поисках) — северный вариант «каролингского льва», развернутого в профиль, но с головою — в фас, хищника, грозно обращенного к зрителю оскаленной, чуть утрированной мордой и сжимающего когтистыми лапами собственное тело, декоративный бордюр или орнаментальные детали: впрочем, нередко изображены борющимися несколько чудовищ. Все подробности — утрированы; шея и туловище трактованы как широкие ленты, бедра пластично выделены, выступающие части заполнены филигранью, усиливающей объемность. Этот образ дополняется ленточной плетенкой, а также рельефным, точнее же — скульптурным изображением «масок»: мотив, в общем традиционный для древнесеверного искусства, в ювелирных изделиях стиля Борре представлен очень широким диапазоном образов — от едва ли ни портретных (во всяком случае, видимо, вполне идентифицируемых с какими-то героями эпических сказаний) до фантастических, скорее — териоморфорных и, во всяком случае, занимавших срединное положение между человеческим образом и мордой хищника. Вторая разновидность звериной орнаментики эпохи викингов получила название стиля Еллинг, по находкам в резиденции датских конунгов IX-X вв. Этот стиль получил распространение в 870-1000 гг. Длительное время он сосуществует со стилем Борре, и нередко обе разновидности звериной орнаментики представлены на одной и той же вещи. Однако и по происхождению, и по формальным особенностям, а вероятно и по социальному адресу еллингский стиль достаточно отличен от сравнительно демократичного, насыщенного яркими языческими образами, привлекающего внимание пластическим богатством, при достаточно доступном материале, стиля Борре. Ближе всего он к аристократической поздневендельской орнаментике (стиль D, по Арвидссон), испытавшей кельтское воздействие. Центральный образ — развернутый в профиль Большой Зверь, древний и значимый образ германской звериной орнаментики; чаще же изображается пара борющихся, переплетенных чудовищ в плоскостной ленточной манере. Длинное извивающееся тело заставляет вспомнить о Змее — эсхатологическом исполине, кладущем предел и конец миру; но при этом змей-дракон-корабль — важнейший из узлов социальных связей в общественной практике скандинавов эпохи викингов. Социально-психологическая насыщенность этого образа значила тем больше, что сходные функции он нес и в западноевропейской, христианской культуре. В скандинавской орнаментике он появляется одновременно с распространением в древнесеверной поэзии комплекса представлений о конце мира, гибели богов, Ragnarok с одной стороны, несомненно связанного с христианской концепцией «конечности» человеческой истории, но с другой — завершившего формирование языческой системы духовных ценностей скандинавов эпохи викингов. Еллингские изображения изящно и точно вписываются в компактную плоскость украшаемой вещи — будь то накладная пластина, венчик серебряной чаши, бордюр фибулы, декоративный обод луки седла. Основу уравновешенной, при всей напряженности, композиции образуют восьмеркообразные переплетенные фигуры зверей. Их тела переданы длинными узкими линиями, обычно выделенными сильным двойным контуром (стилистическая особенность, зародившаяся еще в германском искусстве V-VI вв.). Головы трактованы обобщенно, без лишних деталей, выделены разинутая пасть и огромный глаз (все чудовища изображены в профиль). Тело, латы и окружающее основное изображение пространство до предела насыщены декоративными элементами: ритмично повторяющимися шариками ложной зерни, насечками, оттисками штампа, покрывающими сплошь ленту туловища и шеи; прихотливо извивающимися линейными отростками, идущими от лап; всевозможными дополнительными линиями, оплетающими со всех сторон тела зверей и образующими композицию, вторичную по отношению к основной. Изысканные и эффектные вещи еллингского стиля часто украшались позолотой и рассчитаны были на достаточно изощренное, воспитанное художественное восприятие. Третий стиль эпохи викингов иногда обозначают названием стиль Большого Зверя, объединяя при этом местные разновидности звериной орнаментики: стиль Маммен в Дании (960-1020 гг.), норвежский стиль Рингерике (980-1090 гг.) и сменяющий его стиль Урнес (1050-1170гг.), и «стиль рунических камней» в Швеции XI в. Все эти варианты звериной орнаментики представляют собой развитие еллингского стиля в позднюю эпоху викингов. Новой особенностью художественной и общественной практики этого времени стало сооружение различных мемориальных камней с руническими надписями (в память погибших, пропавших без вести, отправляющихся в опасное путешествие, в честь строителей дорог и мостов, для фиксации выдающихся исторических событий). Сама композиция надписей, как правило, обрамленных двумя ограничительными линиями, создавала новые возможности и выдвигала особые требования к орнаментальным мотивам: длинные, сплошь покрытые рунами ленты окаймляют обычно края стелы, оставляя свободным центральное пространство, где можно разместить изобразительный сюжет. Техника резьбы по камню также повлияла на манеру исполнения изображений: возрастает их плоскостность и линеарность. Новый стиль представлен не только в произведениях резчиков-каменотесов, но, как и прежде, в металле, резной кости, дереве. Образ Зверя становится все более масштабным, и если не реалистическим, то более понятным, узнаваемым. Это — настоящее апокалипсическое чудовище, грозно шагающее в мир, чтобы его уничтожить. Ленточное плетение становится феном, на котором выступает мощный хищник неведомой «космической» породы, с когтистыми лапами и драконьей головой; иногда он дополнен изображениями «змеев», как на боевом вымпеле, позднее превращенном во флюгер церкви в Сёдерала [203, с. 38, № 109]. Искусство поздней эпохи викингов — в той же мере христианское, что и языческое: «стиль Большого Зверя» часто применяли в убранстве церквей (стиль Урнес). Идеологический и, так сказать, эстетический союз церкви и королевской власти воплотился в одном из лучших произведений стиля Маммен — камне Харальда Синезубого в Еллинге. Трёхгранный гранитный обелиск украшен изображениями распятого Христа и Большого Зверя на фоне ленточного плетения; руническая надпись сообщает, что «конунг Харальд велел сей знак поставить по Горму, своему отцу, и Тюре, своей матери, Харальд, который всю Данию объединил и Норвегию и данов сделал христианами». Этот камень скандинавы называют «метрическим свидетельством о крещении Дании» [330, с. 340]. Камни «еллингского типа» (по Рандсборгу) запечатлели процесс политической консолидации раннефеодального Датского государства. Стиль «рунических камней» и связан с наиболее выразительными памятниками этой государственности; он распространяется и на убранство архитектурных сооружений, древнейших скандинавских церквей. Из монументального искусства, архитектуры стиль поздней эпохи викингов распространяется в сферу художественного ремесла. Функциональные связи орнаментальных стилей с определенными категориями предметов культуры выстраиваются примерно в том же порядке, что и набор изобразительных средств и образов. Объемный, пластичный, богатый ясными и интересными деталями стиль Борре адресован как будто наиболее массовому, демократичному зрителю: так украшали вещи, которые носили или могли носить все. Стиль Еллинг значительно более аристократичен, и вряд ли случайной оказалась связь этого искусства именно с королевской резиденцией: дорогие вещи, украшенные еллингскими орнаментами, носили прежде всего люди из окружения конунга. Этот стиль можно, наверное, противопоставить Борре как элитарный. «Стиль Большого Зверя» возникает как обобщение и неизбежное упрощение чрезмерно усложненной системы еллингской орнаментики. Это образный язык, на котором конунги обращаются к народу (лапидарный, емкий и устрашающе понятный). «Большой Зверь» на камнях и вещах поздней эпохи викингов воспринимался современниками, вероятно, прямо-таки с плакатной выразительностью. Та общественная сила, которая созрела и выделилась в обществе викингов, которая в своем внутреннем общении использовала изысканный и сложный еллингский стиль, теперь противопоставляет себя обществу, утверждает над ним свое господство, и обращается к нему грозно и властно. Этот стиль нельзя назвать в строгом смысле ни элитарным, ни демократическим, правящая феодальная элита пользовалась им для общения с демократическими массами, по существу и форме этот стиль — политически-агитационный. Установленное современными исследователями хронологическое соотношение разновидностей скандинавского звериного стиля [314, с. 287] раскрывает не только художественный процесс, но в какой-то мере и социальную динамику. Ранняя эпоха викингов в середине IX в. ознаменована созданием нового, характерного именно для этой эпохи, получившего прочное распространение в широкой общественной среде стиля Борре. В конце этого периода, в результате синтеза достижений местного ювелирного ремесла, западных художественных норм, и социального заказа выдвигающегося к власти раннефеодального слоя во главе с конунгом, возникает стиль Еллинг. Средняя эпоха викингов характеризуется сосуществованием в художественном ремесле обоих этих стилей, «демократического» и «элитарного», их взаимопроникновением. В конце периода (после 960-х годов) начинается формирование «стиля Большого Зверя» (стиль Маммен — с 960-х, стиль Рингерике — с 980-х годов). Вещи в стиле Борре после 980-х годов не изготавливались, стиль Еллинг был распространен до начала XI в. После 1050 г. аристократическое искусство сливается с церковным (стиль Урнес). Не следует рассматривать эти стилистические взаимоотношения как документальную запись борьбы социальных сил в скандинавском обществе, но и связь их с социальной динамикой оспаривать трудно. Этот процесс достаточно полно соответствует другим аспектам развития материальной культуры, таким, как развитие оружия, средств транспорта, облика поселений. Объяснить синфазность изменения разных и при этом не связанных непосредственно сторон культуры (таких, например, как конструкция рукояти меча и орнаментальный стиль) можно только, считая эти изменения производными от изменений социальной структуры. Для характеристики этих взаимосвязанных социокультурных изменений прикладное искусство эпохи викингов дает возможность не только качественного анализа сменяющихся стилей (о многом можно судить по количеству и многообразию типов вещей). Динамика типологических изменений форм украшений — параметр, в принципе независимый от стилистических норм и в то же время тесно связанный с «потребляющей средой», ее состоянием, возможностями, структурой. Наиболее показательная и массовая категория вещей этого круга — овальные (черепаховидные) фибулы, типология которых разработана Я.Петерсеном [373]. Исходная форма VIII в. — фибулы бердальского типа, украшены рельефным изображением животного в необычной, вертикальной, проекции, словно вид сверху, хребет зверя делит поверхность фибулы пополам; голова с двумя глазами (показанными рельефными выпуклинами) занимает нижнюю часть чашечки фибулы. Плечевые и бедренные части лал акцентированы такими же выпуклинами, так и те, что изображают глаза. Эти три пары полусферических рельефных элементов в сочетании с вертикальной линией, фиксирующей хребет зверя и образующей ось симметрии, составляют четкую .и устойчивую структуру композиции. Основное изображение дополнено разнообразными декоративными узорами, выполненными в той же технике. Образ зверя бердальских фибул, а особенно его формально-техническое решение, не были восприняты скандинавским искусством. Однако его геометрически строгая структура (продольная ось и симметричные ей шесть выступов) стала прочной основой для самостоятельного и разнообразного развития декоративных композиций. Разрушение семантики образа фибул бердальского типа (ЯП 7, 8) происходит уже в самом начале IX в. Около 800 г. в комплексах появляются фибулы типа ЯП 19, ЯП 20, близкие им по времени типы первой половины столетия ЯП 11, ЯП 14, ЯП 22, на которых центральная ось симметрии трактуется как вполне самостоятельный изобразительный элемент, не имеющий никакого отношения к териоморфному образу. На месте «спинного хребта» зверя — две узких прямоугольных (реже — со скругленными внешними торцамм) площадки, разделенные срединным элементом, фиксирующим центр всей композиции. Шесть овальных выступов, расположенных симметрично этой оси, остаются обязательным элементом композиционной структуры (попытки их преобразования — фибулы ЯП 11, ЯП 22 — не получили дальнейшего развития). Интервалы между элементами заполняются орнаментальными композициями из растительных, ленточных и геометрических мотивов. На фибулах ЯП 14 (830-850-е годы) появляется в статуарной позе зверь, по-скандинавски трактованный «каролингский лев», предшественник «хищника Борре». Эти вещи пластичны, богаты объемными деталями, свободными и разнообразными композициями. При несомненной эклектичности, в них присутствует строго организующее начало, которое представляет собой самостоятельное, в общем-то совершенно свободное от жестких норм канонического мышления, осмысление самой сути западноевропейской традиции (будь то традиции териоморфного изображения). Эклектичность этих изделий — следствие двух факторов: неожиданно раскрывшегося многообразия источников художественных (и, наверное, не только художественных, но и материальных, социальных, психологических) стимулов и такого же примерно разнообразия возможностей, раскрывшихся перед определенными слоями скандинавского общества в самом начале эпохи викингов. Женщины, для которых предназначались фибулы, были современницами (женами и подругами, рабынями и матерями) многочисленных, независимых и бесстрашных «морских удальцов», в первом-втором периоде ранней эпохи викингов, обрушившихся на берега Британии, Ирландии, Фрисландии. Они привозили на Север разнообразную, разнородную и на первых порах, вероятно, не слишком-то обильную «добычу навалом». Это были вещи нередко непонятные по назначению, чуждые — и потому привлекательные, захваченные в церковных и монастырских сокровищницах, в домах и складах фризских городов, в замках и бургах франкской или англосаксонской знати, снятые с тел рыцарей или священников. Часть захваченных ценностей шла в переплавку (и в буквальном смысле, и в переносном): в тиглях скандинавских кузнецов-ювелиров плавился драгоценный металл, а в сознании мастеров-художников, да и аудитории, на которую они ориентировались, — новые образы и сюжеты. Их происхождение придавало им эпически-сказочную привлекательность колдовского, зарубежного, древнего «вельского золота». В середине IX в. появляется орнамент в стиле Борре, новый изобразительный язык, видимо столь же информативный, как появившиеся в это же время младшескандинавские руны: ими записан, в частности, древнейший дошедший до нас обрывок стихотворного эпоса, на камне из Рек в Эстеръётланде [401, с. 433-444]. Новая общественная среда создает и новые знаковые системы, и системы духовных ценностей, такие, как героический эпос или стиль декоративного искусства. Именно это время — середина — вторая половина IX в., время резко возросшей организованности военного натиска; социальное движение выработало свои собственные, адекватные ему организационные формы и идеологические нормы. Ювелирное ремесло, ориентированное на массового заказчика, чутко реагировало на эти изменения. Уже в первой половине IX в., параллельно с прямой (и короткой) линией развития фибул «бердальского типа» возникает вторая, основная, базирующаяся на той же симметричной структуре (парные элементы по сторонам осевой линии), но радикальным образом эту структуру переосмысливающая. Суть преобразования — в замене териоморфной организации пространства геометрической: шесть выступов (глаза и лапы зверя) дополняются еще тремя, фиксирующими начало, середину и конец осевой линии; выступы соединяются линиями; образуется двуромбическая композиция (ЯП 25, ЯП 26). Ленточные границы ромбов — устойчивый, обязательный, общепонятный элемент. Расчлененное ими пространство к тому же обретает иерархическую организацию. Два ромба, расположенные вдоль центральной оси и занимающие верхнюю, срединную, наиболее обозримую поверхность фибулы, несут максимальную изобразительную нагрузку. Дополняющие их боковые ромбы так же, как геометрически организованное пространство боковых сторон чашечки, служат для передачи дополнительной, вспомогательной информации. Рельефные выступы (уже в середине IX в стали изготавливать специальные металлические репьи, насаживавшиеся на округлые площадки па поверхности чашечки) отмечают четкие членения изображения, сообщая ему особый ритм. Фибулы этой поры — словно маленькие «поэмы в позолоченной бронзе»: заполняющие ритмически организованное пространство изображения в стиле Борре причудливы, вычурны и на первый взгляд малопонятны, как скальдические кеннинги (у нас нет образного и словесного эквивалента этим изображениям, иначе, наверное, как и в поэзии скальдов, мы смогли бы обнаружить, в общем-то сравнительно несложный и, во всяком случае, доступный смысл этих поэм). Но важно другое: они были созданы, их знали, и уже к концу ранней эпохи викингов едва ли не каждая свободная женщина в скандинавских странах могла нести на плечах некую сумму духовных ценностей, вполне, в принципе, сопоставимую с той, что столетия спустя была запечатлена на пергаментах «Эдды». Фибулы типа ЯП 37 (с вариантами) — наиболее массовая разновидность украшений середины IX в. Композиционная схема — та же, но она становится жестче, более четкие линии ограничивают ромбы, сближены и несколько увеличены округлые площадки под репьями; иногда вводится дополнительное ленточное плетение, усиливающее геометричность композиционной структуры. Локальные, видимо, сюжетные композиции внутри отдельных участков, выполненные в стиле Борре, строго симметричны; иногда они дополнении антропоморфными изображениями («маски», изображающие бородатых викингов, или неких косматых существ с развевающимися локонами, а может быть — рогами; трудно сказать, что это — берсерки Одина или козлы Тора). Возрастающие объемность, пластичность изобразительного решения (в некоторых параллельных линиях развития фибул проявившаяся еще раньше, и в более резких формах) приводят к закономерному для стиля Борре новому техническому решению: рельефную декоративную поверхность фибулы изготавливают отдельно, в виде особой орнаментальной накладки. Ранние варианты «ажурных фибул» появляются в конце IX — начале X в. (типы ЯП 41, ЯП 44). В структуре сохраняются два центральных ромба, девять ритмически организующих элементов, ленточные границы участков; внутреннее их пространство заполнено ажурным, почти скульптурным изображением; при этом наряду с териоморфными образами в центр композиции (сопряженные вершины центральных ромбов) в качестве организующего изобразительного мотива выдвигаются маски эпических героев. В первой половине — середине X в. та же композиционная схема реализована в фибулах типа ЯП 51 (варианты ЯП 51 а, ЯП 51 b, ЯП 51 с, ЯП 51 d, ЯП 51 е, ЯП 51 f, ЯП 51 g, ЯП 51 h, ЯП 51 i). Наиболее массовые, эти варианты дополнены и усилены по сравнению с композицией, выработанной к началу X в. Обязательным элементом всех разновидностей фибул типа ЯП 51 были рельефные, ажурные репьи, создававшие пластически выразительный, волнообразно изменяющийся рисунок поверхности. Рельефные шишечки из двух крест-накрест сложенных металлических лент с ажурными просветами между ними, словно завязывают в сверкающий позолотой бронзовый узел ограничительные ленты ромбов. К центральному репью (а иногда — от него, но обязательно по отношению к нему ориентированные) обращены крупные, ставшие ведущим изобразительным элементом маски: подтреугольной формы, изображающие в фас лица воителей, с круглыми выкатившимися глазами, грозно глядящими из-под развевающихся на ветру, спадающих на брови прядей волос; с лихо закрученными усами, скрывающими разинутый в боевом крике рот; треугольная борода завершает изображение, и незаметно связывает его с геометрической структурой остальной композиции. Борющиеся звери окружают лики героев, — наверное, так, как в смертельном сплетении бились вокруг них боевые «драконы» — корабли. Териоморфно-мифологическое начало ко второй половине X в. отходит на задний план, уступая при этом место началу героически-эпическому, антропоморфному. Уже не столкновения сакральных чудищ, а герой, борющийся в их окружении (словно бургундский Гуннар — в яме со змеями), не стихийная космическая сила, а некая личность (безусловно, человеческая) в напряженной борьбе — главная тема искусства викингов. В этом образе запечатлен достаточно массовый, устойчивый, социально определенный общественный идеал, воплотившийся не только в декоре женских фибул, но и в разнообразных «антропоморфных» подвесках, привесках и других деталях убора средней и поздней эпохи викингов. Целые серии рельефных, точнее, скульптурных изображений бородатых голов грозных витязей, выполненные в бронзе, а чаще — в серебре, дошли до нас в комплексах второй половины X — первой половины XI в. Викинги этой поры изображали самих себя. Тяга к социальному самоутверждению новой общественной группы была весьма высока. Не только многочисленность и серийность фибул 51 типа позволяет судить об этом. Характерно соединение на этих вещах ведущих мотивов стиля Борре (не только маски, но и сохраняющие заметное место зооморфные образы) с элементами стиля Еллинг, которые помещаются на бордюре фибул. Словно бы подчиненное, это положение элитарного по своему происхождению и существу, основной реализации (в вещах иных категорий, выполненных из более дорогих материалов) художественного стиля сигнализирует, может быть, о разворачивающемся социальном конфликте. Люди, дарившие своим женщинам украшения, которые мы сейчас называем фибулами типа ЯП 51, отнюдь не собирались без боя подчиниться королевским дружинам, брюти, лендрманам. В середине X в. они осознавали свою силу и не боялись соперничать с королевским окружением ни в роскоши, ни в могуществе, ни в отваге. Около 950 г. в художественной культуре эпохи викингов ощущается некий надлом, непосредственно предшествующий торжеству еллингского стиля и его переходу в новые (Маммен, Рингерике), а также упадку стиля Борре. В это время появляются фибулы типа ЯП 52, в принципе сохраняющие композиционную схему фибул ЯП 51, но, во-первых, все более перегруженные рельефными металлическими деталями (репьи становятся массивными, сложными, иногда — прямо-таки скульптурными); во-вторых, декоративные композиции ажурной накладки, не без воздействия стиля Еллинг, приобретают все более плоскостный, геометризованный схематичный характер, вырождаясь в тяжеловесное, грубое и сухое подражание еллингской орнаментике. Начинается упадок искусства викингов. К началу XI в. в виде фибул типа ЯП 55 (появившихся уже в 960-е годы) этот упадок проявляется со всей очевидностью. Ажурные накладки больше не изготовляются: намеки на некие контуры, обобщенно передающие хрестоматийный сюжет, даются с помощью геометрически однообразных линий, прочерченных в металле. Огрубленные массивные репьи фиксируют традиционную, привычную структуру вещи. Сами эти вещи, однако, безусловно проигрывают по сравнению и с изящными, дорогими и редкими ювелирными изделиями в еллингском стиле, и с монументальной лаконичностью стиля Маммен. Украшения в новом, упрощенном стиле быстро выходят из употребления. Именно в это время, со второй половины X и в начале XI в., социальная среда, выступавшая основным заказчиком и потребителем скорлупообразных фибул (и связанных с ними компонентов женского этнографического убора) переживает глубокий кризис, который проявился, в частности, в упадке культивировавшегося этой средой прикладного искусства. Наряду с основной развивалось еще несколько типологических линий скорлупообразных фибул. Их соотношение можно" представить в виде «типологического дерева». Конфигурация очень близка соответствующим типо-хронологическим схемам развития оружия, прежде всего и наиболее полным образом — мечей. Структура и динамика развития мужской и женской субкультур эпохи викингов совпадают. Эволюция начинается с появления немногих, различных по происхождению типов; интенсивность типологических поисков нарастает к середине IX в., определяется ведущая группа типов, которая даст наиболее многочисленные варианты. В течение следующих ста лет (с 850 по 950-е годы) формируется основной фонд типов, наиболее характерных для эпохи викингов и получивших самое широкое распространение. Боковые линии одна за другой прекращаются. Во второй половине X в. число и разнообразие типов резко сокращается, а в начале XI в. эволюция этой категории украшений исчерпана и завершена. Единый ритм развития связывает в основном надстроечные сферы культуры викингов: базис ее остается практически неизменным (орудия труда, тип селитьбы, домостроительство), качественные изменения если и происходят (появление виков, магнатских усадеб, домов треллеборгского типа), то сравнительно редко, и совпадают с важными общими рубежами внутри эпохи викингов. В то же время синфазность изменений, особенно — на уровне относительно независимых друг от друга мужской и женской субкультур (оружие — украшения), свидетельствуют о том, что в основе этого развития — изменения в общественной системе. Материальная основа этого развития, связывающая в единое целое мужскую и женскую субкультуры, оружейное и ювелирное ремесло, кораблестроение, динамику градостроительного роста и социальной эволюции виков, представлена особой категорией древностей эпохи викингов — кладами серебра. Драгоценный металл — сырьевая база ювелирного ремесла, средство обращения в торговле, военная добыча, основное мерило социально-политических расчетов (межродовых платежей, судебных штрафов, государственных податей). Вместе с тем клады позволяют судить и о более глубоких процессах накопления, обращения, распределения ценностей, а следовательно, раскрывают едва ли не стержневые линии развития, общественное распределение созданного в течение IX-XI вв. экономического потенциала скандинавского общества. Суммарное количество кладов эпохи викингов в Скандинавских странах (известное сейчас) приближается к 1000 находок; примерно половика из них приходится на долю о. Готланд, вдвое меньше — на остальной территории Швеции [401, с 443.]; четвертая часть от общего количества кладов найдена в Дании и Норвегии, при этом датских кладов — вдвое больше. 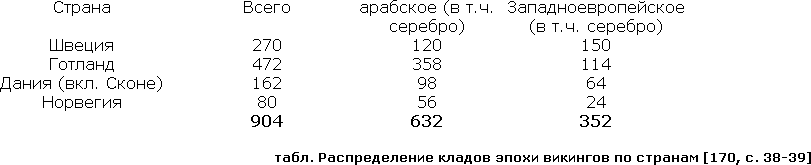 Вес и состав кладов эпохи викингов изменяется в пределах от нескольких дирхемов (до 20 г серебра) до 8-10 кг (2-3 тыс. монет). Самые ранние клады Готланда, появляющиеся в первый период обращения дирхема (770-833 гг., по Янину — Фасмеру), невелики по размеру, состоят из арабского серебра с небольшой примесью сасанидской монеты [397]. Во второй половине IX в. (особенно после 860-х годов) количество и размер кладов резко увеличивается, появляются сокровища, насчитывающие свыше тысячи монет "(№ 391, 422, 457, по Стенбергеру); увеличение «серебряного потока» несомненно, связано с развитием отношений между скандинавами и восточноевропейскими народами [171, с. 69-70]. На рубеже IX-X вв. в кладах вместе с арабским серебром появляются характерные восточноевропейские вещи, (гривны глазовского типа, известные от Прикамья до Финляндии) [401, с. 446]. Вес кладов возрастает, достигая во второй половине X в. 7-8 кг. В кладах Дании IX в. (как и в погребениях Бирки) с арабскими дирхемами сочетается небольшое количество франкских, фризских, реже — английских монет; основную массу серебра составляет, однако, восточное. Византийские монеты в кладах X в. (на Готланде — около 400 и в Швеции — 30) свидетельствуют о возрастающей роли «Пути из варяг в греки». Во второй половине X в. количество арабского серебра, поступающего в Европу, резко сокращается [249, с. 129-130]. Этот спад компенсировался увеличением количества западноевропейской монеты, вовлекавшейся в обращение. В 964-969 гг. начинается разработка Раммельсбергских серебряных рудников в Гарце [170, с. 41, 53-54]. Место арабских дирхемов в денежной Системе Севера занимают германские денарии. В самом конце X в. наряду с немецким начинает интенсивно поступать английское серебро, взимавшееся в качестве «датских денег». Английские и германские монеты преобладают в кладах, зарытых после 1000 г. [378, с. 142-143]. В кладах южной Скандинавии, Сконе эта переориентация «серебряного потока» проявилась особенно резко: кладов 960-970 гг. здесь нет вовсе, но с 980-х годов их количество вновь возрастает, достигая максимума к 1040-м годам; затем начинается плавный спад, до середины XII в. [326, с. 39-44]. Наряду с монетами в кладах содержатся металлические вещи, лом, слитки драгоценного металла, часто в виде колец — baugar, служивших основной мерой платежа (отсюда — baugamenn — родичи, располагающие преимущественным правом на получение виры, или baugr Денежное обращение в североевропейской системе на протяжении трех столетий оставалось стабильным. Скандинавские страны выступали в основном импортерами серебра. Первые опыты местной чеканки монет в виках фиксируются около 825 г.; однако привозное серебро, видимо, подрывало жизнеспособность местной валюты. Выпуск ее возобновляется лишь после 950-х годов [358, с. 247]. Первые устойчивые монетные серии, которые можно рассматривать как начало стабильной государственной чеканки, в Норвегии появляются при Олаве Трюггвассоне (995-1000 гг.), в Дании — при Свейне Вилобородом (995-1014 гг.), в Швеции — при Олаве Шетконунге (995-1020 гг.), но здесь выпуск монеты прерывается в середине XI в. [170, с. 20]. В основном потребность в серебре удовлетворялась за счет поступлений извне. Исследованиями последних лет установлена взаимосвязь «волн серебряного импорта» с известиями о походах и войнах викингов как на Западе, так и на Востоке: количество западноевропейских монет в Бирке изменяется в зависимости от интенсивности нападений норманнов на Англию и Францию [379, с. 862-868], в поступлениях арабского серебра в тот же центр выявляются колебания, совпадающие с сообщениями о набегах «русов» 860-945 гг. на берега Закаспия, а данные об участии в этих набегах варягов подтверждаются и другими, как письменными, так и археологическими источниками [112, с. 191-194; 117, с. 149-163]. Разумеется, это не исключает как чисто торгового характера ряда скандинавских предприятий за рубежом, так и (главным образом) дальнейшего движения серебра во внутреннем и международном обращении [225, с. 16-21]. Однако для определения социальной природы «движения викингов» и места этого движения в общественном перевороте IX-XI вв. констатация теснейшей связи между набегами норманнов и поступлением значительной массы материальных ценностей на Север имеет принципиальное значение. Несомненно, походы викингов стали важнейшим не только социальным, но и в прямом смысле слова — экономическим фактором, они обеспечили концентрацию (в сравнительно короткие исторические сроки) такого, количества новых, созданных за пределами скандинавской экономики, материальных ресурсов и средств, которое невозможно было бы получить ни за счет развития торговли, ни — ремесла, ни — аграрной деятельности; и которые, при этом стимулировали интенсификацию всех перечисленных сфер экономики и создавали качественно новые возможности формирования общественных и политических структур. Общее количество привозного серебра в IX-XI вв., сохранившееся до наших дней в обнаруженных кладах эпохи викингов, исчисляется более чем 160 тыс. серебряных монет (см. их распределение в таблице). 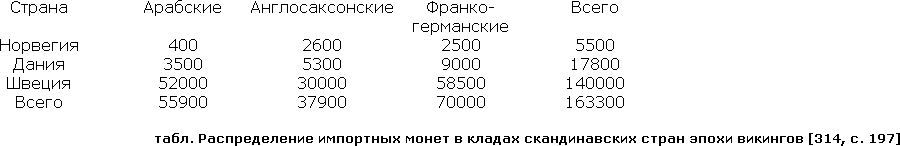 Общее количество серебряных монет фиксирует нижнюю границу объема поступивших на Север ценностей. Золото, судя по письменным памятникам, игравшее важную роль, археологически почти не представлено: известна лишь одна золотая гривна эпохи викингов (Фьёлкестад, Сконе); в кладе из Эриксторпа (Эстеръётланд) найдено 7 золотых браслетов и 1 золотая круглая фибула, и это — едва ли не крупнейший клад золотых вещей IX-XI вв. [401, с. 450]. Вероятно, большое количество золота было изъято в ближайшие к эпохе викингов столетия (может быть, в самом конце ее) в виде платежей, выкупов, даней и пр. Следует учесть и то, что сферы обращения золота и серебра несколько различались — значительная часть золотых изделий оказывалась за пределами той общественной среды, которой в основном принадлежали зарытые в землю клады серебра. Учитывая необходимость основанных на этих допущениях поправок и опираясь на совмещение археологических, нумизматических и письменных данных, можно попытаться, с определенной мерой условности, оценить те изменения в экономическом потенциале общества эпохи викингов, которые произошли в результате импорта драгоценного металла. Значительную часть среди «ископаемого монетного серебра» составляют английские монеты. Их число можно округленно определить в 40000, если к скандинавским находкам присоединить 1600 монет из кладов и погребений Прибалтики и Древней Руси, попавших сюда через скандинавские страны [170, с. 109]. Не вызывает сомнений прямая связь основной части объема этого монетного серебра с Данегельдом. Суммы английских выплат викингам известны, начиная с 991 г. и до правления Канута Великого, когда «датские деньги» превратились в налог, взимаемый на содержание королевской армии и флота (в основном, видимо, они оседали в Англии). Сорок тысяч английских монет из кладов XI в. примерно эквивалентны общему количеству серебра, полученному с 991 по 1016 г. и исчисляемому в фунтах (409 г =2 марки по 204,7 г): 991 г. 22 тыс. 994 г. 16 тыс. 1002 г. 24 тыс. 1007 г. 36 тыс. 1012 г. 48 тыс. 1016 г. 80 тыс. сумма — 226 тыс. фунтов = 452 тыс. марок серебра Пропорция 450 тыс. марок : 40 тыс. монет позволяет примерно определить суммарное количество всего серебра, репрезентативную выборку от которого представляют осевшие в кладах монеты. Следует учесть при этом, что дирхем почти в три раза тяжелее западного денария, т.е. 56 тыс. арабских монет (а это число без особого риска можно округлить до 60 тыс.) представляют в кладах такое количество реально поступившего в обращение серебра, которому эквивалентны были бы 180 тыс. западноевропейских. Пропорция 450 : 40 = X1 : 180 = X2 : 70 позволяет определить сумму — 3220 тыс. марок серебра. Эта масса драгоценного металла составляет лишь часть серебра, поступившего в обращение в IX-XI вв. Серебряный лом и вещи, по подсчетам Б.Хорд, составляют в кладах эпохи викингов от 3% в начале X в. до 100% в начале XI вв. Среднее количество серебра, представленного вещами и ломом, как минимум, было равно массе, вычисленной по монетным находкам; вытеснение монет ломом и вещами сохраняет на протяжении ста лет постепенный и равномерный характер [326, с. 129-130]. Следовательно, полученную сумму нужно по меньшей мере удвоить. Общее количество поступившего в обращение на протяжении эпохи викингов серебра можно определить примерно в 7 млн. марок. Эти 7 млн. марок серебра более или менее равномерно были распределены с 793 по 1066 г. между примерно девятью поколениями скандинавских викингов (если опираться на разработанную по данным письменных источников периодизацию походов на Западе), т.е. на каждом этапе экспансии норманнов в скандинавские страны поступало в среднем около 800 тыс. марок серебра. Если это количество распределялось непосредственно между участниками походов, то даже принимая во внимание предельно возможное число вооруженных норманнов (около 70 тыс.), средняя сумма составляет 10 марок серебра. И даже статистически среднее количество серебра «на душу населения» (которое для эпохи викингов определяется максимум в 1,5 млн. человек) оказывается вполне ощутимым — 0,5 марки (100-102 г серебра), или, если перевести их в ходовую арабскую валюту, примерно 35-40 дирхемов на человека — вот своего рода «прибавочная стоимость», создавшаяся в результате походов викингов. В социальной практике, конечно, распределение не приближалось к подобной пропорции, ограничиваясь прежде всего слоем реальных участников походов и их семей. Экономический потенциал, создаваемый этими поступлениями, можно представить по данным письменных источников. Марка серебра — стандартная цена рабыни на рынках виков: «Возьми себе любую из одиннадцати, и заплати за нее одну марку серебра» [Сага о людях из Лаксдаля, 12]. В циркумбалтийском регионе действовала довольно устойчивая шкала цен, определявшая соотношения основных товаров [327, с. 229-231]. 0,5 — 0,75 марки серебра = среднего качества меч 1 марка серебра = 1 рабыня = 2 коровы = 4 копья 1,5 марки серебра = 1 раб = 1 (2) лошади = 10 свиней Даже при статистически условном распределении захваченного викингами серебра покупательная способность бондов ощутимо повышалась. Не случайно, видимо, на Готланде, в наиболее «крестьянской» из областей преобладают мелкие клады — те самые считанные дирхемы, на которые можно было купить корову, несколько свиней и пр. В то же время становилась возможной концентрация в одних руках сумм до 10-12 марок, обеспечивавших, в принципе, годовое содержание воина-профессионала. Стоимость такого содержания, как доказал в специальном исследовании М.Н.Федоров, оставалась стабильной. В обществах с экономикой, основанной на ручном труде, будь то Римская империя времен Августа или государство Аббасидов в IX-X вв., содержание квалифицированного воина требовало примерно одинаковых расходов (месячное жалование аббасидских конников — 80 дирхемов в месяц) [224, с. 79]. При этом жизненный уровень базировался на сопоставимых основаниях. Цены на скот в Средиземноморье и на Севере оказываются близкими (если приравнять 1 марку серебра к 70 дирхемам, а 1 византийскую номисму к 16 дирхемам); в северном регионе по крайней мере некоторые продукты питания были дешевле, чем на юге (таблица внизу). Поступавшее серебро делало возможными многоступенчатые торговые операции. При этом наиболее значительными были перепады цен на «живой товар», а структурно определяющее место в торговом обращении занимала работорговля, дававшая наибольшие прибыли [144, с. 140]. 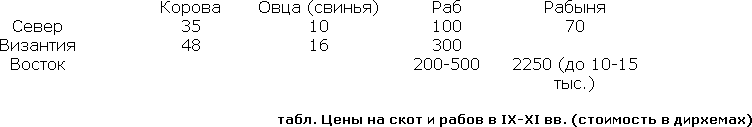 Персонаж «Саги о людях из Лаксдаля» Гилли из Гардов, которому принадлежит цитированная реплика, располагал потенциальным капиталом минимум в 30 тыс. дирхемов (он вез на продажу 12 рабынь). С этим эпизодом перекликается замечание Ибн-Фадлана, посетившего факторию «русов» на берегу Волги и описавшего большие дома, в которых помещалось по 10-12 купцов с наложницами, «и у каждого скамья, на которой он сидит, и с ним девушка, восторг для купцов...» (Ибн-Фадлан, 210-а). Пленницы из северных земель ценились особенно высоко: как отмечал известный востоковед A.Мец, «белая рабыня, совершенно ничему не обученная» могла быть продана за 10-15 тыс. дирхемов, т.е. в 200 раз дороже первоначальной цены. Даже если варяжскому купцу доставалась лишь часть этой прибыли, она, вероятно, оправдывала все расходы на дальнее и опасное путешествие. Эти доходы здесь же, на восточных рынках обращались в экзотические товары. Они стоили дорого: византийская «паволока» — от 10 до 50 солидов (т.е. до 800 дирхемов), 10 локтей роскошной восточной ткани — до 600 дирхемов [99, с. 114-117; 224, с. 78]. Однако количество средств, поступившее на Север в результате набегов и походов викингов и условно исчисляемое в 7 млн. марок, что можно приравнять к 50 млн. дирхемов (или же 150 млн. западноевропейских денариев), создавало стабильные условия для участия скандинавов в трансконтинентальном движении товаров. Лишь в самых общих чертах можно реконструировать дальнейшую судьбу этого, созданного в течение IX-XI вв., экономического потенциала, обеспечивавшего каждому поколению скандинавов дополнительные средства в 800 тыс. марок серебра, или по полмарки на душу населения. В норвежском дружинном уставе XIII в. H Эти средства выглядят сравнительно скромными: древнерусский дружинник XII в. получал 200 гривен серебра, сумму, равную 50 северным маркам [НПЛ, с. 103-104]. Но и эти достаточно скудные ресурсы для строительства феодальной общественной структуры могли быть получены прежде всего в результате длительного перераспределения материальных ценностей, сосредоточенных в скандинавских странах в течение эпохи викингов. Количество серебра в 800 тыс. марок, поступавшее на Север в течение деятельности одного поколения, исходя из тарификации «Хирдскры» позволяло, в принципе, обеспечить ежегодный доход примерно для 300-400 лендрманов с дружинами. 800 тыс. марок: 25-30 лет деятельности одного поколения: 100 марок феодальной ренты — 320 феодалов х 40 дружинников = 12800 человек. В пределах 12-15 тыс. человек можно приблизительно определить численность собственно феодального класса, в пользу которого в XI-XII вв. были перераспределены общественные средства. Конечно, использовались не только внешние, полученные викингами, но и внутренние ресурсы. Тем не менее реконструированное распределение представляет собой простейшую модель перехода от одной общественной структуры к другой, от общества состоявшего из 60-70 тыс. свободных полноправных воинов-домохозяев, участников тингов, сотоварищей-фелаги викингских дружин и торговых компаний — к иерархической структуре трех феодальных государств, политическая, а в значительной мере и экономическая власть в которой принадлежала иерархии, состоявшей из дружинников-хускарлов, лендрманов— королевских вассалов, для обозначения которых норвежские источники иногда пользуются заимствованным термином greifi — Graf [47, с. 137], и возглавлявшейся королем. Сопоставляя полученную условную численность феодального класса Скандинавии XII-XIII вв. (12-15 тыс., в том числе до 400 лендрманов) с данными о численности народного военного ополчения — ледунга (охватывавшего все свободное, полноправное вооруженное население, т.е. для IX-XI вв. — всех потенциальных участников походов викингов), мы можем уточнить соотношение феодальных сил в скандинавских странах. Ледунг в Дании исчислялся в 30-40 тыс. человек, в Норвегии и Швеции он был примерно равным по численности (12-13 тыс. и 11-12 тыс. человек). Суммируя имеющиеся данные, мы получим следующую структуру вооруженных сил и общественной стратификации, сложившейся в течение IX-XIII вв. 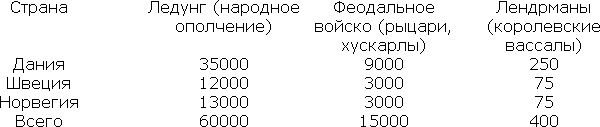 табл. Структура вооруженных сил и общественной стратификации скандинавских стран в период раннего феодализма (реконструкция) При, всей условности реконструкции, численность господствующего класса определяется в пределах, близких к устанавливаемым по письменным источникам и соотносимых с археологическими показателями (предельная емкость «лагерей викингов» — королевских крепостей в Дании). Совокупность данных о социальной динамике в Скандинавии IX-XIII вв. свидетельствует о подлинно формационном значении походов викингов и связанных с ними изменений, происшедших в объеме и распределении материальных ценностей, структуре вооруженных сил, общественном строе. Эпоха викингов во всем ее своеобразии, была закономерной и единственной реализованной конкретной формой перехода скандинавских стран к классовому, феодальному обществу, а «серебро викингов» — одним из мощных факторов этого по существу своему революционного перехода. Динамику перераспределения материальных ценностей в процессе феодального преобразования скандинавского общества можно сейчас представить лишь в общих чертах. Если учесть, что по социодемографическим данным при населении в 1-1,5 млн. человек в ледунг призывался примерно 1 из 4 взрослых бондов, то «показатель феодальной экспроприации» в Скандинавии определяется отношением: 15 тыс. рыцарей: 60-70 тыс. ополченцев: 250-300 тыс. бондов = 1 : 16 или 1 : 20. Следовательно, полтора-два десятка бондов должны были поступиться определенной частью своего благосостояния, чтобы обеспечить статус одного члена феодальной иерархии. Примем это условное отношение за некий «коэффициент социальной стратификации» Ks (Ks = 1 : 20 = 0,05). Значительно более детальное и основанное также на данных монетных кладов исследование процесса социальной стратификации и роли в этом процессе движения серебра в Дании эпохи викингов проведено недавно К.Рандсборгом [378, с. 143-149]. Введенный им «показатель социальной стратификации» Ss основывается на объективных характеристиках археологического материала (вес, количество, топография кладов серебра) и позволяет оценить относительную динамику социальной стратификация отдельных областей Данил. Согласно этому показателю, например, о. Борнхольм (датский аналог шведскому Готланду) в IX-XI вв. выступает как небольшое, о своем роде демократическое племенное княжество с архаичным укладом, равномерным распределением богатств, слабой стратификацией и отсутствием признаков феодальной государственности. Сравнение его показателя Ss с показателями соседних, более развитых провинций, таких, как Сконе или Зеландия, дает отношение, близкое к нашему условному коэффициенту Ks = SsБорнх. : SsЗел. = 0,21 : 2,38 ~ 0,01. Динамика социального развития Зеландии в сравнении с Южной Ютландией, где возник центр складывающегося «государства еллингской династии», дает иное отношение Ks = SsЗел. : SsЮ.ютл. = 2,38 : 8,72 ~ 0,3. В пределах между этими условными показателями (0,01 < 0,05 < 0,3) размещается некий сложный, далеко не во всех своих подробностях доступный реконструкции механизм перемещения материальных ценностей и организации социальных сил. Действие его было неравномерным, не только в разных скандинавских странах (в Дании, видимо, наиболее динамичным, в Швеции — наиболее медленным, по крайней мере во второй половине X-XI вв.), но даже в разных областях одного складывающегося государства: где-то практически приближавшимся к нулю, консервируя демократическую общественную структуру, где-то — на два порядка превышавшим этот минимальный показатель, форсируя ломку архаичных структур и приближая их к средневековым общеевропейским нормам. Суть этого механизма в том, что он обеспечивал постепенную и необратимую концентрацию средств, изымая излишки ресурсов, в среднем по Скандинавии, у 500-600 бондов с их семействами, чтобы сосредоточить эти средства в распоряжении 1 лендрмана с 40 дружинниками. Культура викингов по мере того, как происходило это перераспределение, теряла не только материальную, но и социальную базу, обрекалась на упадок и деградацию. Исчезала, размывалась, расслаивалась та своеобразная, переходная общественная среда, которая в IX-XI вв. выступала основным заказчиком и потребителем новых форм материальной культуры. Перераспределение материальных средств привело к перестройке культурных норм, и бесспорные проявления этого процесса фиксируются на исходе эпохи викингов уже в середине XI в. В недрах социальной среды, создававшей материальные и культурные предпосылки для нового строя, «образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т.д.», писал Энгельс в «Анти-Дюринге» [2, с. 293]. Кристаллизация этого класса в Скандинавии, проходившая поэтапно в течение эпохи викингов, в теснейшей связи с викингами как общественной средой, привела к уникальной в европейских условиях сохранности духовного наследия этой переходной эпохи. Древнесеверная поэзия и литература, «Эдда», драпы и висы скальдов, саги, сложившиеся в XII-XIII вв. в единый, структурно организованный фонд, позволяют дополнить анализ материальных и социальных условий реконструкцией основных процессов в духовной жизни эпохи викингов. 7. Духовная культура К памятникам духовной культуры эпохи викингов относится значительная часть готландских так называемых поминальных камней, или «камней-картин» (bildstenar), стел-писаниц, покрытых низкорельефными изображениями, в древности раскрашенными; их известно около 300 [352; 401, с. 342]. Обычай воздвигать bautastenar (поминальные камни в точном смысле слова, необработанные стелы из узких высоких гранитных блоков) известен по крайней мере с первых веков нашей эры. В V — начале VI в. на смену им на Готланде, не без влияния ирландской культуры, появляются стелы-писаницы с классически строгим оформлением, прямоугольных очертаний (со слегка вогнутыми вертикальными сторонами). На внешней поверхности стелы, оконтуренной узкой рельефной рамкой, размещались раскрашенные изображения: обычно это — солярные символы (сегнерово колесо и прочее) в центральной части; ладьи — внизу; изображения полуфантастических «небесных животных», а иногда — героев в ритуально-боевых позах, в верхней, реже — в нижней части стелы. Круг этих образов охватывает различные пласты первобытной духовной культуры, уходя корнями в древнейшую охотничью магию и тотемистические представления (небесные звери, священные олени), основные образы связаны с раннеземледельческими «религиями плодородия», в Европе сложившимися в энеолите, на Севере — в эпоху бронзы [160, с. 14]. Наряду со строгой системой древних образов (пару небесных оленей дублируют близнецы-герои, солнце и ладья образуют ось симметрии и пр.) складывается устойчивая композиция стел с вертикальным зонированием (низ — ладья путешествующая, быть может, из мира людей в загробный мир; середина — солнце, озаряющее мир людей; верх — астральное пространство, небо), повторяющим структуру «мирового древа», ясеня Иггдрасиль, своего рода «моделью» которого и были стелы [168, с. 148-165]. Около 700 г., в конце вендельского периода на Готланде появляются стелы грибовидной формы (возможно, упрощённо воспроизводящие британские каменные кресты), четко расчлененные на 2-6 ярусов, которые плотно заполнены разнообразными изображениями, по технике и композиции напоминающими изображения на коврах и декоративных тканях (для этой эпохи зафиксированных, в частности. Находками в Усеберге) [401, с. 402]. Эти композиции подчинены определенной логике. Наиболее распространенный и, видимо, значимый мотив — изображение парусного корабля, наполненного вооруженными воинами. Шумели весла железо звенело гремели щиты викинги плыли Мчалась стремительно стая ладей несла дружину в открытое море Парусный корабль викингов, вытеснивший древнюю солярную ладью, совершает свое эпическое путешествие, возможно, тоже в загробный мир. На некоторых камнях (Бруа) он представляет собой центральное изображение надгробного памятника, и воинов всего — двое-трое, словно эпическая пара Сигурд — Регин: Кого это мчат Ревиля кони по высоким валам по бурному морю? Паруса копи пеной покрыты морских скакунов ветер не сдержит Это с Сигурдом мы на деревьях моря ветер попутный и нам и смерти волны встают выше бортов ныряют ладьи кто нас окликнул? Путешествие, как на камне из Бруа, завершается в «верхнем мире», на небесах, в обители асов, где воина, въезжающего верхом на коне, встречает валькирия с протянутым кубком: Клену тинга кольчуг даю я напиток исполненный силы и славы великой В нем песни волшбы и руны целящие заклятья благие и радости руны Приведенные стихотворные параллели из песен «Эдды», безусловно, произвольны. Нет никаких оснований рассматривать большинство известных изображений на стелах как прямые иллюстрации тех или иных эддических песен. Однако такие иллюстрации, вернее говоря, точные соответствия все-таки есть. Наиболее известная из них — на камне из Ардре (Ardre, VIII), где среди нескольких явно сюжетных композиций по крайней мере одна поддается расшифровке: кузница мифического чудо-мастера Вёлунда, плененного конунгом Нидудом. Изготовив железные крылья, Вёлунд заманил к себе в кузницу детей конунга, обесчестил его дочь и обезглавил сыновей. Железная птица, девушка в длинном платье и тела убитых юношей изображены возле здания кузницы, с полным набором кузнечных орудий; видимо, после того, как Вёлунд Головы прочь отрезал обоим и под меха ноги их сунул из черепов чаши он сделал вковал в серебро послал их Нидуду Вёлунд смеясь поднялся на воздух Бёдвильд рыдая остров покинула скорбела о милом отца страшилась Эпические мотивы, опознаваемые и на других стелах, играли, однако, вспомогательную роль, выступая, видимо, в качестве своего рода «кеннингов», метафорических фигур, как и в поэзии, обогащавших основное повествование о жизни, смерти и посмертной славе героя (лица, которому посвящен памятник). Всадник под «знаком бесконечности» (заимствованным из христианской символики) — главный герой готландских стел, как на камне из Лилльбьорс: Ехать пора мне по алой дороге на бледном коне по воздушной тропе Путь мой направлю на запад от неба прежде чем Сальгофнир героев разбудит Вальхалла, где петух Одина Сальгофнир сторожит покой павших в битвах героев-эйнхериев — цель пути, запечатленного на поминальных камнях. Ее иногда изображали в виде чертога с высоким куполом (так же она выглядит на раннем, IX в., руническом камне из Спарлёза в Швеции, где есть изображенные в иной по сравнению с готландской манере и корабль викингов, и всадник, разнообразные чудовища и птицы; мир образов поминальных стел не был явлением локально готландским). Вальхалла, валькирия, восьминогий конь Одина — Слейпнир, реже — орлы, или вороны Одина закрепляют содержательный центр композиций, принадлежащий мифологическому пласту. Сцепы битв, погребальных процессий, обрядов вместе с эпическими «сценами-кеннингами» образуют как бы цепь связующих звеньев между кораблем, начинающим погребальное путешествие (а может быть, и предшествующий ему морской поход), и чертогами асов — его конечной целью. В ткань этого, основного, повествования о жизни, смерти и посмертной славе героя-воина вплетаются иногда и другие мифологические мотивы; в некоторых образах можно угадать не только «вспомогательный персонал» Асгарда (валькирий), но и самих асов. Третий ярус верхней, «небесной» зоны камня из Стура Хаммарс открывается изображением, в котором видят Одина, висящего на дереве, во время его мистического испытания-жертвы, ради постижения тайны рун: Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей пронзенный копьем посвященный Одину в жертву себе же на дереве том чьи корни сокрыты в недрах неведомых Впрочем, это может быть и сцена жертвоприношения, воспроизводящего эддический миф. Как и «Троица» на камне из Санда — то ли Один, Тор и Фрейр, то ли жрецы с их атрибутами (копьем, молотом, серпом); на стеле, одной из поздних (XI в.) есть руническая надпись с именами Родвиск, Фарбьёрн, Гунбьюрн. Важен при этом сам факт соединения на поздних готландских стелах двух знаковых систем — изобразительной и рунической, которые до конца эпохи викингов в островной культуре Готланда сосуществовали и не пересекались. Изобразительные образы и руны в равной мере связаны со становлением и развитием древнесеверного мифа и эпоса, если рассматривать их в широком скандинавском контексте. Как и ранние готландские изображения, руны возникли в архаических глубинах германских культур [316], в эпоху германо-греко-римских контактов, возможно, в Северном Причерноморье периода готского владычества (II-IV вв. н.э.). Старший рунический алфавит, из 24 знаков, был в общегерманском употреблении со II по VII в.; к эпохе викингов в Скандинавии формируется сокращенный, 16-значный, алфавит — футарк. Каждый знак имел имя собственное, а футарк в целом, разделенный на три разряда — роды (aettir): Freys aett, Hagal aett, Tys aett, это — заклинание, своего рода миниатюрная, ритмически организованная мифологическая поэма или песнь: Freyr (f Hagl, nau Tyr, bjarkan, ma В этом стихотворном заклинании переплетены скальдическим тмесисом собственные имена асов (Фрейр, Хагаль, Тюр), имена нарицательные богов и чудовищ (ас, туре), отвлеченные понятия — иногда, видимо, персонифицированные (год-урожай, нужда), обожествляемые природные объекты (солнце), социальные термины (муж, закон). Каждой из рун была свойственна синкретичность функций: Руны победы Коль ты к ней стремишься вырежи их на мечи рукояти и дважды пометь именем Тюра! Руническая письменность в представлении скандинавов эпохи викингов была могущественным средством воздействия на окружающий мир и пользоваться ею мог не каждый. Эгиль Скаллагримссон предупреждал, вырезав благотворное заклинание: Рун не должен резать тот кто в них не смыслит в непонятных знаках каждый может сбиться Ему же принадлежит вредоносное заклинание, вырезанное рунами: «Он взял орешниковую жердь и взобрался с ней на скалистый мыс, обращенный к материку. Эгиль взял лошадиный череп и насадил его на жердь. Потом он произнес заклятье, говоря: — Я воздвигаю здесь эту жердь и посылаю проклятие конунгу Эйрику и его жене Гуннхильд. — Он повернул лошадиный череп в сторону материка. — Я посылаю проклятие духам, которые населяют эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не изгонят конунга Эйрика и Гуннхильд из Норвегии. — Потом он всадил жердь в расщелину скалы и оставил ее там. Он повернул лошадиный череп в сторону материка, а на жерди рунами вырезал сказанное им заклятие» Текст этого заклинания, как показал норвежский рунолог Магнус Ульсен, сохранен в двух висах Эгиля, переданных в той же саге: Да изгонят гада на годы строги боги у меня отнявша нудой ношу судна! Грозный вы на гнусного гнев на святотатца рушьте, Тор, и края ас Фрейр и Ньёрд скорее! Гонит меня ныне князь поправший право братобойцу буйством блазнит баба злая верит он наветам ветру речи вредной смолоду умел я месть вершить по чести Записанные рунами, эти висы содержали бы каждая по 72 знака, т.е. трижды общее количество рун старшего рунического алфавита; в них, таким образом выдержаны магические числовые соотношения [369, с. 235-239; 214, с. 145]. Тем же магическим отношениям (16 или 24) подчинена композиция ранних произведений звериного стиля — золотых воротничковых гривен VI в. из Мене, Оллеберга, Фьерестадена [231, с. 17]. И семантика, и форма рун непосредственно связаны с мифологией. Руны — дар Одина, завоеванный им ценой тяжкого мистического испытания, когда, пронзенный копьем и повешенный на ветвях мирового древа, совершал он шаманское странствие по трем мирам: Никто не питал никто не поил меня взирал я на землю поднял я руны стеная их поднял и с дерева рухнул Стал созревать я и знанья множить расти процветая слово от слова слово рождало дело от дела дело рождало Девять песен узнал я от сына Бёльторна Бестли отца меду отведал великолепного что в Одрерир налит Руны найдешь и постигнешь знаки сильнейшие знаки крепчайшие знаки Хрофт их окрасил а создали боги и Один их вырезал Далее в «Речах Высокого» излагаются заклинания, предваряемые вопросами, охватывающими все ступени языческой ритуальной практики (включая искусство пользоваться рунами): Умеешь ли резать? Умеешь разгадывать? Умеешь окрасить? Умеешь ли спрашивать? Умеешь молиться и жертвы готовить? Умеешь раздать? Умеешь заклать? Миф и воплощающий этот миф ритуал — вот первичная сфера применения рунической письменности. Но примерно в то же время, когда после эпохи Великого переселения народов в древнесеверной культуре формируется наряду с начальным, мифическим, новый, эпический пласт, когда на грани вендельского периода и эпохи викингов, на готландских стелах к мифологическим образам присоединяются образы эпические, руны, как и изобразительные образы, становятся средством выражения эпоса. Древнейшая из шведских надписей на рунических камнях эпохи викингов, датированная IX в., на камне из Рек в Эстеръётланде, содержит верифицированный текст из 800 знаков [337, с. 13; 338, с. 130]. В надписи, вырезанной в память Вемода, сына Барина, помещена строфа, представляющая собой отрывок из эпической песни — примерно так же, как изобразительные сюжеты из того же эпоса помещались на готландских стелах: Правил Тьодрек дерзновенный вождь морских воев брега Рейд-моря сидит снаряженный на скакуне своём щит раскрашенный защитник Мерингов Теодорих Великий, король остготов в Италии, отождествлен здесь с правителем Рейдготаланда — эпической страны готов, находившейся по «Хеймскрингле», где-то по соседству с владениями свейских Инглингов [Сага об Инглингах, 18]. В песнях «Старшей Эдды» соответствий этому отрывку или даже кругу сюжетов нет: в эпоху викингов, по-видимому, северный эпос был значительно богаче, и не исчерпывался песнями, записанными в Исландии в XII-XIII вв. Верифицированные рунические тексты [295] позволяют судить о движении от мифа к эпосу, а затем — к поэтической проекции мифо-эпических норм на окружающую жизнь, движения, которое дало впоследствии высшее из достижений эпохи — поэзию скальдов. Сами по себе рунические камни выражали одну из ведущих этих норм — представление о «посмертной славе», or Личность, вычленяющаяся из родового коллектива и в тоже время своей индивидуальной судьбой составляющая часть судьбы этого коллектива, — вот следующий, после мифических богов и эпических героев, ряд персонажей, следующий уровень образов древнесеверной поэзии. Рунические камни запечатлели начальную фазу этого процесса, в надписях типа Хёгбю (Эстеръёталанд) [140, с. 121]: Добрый карл Гулли имел пять сынов пал на Фюри храбрый дренг Асмунд скончался Ассур на Востоке в Греках был в Хольме убит Хальвдан Кари — в Дунди, и умер Буи В десяти строках этой висы суммирована судьба целого рода, точнее семейства викингов первой половины XI в., странствовавших от Греции (Византии) до Британии (Дунди, в Шотландии), сражавшихся в Скандинавии (р. Фюри — в Швеции, или о. Фюри в Лимфьорде) и на Руси (Хольм — Хольмгард, Новгород); лишь один из сыновей умер дома, и отец — «добрый, могучий бонд» пережил их всех. Рунические камни и готландские стелы, строго синхронные эпохе викингов, задают как бы систему координат, для ориентации в языческом мировоззрении, запечатленном в более поздних письменных памятниках — «Старшей Эдде», поэзии скальдов, «Младшей Эдде», сагах [135, с. 171-189]. Целостность этого мировоззрения определялась прежде всего представлением о времени: неподвижном, точнее — циклическом, как круговорот времен года, постоянно возвращающемся к неким исходным ситуациям, запечатленным в мифе и регулярно воспроизводящимся в ритуале. При таком «круговращающемся» времени пространство обретало строго центрическую организацию. Обитаемому, освоенному миру людей и культуры противостоял окружающий хаос, мир враждебных и диких природных сил. Мидгарду, «Тому, что в пределах ограды» — Утгард, «За оградой». Мифологическое пространство моделировалось по реальной земледельческой усадьбе, окруженной враждебным миром стихий. Вертикальную ось этого мира закреплял помещавшийся где-то над Мидгардом Асгард — «Мир, или усадьба, богов». Мировое Древо — ясень Иггдрасиль воплощал эту ось, соединяя земные и небесные, реальный и потусторонний миры как в вертикальной, так и в горизонтальной проекции: вершина его поднималась в небеса, а корни расходились в периферийные и подземные миры, населенные хтоническими чудовищами, великанами, мертвецами. Эти силы, в образе Мирового Змея Ермундганда, ограничивают мир, Heimr, в пространстве, а Мировой Зверь, волк Фенрир, таящийся до поры в одном из миров, когда-то положит предел Вселенной и во времени. Но до тех пор, в постоянно возобновляющемся противоборстве с враждебными чудовищами, в извечной борьбе за сокровища труда, культуры, мудрости мир богов и людей защищает младшее племя божественных существ — род асов во главе с Одином. Высшие существа скандинавской мифологии обозначались словом god, с исходным значением «благо» (сохраненным и в русск. — у-год-ный, вы-год-а, по-год-а). Наиболее древнее и устойчивое представление об этом «благе» выражалось формулой fri Top (thorr — «гром»), северный громовержец, воинственный и мощный защитник богов и людей от великанов и чудовищ, воплощает стадиально более поздние функции. Первоначально он, видимо, занимал высшее место в северном пантеоне (об этом, в частности, свидетельствует обилие имен на Тор-, типа Торстейн, Торбьерн, Торольв и пр.). В эпоху викингов, однако, этот образ несколько снижается: Тор, как и Локи (негативный двойник Одина, «отрицательный вариант культурного героя»), выступает объектом ритуального осмеяния [136, с. 152, 154]. Эти деформации связаны с кристаллизацией центрального образа скандинавского пантеона, Одина, верховного бога викингов. O Личность конституируется в нормах. Человеческое существование, сама жизнь Мидгарда, воспринимавшегося как отражение, двойник Асгарда, гарантирована лишь при сохранении стойкой связи Асгард — Мидгард. Она обеспечивалась, во-первых, регулярным воспроизведением мифов — в ритуалах; во-вторых, обязанностью людей следовать этическим и социальным нормам, сформулированным асами, что позволяло в какой-то мере отождествить людей и асов и распространить на Мидгард эффективность тех действий, которыми асы обороняли Асгард от враждебных сил. Так реализовывалось «благо», носителями которого были боги, go Этические нормы излагаются в ряде мифологических песен «Эдды», прежде всего в «Речах Высокого» [H «Речи Высокого», по крайней мере в начальной своей части (строфы 1-95, 103), относятся к древнейшему слою в «Эдде» [210, с. 669]. Эта часть представляет собою свод житейских правил. Для оценки времени се формирования показательно практически полное отсутствие указаний на родовые отношения: круг общения ограничен гостем, другом, мужем (-ами), девой (женщиной). Лишь однажды помянута месть, но и то, скорее, в личном, нежели в родовом, контексте: Злые поступки злыми зови мсти за злое немедля Родовые отношения, в социальной практике сохранявшие значение вплоть до XII-XIII вв., здесь словно бы «вынесены за скобки». Основное внимание уделено нормам личного поведения героя, оказавшегося за пределами родовых связей, в «парцеллизованной» среде, где с любой стороны можно ожидать внезапного враждебного удара: Прежде чем в дом войдешь, все выходы ты осмотри, ты огляди ибо как знать в этом жилище недругов нет ли Вытянув шею орел озирает древнее море Так смотрит муж в чуждой толпе защиты не знающий Субъект этих норм в морально-этическом плане индивидуализирован едва ли ни так же предельно, как в плане мифологическом — Один: Пусть невелик твой дом, но твой он и ты в нем владыка Кровью исходит сердце у тех кто просит подачки Твоей лишь душе ведомо то что в сердце твоем Худшей на свете хвори не знаю чем духа томленье Основные гарантии существования — собственная сила, отвага, оружие, но эти гарантии можно расширить, привлекая к себе друзей: Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружья Ибо как знать когда на пути копье пригодится Оружье друзьям и одежду дари то тешит их взоры Друзей одаряя ты дружбу крепишь коль судьба благосклонна Социальное одиночество преодолимо путем установления новых отношений, с позиций норм «Речей Высокого» приблизительно равноценных родовым: Щедрые, смелые счастливы в жизни заботы не знают А трус, тот всегда спасаться готов как скупец — от подарка Подарок большой не всюду пригоден он может быть малым Неполный кувшин половина краюхи мне добыли друга Отношения f Брата убийце коль встречен он будет горящему дому коню слишком резвому конь захромает куда он годится всему, что назвал я верить не надо! И лишь в конечной, важнейшей норме, определяющей смысл и ценность прожитой человеком жизни, можно распознать традиционные родовые представления о судьбе рода и человека, о посмертной славе и памяти в цепи поколений: Гибнут стада родня умирает и смертен ты сам Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных Гибнут стада родня умирает и смертен ты сам Но знаю одно что вечно бессмертно: умершего слава В этой максиме, собственно, и род отвергается, как и материальные богатства: подлинную ценность представляет только d «Слава», R Способность человека следовать высшим этическим нормам выверялась и реализовывалась в его следовании своей Судьбе. Этот жесткий закон распространялся не только на людей, но и на асов. Эддическая мифология пронизана знанием конечной судьбы, грядущей Гибели богов. Песни «Эдды» открываются «Прорицанием вёльвы», полностью охватывающим судьбы мира—от его сотворения до его конца и последующего воскресения. «Прорицание вёльвы» (V «Прорицание вёльвы»— наиболее полная панорама скандинавского языческого мироздания, охватывающая сразу все его аспекты — временной, пространственный и, так сказать, социально-структурный. Последний дан в характеристиках основных групп мифических существ (включая людей — от первой пары, Аска и Эмблы, йотунов «рано рожденных», асов, карликов, норн и ванов, валькирий и хтонических чудовищ, живых мертвецов и будущих эйнхериев), и — это главное в содержании песни — мир отождествляется с судьбами асов, отображенными в высшие, роковые мгновенья: Гарм лает громко у Гнипахеллира привязь порвется вырвется волк Она много ведает я много предвижу судьбы славных и сильных богов Сотворение мира, война асов с ванами, похищение Одином священного меда, распря с Локи — все это лишь экспозиция главных событий, и страшный час пророчества — это худшее из времён: Брат будет биться с братом насмерть нарушат сестричи нравы рода мерзко в мире нет меры блуду век мечей, век секир теперь треснут щиты век бурь, век волков пред света концом ни один человек не щадит другого Как и в «Речах Высокого», но с отчетливо негативной оценкой, картина распада родовых устоев — время сотрясения мироздания: Иггдрасиль дрогнул ясень высокий вой в древнем древе на воле йотун В страшном сражении один за другим гибнут асы, и вместе с ними — сражающиеся против них чудовища. Битва завершается картиной глобальной, космического масштаба, огненной катастрофы: Черным стало Солнце суша тонет в море светлые звезды сыплются с неба пар жарко пышет и жизни питатель пламя до самого поднялось неба Смысл апокалипсического финала, однако, не в окончательном уничтожении мира, а в свершении «судеб славных и сильных богов»: после гибели асов Видит она как вышла снова земля из моря в зеленой обнове бурлит ручей парит орел видит сверху и выловит рыбу Время обратимо; гибель асов — «это не формальная, а, так сказать, этическая предопределенность» [211, с. 53]. Критерий ordromr сохраняет свою действенность: Собираются асы и о Поясе мира помнят асы и о данных Одином на Идавеллир мощном судят о прошлых деяниях древних рунах Представление о посмертной славе в памяти поколений дополнялось представлением о ниспосланной свыше, созданной асами общественной организации людей, выраженным в «Песни о Риге», также одной из древнейших в «Эдде» [51, с. 159-175]. «Песнь о Риге» (Rigsthula) повествует, как, посетив последовательно три родительские пары, ас Риг стал родоначальником рабов, свободных и знати. Каждая семейная чета получила от Рига некие наставления, видимо тождественные «Речам Высокого»: Риг им советы умел преподать Дифференциация социально-этических норм подкреплена различиями внешнего вида и образа жизни. Уродливые и грязные потомки раба-Трэля удобряли поля строили тыны торф добывали кормили свиней коз стерегли Семейство свободных крестьян-общинников отличается сравнительным благообразием, хорошей добротной одеждой. Патроним сословия, Карл, родился «рыжий, румяный, с глазами живыми». Подрастая, он быков приручал и сохи им ладил строил дома возводил сараи делал повозки и землю пахал Знатные одеты в цветные одежды с металлическими украшениями, в доме у них — оружие, ценная утварь, на столе — дичь и вино. Родившийся от Рига маленький Ярл щитом потрясал в воздух метал сплетал тетивы луки он гнул стрелы точил дротик и копья скакал на коне натравливал псов махал он мечом плавал искусно Затем ему были открыты тайны рун; в знаниях и искусствах Ярла превзошел его сын, юный Кон, Konungr —"конунг". Самое главное, что фиксирует «Песнь о Риге», это момент преобразования одной общественной системы в другую. Мифические «родительские пары», в свою очередь, связаны между собою отношениями родства (Прадед и Прабабка — Дед и Бабка — Отец и Мать); но на их потомков эти отношения словно бы не распространяются. Ai + Edda = trael Afi + Amma = Karl Fadir + M Естественная генеалогическая структура (прадед — дед — отец) преобразуется в социально стратифицированную. Миф эпохи викингов запечатлел процесс распада родовых морально-этических ценностей. Ранняя его фаза отражена в «Песни о Риге». Кодекс норм в «Речах Высокого» относится, по существу, к следующей ступени, когда личность и ее судьба, а также оценка этой судьбы обществом становятся самой значимой из ценностей. «Прорицание вёльвы» обобщает представление о всемогуществе, неотвратимости и неизбежности Судьбы, которой подвластны даже боги. Героическое последнее сражение асов словно моделирует идеальную норму поведения, которой в конечном счете должен следовать каждый из людей этой эпохи, когда родовые связи распадаются, время, кольцеобразно струившееся, обретает линейную направленность и люди, заключающие длинную цепь поколений, вступают в «век мечей, век секир, век бурь, век волков». Заданная мифической судьбой асов модель поведения получила реализацию в качестве идеальной нормы в следующем за мифом творческом пласте скандинавской духовной культуры — героическом эпосе. Героические песни «Эдды» группируются в три эпических цикла, переплетающихся и сохранившихся в разной степени завершенности: «готско-гуннский» (связанный с событиями 375г.), «бургундский» (или, правильнее, «бургундско-готско-гуннский», отразивший гибель бургундского королевства в 435 г., битву на Каталаунских полях 451 г.) и «северный», основанный на событиях, которые условно можно поместить между 450-550 (в некоторых случаях, возможно, даже 650) гг.: гаутско-свейские войны, предания о Вёльсунгах, Скьёльдунгах, Инглингах. Эпическое время, таким образом, обладает важным качеством, отличающим его от мифологического: оно — исторически конкретно, а потому и неповторимо. Если миф регулярно «возвращается», повторяясь в ритуале, асы совершают свои подвиги и судьбы вне связи со временем человеческих поколений, то эпическое время «было», в фиксированном отдаленном прошлом. Это прошлое увязывается, с одной стороны, с настоящим (с действительностью эпохи викингов), а с другой стороны — с мифологическим временем (асами) с помощью генеалогических перечней, куда так или иначе оказываются включенными в норме все эпические герои и где они выступают потомками асов и предками конунгов IX-X вв. Правда, связь эта — сугубо формальна. По существу своему эпическое время — дискретно и неподвижно. Это — некая начальная точка отсчета «векторного» времени, идеальное время предков, совершивших неповторимые подвиги и оставивших потомкам высшие эталоны человеческого поведения. Во всех случаях, когда эпические персонажи действуют (а не являются просто звеном в генеалогической цепи), они воспринимаются как современники друг друга. Эпическое время внутренне едино, за пределами жизни героя сказания последовательность событий не имеет значения: это события не исторические, а эпические. Так же с одной стороны, конкретно, физически (географически) вполне реально, а с другой — условно, сакрально эпическое пространство. Мир северных сказаний простирался от Упсалы на севере до границы Римской империи на юге, от Рейна на западе до Дона па востоке. Он насыщен географическими приметами (названия рек, местностей, областей и стран) [210, с. 682-706]. В эпосе каждый слушатель песен знал, где примерно находится эпическая Земля готов — Рейдготаланд, отделенная пограничным лесом Мюрквид, реками Данном и Даном (Днепром, Доном-Дунаем) с «речными селеньями» Архейм, от Земли гуннов — Хуналанд, а с другой стороны примыкающая к знакомым островам и фьордам Балтики и Северного моря. «Скандинавский элемент», составляющий периферию хорогра-фии эпоса, связан с важнейшими культовыми местами, центральными святилищами, такими, как Упсала, Лейре, Еллинг (Ялангрсхейд). Фраккланд, Валланд и другие земли могли быть окрестностью действия: Лежат по всем странам нити судьбы Оксиологически выделенные рубежи — «поля Гнитахейд», «лес Мюрквид», «горы Ессур» — локализуются в Средней, и прежде всего в Восточной Европе. Северное Причерноморье, где германцы соприкоснулись с греко-римским миром, дотянулись до источников «вальского золота» и получили представление о великолепии и мощи восточноримского императора (Кьяра, кесаря), освоили письменность (магический дар Одина!), познакомились с основами христианства и, наконец, пережили страшный, сокрушительный разгром, неотразимый удар с Востока, инерция которого вытолкнула готов далеко на Запад, за Пиренеи и Альпы [220, с. 227-262], — восточноевропейское пространство обрело в германском эпическом сознании заповедный, сакральный характер. Фольклорное освоение этого эпического пространства началось, видимо, еще во времена Черняховской культуры, которую отождествляют с Готской державой в Причерноморье, сложившейся между 170-270 гг. и разгромленной гуннами в 375 г. н.э. [103, с. 63, 76; 222, с. 18-22]. Готские сказания и песни легли в основу сочинения вестготского историка Аблавия (около 475 г.), фрагменты которого вошли в состав «Гетики» Иордана [320, с. 35-109]. В частности, к Аблавию, по-видимому, восходит описание похода Германариха, когда он «domuerat Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Ataul, Navego, Biibegenas, Coldas» [lord., 116-117]. Приведенное стандартное чтение этого одного из наиболее «темных мест» Иордана — не единственно возможное [200, с. 265, прим. 367]. Если принять давно предлагавшиеся конъектуры, прежде всего образовании на In-, в которых можно видеть не этно-, а топо— или гидронимы: in Aunxis — «на Свири, в Посвирье» (финск. Aunxmaa), in Abroncas (неясный восточноевропейский гидроним?), — и если допустить в протографе замену « m» на « n», in Miscaris — «в Мещере», то вместе с определимыми этнонимами текст этот превращается в латинский перевод ритмично организованной готской висы, повествующей о походах эпического конунга Ермунрекка, который 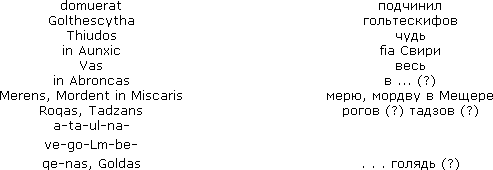 Если реконструируемая виса — фрагмент «готского эпоса», то в числе первых его героев — племена Восточной Европы (отмеченные на тех же местах вдоль Волжского пути, где 500 лет спустя их застала «Повесть временных лет»). Поэтому не случайно одна из древнейших героических песен «Эдды» — «Речи Хамдира» — посвящена событиям, происходившим в Восточной Европе в 375 г., войне Германариха с вождями росомонов Аммиусом н Сарусом (в «Эдде» — Хамдир и Серли), мстившими за смерть своей сестры Сунильды (Сванхильд). Предание о братьях-вождях и их сестре (svan — «лебедь») перекликается со славянской легендой о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбедь (в «Эдде» есть и третий брат — Эрп [186, с. 86]). Это — едва ли не древнейший, но не единственный случай контаминации готского, скандинавского и восточнославянского эпоса. Межплеменной конфликт, однако, в «готских песнях», сохранившихся в «Эдде», заслонен иным, для развития эпоса более актуальным — внутриродовым. Здесь впервые обозначена центральная, движущая стержневая тема эпоса — роковое братоубийство, предопределяющее трагические судьбы всех последующих поколений (подобно тому, как это произойдет потом в роду Инглингов, после сожжения Висбура, или на Руси, после убийства Бориса и Глеба) [50, с. 77-78; 123, с. 64-65]. Брат будет биться нарушат сестричи с братом насмерть нравы рода Хамдир и Сёрли убивают Эрпа и потому гибнут сами. Еще больший эпический масштаб тема братоубийственной распри обретает в «Песне о Хлёде», одной из древнейших в «Эдде». Не вошедшая в основной корпус, она, однако, имеет надежную историческую подоснову, и близкие параллели в памятниках, синхронных эпохе викингов: англосаксонской поэме X в. «Видсид», и у Саксона Грамматика [210, с. 705]. Хлёд (Лотерус, Лотар) — полугот, полугунн, вступает в борьбу за готское наследие с конунгом готов Ангантюром (англ. Онгентеов). Судьба наследия решается в страшном сражении (его сопоставляют с битвой на Каталаунских полях): "…гунны обратились в бегство, а готы убивали их… Ангантюр пошел тогда на поле бою посмотреть на убитых и нашел своего брата Хлёда. Тогда он сказал: Сокровищ тебе немало сулил я немало добра мог бы ты выбрать битву начав не получил ты ни светлых колец ни земель, ни богатства Проклятье на нас: тебя я убил! То навеки запомнят: зол норн приговор" Братоубийство в борьбе за власть — предельное выражение распада родовых отношений. Совершившись впервые в готском «эпическом пространстве», оно повторится затем в сакральной округе языческой Упсалы и, наконец, в усобицах родичей-христиан во вполне реальном, государственно-организованном пространстве Скандинавии «королевских саг». Эпос дает модель этих ситуаций и нравственного отношения к ним, пронизанного глубокими и мощными противоречиями. Центральный, «бургундский цикл», подчинивший себе все другие, могучий ствол общегерманского эпоса о Нибелунгах, представляет собою повествование о жизни и смерти идеального героя, Сигурда. Но при всей идеальности, едва ли не космической значимости подвигов (включающих змееборчество, доступное разве что Тору), Сигурд в конечном счете оказывается в глубоком конфликте с традиционной системой ценностей. Коварно убитый родичами, владелец клада Нифлунгов погиб не в бою, — следовательно, ему недоступен нормативный удел героев, пребывающих среди павших в битвах воинов-эйнхериев, в Вальхалле Одина [168, с. 163]. Отдано золото выкуп немалый за меня получил ты сын твой несчастлив смерть вам обоим выкуп сулит Хуже еще я это знаю родичей ссоры конунгам новым еще не рожденным они суждены Роковая предопределенность индивидуальных судеб, мотивированная разрушением традиционных родовых устоев — лейтмотив эпоса. В «распрямляющемся времени», выплескивающемся «веком мечей и секир» человеческая ценность определяется способностью мужественно идти навстречу грядущей судьбе, смерти — высшему испытанию героя. Так, преступившие нормы родового права убийцы Сигурда, зная неизбежность расплаты и мрачную направленность собственной судьбы (такой же, в общем-то, какова и судьба асов, и всего мира в этот «век волков»), отправляются на верную смерть к гуннскому конунгу Атли: Пусть волки наследье отнимут у Нифлунгов серые звери коль я останусь! Пусть мирные хижины станут добычей белых медведей коль я не поеду! Простились люди с конунгом, плача когда уезжал он из гуннского дома Сказал тогда юный наследник Хёгни — Путь свой вершите как дух вам велит! Умереть с честью — заслужить or Мы стойко бились на трупах врагов Мы как орлы на сучьях древесных! Со славой умрем сегодня иль завтра никто не избегнет норн приговора! Героизм мужчины — идеального воина, трактуемого как предельно индивидуализированная (хотя и схематизированная) личность, уравновешивается и дополняется героизмом эпической женщины, совершающей высшие подвиги в защиту старого, родового права, осуществляющей месть либо побуждающей к ней следующие поколения [208, с. 78-81]. «Бургундский цикл» (предания о Сигурде, Брюнхильд, Гудрун, Гуннаре, Хёгни и Атли) диктовал идеальные образцы человеческого поведения в мире распадающихся родовых устоев и высвобождения индивидуальных сил, тем не менее подчиненных некоей неумолимой логике «гибели мира», перестройки мироздания. Третий, «северный цикл» эпических преданий представляет собою словно бы равнодействующую между эпически осмысленной исторической реальностью эпохи Великого переселения народов («готский цикл») и нормативной идеализацией этой реальности («бургундский цикл»), между реальным общественным конфликтом (родовые и внеродовые ценности) и идеальным способом его разрешения (героическое следование неумолимой судьбе). Это соотношение близко социальной действительности эпохи викингов: между родом и эпически идеализированной личностью появляется новая социальная сила, внеродовой коллектив, дружина. В песнях «скандинавского цикла» отчетливее всего запечатлелись походы, отношения, ценностные ориентации викингов. Дружина судила витязем станет доброе время настало для воинов Вождь приехал битву покинув лук благородный герою вручил он Начал расти вяз благородный на радость друзьям радости свет щедро давал он верной дружине жаркое золото кровью добытое Опираясь на эту новую силу, эпический герой смело вмешивается в родовые конфликты: Не дал конунг выкупа родичам не заплатил за убийство виры Молвил что ждет бури великой копий железных и ярости Одина Личная судьба героя — вождя дружины — драматизирована не менее, нежели судьбы героев «цикла Сигурда»: по существу, ему тоже нет места в Вальхалле, и вновь и вновь повторяются судьбы эпических мужей и жен, Хельги и Сигрун: Чудится мне или настал света конец? Мертвые скачут! что же вы шпорите ваших коней разве дано вам домой воротиться? Нет, не почудилось все что ты видишь и не настал света конец Хотя мы и шпорим наших коней но не дано нам домой воротиться Сперва поцелую конунга мертвого а ты сними доспех окровавленный иней покрыл волосы Хельги смерти роса на теле у конунга руки как лед у зятя Хёгни как мне, конунг тебя исцелить? Ехать пора мне по алой дороге на бледном коне по воздушной тропе ...Говорят, что Хельги и Сигрун родились вновь. Он звался тогда Хельги Хаддингьяскати, а она — Кара, дочь Хальвдана, как об этом рассказывается в Песни о Каре. Возрождение совершается прежде всего в потомках героев. В «скандинавском цикле» эпических преданий получили оформление королевские генеалогии Инглингов, Ильвингов, Вёльсунгов, Скьёльдунгов, Скильвингов, Аудлингов. «Песнь о Хюндле», одна из наиболее поздних в «Эдде», — образец такой родословной, уравнивающей h Стихотворство скальдов (sk Скальдическая поэзия строго локализована во времени: неизвестны скальды, творившие до эпохи викингов. Браги Боддасон, первый скальд, названный по имени, был современником свейского конунга Бьёрна (который в 830 г. принимал Ансгара в Бирке). По преданию, Браги была создана первая скальдическая dr Видимо, начальные формы скальдики служили своего рода «мостиком» между эпосом и современностью, способом актуализации эпических идеалов. Они возникли в виде мифо-эпических родословных (та же форма, что и позднейшие «перечни предков», langfe Уже в этой форме обозначилось качественное различие скальдики и предшествующих жанров: мифо-эпические образы здесь служат лишь критерием or dromr, способом увековечить Славу объекта восхваления, а следовательно, закрепить в сознании современников и потомков благостный, позитивный характер его Судьбы (точно так же, как раздача материальных благ — золота, оружия, дорогих одежд, обмен престижными дарами, были способом реализации этой Судьбы [49, с. 195-216]). Цель скальдической генеалогии — восхваление перед окружающей аудиторией ее современника, который и был главным действующим лицом в конкретной, актуальной ситуации. Для Тьодольва это был конунг Рёгнвальд Достославный, деливший с Хальвданом Черным власть над Вестфольдом. Отрывок «Перечня Инглингов», посвященный непосредственно Рёгнвальду, не сохранился, но скорее всего, именно потому, что отделившись рт генеалогии, он стал жить самостоятельной жизнью в качестве хвалебной песни. Следующий по времени возникновения скальдический жанр стал выражением синкретической связи между социумом, его материальной средой и духовным миром. Генеалогии были, по существу, лишь систематизированным (хотя и актуализированным в конечном звене) пересказом эпоса, уже существовавшего и известного слушателям (для которых, видимо, эстетическое значение имело лишь искусство скальда соединить в целое и «замкнуть» на личность прославляемого — тут же присутствующего и влияющего на дальнейшую судьбу скальда — известные эпические сюжеты). Новой ступенью искусства скальдики стала форма, представлявшая собою творческий акт, производный от обмена дарами, непосредственного перехода из рук в руки материальных ценностей, воплощающих личную судьбу дарителя и требующих взаимности от одариваемого. Это — так называемая «щитовая драпа», хвалебная песнь, посвященная не непосредственно объекту восхваления, а его атрибуту, подарку: дареный щит, богатое престижное оружие (ср. вендельские щиты с орнаментальными золочеными накладками в зверином стиле), требовал реакции в виде стихотворного восхваления — описания дара. — Ничтожнейший из людей! Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь него песнь! Дайте мне коня! Я догоню и убью его!.. ...Тогда Эгиль сложил все же хвалебную песнь, и она начинается так Восхвалить хочу я щит — подарок добрый Славу коня морского щедрый воин в дом мой Слово прислал привета В песнях я искусен пусть услышит каждый песню что сложил я «Щитовая драпа» — прежде всего изложение мифа (изображенного на щите): Ведьмин враг десницей взял тяжелый молот как узрил он рыбу страны все обсевшу Смотрит злобно мерзкий ремень путей ладейных на того кто волоту вежу плеч изувечил В иносказательной, но совершенно прозрачной для восприятия, воспитанного на скандинавской мифологии, манере скальд описывает изображение «рыбной ловли Тора», поймавшего на крючок Мирового Змея Ермундганда: тот заглядывает в лодку, одолженную Тору великаном Хюмиром; скоро йотун и ас поссорятся, и Хюмир получит от Тора страшенный удар кулачищем по голове [Младшая Эдда. Видение Гюльви]. Смысл драпы заключается не в пересказе всем известного предания, а в ритуальном по сути акте мифологизации, который позволяет в чем-то уравнять дарителя (которому посвящена песнь) с персонажем, изобразительно-материально воплощенным в его подарке, Рагнара (полагают, что это легендарный вождь викингов Рагнар Кожаные Штаны) — с Тором, исконным воителем. Скальд искусным «плетением словес» вводил своего героя в строй мифических образов, подтверждая и закрепляя провиденциальную значимость принадлежащих герою, воплощающих его судьбу материально-эстетических ценностей. Развивая и мифологическое, и эпическое начала в направлении, все более индивидуализированном, замкнутом непосредственно на воспринимающего словесный текст заказчика в окружении его дружины, скальдика создала оригинальный, новый ведущий жанр. Основная продукция скальдов — хвалебная песнь, «драпа». Адресованная вождю и его дружине, она приняла особую ритмическую форму, скальдический размер dr Двуголосое хоровое пение на пиру после победоносного сражения, сопряженное с восхвалением богов, раздачей добычи и наград, обильными возлияниями, щедрой едой (напоминающей о неиссякаемом источнике пищи — вепре Сэмхриснире, в Вальхалле), эмоционально и оксиологически закрепляло достигнутое в борьбе с другими дружинами, другими конунгами повышение личного социального статуса вождя и его людей. Эта дружинная культурная традиция не чужда была и военно-феодальной среде Киевской Руси, времен песнетворца Бояна [232, с. 195-200]. Коллективное исполнение, равно как и коллективный, по существу, адрес драпы (дружина отождествляется с вождем, судьба вождя — ее судьба, его слава — ее слава, равно как и воинские деяния), предопределяли содержание хвалебных песен. Они должны были соответствовать не только известному, закрепленному эпической традицией стереотипу: фактическая основа, служившая реализацией этого стереотипа, должна была быть общеизвестной и соответствовать реальным деяниям вождя и его дружины. Скальд не имел права на художественный вымысел — приписать кому-нибудь подвиги, которых он не совершал, победы, которых не одерживал, было в глазах окружающих не восхвалением, а нестерпимой насмешкой [208, с. 102]. Поэтому содержание скальдических песен, подчиненных суровым требованиям своего рода «милитаристского реализма», в общем, однообразно: оно сводится к стереотипным описаниям битв и побед. Эта жесткая норма, однако, обеспечивала и даже делала необходимым совершенствование индивидуального поэтического мастерства. Скальд, мифологизирующий данное конкретное деяние (такое же, в принципе, как множество других подобных воинских деяний) мог считаться мастером, искусно воплотившим «славу» своего заказчика только в том случае, если придал стандартному содержанию неповторимую (и в то же время понятную слушателям, вызывающую стойкий и определенный круг ассоциаций) форму. Соотношение ее с содержанием было примерно таким же свободным (в плане выбора декоративных, формальных средств), как в прикладном искусстве: «Мастера, изготавливавшие усебергскую утварь... не могли проявить себя в выборе темы, в выборе той практической цели, которой их произведение должно было служить. Их изобретательность проявлялась в пышном и замысловатом орнаменте, которым эта утварь покрыта и который не зависит от назначения вещи. Так и скальд был связан определенным содержанием, стереотипными образами, в выборе которых он не мог проявить творческой самостоятельности. Но он мог проявить изобретательность в пышном узоре кеннингов, в замысловатой словесной ткани, хотя и трафаретной по своей внутренней схеме, но допускающей бесчисленные вариации своих элементов» [212, с. 57-58]. Отсюда — изощренная сложность формальных средств: иносказаний (кеннингов, хейти), фразеологии, синтаксиса скальдики [213, с. 77-130]. Правильность, и при этом сложность, вычурность формы, опирающейся па безупречное владение языковым материалом, были в ряду сакральных, магических характеристик скальдической поэзии, обеспечивавших, в глазах окружающих, ее чудодейственную силу, действенность и непреложность romr — «хвалы»; в дальнейшем эта же сложность и законченность формы обусловила точность передачи скальдического наследия в исландской устной и письменной традиции [202, с. 601]. Скальдическая поэзия, уже безусловно индивидуально-авторская в отношении формы (что не распространяется, по крайней мере в наиболее социально значимых жанрах, на содержание), представляла собой особый тип авторства, переходный от неосознанного (мифо-эпического) к осознанному (поэтическому, литературному) творчеству [213, с. 77-84; 212, с. 90-102]. Таким образом, она зафиксировала, прежде всего своей формальной стороной, еще один аспект единого процесса нарастающей индивидуализации общественной деятельности, по существу, — распада изначальных, коллективно-родовых форм и перехода к новым, основанным на иной системе общественных связей; процесса, пронизывающего буквально все стороны жизни Скандинавии эпохи викингов. Этот переход осуществлялся в тесной связи с фондом ценностей, созданных предшествующими этапами общественного развития. Основной элемент формотворчества скальдов, кеннинг, в содержательном отношении—отсылка к сложившейся, . доступной восприятию мифо-эпической системе. Называя своего героя: sverd-Freyr «меча-Фрейр» skjaldar-Baldr «щита-Бальдр» hjalm-Tyr «шлема-Тюр» и другими подобными «приметами», передающими образ мужчины-воина [212, с. 43-44, 59], скальд отсылал слушателей к широкоизвестному кругу мифологических образов. Многоступенчатость кеннингов типа: Heita d dynsae hungrdeyfir — голода-притупитель, где Хейти — эпический «морской конунг» зверь Хейти = корабль блеск (зверя Хейти) корабля = щит звон ((блеска (зверя Хейти) корабля)) щита = битва чайка (((звона ((блеска (зверя Хейти) корабля)) щита))) битвы = ворон Притупитель голода воронов = чаек/битвы звона/щитов блеска/корабля зверя Хейти и центральный герой — воин, утоливший голод воронов трупами убитых им врагов, уравновешен с эпическим конунгом Хейти через сложную цепь промежуточных образов, — эта многоступенчатость подразумевала существование единого мифо-эпического фонда образов, общего для скальда и его аудитории. Судя по обилию иносказаний, включающих мифологические имена, понятия, образы (иной раз известные только из кеннингов или из комментариев к ним Снорри), эта система была значительно шире зафиксированной «Эддой» в XII-XIII вв. В таком случае «Эдда» образует лишь нижний порог наших представлений о подлинном объеме мифо-эпического фонда, сложившегося к началу развития скальдической поэзии, а кеннинги являются своего рода датирующим признаком, позволяющим определить относительную хронологию скальдики и предшествующего ей пласта эддических мифов и преданий (учитывая исчезнувшую часть этого фонда), того, что служило «строительным материалом» для творчества скальдов, было готовым арсеналом образов, имен, отношений. Семантическое богатство формальных средств скальдической поэзии включало данное (актуальное) событие и участвовавших в нем людей, которым был посвящен стихотворный текст («связная речь», bundi Соколу сеч справил я речь на славный лад На лавках палат внимало ей немало мужей правых судей песни моей Именно так Эгиль, оказавшийся в Англии в распоряжении своего лютого врага конунга Эйрика (изгнанного из Норвегии: заклятие подействовало!) и вынужденный ради спасения жизни сложить драпу в честь конунга, должен был учитывать, что в памяти дружинников Эйрика свежи все перипетии недавней битвы со скоттами, описание которой кажется нам стереотипной. Между тем панораму сражения можно было открыть яростным натиском воинов во главе с конунгом только в том случае, если так оно было в действительности: Воины станом стали чеканным сети из стали остры вязали Гневалось в пене поле тюленье блистали раны что стяги бранны Бил, как прибой булатный бой и с круч мечей журчал ручей Гремел кругом кровавый гром но твой шелом шел напролом И завершить сцены битвы описанием перестрелки из луков можно было лишь, если воспеваемое сражение Эйрика в самом деле завершалось таким стрелковым противоборством: Буй-дева снова длить бой готова звенят подковы коня морского Жала из стали жадно ристали со струн летели ястребы к цели Птиц колких сила покой пронзила напряг лук жилу ждет волк поживу Как навь не бьется князь не сдается в дугу лук гнется стальной гул вьется Князь туг лук брал пчел рой в бой слал волков на свал Эйрик скликал Лишь выполнив эти требования, выразив конкретику битвы, скальд мог позволить себе переход к эпически-общим местам, с использованием общедоступных мифологических образов. И ворон в очи бил выти волчьей шла Хель меж пашен орлиных брашен Взлетали враны на тел курганы кои попраны кольями раны Волк в рану впился и ал вал взвился несытой пасти достало сласти Гьяльпин конь скакал его глад пропал Эйрик скликал волков на свал Дружинно-княжеская среда была наиболее авторитетным, но не единственным заказчиком, определявшим ход развития скальдической поэзии. Социальный адрес скальдики не исчерпывался королевской усадьбой и ее пиршественным залом. Обращает на себя внимание обилие и детальность кеннингов, связанных с образом корабля, для которых «скальды применяли подчас такую детализированную техническую терминологию, что разобраться в ней было бы невозможно без специального исследования древнеисландских морских терминов» [212, с. 44]. Корабль наряду с образом героизированного мужчины (и женщины) — один из центральных элементов скальдического мира. Эта роль его позволяет связать изобразительный язык скальдики с образным строем готландских стел, где корабль становится центром композиций в VIII в. В эпоху викингов корабль — место организации особого, качественно нового уровня социальных связей, нетождественных ни старым, родовым ячейкам, ни формирующейся военно-феодальной иерархии, но полностью равноценных дружине викингов. Судя по сохранившимся в сагах биографиям скальдов, создатели дружинной поэзии теснее всего были связаны именно с викингами как особой общественной средой. Поэтому в скальдике актуализируются не только деяния конунгов и их дружин: актуализируется, переводится из сферы мифо-поэтических пространственно-временных отношений в сферу современной реальности, и обретает вполне самостоятельную поэтическую ценность вся окружающая действительность, включая живых людей, и прежде всего — самого скальда. Мифо-эпические нормы непосредственно проецируются в мир человеческой личности. Происходит не только актуализация, но и, так сказать, персонификация идеальных норм. Они становятся критерием оценки не только аса, эпического героя, конунга, но и любого включенного в эту систему ценностей человека. Отсюда, в частности, те содержательные противоречия, которые заключаются в кеннингах типа: bryniu mei au hodda beidir applaus — «сокровищ-собиратель несчастливый» («несчастливый человек») Индивидуализация кеннинга расходится с реальными обстоятельствами и характеристиками персонажа. Это, однако, не смущает ни автора, ни адресата-заказчика, так как достигается главная цель: включение индивидуальной характеристики в общепоэтическую систему, а главным в этой системе, ее собственно содержанием (не в плане информативной нагрузки, а как способ включения данного явления в структуру духовных ценностей), была сама скальдическая форма [207; с. 188]. Именно универсальность скальдики как способа приобщения широкого круга людей и явлений к миру высших духовных ценностей обусловила подлинную народность скальдического искусства (при всей его формальной изощренности). Ценность и значимость сложной поэтической формы, как показал один из лучших переводчиков поэзии скальдов на русский язык С.В.Петров, вовсе не чужда фольклору других народов. Этот вывод подтверждается тем обстоятельством, что одическая поэзия, хвалебные песни не были жанром, господствующим у скальдов: "Имеется гораздо больше вис, сложенных совсем по иным поводам — боевая схватка скальда с врагами, поединок скальда (маленькие оды самому себе, своей доблести и ратному уменью), встреча с другом, с женщиной, благодарность за угощение, за приют, хула на противника (перечень ситуаций, очень близкий «Речам Высокого» — Г.Л.)... Именно тематическая конкретность, фактографичность таких вис и делала их народными..., речь шла о подлинных людях... о подлинных событиях в точных координатах времени и места [167, с. 180]. Скальдика — качественная ступень в движении сознания от мифического времени-пространства, через эпическое—к реальному, от аса, через героя — к живой человеческой личности. Это движение, видимо, было возможно только в условиях распада одних общественных структур и формирования новых. Длительность и насыщенность этого перехода в Скандинавии обусловлены резким расширением внешних контактов, изобилием новых ресурсов и стимулов извне. Они аккумулировались прежде всего в специфической, конституировавшей себя как особый социум, дружинно-викингской среде. При ее переходном, промежуточном социальном характере, в жизни конкретного человека (скажем, того же скальда, проводившего в викинге долгие годы, а нередко и заканчивавшего там свой жизненный путь), она существовала как устойчивая общность, со своими ценностными нормами и формами культуры. Длительность всех этих переходных процессов сама по себе была условием, сделавшим возможной кристаллизацию новых духовных ценностей в устойчивых, а в силу этой устойчивости кажущихся уникальными, формах. Немаловажное значение для их дальнейшего сохранения имела, конечно, и социальная специфика Исландии. Другие общества, где подобный переход проходил более динамично, не сохранили аналогичных культурных явлений. Личность, вышедшая из сети родоплеменных отношений, сравнительно быстро включалась в иные виды жестких социальных связей — сословных, корпоративных, религиозных, подчинявших ее групповым морально-политическим и социально-психологическим стереотипам [49, с. 271]. Эпоха викингов создала особые формы социальных связей; незавершенность делала их более гибкими, но в силу общественного значения движения викингов, на определенном этапе развития созданные им культурные нормы стали духовной доминантой своего времени, а в определенной мере и важным рубежом в общечеловеческом культурно-историческом процессе. Уравнивая актуальные человеческие ценности с мифо-эпическими, скальдика сделала возможным постепенное смещение оксиологического акцента в сторону реальной человеческой личности. От фиксации авторства скальда, как посредника между реальной жизнью и реальностью мифа и эпоса — к фиксации жизненных обстоятельств этого скальда и, наконец, — к фиксации его внутреннего мира. Проблески интереса к интимным человеческим переживаниям заметны уже в эддическом эпосе, даже в синхронных формах этого эпоса редакциях эддического мифа: — что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре? Ночь длинна две ночи длиннее как вытерплю три! Часто казался мне месяц короче чем ночи предбрачные В скальдике субъективный элемент становится основой самостоятельного жанра, который называют lausar visur — «отдельные висы», «стихи к случаю»; таково подавляющее большинство дошедших до нас скальдических вис [213, с. 119-123]. То, что называют иногда «лирикой скальдов», безусловно, стадиально отлично от позднейшей лирической поэзии, даже таких ранних ее форм, как миннезанг [212, с. 70-89]. Тем не менее скальдика запечатлела широкий спектр интимных человеческих переживаний, вплоть до неразделенной любви, воспетой в «Висах радости» Харальда Сурового. Посвященная Елизавете Ярославне песнь (неоднократно переводившаяся в XVIII-XX вв. на русский язык), возможно, отразилась и в древнерусском фольклоре: былину о Соловье Будимировиче, заморском королевиче-песеннике, и его сватовстве к киевской княжне [183, с. 262] давно сопоставляют с висами конунга-викинга, воспевающими «Деву из Руси», «Герду в Гардах» (Ger Внимание, а следовательно, общественная эстетическая ценность поэтической рефлексии на обстоятельства жизни и субъективные переживания скальда, проявились в тщательном сохранении множества «отдельных вис». На их основе во многом строится сюжетная канва родовых саг, героями которых нередко выступают выдающиеся скальды (Эгиль, Гуннлауг Змеиный Язык, Бьёрн Арнгейрссон, Халльфред Трудный Скальд, Кормак Эгмуидарсон и др.). Так же, как героические песни и драпы стали источниками «королевских саг», так и на «отдельных висах» основаны связные повествования, сопрягающие судьбу героя-скальда с судьбами родовых коллективов, королевских династий, стран. «Сага об Эгиле», посвященная самому талантливому скальду эпохи викингов, строится как биография знатного исландца, предка Снорри Стурлусона, и одновременно — история вражды рода Эгиля с норвежскими конунгами (восходящей ко временам «отнятия одаля» Харальдом Прекрасноволосым), драматически воздействовавшей на судьбу самого скальда. При этом все «поворотные моменты» сюжета закреплены висами, не только передающими суть событий, но иной раз, казалось бы, внешне с ними никак не связанными. Это — подлинно «лирические реплики», запечатлевшие переживания скальда. Так, вырезав свое стихотворное проклятие норвежским конунгам и покидая страну, Эгиль произносит, глядя на бушующее море: Ветер хранящий рубит море лезвием бури волны сечет крутые дорогу коня морского Ветер в одеждах снежных рвет как пила зубцами крылья морского лебедя грудь ему раздирая В конце жизни одряхлевший, слепой скальд жалуется: У огня, ослепший я дрожу. Должна ты женщина, простить мне глаз моих несчастье Англии владыке я певал, бывало слушал он охотно золотом платил мне Наконец, предельное выражение внутреннего переживания, восприятия медленно останавливающейся жизни, знаменитое langt tykki m Еле ползёт время. Я стар и одинок Не защитит конунг меня Пятки мои как две вдовы Холодно им Едва ли можно назвать другого человека в Европе середины X столетия, чье душевное состояние мы могли бы воспринять с такой же полнотой, как эту предсмертную жалобу [167, с. 182]. Вершина скальдической поэзии — «Утрата сыновей» — S Весь мой корень вскоре сгинет буря клонит клены рода Разве рад кто прах родимый должен из дому долу несть? Вспомяну про конец отца-матери венцом словесным Украшу прах родичей раскрыв врата в тыне зубовном В отчаянье старец бросает вызов морю, обездолившему его: Ран меня ограбила други мои утрачены Разметало род мой море мой забор разбит прибоем Когда б я мести меч мог несть то Пивовар не сдобровал бы Если б достало сил то спорил я бы бранно с братом бури Он воспевает добродетели погибших сыновей, и нормы родовой морали удивительным образом перекликаются здесь, с казалось бы, много более поздними идеалами «Домостроя» и словно бы вне времени простирающимся родительским чувством: Слушался он слова отцова Правда, в обитель богов он был боле, чем чужих речей Мне в дому был подмогой в страдну пору опорой верной дланями взят Друга Людей Ясный, мною взращенный ясень саженец нежный моей жены Горестное старческое одиночество предсмертных вис предугадывается в мрачном отчуждении от окружающего мира: Кой муж был бы мне пособник в драке против вражьей рати? Став осторожен сам на рожон на железный уже не лезу Мне не любо бывать на людях не мило даже их тихомирье... ...Чадо наше ввысь умчалось в чертог воздушный к душам родным Он восстаёт в своем одиночестве против мира и против бога — Одина; и горделиво с ним примиряется, ведь цена мира — поэтический дар: Жил я в ладах с владыкой сечи не знал заботы забыл про беды Нарушил ныне нашу дружбу Телег Приятель Судья Побед Рад я не чтить Брата Вили Главу Богов отвергнуть гордо Но Мимира Друг дал дар мне дивный все несчастья возмещая Гнев и горе отца и глубокое удовлетворение мастера сливаются в стоическом ожидании собственной близкой кончины: Тошно стало! стоит на мысу в обличье страшном Волчья Сестра Все же без жалоб буду ждать по всей охоте Хель прихода Современный читатель, исследователь и переводчик не может не отдать должного лирической исповеди скальда: «Это ли сухая поэзия и тематическая скудность? Да много ли в старинной поэзии найдется плачей, которые были бы экспрессивнее и глубже, нежели плач старика Эгиля?» [167, с. 182]. И при этом, заметим, он создан по строжайшим нормам скальдической поэзии, пронизан ее образами, выдержан в одном из труднейших скальдических размеров — квидухатт. Средства поэзии викингов оказались достаточно ёмкими для передачи глубочайших человеческих переживаний. Поэзия викингов подошла вплотную к задаче художественного воплощения человеческой личности и в лучших своих образцах блестяще эту задачу решила. В конечном счете именно это определяет главный вклад эпохи викингов в фонд общечеловеческих ценностей. Ранние формы устного прозаического творчества, «саги о древних временах», такие, как «Сага о Вёлсунгах», «Сага об Инглингах», «Сага о Скьёльдунгах», в Исландии были записаны (и при этом не все) как раз позднее других, родовых и королевских; однако они засвидетельствованы письменными источниками, близкими эпохе викингов, и возникли, несомненно, за пределами Исландии — в Швеции, Дании, Норвегии; они непосредственно связаны с северным эпосом [209, с. 31-33; 54, с. 91-100]. Функция саги — несколько иная, чем поэзии скальдов. Если скальдика держит в центре внимания личность и окружающий ее мир в данный, актуальный момент времени (лишь формально включая их в мифо-эпическую систему, а по существу она — статична), то сага служит прежде всего способом ориентации современников — в цепи поколений, во времени, все более обретающем линейный характер [209, с. 101-106]. В центре саги — судьба личности; как и в эпосе, она оценивается с позиций строгого следования тем же этическим нормам, на которых основана вся система ценностей культуры эпохи викингов. Но при этом соблюдение норм выступает как гарантия жизни родового коллектива. Высший родовой долг — долг мести; «родовые саги» — это история кровной вражды, где судьба личности сопряжена с судьбой рода, составляет ее часть в чередовании поколений. Прозаический жанр устного народного творчества, сложившийся и развивавшийся в основном уже после эпохи викингов, базировался на ее фундаментальных культурных достижениях, и развивал тенденции, зародившиеся в недрах этой культуры. Именно в рамках этого жанра совершается постепенный переход к новой системе ценностей, отражающей сложение классовой, государственной социальной структуры и постепенное внедрение новой, средневековой феодально-христианской идеологии. Нормы «родовых саг» генерализируются в цикле саг королевских, составивших в конечном счете грандиозное историко-эпическое полотно «Хеймскринглы». Судьба королевского рода Инглингов становится судьбой страны, Норвегии (совершенное в эпические времена отцеубийство предвещает повторяющуюся из поколения в поколение вражду родичей; в этой борьбе поднимется и обретет мученическую кончину сакральный патрон Норвегии, Олав Святой; языческая королевская Слава как воплощение его предопределенной родовыми нормами судьбы осмысливается как небесное Спасение, воплощение предопределяющей божественной воли) [50, с. 60-82]. Христианские ценности в древнесеверной литературе, однако, как и в древнерусской [123, с. 51-52], проецировались непосредственно на местную, языческую по происхождению и характеру культурную основу. Нивелирующего воздействия латино-язычной церковной традиции скандинавская культура раннего средневековья (до XIII в.) избежала. И дело здесь, видимо, не в недостаточной активности западных миссионеров, и даже не только в стойкости культурного фонда, созданного в течение эпохи викингов. На протяжении примерно тысячелетия, с рубежа нашей эры до XI в., Север, как и Восточная, и значительная часть Средней Европы, входил в состав — во многом единого, внутренне сравнительно однородного — мира, противостоявшего римско-греческому и соприкасавшегося с ним вдоль протяженной границы от устья Рейна до устья Дуная и Дона. Процессы, развернувшиеся в этом мире, особенно в конце тысячелетия, в IX-XI вв., нельзя оценить, если не исследовать всей совокупности надрегиональных культурных связей, если не принимать во внимание синхронности, синфазности, взаимной обусловленности экономического, социального, культурного развития всех населявших это обширное пространство народов. Несомненно, не только материальные ценности, но и определенную часть культурного фонда общество викингов получило с Востока, с территорий Древней Руси, при посредстве которой Север связывался с Византией, мир языческого варварства — с миром христианско-феодальных ценностей, опиравшихся на древнюю античную основу. Путь из варяг в греки в известном смысле правильнее рассматривать как «Путь из Грек в Варяги» [186, с. 294]: по крайней мере с III-IV вв., а особенно интенсивно — в IX-XI вв., определенные культурные импульсы распространялись именно в этом направлении — из «Кьярова дома», «Миклагарда» (Великого Города, Константинополя) — через Русь-Гардарики — в столицы северных конунгов. Древняя Русь была не просто зоной посредничества: именно здесь откристаллизовывались, принимали стадиально близкую форму, воспринять которую северное общество было способно, нормы и ценности новой социально-экономической формации. Фонд восточноевропейских образов, сюжетов, мотивов, прослеживающихся уже в самых ранних преданиях скандинавского эпоса, еще более отчетливо выступает в материале саг. Замечательная исследовательница северной «Россики» Е.А.Рыдзевская еще в 1940-х годах выявила следы обширного пласта легенд, сложившихся на Руси, распространенных здесь в варяжской среде, и усвоенных при посредничестве этой среды древнесеверной литературной традицией [189, с. 159-238]. «Гарды» в композиционной структуре «королевских саг» занимают определенное, и достаточно важное, место. Мотивированная конкретными жизненными обстоятельствами героев позиция восточноевропейского пространства не лишена оттенка сакральности, словно развивающего оксиологические акценты «готско-гуннского» эпического пласта. Здесь, на Руси, обычно проходит какой-то ранний этап деятельности конунгов-викингов, королей-миссионеров. Здесь обретают они свое духовное призвание; отсюда начинается пронизанное провиденциальным устремлением, мученическое в конечном счете шествие на Север, к утверждению государственного единства наследственной державы, осененного христианской благодатью. Олав Трюггвассон, Олав Святой и закрепляющий их свершения Харальд Суровый проходят как бы посвящение при дворе великого князя киевского и уходят на Север, провожаемые напутствием Ярослава Мудрого — Ярицлейва скандинавских саг. Устойчивое закрепление этого мотива пребывания «на Востоке, в Гардах», воспринимавшихся как путь к христианским святыням вплоть до XIII в., обязательное включение этого «русского элемента» в повествование, подводившее итог социально-политическому и духовному развитию Скандинавии эпохи викингов, заставляет внимательно проанализировать контекст русско-скандинавских отношений в IX-XI вв., без исследования которых не может быть полной характеристика Скандинавии эпохи викингов. III. Варяги на Руси И Русь оставляет Гаральд за собой, Плывет он размыкивать горе Туда, где арабы с норманнами бой Ведут на земле и па море. 1. Географические представления скандинавов о Восточной Европе Древнесеверная литература (включая рунические надписи и висы скальдов) сохранила заметный и неоднородный пласт восточноевропейской топонимии [138, с. 141-156; 140, с. 197-209; 60, с. 164-170; 62, с. 43-52]. Можно выделить три основные зоны, географические представления о которых различались по своей структуре, что проявилось как в количестве, так и в качестве топо— и этнонимов, сохраненных древнесеверной традицией. Все три покрывались собирательным понятием Austr, Austrl Первая зона, ближайшая к скандинавским странам, включала юго-восточную и восточную Прибалтику и Финляндию; северная оконечность Скандинавского полуострова, Финмаркен, населенный саамами, незаметно соединял эту зону с местами обитания норманнов; с другой стороны, земли «финнов» (саамов, квенов, тавастов, карел) разворачивались nor Пространство этой зоны заполнено, во-первых, наибольшим количеством этнонимов, известных и по другим источникам: карелы, курши, ливы, эсты, земгалы. В некоторых случаях скандинавы знали названия отдельных племенных областей (Вирланд = эст. Вирумаа, Самланд = Самбия? Эрмланд = Вармия?); наконец, ряд имен отражает группировки, позднее неизвестные или исчезнувшие: таковы загадочные kylfingar — «колбяги» русских источников, или refalir —"ревельцы"? [138, с. 154]. Вторая группа названий прибалтийской зоны — морские ориентиры на Балтике: сюда относится известное в рунической письменности название Финского залива H Вторая зона, примыкающая к «прибалтийской» с юго-востока, охватывает территорию Древней Руси и насыщена главным образом названиями городов и рек (последние известны в основном из средневековых исландских географических сочинений). Ближайшие к «прибалтийской зоне» топонимы [141, с. 201] образованы по распространенной скандинавской модели «X-borg»: Aldeigjuborg — Ладога и загадочный Alaborg где-то на севере Новгородской земли (возможно, городище Лопотти на северо-западном берегу Ладожского озера — 265, с. 148-151; 367, с. 102-120). Скандинавы, судя по материалам Старой Ладоги, появляются здесь уже в середине VIII в., т. е. в пределах вендельского периода [95, с. 123-130]. По частоте упоминаний в текстах, повествующих о событиях эпохи викингов, Ладога (Aldeigjuborg) значительно превосходит все остальные восточноевропейские центры вместе взятые. Наиболее значимые топонимы второй «древнерусской зоны» образованы по особой модели « X-gar Е.А.Мельникова выделяет H Для образования названий других древнерусских центров, кроме Новгорода и Киева, модель «X-gar Третья зона, «понтийско-византийская», связана со второй, «древнерусской», именно этой цепочкой точечных названий по Днепру, замыкающейся на Миклагард-Константинополь. Остальные названия этой зоны — неопределенно собирательные. За ними стоят крупные этнополитические образования: Ромейская империя — «Греки, Греция» (Grikland, Grikkjar), Италия — «Страна Лангобардов» (Langbardaland), не вполне ясная «Земля Влахов» (? Bl В «древнерусской» зоне норманны хорошо знали важнейшие географические и политические ориентиры. В то же время структура этого географического пространства — качественно иная, нежели ближайшей к скандинавам и давно знакомой «прибалтийской» зоны, заполненной разнообразными, не связанными между собой этническими группировками балтов и финнов. Показательно, что для древнерусской территории скандинавская традиция не знает ни одного этнонима (хотя ряд прибалтийских племенных названий совпадает с данными «Повести временных лет»). «Гарды», воспринимались не как конгломерат племён, а как монолитное политическое образование, подчиненное власти одного князя, конунга (в восприятии варягов, правда, более связанного с Хольмгардом-Новгородом, чем с Киевом). Перечень важнейших русских центров в скандинавской литературе, в общем, соответствующий летописным характеристикам основных древнерусских «стольных градов» демонстрирует длительную и подробную осведомленность норманнов о политической ситуации на Руси. В то же время показательны и расхождения между той пространственно-политической структурой, которая выступает в скандинавских памятниках, и этногеографией Восточной Европы, какой она представлена в древнерусской письменной традиции. 2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет» Этнонимия ПВЛ уже использовалась как основа для реконструкции процесса восточнославянского этногенеза [229]; источник, однако, остается неисчерпаемым: «Каждое слово Пов. вр. л. представляет проблему, требующую всестороннего рассмотрения» [129, с. 5]. В частности, вводная, недатированная часть текста «Повести временных лет», где дана широкая панорама расселения восточноевропейских народов и событий их ранней истории (от библейского потопа до середины IX в.) содержит богатый материал, позволяющий восстановить определенную этногеографическую систему представлений, выработанную древнерусской книжной традицией в конце X — начале XII в. и последовательно подчиненную взаимосвязанным ценностным категориям [116, с. 103-112]. Вводная часть ПВЛ завершается первым датированным событием, которое по летописи отнесено к 852 г. (правильнее — 842 г., первому году царствования Михаила III Исавра): «Въ лето 6360, индикта 15 день наченшю Михаилу царствовати, начася прозывати Руская земля» [ПВЛ 852 г. — 204, с. 131]. Дата, если принять указанную поправку, оказывается чрезвычайно близкой к известию 838-839 года в знаменитом сообщении Вертинских анналов о посольстве «русов» к византийскому императору Феофилу II, предшественнику Михаила: именно к Феофилу в Константинополь явились некие люди, «которые говорили, что их, то есть их народ, зовут Рос (Rhos — ср. ПВЛ: „нача ся прозывати Руская земля“. — Г. Л.) и которых, как они говорили, царь их, по имени Хакан (Chacanus), отправил к нему ради дружбы» [Памятники, с. 23]. Два известия, хотя и расходящиеся в важных деталях (точное время посольства, правящий кесарь), в не зависимых друг от друга и русском, и западноевропейском источниках фиксируют важнейшее политическое событие: провозглашение, на рубеже 830-х — 840-х годов, нового государства — «Руская земля», принятие главой этого государства титула «хакан», уравнивавшего его в правах и претензиях с главой соседнего Хазарского каганата (именно Феофил помогал хазарам в строительстве Саркела на Дону, крепости, которая могла быть направлена не только против мадьяр, кочевавших в припонтийских степях, но и против нового, враждебного Хазарии государственного образования в Среднем Поднепровье [16, с. 296-300]). Новое государство, судя по его политическим акциям, стремилось заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом Византии. Известие Вертинских анналов — первое свидетельство существования сложившихся славяно-скандинавских отношений: послы «хакана росов» от Феофила прибыли к императору франков; и здесь, в результате тщательного расследования, выяснилось, что эти «росы» были свеями, норманнами: «...император узнал, что они принадлежат к народности шведской» (eos gentis esse Sueonum), что заставило Людовика Благочестивого считать их «скорее, разведчиками... чем искателями дружбы» [Памятники, с. 24]. Напомним, что «варяго-русы» впервые появились в поле зрения франкского императора в начале второго этапа экспансии викингов, накануне самых опустошительных набегов норманнов на страны Западной Европы. 838 год дает нам надежный верхний хронологический рубеж, terminus ante quern, для определения времени формирования географических представлений скандинавов о второй, «древнерусской», зоне Восточной Европы. Если учесть, что на периферии этой зоны, в Ладоге, норманны появились еще около 750 г., то времени оказывается достаточно для взаимного знакомства варяжских воинов-купцов и славянской знати. Как полагает ведущий советский историк древнерусской дипломатии А.Н.Сахаров, в 830-х годах использование киевским князем для ответственного дипломатического поручения варяжских пришельцев было вполне естественным [192, с. 79-81]. Сам факт участия норманнов в качестве послов русского «хакана» (этот титул в обиходе киевских князей удерживался до XII в. [130, с. 195; 16, с. 366; 155, с. 151]) в первых внешнеполитических акциях Древнерусского государства — свидетельство их определенной заинтересованности, а следовательно, и осведомленности в ситуации, сложившейся в Восточной Европе в первой половине IX в. Тем важнее установить соотношение между этнополитической структурой восточноевропейских земель, представленной в скандинавских памятниках, и соответствующей системой представлений в «Повести временных лет». Недатированная часть служит экспозицией дальнейшего, анналистического, изложения ПВЛ. Это — концентрированный итог всей славянской истории, завершившейся образованием Киевского государства, где летописец дал ответ на вопрос «откуду Руская земля стала». Введение ПВЛ обычно рассматривается как своего рода каталог славянских и неславянских племен Восточной Европы, служащий главным образом определению их пространственной локализации. Между тем характеристики, данные «племенам», представляют собой связную и строгую систему оценок и кроме собственно этнонимов и географических указаний охватывают по крайней мере еще четыре аспекта: А — генеалогический (происхождение и способ расселения — миграция, или автохтонное проживание); Б — этнический (языковая принадлежность); В — политический (организация управления); Г — морально-этический (нравы и обычаи). При этом оценки в каждом из аспектов выражены особыми, устойчивыми формулами, с четкой градацией, а «племена» в матрице, построенной по указанным четырем параметрам, занимают строго фиксированную позицию (табл. 10) [116, с. 103-107]. Позицию каждого «племени» можно описать совокупностью четырех признаков: например, поляне = S (А.1, Б.1, В.1, Г.1) = мигранты полной формулы расселения, «словенескъ язык», княженье, моральный облик — эталон, «мужи мудри»; весь = S (А.4, Б.З, В.З, Г.5) = автохтоны полной формулы, язык свой, «дань дают Руси», «погании» и т.д. Точно также может быть описано каждое из 25 восточноевропейских племен. Если одно племя рассматривать как совокупность четырех устойчивых признаков, то легко устанавливаются группы, объединенные связями по одному (Б.1 «словенескъ язык») или нескольким признакам (А.1 мигранты полной формулы, Б.1 «словенескъ язык», В.1 княженье). Связи выстраивают племена в группы, образующие достаточно стройную иерархию (высшие позиции занимают племена и группы с «высшими оценками» по всем осям координат), которая может быть выражена через граф. Он представляет собой особый способ записи классификации племен, объективно присутствующей в ПВЛ (выраженной свойственными писателю XI — начала XII в. средствами). Картографированием выделенных в графе основных групп этнонимов, объединенных общими характеристиками, восстанавливается этногеография Восточной Европы, описанная с позиций системы ценностей автора «Повести временных лет». Основу этногеографической карты ПВЛ образуют четыре славянских племени первой группы (мигранты по 1-й формуле, «словенескъ язык», княженье, моральный облик — от эталонного до нейтрального): поляне, дреговичи, словене-полочане и словене-новгородцы. Четыре славянских «княженья», протянувшиеся с юга на север вдоль «Пути из варяг в греки и из грек», по которому прошел апостол Андрей Первозванный (а с его путешествия и пророчества автор ПВЛ открывает собственно историю восточных славян), четыре наиболее развитых раннегосударственных образования, сложившиеся задолго до появления варягов в Восточной Европе [165, с. 103-110] и представляющие собой начальную форму феодальной государственности [131, с. 45], составляют как бы каркас древнейшей Руси, ее становой хребет, разместившись на важнейших, магистральных путях славянского расселения [107, с. 37-43]. Цепочка «княжений» протянулась на север-северо-восток от основного очага славянства в Центральной и Восточной Европе. Периферию раннекиевской государственности образуют племена, типологически также входившие в первую группу, но занимавшие в ней (как и на карте Киевской Руси) окраинное положение: древляне, волыняне, бужане. Вторая группа племен, связанных такими признаками, как неоговоренный язык и политический строй, «обычай одинъ», занимает пространство к востоку от осевой линии: автохтоны-кривичи, равно как радимичи и особенно вятичи, по-видимому, создавали более или менее самостоятельные образования, не связанные тесными узами с основной совокупностью «княжений». Реконструкция внутреннего строя племенного союза вятичей, предложенная на основании восточных источников акад. Б.А.Рыбаковым в значительной мере раскрывает тот большой внутренний потенциал, который позволял вятичам сохранять относительную самостоятельность в составе Киевского государства вплоть до XII в., несмотря на неоднократные попытки киевских князей подчинить своих восточных соседей [186, с. 258-284]. «Страна Вантит» арабских географов стремилась противостоять и киевским полянам-руси, и Хазарскому каганату; лишь постоянная угроза со стороны последнего, может быть, толкала вятичей и радимичей к более тесному союзу с Киевской Русью. Несколько раньше вятичей и радимичей, под воздействием степных факторов, в состав раннегосударственного образования «Руской земли» вошло племя северъ, славянское по языку. Третья группа племен, «иже дань дають Руси», очерчивает максимальные пределы Древнерусского государства эпохи первых князей. Таким образом, этногеографическая карта ПВЛ позволяет реконструировать важные элементы пространственной и политической структуры Киевского государства, наметить ранние этапы его существования. Начало этого процесса в летописи отражено сообщением об установлении своего рода межплеменного союза: «Живяху в мире поляне и деревляне и северъ и радимичи, вятичи и хорвате». Конфигурация, и частично состав этого объединения совпадают с территориальным ядром Киевской Руси, «Русской Землей» в узком значении, как оно установлено в фундаментальном исследовании А.Н.Насонова [153, с. 30]. С этой областью историки связывают и древнейших «росов», помещая здесь росомонов (IV в.) и роксаланов (V-VI вв.), чем объясняется, в свою очередь, известие о народе Hros у Захарии Ритора [16, с. 290-292]. Росомоны были вытеснены гуннами (375), аланы — аварами (558-568), в 670-х годах хазары поставили в данническую зависимость часть славянских племен [42, с. 83-87]. Государственное образование, зарождавшееся в «земле росов» достигает нового подъема лишь в начале IX в., когда после трехсотлетнего перерыва известия о «росах» вновь попадают на страницы источников. Народ Rochouasco (возможно, восходящий к роксоланам) был известен королю Англии Альфреду Великому [King Alfred's Orosius, 19]; с 813 по 842 т.. отмечен ряд набегов «русов» на побережья Черноморья и даже Средиземноморья [35, III, с. 64-65; 130, с. 199]. Именно в это время глава «Руской земли» принимает титул «каган» и отправляет первое посольство в Византию. К середине IX в., видимо, восходит известие Масуди о том, что «первый из славянских царей есть царь Дира, он имеет обширные города и многие обитаемые страны; мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с разного рода товарами» [38, с. 137]. Имя Дира нередко рассматривают в одной цепи с именами Кия, Щека, Хорива как последнего представителя древней полянской княжеской династии [183, с. 169]; вполне возможна позднейшая контаминация его с Аскольдом, предшественником Олега. Связь Аскольда и Дира с «преданием о призвании варягов», в летописи достаточно искусственная, возможно, имеет определенную историко-политическую подоснову, поскольку в окружении «хакана» 838 г. находились свеи. Если не считать Аскольда и Дира современниками [16, с. 368-369; 130, с. 218], то есть все основания отнести правление Дира к более раннему времени, чем 860-882 гг., а именно — к 830-840-м годам, когда «начася прозывати Руская земля». Каганат русов, несмотря на значительные достижения (военно-морские походы, дипломатические отношения с Византией, внешнеполитическую оппозицию Хазарии, развитие торговых связей, подтверждающееся широким проникновением дирхема в Восточную Европу именно в 790-830-х годах [249, с. 84]), встретился с определенными внешне— и внутриполитическими Трудностями. Они отразились в известиях, отнесенных в ПВЛ к 859 г., о наложении дани — хазарами на полян (после знаменитого предания о мече!), северян и вятичей, а варягами — на северные племена словен, кривичей, чуди, мери, веси. В последнем случае речь, вероятно, идет о впервые зафиксированном в ПВЛ существовании «громадной разноэтнической федерации нашего Северо-Запада, состоящей из племен западных и восточных славян и аборигенных племен финно-угорского происхождения» [250, с. 220]. Именно эта федерация, сформировавшаяся подле «Русской Земли» Поднепровья, «Низовской Руси» и в противовес ей называющаяся «Верхней Русью» [164, с. 53], в 862 г. (по летописи) выступает инициатором «изгнания варягов», а затем «призвания князей» во главе с Рюриком: «...население северных земель могло пригласить одного из конунгов на правах князя с тем, чтобы он охранял его от других варяжских отрядов» [186, с. 299]. Список городов, упомянутых в «предании о варягах»: Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро, позднее (после 864 г.) — Полоцк, Ростов, Муром, — очерчивает первоначальные границы «Верхней Руси», на основе которой позднее сложилась Новгородская, Псковская, а уже в X в. обособилась Ростово-Суздальская земля. Ее центры, несомненно связанные между собой и выполнявшие определенные административные функции межплеменного союза (а в период его кризиса, скорее всего, использованные и для взимания «варяжской дани» со словен, кривичей, чуди, мери, веси), очевидно функционировали ранее середины IX в. Видимо, по отношению к «каганату росов» первой половины IX в. новое объединение было в какой-то мере дестабилизирующим фактором, хотя в такой акции, как изгнание варягов, могло, в принципе, опереться и на поддержку поднепровских славян. В 870-е годы, поданным Никоновской летописи, Б.А.Рыбаков констатирует возрастающую активность южной, днепровской Руси и одновременно, какие-то конфликты на севере, в результате которых «избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много новогородцких мужей» [186, с. 306]. Лишь в 882 г., после похода Олега из Новгорода на Киев, единство русских земель было восстановлено, и процесс государственной интеграции вступил в новую фазу. Этногеография «Повести временных лет» запечатлела основные этапы этого процесса в предшествующий период. Сформировавшиеся в это время (к середине IX в.) структурные особенности сохраняли свое значение и позднее. Соотношение «первичных государственных территорий», ведущих княжений (Киев, Новгород, Полоцк); тяготеющих к ним межплеменных союзов («Русской Земли» — на юге, «Верхней Руси» — на севере); данников Руси, либо втянутых уже в процесс формирования древнерусской народности (весь, меря, мурома), либо ограниченных политической зависимостью (прибалтийские племена и северные «перемь» и «печера» — бьярмы скандинавских саг) сохраняло свое значение и в X-XII веках. Многослойная структура этногеографии ПВЛ в основных своих чертах подтверждается данными других, в том числе иноземных; источников. Деление на «Русскую Землю» («низовскую», «внутреннюю» Русь) и «Верхнюю» («внешнюю») Русь (с центром в Новгороде) описано в середине X в. в сочинении византийского императора Константина Багрянородного, где отмечены важнейшие русские города (Киев, Новгород, Смоленск, Любеч, Чернигов), а также названы некоторые восточнославянские племена [Const. Porph., 9]. С его описанием полюдья киевских князей перекликаются сведения арабских источников, в наиболее полной редакции представленные в тексте Гардизи о русах: «...постоянно по сотне и по двести [человек] ходят они на славян, насилием берут у них припасы, чтобы там существовать; много людей из славян отправляются туда и служат русам» [73, с. 82; 186, с. 329]. Отразилась у восточных авторов и территориальная неоднородность Руси в сведениях о трех русских центрах, или городах, транскрибируемых обычно как Славиюн, Куйава и Арса, и с наибольшими основаниями отождествляемых с Новгородом, Киевом и Ростовом [70, с. 104-111]. Этногеографическая концепция ПВЛ от зарубежных источников отличается большей стройностью и полнотой. Сопоставляя ее с географическими представлениями о Восточной Европе, сложившимися в древнесеверной литературе [143, с. 124-127], следует отметить их совпадение в принципиальных, важнейших моментах. Скандинавской традиции известны все основные древнерусские города, выделенные ПВЛ в качестве центров земель и княжений, зафиксированы и магистральные водные пути. В то же время «Путь из варяг в греки» как особая транспортная система в северных источниках не отразился: путь этот — явление восточноевропейское, норманны познакомились с ним, когда он уже сложился как центральная государственная магистраль. Географическим ориентиром для скандинавов служило более общее понятие Austrvegr, и его маршрутная детализация происходила, видимо, уже на русской территории, в условиях контакта со славянской знатью и купцами, княжескими дружинами и населением городов. Этническая спецификация разных областей «Гардов» скандинавам оставалась неизвестна: видимо, их контакты с местным населением ограничивались городскими центрами на магистральных путях, связи с сельским населением, если и завязывались, то лишь в ближайшей округе этих центров, и племенные различия в пределах государственной территории остались вне поля зрения варягов. Совершенно противоположной была ситуация в Прибалтике; степень осведомленности об этническом составе населения этого региона в русских и скандинавских источниках примерно одинакова. Область Древней Руси, наиболее знакомая скандинавам, с городами Альдейгьюборг и Хольмгард (Ладога и Новгород), возможно, первоначально собственно «Гарды», и по данным ПВЛ выступает зоной наиболее ранних и интенсивных славяно-скандинавских контактов. Верхняя Русь, область северной межплеменной конфедерации, варяжской дани и «призвания князей» в первую очередь стала ареной зарождения русско-варяжских отношений. 3. Верхняя Русь Северо-Запад Европейской части России, от Чудского озера до слияния Мологи с Волгой, от Ладожского озера и Финского залива — до Западной Двины, на протяжении тысячелетий выступает как место соприкосновения каких-то двух неясных, но устойчивых, древних и, видимо, родственных этнокультурных массивов [115, с. 26-41]. Граница между ними проходит, с севера на юг, примерно по линии Волхов — Ловать, иногда смещаясь несколько восточнее или западнее. От неолита до эпохи сопок и длинных курганов (третья четверть I тыс. н.э.) сохраняется неоднородность этого региона, и лишь после середины I тыс. появляются некоторые тенденции к интеграции. В VIII-IX вв. облик археологических памятников меняется: в длинных курганах и сопках исчезают элементы дославянской традиции в обряде и металлическом уборе. Распространяются городища, материальная культура которых по ряду характеристик (домостроительство, фортификация, лепная керамика, костяные и железные изделия) близка славянским культурам южного побережья Балтики и отлична от днепровских — луки-райковецкой и роменско-боршевской. Ее облик подтверждает предположение выдающегося советского археолога-слависта И.И.Ляпушкина о первоначальном членении славянства на южную и северную группы (предшествующем делению на восточных, западных и южных славян) и о существовании в VIII-IX вв. особой, северославянской культурно-исторической зоны [125, с. 14-19; 346, с. 237], куда наряду со славянами Западной Балтики, Поморья входили и словене ильменские (возможно, также основавшие Полоцк в кривичском Подвинье). С формированием этой зоны, по-видимому и связано освоение славянами русского Северо-Запада. Последовательность освоения славянами территории Северо-Запада восстанавливается по данным топонимики. Наиболее ранние, архаичные славянские названия на «-гост», «-гощ», концентрируются поблизости от Новгорода, в западном и юго-западном Приильменье, очерчивая ядро первоначальной «племенной территории» ильменских словен [145, с. 51]. Дальнейший рост этого этнополитического образования можно проследить по распространению топонимов «Межа», «Межно», «Межник» [13, с. 245-250]. Ближайшие к Новгороду и ильменскому Поозерью рубежи проходят несколько восточнее Волхова-Ловати, а на западе не доходят до Чудского и Псковского озер; затем прослеживается рост территории как на западе, так и на востоке, где новые границы охватывают Помостье и Приладожье. Первоначальная ограниченная названиями «Межа» территория, где заключено и скопление архаичных славянских топонимов, полностью перекрывает слабозаселенное (вплоть до I тыс. н.э.) пограничье между древними этнокультурными массивами, из которых западный, вероятно, относился к прибалтийско-финскому, а восточный — к волжско-финскому населению. Эта пограничная территория, пустовавшая на протяжении тысячелетий (с раннего неолита), в первую очередь была занята славянскими поселенцами и не позднее последней четверти I тыс. н.э. стала основой первичного «племенного княжения» словен ильменских с центром в Новгороде. Особый интерес представляет еще один район, очерченный топонимами «Межа», в среднем течении Западной Двины. Здесь находится Полоцк, который, если буквально следовать тексту «Повести временных лет», изначально также относился к числу «княжений» словен [134, с. 15]. Новые границы с топонимами «Межа» отразили рост ранне-государственной территории на восток и запад от Ильменя в IX-XI вв., в глубь областей расселения прибалтийско-финских и волжско-финских племен. Походы Ольги в 947 г. на Мету, Лугу и затем ко Пскову, основание при Ярославе Мудром (вероятнее всего, между 1024-1030 гг.) на окраине Волго-Окского междуречья Ярославля, а в восточной Эстонии — Юрьева зафиксировали административную структуру и внешние границы Верхней Руси. Завершился процесс формирования основной территории Новгородской земли и начальный этап ее развития, когда Северо-Запад Руси вместе со всей «северославянской культурной зоной» входил в состав Балтийского культурного сообщества: находившиеся в этом своеобразном междуэтническом объединении торговые города и центры славян и скандинавов, фризов и немцев, балтов и финнов в VIII-XI вв., связанные общими экономическими интересами и культурными нормами, стали на какое-то время в своих обществах инициаторами динамичных и глубоких социально-экономических и культурных преобразований [114, с. 26; 329, с. 96-112]. В пределах Верхней Руси первым из таких центров была Ладога, расположенная в низовьях Волхова, главной водной магистрали Новгородской земли. В истоке реки (на берегах Ильменя и в районе Новгорода) в VIII-IX вв. формируется племенной центр словен ильменских, со святилищем Перуна в качестве одного из важных административно-культовых компонентов. Мифологической границей ассоциированного с древним небесным богом-громовержцем пространства (Ильмень — от Iilma, божество неба у дославянского автохтонного населения) были, видимо, волховские пороги в 180км ниже Новгорода (в индоевропейской мифологии речные пороги — место битвы Громовержца со Змеем, его главным противником). Нижняя часть течения Волхова, от порогов до Ладожского озера, морских побережий, приневской низменности, ассоциировалась в мифологии словен (а, по-видимому, и их автохтонных предшественников, протокарельской «чуди» — ПВЛ) со вторым по значению после Перуна божеством языческого пантеона, Белесом, покровителем мира мертвых, леса, зверя, скота, богатства, торговли, поэзии. Перуном и Белесом, «скотьим богом», клялась языческая «русь» в 907 и 971 годах. Перыни в Новгороде соответствовало святилище Белеса, Велеша в Ладоге. Близ посвященной богу скота и торговли возвышенности, господствующей над низменным пространством прибрежья Ладожского озера, «Подолом», и возникла древнерусская Ладога, город, археологические памятники и микротопонимия которого позволяют детально реконструировать его архаическую раннегородскую структуру. Волхов в соответствии со славянской семантикой своего названия (волхъв — жрец, посредник между мирами богов и людей) соединял область Перуна и Белеса, «верх» и «низ», Новгород и Ладогу. Водная дорога из Новгорода завершалась близ Ладоги у селения Извоз («конец дороги»). Вздымающаяся над берегом возвышенность (южная оконечность высокой надпойменной террасы, известной под названиями «Победище», «Гора») маркирована топонимом «Княщина» и памятниками, составляющими первую, «княжескую», зону архаической структуры Ладоги. К их числу относилось укрепленное (?) поселение, на котором найден один из ранних кладов арабского серебра (808 г. — здесь и далее в скобках указана дата самой поздней, «младшей», монеты, содержавшейся в кладе — прим. авт.), группа сопок и грунтовый могильник с погребениями по обряду кремации и ингумации. Среди находок — подвеска со «знаком Рюриковичей» (атрибут княжеской администрации — тиунов, вирников, огнищан), наборы весовых гирек. Административно-фискальные функции поселения раскрывает и топонимика: «княщина» — княжеская доля в доходах, землях и т.д. К западу от Княщины, за речками Заклюкой и Ладожкой находилась «волость Силосари» средневековых источников. Ижорско-карельское (протокарельское?) название sillasaari, от silla — «мост» и saari — «остров» продублировано славянскими топонимами «Каменный Мост» и «Княж-Остров». Как и «Лопино» напротив, на правом берегу Волхова (от др.-русск. «лопь» — саамы), где также сохранилась группа сопок и остатки селища, все эти названия, по-видимому, связаны с закрепленным за князем и его администрацией правом сбора дани с иноплеменного, неславянского населения, лопи и чуди, в ближней и дальней округе Ладоги [84, с. 102]. С юга Княщину ограничивает «Парамонов ручей». Этому гидрониму соответствует в Новгороде «двор поромонь» (как доказала Е.А.Мельникова — предшественник Готского и Немецкого двора, место дислокации варяжской наемной дружины). Название Поромонего двора, от др.-сев. farimenn — «путешественники», связанное и с греческим термином X в. «телохранители» [143; 123, с. 80-81], упомянуто в связи с антиваряжским выступлением 1015 г., которое для Новгорода зафиксировано ПВЛ, а в Ладоге вошло в местный фольклор и топонимику (предания о сражении «со шведами» на «Победище», второе название Парамонова ручья — «Кровавый» и др.). В ладожской Княщине, как и на Ярославовом Дворище в Новгороде, варяги входили в состав разноплеменного окружения князя и его администрации. Данные топонимии позволяют на северной окраине «княжеской» зоны реконструировать *Поле, место вечевых собраний, обрядов и пр. (микротопонимы «Заполек», «Полянка» в документах XVII-XVIII вв.). Оно маркирует южную границу второй, «городской», зоны Ладоги. Городская территория делилась на две половины, северную и южную [23, с. 2-62]. Зафиксированное топографией древнерусских монастырей (Успенского и Никольского), это членение восходит к значительно более раннему времени: р. Ладожка (Елена), по которой проходит граница между двумя частями города, образована слиянием двух текущих друг другу навстречу речек, собственно Ладожки (с севера) и Заклюки (с юга). Первое название — от финск. *Ala-djogi — «Нижняя река», второе — *Yla-joki — «Верхняя река» указывают на древнюю подоснову мифологического противопоставления «Верха» и «Низа» в ладожской топографии. Каждая часть города имела свой могильник. Южный — на склонах возвышенности Победище, насчитывал, видимо несколько сот курганов. Здесь представлены все разновидности верхнерусской курганной обрядности VIII-XI вв.: длинные и круглые курганы с сожжениями, насыпи с характерным обрядом «приладожского типа», со скандинавскими кремациями, трупоположениями X-XI вв. В состав могильника входили также группа сопок (ранние погребения датируются серединой VIII в.) И древнерусский грунтовый могильник с трупоположениями XI-XII вв. Северный городской могильник [23, с. 245; 162, с. 94-97] располагался на левом берегу ручья Грубицы (урочище «Могильник» в Писцовых книгах XV в.). Здесь исследованы погребения по обряду сожжения (захоронение воина с конем, X в.) и трупоположения, а в западной части могильника, на берегу р. Ладожки, — курганы с трупоположениями XI-XII вв. Оба могильника, охватывая по периметру площадь поселения (16 га) тянулись на запад вдоль двух дорог по направлению к переправам через речки Заклюку и Ладожку, а дороги соединялись на возвышенности с названием «Висельник» («Ахматова гора»). Напротив этой возвышенности и ладожской крепости (поставленной на мысу Волхова и Ладожки — Елены), на противоположном, правом, берегу Волхова в урочище «Плакун» располагался третий некрополь «городской» зоны. Он представлен группой сопок на высоком краю террасы (в раскопанных насыпях отмечены балтские черты обряда: погребение коня, перевернутая урна и др.) и курганным могильником на нижней площадке террасы. Исследовано около 15 насыпей (всего их насчитывалось, возможно, от 20 до 60, может быть до 100 курганов); в 7 или 8 открыты сожжения в ладье, в 1 — камерное погребение IX в. (ок. 880 г.). В отдельно стоящей сопке на нижней террасе Плакуна обнаружено разрушенное трупоположение в ладье. Небольшой некрополь связывают с варяжской дружиной времен Рюрика и Олега, хотя наиболее ранние (в том числе женские) погребения здесь датированы первой половиной IX в. [95, с. 128-131; 108, с. 184-188]. Третья, «сакральная», зона раннегородской структуры, к северу от Ладоги, на повороте Волхова к его древнему устью (береговой возвышенности «Глинта», обрывающейся над низменностью Подола в районе Велеши), заполнена группами сопок и небольшими, связанными с ними поселениями. Цепочка сопок, насчитывавшая не менее 20 насыпей, тянется по краю левого берега от Малышевой горы на окраине Ладоги к Велеше, маркируя главную из нескольких via sacra, «священных дорог», проложенных для племенных религиозных процессий к святилищу Велеса. Вдоль «священных путей» располагались и группы сопок по правому берегу Волхова; у переправы находилось небольшое городище на р. Любша (волховский микрогидроним «Любшин омут», возможно также один из атрибутов культа Велеса в Ладоге, связанный с какими-то водными обрядами). Близ городища расположено селище и небольшой курганный могильник со славянскими погребениями по обряду сожжения; в глубине волховского правобережья, на перекрестке дорог, — «жертвенное место» (каменные насыпи, характерные для протокарельской «чуди»). Наряду с центральным святилищем Велеса в составе сакральной зоны можно реконструировать еще несколько культовых объектов, меньшего ранга. Одна из дорог любшанского перекрестка вела в урочище «Кривая часовня», возможно, связанное с культом балто-славянского Криве-Кривайтиса (та же антитеза Белее — Криве проявилась в топографии литовского Вильнюса). Малышева гора, на которой в XIII в. был поставлен монастырь Рождества Иоанна Предтечи, связана с культом Купалы-Ярилы, солнечного бога славян. Иерархия Велес-Купала-Криве образует основу структуры сакральной зоны. Цепочки сопок связывают эти святилища в прочную сеть, где идеологические функции общеплеменного и межплеменного масштаба объединены с локально-ладожскими. К числу таких локальных святилищ относится прежде всего «Висельник», напоминающий о культе «Бога повешенных», Одина (подобное славяно-скандинавское святилище, Wzg Иерархия ладожских святилищ охватывает несколько уровней, от общеплеменного (межплеменного) до узколокальных; значимость рангов убывает с севера на юг, от Велеши к Княщине, с трудноидентифицируемыми божествами Победища. Дихотомия городской территории Ладоги, четко разделенной на две половины, северную и южную, велесов «низ» и перунов «верх», соответствует дихотомии жреческой и княжеской власти, воплощенной в противопоставлении «Велеши» и «Княщины». Это противопоставление характеризует и древнейшую структуру управления в «стольном городе» племенного княжения словен, Новгороде [251, с. 88]. Ее преодоление, концентрация власти в руках князя, опирающегося на выросшие в недрах племенной структуры социальные силы, и определила в середине IX в. роль Ладоги как первоначальной столицы Верхней Руси, места, где разыгрались центральные события «предания о варягах» ПВЛ — «изгнание варягов» и «призвание князей» [85, 86, 87]. Погребальные памятники и культурный слой Староладожского поселения исследуются уже более ста лет [22, с. 135-141; 177, с. 5-69; 84, с. 92-106]. Хронология строительных горизонтов, раскопанных на площади более 2 тыс. кв. м, охватывает время с середины VIII до X в. (57, с. 100-118; 86, с. 27]. Уже во второй половине VIII — начале IX в. Ладога стала крупным центром международной торговли. Клады арабских дирхемов (786, 808, 847 гг.) средиземноморские стеклянные бусы, перед невосточный «люстр», балтийский янтарь, фрисландская керамика и резная кость характеризуют масштабы связей Ладоги. По мере развития торговли прогрессирует местное ремесло (бронзолитейное, косторезное, обработка янтаря, стекла, железа). Ремесленники Ладоги были связаны с западными центрами (Фрисландией и Скандинавией), возможно, здесь работали и приезжие мастера, в X в. появляются характерные «вещи-гибриды» [55; 56; 58; 30]. В Ладоге формируется и комплекс земледельческих орудий, в дальнейшем типичный для крестьянского хозяйства Северо-Западной Руси [148, с. 123]. Этнический состав первоначального «открытого горгово-ремесленного поселения» с самого начала отличался сложностью. Выделяются славянский, протокарельский, балтийский, скандинавский, саамский компоненты [108, с. 164-193; 84, с. I03J. В домостроительстве ранней Ладоги представлены по крайней мере две традиции: славянские квадратные срубы с печью в углу и скандинавского облика «большие дома», находящие позднее продолжение в северорусской традиции [156, с. 73-74; 205, с. 29-31]. Скандинавские вещи обнаружены уже в самых ранних отложениях культурного слоя. При раскопках Е.А.Рябинина в 1970-х годах на уровне материка найден клад ремесленных инструментов, в том числе — навершие с композицией, которая трактуется как изображение Один а с воронами [191, с. 161-178]. На том же материковом уровне при раскопках В.И.Равдоникаса в 1950-х годах обнаружен обломок скандинавской витой шейной гривны; в одной из древнейших построек — овальная односкорлупная фибула. Эти находки свидетельствуют, что скандинавы входили в состав постоянного населения Ладоги с момента возникновения открытого торгово-ремесленного поселения около 750 г. [56, с. 134-144; 57, с. 112]. В эпоху викингов присутствие норманнов документировано серией находок IX-X вв. Среди них — деревянный стержень (др.-сев. stafr) с рунической надписью первой половины IX в., из 48 знаков («рёкские руны» IX в.). Варианты ее чтения: I Сверкающий лунный эльф сверкающее чудовище будь нифлунгом (т.е. «будь под землей») II Наверху (щита) в оперенье своем покрытый инеем господин сияющий лунный волк прядей плуга широкий путь III Умер в выси одетый в камень владетель трупов сияющий губитель мужей в могучей дороге плуга (-земле) Магическое заклинание (I) «щитовая драпа», описывающая изображение на щите (II) или хвалебная скальдическая песнь в честь умершего (III), ладожская надпись так или иначе относится к древнейшим образцам древ несеверной поэзии эпохи викингов [140, с. 158-162]. Таким образом, ладожские находки охватывают чрезвычайно широкую сферу славяно-скандинавских контактов, от материального производства до высших проявлений духовной культуры. Вторая ладожская руническая надпись магического характера (48 знаков на медной подвеске) найдена при раскопках В.П.Петренко в 1970-х годах на Варяжской улице, среди развалин «большой постройки» общественно-культового назначения, разрушенной в конце X в. [166, с. 162-169] и напоминающей по некоторым конструктивным особенностям западно-славянский храм того же времени в Гросс-Раден на р. Варнов (южное побережье Балтики) [388]. В материальной культуре ранней Ладоги органично соединились субстратные, местные финно-угорские, протокарельские «чудские» традиции (в архаичных формах некоторых типов керамики, костяных изделий); привнесенные с волной славянской колонизации балто-славянские элементы (прежде всего металлические украшения); славянская посуда, орудия труда, некоторые виды украшений; скандинавские ремесленные инструменты, вооружение, украшения, орнаментальные мотивы; западные и восточные импорты; наконец, возникшие в результате синтеза всех этих компонентов новые, древнерусские формы. Расположенная «на острие» славянского расселения в северных землях, в авангарде длительного массового движения, вклинившегося в автохтонные массивы, окруженная различными по происхождению финно-угорскими группировками и при этом выдвинутая к морским просторам Балтики, Ладога стала естественным местом наиболее ранних и глубоких славяно-скандинавских контактов. Взаимодействие этих двух, сравнительно новых для региона, элементов начинается уже в середине VIII в. Поселение первой половины IX в. (свободная усадебная застройка, окруженная разнородными могильниками) сохраняло характер многоэтнического межплеменного центра, который вполне соответствовал складывающейся конфедерации северных племен — словен, кривичей, чуди, мери, веси, находившейся в контакте с варягами и внутренне еще не слишком прочной («въста род на род» [ПВЛ, 862 г.] или «въсташа град на град» [НПЛ, с. 106]) [227, с. 224]. Строительный горизонт поселения середины IX в. был уничтожен пожаром. Вполне правомерно связать эту катастрофу с событиями 859-862 гг., обострением отношений с норманнами, «изгнанием варягов», племенной междоусобицей. Словенская знать (династиям которой, видимо, принадлежат ладожские сопки) в поисках союзников против непокорных племенных сил, равно как и находников-варягов (а в середине IX в. это прежде всего — шведские викинги, базировавшиеся на Бирку), хорошо ориентировалась в ситуации. Она учла общую обстановку на Балтике: обострение конкурентной борьбы между Биркой и Хедебю в 830-850-х годах; перспективность установившихся связей с Фрисландией и другими западными центрами; сложившуюся на юге Балтийского побережья систему сравнительно стабильных славяно-скандинавских отношений. Призвание «князя из-за моря» было хорошо рассчитанной политической акцией. В Ладоге появляется Рюрик «с дружиной и родом своим» (как полагают иногда, sine bus и tru vaering — «его дом и верное воинство» варяжской саги, превращенное затем в имена легендарных Синеуса и Трувора). Межплеменное святилище Белеса после строительства княжеской крепости («сруби город») становится на какое-то время столицей Верхней Руси [186, с. 298; 102, с. 42-53]. Давно обсуждающееся в научной литературе отождествление Рюрика с Рериком Ютландским в своем последнем исследовании поддержал акад. Б.А.Рыбаков [186, с. 229]. В 1963г. известный славист, акад. Г.Ловмянский детально исследовал хронологию деятельности Рерика на Западе [124]. В свете новых данных, прежде всего — археологических и нумизматических, характеризующих динамику серебряного обращения на Балтике до и после «изгнания варягов» и «призвания князей» историческая канва событий, отраженных в «предании о варягах» ПВЛ восстанавливается теперь подробно и со значительной степенью достоверности [30, с. 90; 84, с. 99-100; 171, с. 64-80]. Примерно столетний период (750-850-е годы) мирных связей завершается обострением славяно-скандинавских отношений и изгнанием «варягов» (свеев) из Ладоги. В ходе развернувшейся межплеменной усобицы ладожские словене в 862 г. обращаются к Рюрику. Этот предводитель викингов к тому времени владел землями в западной Ютландии и на фрисландском побережье, во фризо-скандо-немецко-славянском пограничье; он контролировал водный путь из Северного моря по р. Айдер в Хедебю, а незадолго до 860 г., видимо, покинул Дорестад (который вскоре после этого снова стал добычей викингов). Не исключено, что Рюрик был одним из организаторов блокады Бирки в 850-х годах. Не ранее 864 г. Рюрик с дружиной утверждается в Ладоге в качестве «призванного князя» (что полностью соответствует позднейшей новгородской традиции приглашения князей, с сохранением основных контрольных функций в руках вечевой администрации), а княжеские «мужи» появляются в Изборске, Полоцке, Белоозере, Ростове и Муроме и таким образом восстанавливается территориальная целостность Верхней Руси первой половины IX в. В 870-873 гг. Рюрик возвращается на Запад и улаживает владельческие отношения с королем Франции Карлом Лысым и Германии — Людовиком Немецким. В Ладоге и Новгороде в это время, видимо, формируется антикняжеская оппозиция во главе с Вадимом Храбрым. Вернувшись, Рюрик сумел расправиться с непокорными и вероятно, в это время вступил в династический брак с одной из представительниц местной знати («Ефанда», по В.Н.Татищеву). Второй период его пребывания на Руси (875-879 гг.), отмечен стабилизацией экономических связей на Балтике. Рюрика сменил Вещий Олег. С именем его в Ладоге связана «Олегова Могила», центральная, самая монументальная из сопок ладожской «сакральной зоны». Археологи исследовали в ней захоронение по обряду кремации (оно относится к IX в. и, следовательно, не может быть погребением киевского князя Олега, умершего в 912 (или 922) г.). Есть основания видеть в этой величественной насыпи не «могилу», «место погребения», а «Олегов Холм», ритуальное седалище, на котором отправлялись некие общественные и культовые функции. Предание о смерти Олега в Ладоге, от коня и змеи (атрибуты Белеса!), можно рассматривать как фольклорную редакцию древнего ритуала, в свою очередь воспроизводящего какой-то языческий миф. Воплощение мифа в ритуале и соединение этой сакральной функции с политической и было миссией, обеспечившей Олегу его особый статус: «бе бо Олъг вещий», это был князь-жрец. В этом случае становятся понятными летописные указания на бездетность и безбрачие Олега, и даже семантика его имени, скандо-славянского Олъг, от др-сев. Helgi — «священный» (ср. просторечные формы «Волъга», «Волх» с еще более прозрачным значением). В нем следует видеть представителя одной из пяти — семи местных знатных династий (стоящих, видимо, и за ладожскими группами сопок, и за локальными святилищами, и за кончанской, боярской, организацией Ладоги и Новгорода). Более столетия (с середины VIII в.) эта славянская знать впитывала и ассимилировала наряду с другими и варяжский элемент. Она заключила союз с Рюриком, и возможно, к одному и тому же роду принадлежали Олег и Ефанда, Игорь, сын Рюрика, и Ольга (в крещении — Елена), его жена, просватанная из Пскова. Скорее всего, именно такие родственные фракции словенских династий в это время господствовали во всех крупных центрах Верхней Руси, именно им принадлежала реальная политическая и экономическая власть. После смерти варяжского князя носителем политических функций стал князь-жрец, Вещий Олег. Концентрация сакральной, политической, военной и экономической мощи в его руках, реализованная впервые в Ладоге, сделала возможной дальнейшую консолидацию северной федерации племен. Создание межплеменного войска, а затем и успешные походы из Новгорода на Киев, и далее — на Царьград, обеспечили окончательное объединение Древнерусского государства в 882 г. Этими обстоятельствами в период с 750 по 882 г. определяется роль Ладоги в ранней русской истории. Древнерусская эпическая традиция связала Олега именно с Ладогой. По предположению одного из ведущих исследователей Ладоги А.Н.Кирпичникова, при Олеге здесь были сооружены первые каменные укрепления [186, с. 310-312; 84, с. 104]. В конце X в. (ок. 997 г.) норвежский ярл Эйрик Хаконарссон «разрушил Альдейгьюборг и взял там много богатства» [189, с. 51]. В 1020 г. великий князь киевский Ярослав Мудрый взял в жены дочь шведского конунга Олава Щетконунга, Ингигерд-Ирину, и дал ей во владение «Альдейгьюборг и все то ярлство, которое к нему принадлежит» [Сага об Олаве Святом, 93]. Великокняжеским наместником в Ладоге стал родич Ингигерд, гаутский ярл Рёгнвальд, враждовавший с упсальскими конунгами и вынужденный бежать из Швеции. В эти годы в Ладоге не раз находят приют норвежские конунги-викинги, изгнанные из страны во время междоусобных войн (Олав Трюггвассон, Олав Святой, его сын Магнус). Именно отсюда в 1045 г. начал свое шествие к норвежскому престолу Харальд Хардрада с Елизаветой Ярославной. Рёгнвальда в Ладоге сменил его сын Эйлив. Другой его сын, Стейнкиль в 1056 г. (после смерти преемников Шетконун-га Энунда и Эймунда) стал основателем новой шведской королевской династии [23, с. 12-13; 121, с. 103-104]. С этого времени Ладога и «ладожское ярлство» становятся предметом шведско-новгородских раздоров. В последней четверти XI в. Ладога подчиняется уже не великокняжеской, киевской, а новгородской администрации. В 1105 г. новгородцы совершили «в Ладогу» (вероятнее, в Приладожье) военный поход, а в 1114 г. ладожский посадник Павел в присутствии князя Мстислава Владимировича заложил в Ладоге крепость «камением на приспе» [23, с. 113, 146; 83, с. 417]. Пятьдесят лет спусти, в 1164 г. крепость успешно выдержала шведскую осаду; отступившие на восток захватчики были разбиты князем Святославом Ростиславичем на р. Воронеге, в южном Приладожье. Шведская рать направлялась туда, где, видимо, рассчитывала найти поддержку населения, составлявшего основу «ладожского ярлства» и представленного археологической культурой приладожских курганов IX-XII вв. [149-152; 381, с. 132-141]. В основе ее — местное финно-угорское население, с которым обитатели Ладоги (в том числе норманны) установили разнообразные отношения. В X в. на реках Приладожья (нижней Паше, средней Сяси, междуречье Сяси-Паши-Тихвинки) появляются скандинавские поселенцы — посредники пушной торговли. Финно-скандинавский синтез проявился, в частности, в своеобразном погребальном обряде приладожских курганов, имитирующих жилище, с очагом в центре, делением на мужскую и женскую половины, мужскими погребениями — с оружием и женскими — с наборами овальных фибул. Топоним «Колбеки» на южной окраине ареала культуры приладожских курганов (по предположению ленинградского исследователя Д.А.Мачинского, поддержанному ведущим специалистом по этой проблематике В.А.Назаренко) указывает на этноним населения юго-восточного Приладожья IX-XI вв.: «колбяги» русских источников (эта интересная гипотеза об этнической принадлежности культуры приладожских курганов была выдвинута Д.А.Мачинским и обсуждалась на заседании семинара кафедры археологии ЛГУ 9 марта 1984 г. — прим. авт.). В начале XII в., когда устав князя Святослава Ольговича зафиксировал в 1137 г. «окняжение» этой территории и распространение на нее новгородской системы даней и погостов, развитие приладожской культуры прекращается, здесь распространяется общерусский погребальный обряд. Роль Ладоги в событиях первых десятилетий истории Древнерусского государства весьма значительна. Межплеменной торгово-ремесленный и культовый центр, развивавшийся на протяжении ста лет (750-850-е годы), в середине IX в. выдвигается в качестве столицы Верхней Руси. Со второй половины IX в., однако, центр тяжести сдвигается в глубину племенной области словен ильменских. Одновременно с урбанистическими преобразованиями Ладоги возрастает значение столицы словенского «племенного княжения», Новгорода. Хольмгард наряду с Альдейгьюборгом становится постоянным адресом движения скандинавов, а его название — обозначением лежащей на «Восточном пути» страны «Гардов». Район истока Волхова, где возник Новгород, занимал ключевое положение в системе водных коммуникаций, на перекрестке Балтийско-Волжского и Волховско-Днепровского путей: примерно из 20 кладов VIII-X вв., найденных в ильменско-волховском бассейне, почти половина сосредоточена в Новгороде и его окрестностях, три из них (807, 811 и 864 гг.) датируются IX в. [157, с. 96-99]. Столица племенного княжения словен ильменских возникла в обжитой и плотно заселенной зоне Ильменского поозерья (вопреки распространенному в археологической литературе мнению об «отсутствии сколько-нибудь значительных поселений», что вызвало к жизни гипотезу о строительстве города киевскими князьями лишь в середине X в.) [100, с. 171-173]. В VIII-IX вв. здесь формируется плотный сгусток открытых и укрепленных поселений, связанных с ними могильников, возникает языческое святилище в Перыни и создаются важнейшие предпосылки для образования племенного центра [158, с. 18-29]. На этих поселениях представлены характерные элементы славянского хозяйственно-бытового комплекса (орудия труда — сошники, косы-горбуши, мотыжка-тесло; оружие — двушипные стрелы; культовый инвентарь — ножи с волютообразным навершием), что свидетельствует о появлении достаточно многочисленной волны нового для этой территории населения [146, с. 24-29]. Погребальные памятники в значительной мере уничтожены, но в окрестностях города зафиксированы сопки, курганный могильник на Волотовом поле, грунтовые могильники [159; 216, с. 92; 36,. с. 34-35; 90, с. 89-97]. Некоторые из поселений Приильменья несомненно связаны с обслуживанием водного пути. К ним относится отмеченный в ганзейской грамоте 1270 г. Холопий городок (нем. Drelleborch, ср. скан. trelleborg), упомянутый как последняя остановка перед Новгородом [25, с. 226]. Раскопками С.Н.Орлова, М.М.Аксенова, Е.Н.Носова здесь выявлены слои IX-X вв., найден упомянутый выше клад куфических монет (811 г.), а также комплекс орудий труда IX в. (два сошника, две косы, топор, тесло, пешня, нож, точило, конские удила). В 2 км вверх по течению Волхова от Новгорода, на острове, образованном прибрежьем Ильменя, правым берегом Волхова и Волховцом, находится Городище (в позднейшей традиции получившее название Рюриково). Результаты его исследований, неоднократно производившихся с 1901 по 1970 г. были систематизированы Е.Н.Носовым, который с 1975 г. начал планомерные раскопки поселения. По его наблюдениям, в IX в. заселенная площадь достигала 1 га, в X в. возросла до 3 га. К 1981 г. в результате раскопок были выявлены и изучены культурные отложения последних десятилетий IX в. В материалах Городища неоднократно отмечались различные категории вещей, характеризующих раннегородскую культуру Верхней Руси, в том числе скандинавские импорты и «вещи-гибриды» [94, с. 45-47]. Городище, которое рассматривается как наиболее значительное из поселений, непосредственно предшествующих Новгороду, в XII-XV вв. было резиденцией новгородских князей [79, с. 10-11]. Поселение на Городище — не единственный возможный предшественник Новгорода середины X в. Ранняя топография города, по наблюдениям исследователей, значительно отличалась от современной. Первые поселения располагались на холмах, позднее снивелированных городской застройкой. Самый высокий холм был занят Детинцем, на особых возвышенностях находились Неревский и Славенский концы [104, с. 179]. Детальная реконструкция процесса образования Новгорода как городского поселения, с выделенным административным центром (Детинцем) и тяготеющими к нему концами, разработана группой ведущих археологов Новгородской экспедиции во главе с В.Л.Яниным [250; 251; 253; 254]. Не все ее звенья пока что находят достаточное археологическое подтверждение, но она позволяет выстроить имеющиеся факты в достаточно устойчивую систему, и наметить перспективы дальнейших исследований. Согласно этой гипотезе, исходным пунктом зарождения Новгорода стали три поселка, разделенные между собою Волховом и кремлевским ручьем, на месте будущих Славенского, Неревского и Людина концов. Во всех трех случаях обнаружены древнейшие уличные настилы X в., а в Неревском раскопе выделен и более ранний «доярусный слой». Основу этих поселков составляли боярские усадьбы, принадлежавшие «потомству родо-племенной старейшины», сосредоточившему в своих руках важнейшие социально-политические функции [251, с. 90]. Консолидация новгородской знати проявилась в строительстве нового «города», центрального укрепления, которое стало административно-культовым и в силу этого — основным структурообразующим элементом городской планировки, городской крепостью, Детинцем (от «Дътьскый» — «младший дружинник»). Резиденция новгородского князя, в известной мере противостоявшего органам боярского управления, находилась за пределами Детинца (собственно, Новгорода)— на Ярославовом Дворище, либо на Городище. Облик первоначальной селитьбы, состоявшей из гнезд разбросанных по холмам усадеб, окруженных частоколами, с плотно заселенной округой, где на протяжении нескольких километров по Волхову и окрестным рекам (Волховцу, Веряже, Прости, Ракомке) также располагались открытые и укрепленные поселения, объясняет не только название «Новгород» («новый» по отношению к предшествующим разрозненным укреплениям), но и согласуется со скандинавским топонимом Gar Процесс этот практически не отражен в письменных источниках, и восстанавливается только по данным археологии и топонимики. Контаминация летописных и археологических данных (для исследования Ладоги возможная уже по отношению к событиям середины IX в.) в Новгороде достигается лишь на 130 лет позднее. Неревские клады (971/2 и 974/5 гг.) можно связать с событиями 988 г. [255, с. 180-207; 256, с. 287-331], когда Добрыня с киевской дружиной подчинял город власти великого князя Владимира. К этому времени Новгород стал крупным городским центром, с укрепленным Детинцем (где вскоре был воздвигнут деревянный Софийский собор), плотной уличной застройкой Неревского, Людина и Славенского концов, боярскими усадьбами площадью 1200-1500 кв. м. Название «Новгород», первоначально относившееся собственно к Детинцу, было перенесено на весь этот, огромный для своего времени, развивающийся городской организм. Точно так же за ним закрепилось и скандинавское имя «Хольмгард», под которым он неоднократно упоминается в рунических надписях, песнях скальдов и сагах. Скандинавские вещи в культурном слое Новгорода обнаруживаются в наиболее ранних его отложениях (включая «доярусный слой»); среди них — фрагмент витой шейной гривны, скорлупообразная фибула (типа ЯП 51 k), различные украшения, христианские крестики. Ряд изделий, выполненных новгородскими ремесленниками, может рассматриваться как «вещи-гибриды», результат взаимодействия традиций скандинавского и древнерусского ремесла. Время бытования всех этих вещей ограничено X-XI вв. в слоях первой половины XII в. скандинавских находок «уже почти нет» [198, с. 181]. Взаимодействие норманнов и славян в среде городского населения (ремесленников, купцов) в Новгороде было значительно менее длительным и интенсивным, чем в Ладоге, где оно продолжалось с середины VIII до конца XI в. Особый интерес представляют найденные в Новгороде рунические надписи. В слое первой четверти XI в. на одной из усадеб Неревского конца в 1956 г. был обнаружен обломок ребра коровы с процарапанными на нем 32 знаками, из которых более 10 могут быть отождествлены с рунами «датского» футарка XI в. Вторая надпись, на свиной кости, найдена в слое первой половины XI в. в том же Неревском раскопе в 1958 г.; на ней вырезан (сохранившийся неполностью) 16-значный футарк в начертании, характерном для времени «не ранее 900 г.» [140, с. 156-158]. Обстоятельства находок, особенно — второй, позволяют рассматривать их как свидетельство пребывания в Новгороде XI в. варягов, владевших руническим письмом. По сравнению с ладожскими находками, новгородские надписи зафиксировали следующий этап развития рунической письменности, относящийся к поздней эпохе викингов. Хольмгард неоднократно упоминается в рунических надписях XI в., сохранившихся на территории Скандинавии. Обычно это — место гибели воина, иногда — в составе военного отряда (видимо, нечто подобное наемным дружинам, судьбе которых посвящена «Сага об Эймунде»): Он пал в Хольмгарде кормчий с корабельщиками В надписи из Шюста (Упланд, Швеция) упоминается olafs kriki — церковь Олава в Новгороде, где погиб (в последней трети XI в.) некий Спьяльбуд [140, с. 113-114; 137, с. 175-178]. Варяжский храм в память конунга Олава Святого, важнейшие этапы жизни которого были связаны с Новгородом, достаточно отчетливо очерчивает верхний уровень славяно-скандинавских контактов. Князья и их дружина — вот преимущественно та социальная среда, в которой и по данным саг, и по сведениям летописи оказывались в Новгороде варяги. Наряду с отдельными боярскими усадьбами, иноземными торговыми дворами, основным местом их пребывания были княжеские резиденции (Ярославово Дворище, или Рюриково Городище). Но политическая структура Новгорода уже в IX-XI вв. существенно ограничивала права князя и его дружины в пользу местного боярского самоуправления. Именно поэтому, несмотря на всю престижность и выгодность пребывания в Новгороде, роль варягов здесь была гораздо менее заметна, чем в Ладоге VIII-IX вв., хотя их количество при этом могло быть временами и значительно большим. Но военные контингента сотен, иногда даже тысяч викингов, готовых получать от новгородского князя «по эйриру серебра», а если его не хватало, «брать это бобрами и соболями» [189, с. 92], не могли стать политическим соперником новгородского боярства, возглавлявшего мощную, выросшую из племенной, территориальную организацию. Тысяче варягов она могла противопоставить до сорока тысяч своих собственных воинов, и, как в 1015 г., этой силы могло быть достаточно для полного контроля не только в северной Руси, но и для успешной борьбы за «великий стол киевский». Существенным элементом русско-скандинавских отношений, связанных с Новгородом, была установленная при Олеге дань в 300 гривен (75 северных марок серебра), которая выплачивалась варягам «мира деля» вплоть до смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. По социальным нормам, реконструированным для Скандинавии эпохи викингов, этой суммы было достаточно для содержания небольшого отряда (в несколько кораблей), способного защищать безопасность плавания в «Хольмском море», Финском заливе (H Система отношений, включавшая такой откуп, равно как постоянное содержание наемной варяжской дружины при князе, сложилась, по-видимому, к концу IX в. Отношения в более ранний период развивались в несколько иных формах. Определенная часть норманнов, как и в Ладоге, и в южном Приладожье, влилась в состав местного населения, что проявилось в летописном указании на «людье ноугородьци от рода варяжьска» [ПВЛ, 862 г.]. Приуроченные летописью к 864 г., такого рода славяно-варяжские связи в Новгороде развивались, очевидно, на протяжении всего IX в. Ославянившиеся норманны слились с другими кланами новгородского боярства, и уже в середине столетия политические цели этих варяжских потомков были резко противоположны целям как находников, так и наемников, и даже целям возводивших себя к Рюрику князей. Славяно-скандинавский синтез в Новгороде, еще в большей степени, чем в Ладоге и Приладожье, проходил при постоянном преобладании местного, славянского компонента. До конца IX в. (эпохи Олега) он, по существу, не влиял на положение в других русских землях. Однако своеобразие политической, экономической (в аспекте внешних связей), культурной жизни Верхней Руси, в значительной мере определялось длительным, на протяжении последних десятилетий VIII, всего IX, X и XI вв. взаимодействием славян и скандинавов. Эти отношения прошли сложный путь: от первых, эпизодических контактов дружин воинов-купцов, продвигавшихся по неведомым еще водным путям в глубины лесной зоны северной части Восточной Европы, к совместным поселениям на важнейших магистралях, в окружении автохтонных финских племен; затем — к социально-политическому партнерству наиболее активных общественных групп. В этом сотрудничестве перевес неизбежно оказывался на стороне словен ильменских, опиравшихся и на ресурсы собственного племенного княжения, и на поддержку родственных образований в соседних областях. Часть варяжской знати либо слилась с местным боярством, либо вошла в состав отчасти противостоящего этому боярству, но в целом — служащего его интересам военно-административного аппарата (князь с дружиной). Именно к этому аппарату примыкали в дальнейшем новые контингента варягов, выступавшие на Руси в качестве наемных дружин. Традиционные, на протяжении трех столетий связи обеспечили их развитие на новом уровне — княжеско-династическом, отразившемся в художественных произведениях феодальной культуры. Именно поэтому Новгород — Хольмгард, как ни один другой русский город ярким и сказочным вошел в тексты скандинавских саг. Роль остальных центров Верхней Руси в развитии русско-скандинавских связей может быть освещена лишь на основе археологических данных, значительно уступающих обилию материалов Новгорода и Ладоги. Псков приобретает черты города на рубеже IX-X вв. (Псков — Г, по С.В.Белецкому), когда рядом с древним мысовым городищем Крома появляется обширный посад. Керамический комплекс этого времени насыщен западнославянскими элементами; население города, впитавшее какие-то группы новых поселенцев, занималось ремеслом и торговлей. Скандинавские вещи, «гибридные» изделия местного ремесла, равно как и погребения по варяжскому обряду в городском некрополе (две камерные гробницы, сожжение с набором скорлупообразных фибул) свидетельствуют о скандинавском элементе в составе населения Пскова и, в частности, о присутствии варягов в дружине [18, с. 15]. Изборск, упомянутый в «предании о варягах», уже в VIII-IX вв. был значительным центром славянского населения в южном прибрежье Псковского озера. Укрепленное поселение на так называемом Труворовом городище до начала X в., по заключению, основанному на многолетних исследованиях В.В.Седова, сохраняло протогородской характер. В X в. укрепления Изборска перестраиваются, наряду с детинцем формируется торгово-ремесленный посад. Здесь производились гребни, аналогичные староладожским и другим североевропейским формам, известны отдельные скандинавские вещи (серебряная фибула, шпоры «викингского типа»). На рубеже XI-ХII вв. в Изборске были сооружены каменные укрепления, в это время он становится важнейшей пограничной крепостью на подступах к Пскову [195; 196; 197]. Полоцкое городище, существовавшее до 980 г., исследовано в очень небольшом объеме. Находки в его окрестностях (клад дирхемов 40-х годов X в., франкский меч) свидетельствуют о том, что город, возникший в VIII-IX вв., принимал активное участие в системе внешних связей, охватывавшей другие рассмотренные русские центры [245]. Материалы западных районов Верхней Руси и прилегающих областей в целом не противоречат известиям летописи о русско-скандинавских отношениях IX-X вв.; однако они и не дают столь ярких и детальных свидетельств о развитии этих отношений, как данные археологии и письменных источников для Ладоги и Новгорода. Это не случайно — активность норманнов была направлена прежде всего на магистральные водные пути, а в IX в. — преимущественно к непосредственным источникам арабского серебра, на Волжский путь; лишь взаимодействие со славянами во всех основных восточноевропейских центрах балтийско-волжской торговли привело их к переориентации не только на Новгород, но и на другие, более южные русские центры. Это обстоятельство отмечено и «Повестью временных лет», сообщившей о расширении первоначального «княжения» Рюрика именно в восточном и юго-восточном направлениях, от Белоозера — к Ростову и Мурому. В материалах памятников этого региона имеются подтверждения ранней активности скандинавов на землях формирующейся северо-восточной Руси, в IX в. тесно связанной с Верхней Русью. По мнению современного исследователя этого региона И.В.Дубова, основной поток славянской колонизации Волго-Окского междуречья шел в это время с Северо-Запада, и в потоке славянского (а также ассимилируемого финно-угорского) населения сюда проникали и отдельные группы варягов [70, с. 33-37]. Скандинавские находки известны у д. Городище в окрестностях летописного Белоозера [40, с. 131-137; 41, с. 186-187], на Сарском городище под Ростовом [120, с. 20], в погребениях владимирских курганов [190, с. 243]. Наиболее ранние и выразительные скандинавские комплексы сосредоточены в курганных могильниках Ярославского Поволжья, Тимеревском, Михайловском, Петровском, при которых располагались открытые поселения. Ярославские памятники дали богатый и разнообразный материал, относящийся как к истории освоения края славянами, так и к характеристике торговой активности на Волжском пути в IX-XI вв. [257; 70, с. 124-187]. Вплоть до основания великокняжеской крепости в Ярославле эти открытые торгово-ремесленные поселения вместе с летописным Ростовом составляли, по-видимому, основу загадочного «третьего центра Руси», который арабские источники называют «Арса» [70, с. 104-123; 134, с. 22]. Присутствие норманнов в этой политической общности по погребальным памятникам прослеживается с IX в. В X в. разворачивается процесс этнической интеграции и социальной стратификации, который привел к растворению пришельцев в славянской среде. Вклад варягов в культуру торгово-ремесленных поселений проявился не только в погребальном обряде, распространении некоторых типов вещей, но и в какой-то мере в керамической и домостроительной традициях [199, с. 111-118; 219, с. 118-123]. Продвижение скандинавских воинов-купцов по Волжскому пути зафиксировано находкой норманского сожжения с оружием в Белымере, близ Булгара, что позволяет с большей долей вероятности видеть в «русах», встреченных здесь в 922 г. Ибн-Фадланом, представителей именной этой группы [270, с. 64-65]. В конце X — начале XI в. на Северо-Востоке развиваются процессы, которые привели к быстрому обособлению Ростово-Суздальской земли и превращению ее в одно из крупнейших древнерусских княжеств. К этому времени скандинавский элемент здесь исчез полностью, что в значительной мере было обусловлено упадком Волжского пути, после разгрома Святославом Булгара и Хазарии в 964-965 гг. В отличие от основной территории Верхней Руси, в верхневолжских землях активность норманнов ограничена временем с середины IX до середины X в. Прекращение движения арабского серебра по Волге, однако, не означало свертывания русско-скандинавских экономических отношений. В X — начале XI в. происходит их перестройка, в результате которой Русь превращается из транзитного экспортера в импортера монетного серебра, поступающего из западноевропейских стран через Скандинавию. Наибольшее количество кладов X-XII вв. с западными денариями сосредоточено в Новгородской земле [170, с. 15, 47]. Заметное место в этих кладах занимает английское серебро, поступавшее в виде «Данегельда», что непосредственно указывает на участие викингов в торговых сношениях с русскими землями. Верхняя Русь, таким образом, на протяжении нескольких столетий — с середины VIII до начала XII в. была постоянной и обширной ареной длительных и разносторонних славяно-скандинавских контактов. Многовековые отношения неоднократно меняли форму, направление, социальную мотивировку; они охватывали различные слои населения, включали наряду со славянами и скандинавами представителей других этнических групп. Все это вело к глубокому взаимопроникновению разных уровней материальной и духовной культуры [329, с. 48-57]. Этот сложный комплекс взаимосвязанных факторов, выявляемых на основании изучения археологических, письменных, нумизматических, лингвистических данных, должен быть обязательной основой для анализа одного из запутанных, осложненных избыточными построениями вопросов ранней истории Киевской Руси — проблемы происхождения термина «русь», первоначально обозначавшего одну из групп восточноевропейского населения, затем приобретшего территориальное значение «Русская Земля» и, наконец, ставшего названием государства и страны — Русь [16, с. 289-293, 365-384]. Советские лингвисты за последние двадцать лет неоднократно исследовали эту проблему. Обоснованно отвергнуты как несостоятельные любые попытки возвести летописное «русь» непосредственно к росомонам, роксоланам, библейско-византийскому Rh Верхняя Русь является единственной областью, где имелись все необходимые предпосылки для такого преобразования в виде длительных и устойчивых славяно-финско-скандинавских контактов. «Русь» в значении самоназвания (не этнонима, который присваивают иноязычные соседи) могла появиться только в среде этого смешанного населения, где славянский компонент ассимилировал как носителей исходного социального термина — варягов, так и передатчиков этого термина, вступивших в контакт со скандинавами на несколько столетий раньше, финское население. «Русь» как этническое наименование — явление прежде всего восточноевропейское, связанное не с переселением какой-либо особой племенной группы, а с этносоциальным синтезом, который потребовал появления нового, надплеменного и надэтничного обозначения [229, с. 215-220]. Эти выводы современных лингвистов, А.И.Попова, Г.А.Хабургаева, подытожившие труд многих поколений исследователей, буквально дословно подтверждает «Повесть временных лет»: «И беша у него варяги и словени и прочи прозвашася русью» — так завершает она рассказ о походе Олега на Киев [ПВЛ, 882 г.]. Сложные построения, с помощью которых историки (нелингвисты) пытаются дезавуировать более раннее летописное сообщение: «И от тех варяг прозвася Руская земля, новугородьци» [186, с. 302-303], не учитывают, пожалуй, главного: в летописи мы имеем дело не только с историческими фактами, но и с тем, что «наивно-мифологическим является осмысление этих фактов... А факты эти сводятся к тому, что летописному утверждению о появлении руси на севере и о ее связи с норманнскими поселениями Приладожья соответствуют многочисленные данные ономастики» [229, с. 219-220]. При этом здесь, на севере Руси, славяно-скандинавские лингвистические отношения подчинены особым, специфически восточноевропейским законам [141, с. 206], проявившимся и в необычной продуктивности модели «X-gardr», и в переогласовке северного farima 4. Путь из варяг в греки Волховско-Днепровская магистраль, протяженностью около 1500 км, начиналась в восточной оконечности Финского залива, и проходила по Неве («устье озера Нево»), юго-западной части Ладожского озера, Волхову, оз. Ильмень, Ловати, с переходом из Балтийского бассейна в Черноморский, по речкам Усвяче, Каспле, Лучесе, верхнему течению Западной Двины (где открывался еще один выход на Балтику) и системе волоков на Днепр в районе Смоленска. Отсюда начинался путь по Днепру, с важным перекрестком в районе Киева, труднопроходимым участком днепровских порогов и выходом на простор Черного моря в непосредственной близости от Херсонеса (Корсуни) и других византийских владений в Крыму [239, с. 45; 25, с. 210-247; 20, с. 239-270; 249, с. 105; 10, с. 159-169; 107, с. 37-43; 186, с. 125-128, 294]. Эта магистраль входила в IX—X вв. в разветвленную систему трансъевропейских водных путей. Ее основу составляли расположенные в меридиональном направлении реки Волхов, Днепр и — в значительной мере — Волга. Связи в направлении с востока на запад осуществлялись по Оке, верхнему течению Волги, Западной Двине, Неману, Десне, Дону и сложным водным системам из небольших рек Приильменья (Пола, Полнеть, Мета), Приладожья (Сясь, Тихвинка), Верхнего Поволжья (Чагода, Молога и др.). Волхов вместе с реками восточного Приильменья уже на исходе VIII в. был включен в систему международных коммуникаций [157, с. 100-103]. По мере развития северной части Волжско-Балтийского пути, начинали функционировать и отдельные звенья Пути из варяг в греки. В его становлении можно выделить несколько этапов. Первый этап (800-833 гг.) фиксируется по 25 кладам «первого периода обращения дирхема» (конец VIII в. — 833 г.) 12 из них составляют раннюю группу (786-817 гг.). Они известны как на Волховско-Днепровском, так и на Волжском пути. Клады этого времени распространяются по «северославянской культурно-исторической зоне», достигая Поморья и Мекленбурга, а также появляются в бассейне Верхнего и Среднего Днепра. На пространстве от Киева до Ладоги они образуют компактный ареал [98, с. 132] и свидетельствуют, видимо, о начале социально-экономических процессов, наиболее ярко проявившихся в стабилизации денежного обращения в пределах нового политического образования — «каганата росов», «Руской земли» рубежа 830-840-х годов. Установившее (судя по кладам Готланда и западной Балтики) тесные внешние связи [249, с. 80; 230, с. 193] восточноевропейское государство, пытавшееся противопоставить Хазарии как политическую мощь Византии, так и военную активность «свеев», в середине IX в. переживает определенный кризис, подвергаясь на юге давлению хазар [240, с. 203-205], а на севере — варягов. Стабилизация славяно-скандинавских отношений после «изгнания варягов» и «призвания князей» во главе с Рюриком привела после 850-х годов к возобновлению и расширению балтийской торговли. Второй этап (825-900 гг.) развития Пути из варяг в греки прослеживается по серии находок скандинавских вещей, как правило, включенных в местный культурный контекст, связанный со славянским, а то и дославянским населением [81, с. 244]. Возникает ряд небольших, локальных центров на Волховско-Днепровском пути, таких, как селище и могильник «культуры длинных курганов» в Торопце (бассейн Западной Двины); селище и могильник близ более раннего городища у д. Рокот, селище, могильник и более раннее городище у д. Кислая, курганы и городище у д. Новоселки — в Днепре-Двинском междуречье [119, с. 166-170]. В кладе у д. Кислая вместе с арабским серебром найден датский полубрактеат Хедебю (ок. 825 г.), поступивший, видимо, по Двинскому пути из области наиболее ранней стабилизации славяно-скандинавских отношений [29, с. 102; 329, с. 125]. Остальные находки — второй половины IX в. В курганах у д. Новоселки с норманнскими вещами и чертами обряда сочетаются особенности, характерные для местных балтских племен [241, с. 114-123]. К этому времени относятся и наиболее ранние комплексы Гнездова, нового центра на выходе с волоков двинской системы на Днепр. Гнездовский курган № 15 (10) из раскопок первого исследователя гиеэдовских древностей М.Ф.Кусцинского содержал набор вещей, куда входит меч типа Е (вариант, относящийся к первой половине IX в.), копье с «готическим» орнаментом (VIII-IX вв.), гривна с «молоточками Тора» и другие веши, позволяющие датировать комплекс второй половиной IX в. [32, с. 16]. Система «широтных путей» (Волхов — Новгород — Мета — Верхняя Волга; Западная Двина — Днепр (Смоленск-Гнездово) — Ока) обеспечивала выходы к непосредственным источникам арабского серебра на Волжском пути, а активное участие в создании этой системы местного населения обеспечило дальнейший рост магистральных водных путей и центров. Третий этап (850-950 гг.) ознаменован превращением в крупнейший узел связей по Пути из варяг в греки Гнездовского поселения, отождествляемого с первоначальным Смоленском [127, с. 33-37; 14, с. 135-146]. Гнездовский комплект памятников на правом берегу Днепра включает Большое (Центральное) городище, селище и курганный могильник, а также обособленный Ольшанский комплект и несколько кладов. Материалы курганов и поселений свидетельствуют об их одновременности [126, с. 43-44; 8, с. 241-242]. Хронология гнездовского комплекта памятников по периодизации, разработанной В.А.Булкиным, охватывает три стадии: для ранней (время сложения поселения и могильника) характерны мечи IX — первой половины Х в. (типы D, Е, Я), фибулы IX в., монеты IX — начала X в., преимущественно лепная керамика. Вторая стадия (время расцвета Гнездова) представлена мечами типов V, X, Y (X — начало XI в.), монетами X в. (начиная с 920-х годов), фибулами X в. (в основном, второй половины столетия — начала XI в.); к этому же времени относится большинство из найденных в Гнездове кладов (не менее 7). Третья стадия в курганных комплексах представлена гончарной керамикой с клеймами мастеров, наиболее поздними монетами, распространением погребений по обряду трупоположения [30, с. 38]. Таким образом, зародившись во второй половине IX — начале X в., «гнездовский Смоленск» пережил расцвет в X в., во второй половине столетия намечается его упадок (проявившийся в появлении обособленного Ольшанского комплекта памятников), который и завершается в конце X — первой половине XI в., одновременно с появлением «княжеского Смоленска» на его современном месте, с центром на Соборной горе [14, с. 145-148]. Те же три стадии выделяются и по материалам поселения. Гнездовское селище И.И.Ляпушкин (по данным раскопок 1967 г.) датировал началом IX в., и к этому времени он отнес наиболее сохранные, не потревоженные распашкой участки культурного слоя с лепной славянской керамикой в углубленных постройках производственного назначения [127, с. 33-37]. Большое городище выделилось из состава открытого поселения не ранее начала X в., когда были сооружены земляные укрепления [1,2, с. 49; 175. с, 82-83]. Во второй половине X в. обособляется Ольшанский комплект памятников, а в первой половине XI в. жизнь в Гнездове замирает. Наряду с обслуживанием водного торгового пути важное место в жизни Гнездова занимало военное дело: выделяются курганы военных предводителей, рядовых дружинников и ополченцев; в честь погибших в далеких походах были сооружены величественные меморативные насыпи [7, с. 323; 26, с. 207; 27, с. 120-122]. Торговые обороты в Гнездове засвидетельствованы находками кладов, состоящих из восточных монет, предметов скандинавского импорта и вещей местного происхождения, среди которых — великолепные образцы ювелирного ремесла, «гибридизирующего» славянские и скандинавские художественные традиции. 57 монет найдено в курганах Гнездова. Свыше 18% монетных находок в могильнике и на поселении относится ко времени ок. 800 г., столько же — к 800-900 гг., остальные — к 900-970 гг. Гнездовское население активно включается в монетное обращение со второй половины IX в. (до рубежа IX-X вв.); во втором — пятом десятилетиях X в. серебро поступало сюда наиболее интенсивно, а в 960-х годах приток его резко сокращается [174, с. 192-194]. Торговля была тесно связана с военным делом: в дружинных курганах наряду с оружием есть предметы торгового снаряжения, а также вещи явно привозные. Наиболее известная из таких находок — уникальная для Древней Руси причерноморская амфора с кириллической надписью, которая читается как «Гороухща». Она найдена в кургане № 13 раскопок Д.А.Авдусина 1949 г. [7, с. 334]. Курган, по определению автора, относится к числу скандинавских погребений Гнездова [11, с. 83] и датирован первой четвертью X в. [7, с. 320-321; 9, с. 113]. Не только торговля экзотическими заморскими товарами, и не только военные походы были занятиями жителей Гнездова. Здесь древнерусское ремесло проходит важный этап развития. Исследованный И.И.Ляпушкиным участок поселения на мысу, образованном берегами Днепра и р. Свинки, был занят мастерскими по обработке цветных металлов [127, с. 36]. Образцами высокоразвитого ремесла являются найденные в гнездовских курганах «вещи-гибриды», такие, как фибула (типа находки на Рюриковом городище, с маской героя, пожираемого змеей), меч из кургана Ц-2 (раскопки Д.А.Авдусина) с орнаментом рукояти, воспроизводящим мотивы декора скорлулообразных фибул. Эти находки свидетельствуют о том, что связи с Северной Европой не ограничивались ввозом готовых изделий. Исследователи предполагают, что в X в. некоторые скандинавские ремесленники поселились и начали работать в восточноевропейских центрах, испытывая воздействие местных художественных традиций [271, с. 132-134; 94, с. 45-47; 96, с. 35-40]. Вещи-гибриды являются отражением процесса этнокультурной интеграции, который в Гнездове проявился также в развитии погребального обряда. Этнически неоднородное поселение, возникшее на основе селища тушемлинской культуры (к которой восходит культура смоленских длинных курганов), Гнездово объединило славянские, балтские, скандинавские, восточнофинские этнические традиции и стало одним из центров формирования древнерусской восточнославянской группировки кривичей X-XI вв. [244, с. 150-164; 243, с. 104-108; 30, с. 48]. Эволюция погребальных обрядов свидетельствует о стирании этнических различий и о нарастающей социальной стратификации [26, с. 207-210; 242, с. 51]. Представляя собою особый тип урбанистического образования — открытое торгово-ремесленное поселение (ОТРП) Гнездово, как и ранняя Ладога, Рюриково городище, Тимерево, стало центром кристаллизации новых форм социальной общности — военных дружин, купеческих объединений, ремесленных организаций, обретающих надплеменной и межплеменной статус. Характерным показателем этого процесса стало развитие на базе ОТРП, как и в старых племенных центрах, так называемых «дружинных могильников». Четвертый этап развития Пути из варяг в греки (900-980 гг.) — время языческих дружинных могильников, отразивших процесс консолидации древнерусского господствующего класса. В Гнездове это — «большие курганы», составившие особое аристократическое кладбище в центральной части могильника [28, с. 134-146]. Начальное звено традиции — скандинавские курганы с сожжением в ладье — обычай, выработанный в среде викингов и принесенный на Русь варягами [106, с. 179-181]. В Гнездове, где, по подсчетам Д.А.Авдусина, среди богатых курганов в 42 находятся погребения варягов, или «скандинавов второго поколения», а в 17 есть «норманнские вещи, но они единичны и недостаточны для окончательных выводов» [11, с. 74-86], норманнская обрядность обретает новые черты. Вырабатывается устойчивый, специфически гнездовский ритуал, включающий строгую последовательность действий: 1) выбор места; 2) определение размеров основания насыпи, поперечником ок. 30 м; 3) выжигание растительности; 4) сооружение примерно метровой подсыпки, со всходом на погребальную площадку с западной стороны; 5) установка на площадке ладьи, в направлении с запада на восток; 6) размещение покойников, мужчины в воинских доспехах (шлем, кольчуга и пр.) и женщины в праздничном уборе (иногда — со скандинавскими фибулами); 7) акт сожжения; 8) размещение погребальных урн; собранного с кострища, воткнутого в землю и накрытого шлемом либо щитом оружия; 9) жертвоприношения животных, барана или козла, уложенных в жертвенный сосуд (котел); 10) битье посуды, ломка вещей (железных гривен и др.); 11) сооружение курганной насыпи [28, с. 140]. Строгий, детально разработанный ритуал, который обычно сравнивают с описанием похорон «знатного руса» у Ибн-Фадлана, современника гнездовских «больших курганов», является не только развитием, но и преобразованием скандинавских традиций. Этноопределяющие элементы — фибулы, гривны с «молоточками Тора» на определенном этапе развития обряда исчезают из употребления; а конструкция, размеры, последовательность сооружения насыпи все более сближают гнездовские курганы с памятниками Киева и Чернигова, в которых (как и в поздних гнездовских) нет никаких специфически варяжских черт. Эти курганы принадлежат высшему социальному слою — боярам Древней Руси X в. И если контакт варягов со славянским боярством в Ладоге IX в. фиксируется лишь косвенно (по облику материальной культуры и градостроительным изменениям), если для Новгорода он определяется ретроспективно (на основании анализа социальной структуры боярской республики XII-XV вв. и проекции этих данных на IX-X вв.), то гнездовские курганы дают первое материальное подтверждение такого контакта, выявляя процесс консолидации какой-то части варягов с боярско-дружинной средой, их растворения в этой среде. Процесс формирования господствующего класса ярко проявился в некрополе древнего Киева, где в конце IX-X вв. складывается сложная иерархия погребений (монументальные курганы, срубные гробницы бояр, погребения воинов с конем и оружием) [78, с. 127-230]. Та же структура отразилась в могильниках Чернигова и его окрестностей [180, с. 14-53]. Как и Гнездово, Новгород, Ладога, эти крупнейшие центры, расположенные вдоль Пути из варяг в греки, запечатлели неуклонный подъем древнерусской государственности в течение X в. Путь из варяг в греки, на котором концентрируется более половины находок оружия IX-XI вв. [82, I, рис. 2,9; ср. II, рис. 2,7], все более выступает как военно-политическая магистраль, укрепленная опорными военными базами феодальной власти. Пятый этап функционирования Пути из варяг в греки (950-1050 гг.) связан с дальнейшим укреплением великокняжеской власти. Открытые центры сменяются древнерусскими городами, а вокруг главного из них — Киева, столицы Русской земли, вырастает мощная оборонительная система великокняжеских крепостей. Они защищают путь, по которому «в июне месяце, двинувшись по реке Днепру... спускаются в Витичев, подвластную Руси крепость», снаряженные киевским князем «моноксиды» — однодеревки, груженные данью, собранной и свезенной из Новгорода и Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышгорода [Const. Porph., 9]. Торговля, регламентированная договорами Руси с греками, «сбыт полюдья», как назвал ее Б.А.Рыбаков, обогащает прежде всего киевского князя и его приближенных, реализуясь в кладах Киева с массивными золотыми вещами, «более похожими на слитки» [91, с. 65]. Злато и оружие — атрибуты господствующего класса, сосредоточиваются на Днепровском пути и более всего в Киеве. Киев, поднявшийся на днепровских кручах явью видений легендарного апостола, предрекшего здесь «град велик и церкви многи», становится главным притяжением сил, перемещающихся по Пути из варяг в греки. Еще в 1222 г. норвежец Огмунд совершил по этому пути паломничество на Восток, к христианским святыням в Иерусалиме [188, с. 330]. Вплоть до XIII в. Волховско-Днепровский путь сохранял значение главной политико-административной коммуникации Древнерусского государства. Первые политические события на Пути из варяг в греки можно отнести ко второй трети IX в., ко времени «каганата русов». Если с активностью среднеднепровской «Руской Земли» связывать не только посольство в Византию и Западную Европу в 838-839 гг., но и какую-то поддержку племен Верхней Руси в их борьбе с варягами-находниками, то события 859-862 гг. можно рассматривать как первое реальное указание на общерусскую роль Волховско-Днепровского пути. Подтверждает эту гипотезу свидетельство Вертинских анналов 839 г. о том, что послы «хакана росов» рассчитывали вернуться к своему кагану кружным путем, почему и оказались далеко на Западе, в Ингуленгейме. Запланированный послами маршрут точно соответствует летописному описанию Пути из варяг в греки: от Царягорода до Рима, и от Рима до моря Варяжского (Балтийского), в Неву, а по Неве — в озеро Нево (Ладожское), затем в Волхов, Ильмень-озеро, Ловать, а оттуда волоком — на Днепр. Шведы, выступавшие в роли посланников русского князя, видимо, сначала хотели вернуться на родину, а оттуда знакомым путем через Ладогу — Альдейгьюборг попасть в «каганат росов», тождественный летописной «Руской земле» 842 (852) г. Две любопытные находки иллюстрируют это сообщение. В Гнездове, в кургане № 47 (раскопки Д.А.Авдусина) найдена золотая монета императора Феофила (829-842 гг.), принимавшего послов «росов» в 838 г. [6, с. 101]. Курган № 47 относится к числу ранних «больших курганов» [28, с. 142-143]. Вторая монета того же императора Феофила (серебряная, превращенная в подвеску) обнаружена в одном из камерных погребений Бирки, № 632 [269, с. 211]. Если учесть редкую встречаемость византийских монет этого круга к в кладах [98, с. 8, 10], и в могильниках [в Гнездове — 4, в Бирке — всего 2 византийских монеты на 184 монетных находки в могилах], то появление двух очень редких монет одного императора в обоих крупных международных центрах можно объяснить только функционированием Пути из варяг в греки уже во времена Феофила. Видимо, уже в 830-х — 860-х годах наметилось разделение функций Волжской и Волховско-Днепровской магистралей. Первая из них специализируется как торговый путь. Вторая — как путь военно-политический, служивший целям древнерусского государства. Это соотношение было нарушено в последней трети X в., когда после походов Святослава волжская магистраль приходит в упадок, и ведущей коммуникацией Восточной Европы становится Днепровский путь. Начальный этап его формирования относится к 810-м годам, а окончательно сложился он, видимо, между 825-839 гг. [345, с. 101]. Косвенным подтверждением ранней даты славяно-варяго-византийских контактов на Пути из варяг в греки стала еще одна, недавно опубликованная монетная находка [68, с. 29-32], из клада начала IX в. (до 825 г.), зарытого на южном побережье Финского залива (где-то близ Петергофа). На аббасидском дирхеме 776-777 гг. нацарапана греческая надпись ЗАХАРИАС, нанесенная в конце VIII — начале IX в. Фонетический облик и орфография надписи свидетельствуют о ее греческом происхождении Граффити на монетах VIII-X вв. недавно выявлены советскими исследователями и систематизированы в ряде работ. Замечено, что ранние образцы — это именно надписи (в том числе рунические), которые в X в. сменяются всевозможными воинскими или государственными атрибутами (изображение ладьи, оружия, «знака Рюриковичей» и т.д. [64; 65; 66; 67]. Обычай метить дирхемы граффити родился, несомненно, в Восточной Европе, в военно-торговой дружинной среде, при активном участии варягов (меченые граффити монеты известны и в Скандинавии). Причины нанесения граффити неизвестны, но их неслучайный характер не вызывает сомнений: руны в ряде чтений интерпретируются как магические знаки, а некоторые изображения — как метки владельцев. Грек (некий Захариос), пометивший таким образом свое монетное серебро, должен был знать нормы я нравы той общественной среды, в которой меченный дирхем обращался, пока не попал в землю, на противоположном конце Пути из варяг в греки. Бесспорна связь петергофского клада — с Ладогой VIII-IX вв., а греческая надпись указывает, что в это время устанавливаются какие-то контакты ладожского населения (в том числе и варягов) с Причерноморьем, наиболее возможные но Волховско-Днепровскому пути. Вся серия находок, отражающая участие варягов в сношениях по Пути из варяг в греки, не обнаруживает при этом каких-либо, специфически норманнских целей, расходившихся или противоречивших целям Древнерусского государства. Скандинавы могли пользоваться Волховско-Днепровским путем, находясь на службе или войдя в какие-либо иные соглашения с древнерусской знатью, великокняжеской администрацией, будь то во времена «первых князей», «хаканов», либо эпического князя Владимира, «конунга Вальдамара Старого» скандинавских саг. По существу, те же условия стояли перед норманнами и в Византии, где (по почину Владимира, отправившего в Царьград избыточный варяжский контингент) с 980-х годов существовал варяго-русский корпус императорской гвардии [34]. Сюда, в Миклагард, викингов привлекало в X-XI вв. высокое жалование, исчислявшееся в 10 золотых солидов каждую треть года [99, с. 65-69]; а участие в походах и войнах византийцев; дворцовых заговорах, переворотах и грабежах позволяло надеяться собрать, подобно Харальду Хардраде, такие богатства, что «казалось .всем, кто видел это, в высшей степени удивительным, что в северных странах могло собраться столько золота в одном месте» [Сага о Харальде Суровом, 24]. Документом этих путешествий варягов в Византию по Пути из варяг в греки остался рунический камень (единственный на территории Древней Руси собственно надгробный памятник такого рода), найденный в одном из курганов на острове Березань, в устье Днепра. Надпись, датирующаяся XI в., сообщает: Krani kerthi half thisi iftir kal fi laka sin — «Грани сделал холм этот по Карлу, своему товарищу (фелаги)». Е.А.Мельникова справедливо отмечает, что этот единственный на Руси мемориальный рунический памятник поставлен не родичами погибшего, а его сотоварищем. Термин «фелаги», сложившийся и бытовавший в дружинно-торговой викингской среде, достаточно точно указывает «социальный адрес» норманнов, пользовавшихся Путем из варяг в греки. Основные нити контроля над этим путем сосредотачивались в Киеве. С определенными, мотивированными недостаточностью источников оговорками, но опираясь на бесспорные факты, эту ситуацию можно констатировать уже на исходе первой трети IX в. ( 839 г.). «Свей», странствовавшие по восточноевропейским просторам от Ладоги до Черного моря, включались здесь в процесс становления и утверждения Древнерусского государства, и возможности для активной, успешной, с точки зрения норманнов, деятельности непреложным условием требовали установления стабильных отношений сотрудничества с местными силами. Чем дальше к югу, тем заметнее воздействие восточнославянских центров, тем разнообразнее и жестче условия, определяющие присутствие варягов. Положение заморских пришельцев в городах и торговых центрах Верхней Руси (Волховской, а в IX — начале X в. и Волжской «Арсы») и даже в кривичском Смоленске (Гнездове), в глубине Русской равнины, существенно отличались от их места и роли в центральной области Древнерусского государства, Киеве и других городах Среднего Поднепровья. На фоне последовательного, динамичного роста Полянской столицы VI-IX вв. пришлый, варяжский элемент выявляется здесь (и по археологическим, и по летописным данным) в составе ли обрусевших варягов из числа бояр киевского князя, или в качестве воинов-наемников, лишь со времени объединения русских земель в 882 г., после похода Олега, окончательно превратившего Киев в столицу Древнерусского государства. 5. Среднеднепровская русская земля — ядро государственной территории Киевской Руси Область Среднего Поднепровья вокруг Киева, Чернигова, Переяславля, выделявшаяся летописцами как «Русская Земля» в первоначальном значении («Внутренняя Русь») уже во второй половине I тыс. н.э. выступает как зона прогрессивных социально-экономических и культурных изменений. Последовательное развитие археологических культур середины — третьей четверти I тыс. завершилось в VII-VIII вв. формированием новой общности, ареал которой не совпадает полностью ни с одной из этих культур, но фиксирует возникшее на их основе и объединяющее древние племенные области качественно новое образование с границами, точно соответствующими границам днепровско-киевской области («Русской Земли» более поздних источников) [181, с. 766-770; 221, с. 83-99]. Во второй трети IX в., между 838-842 гг. (852 г. по ПВЛ) на основе и вокруг этого среднеднепровского образования объединяется «Руская земля», «каганат русов», охвативший основные восточнославянские территории с центром, вероятнее всего, в Киеве (князья которого сохраняли титул «каган» до XII в.). Совпадая с «Русской Землей» в первичном смысле (Среднее Поднепровье — Нижнее Подесенье — Верхнее Побужье), «каганат русов» объединял ее с Верхней Русью (на что указывает присутствие в окружении кагана руси шведов), в состав которой на этом раннем этапе входили, видимо, и торговые центры Ростово-Ярославского Поволжья. Эта территориальная структура отразилась, в частности, в известиях восточных источников о «трех центрах Руси»: Русская Земля (Куйава, Киев), Верхняя Русь (Славийюн, Новгород — Ладога) Ростовская земля (Арса). Эти первичные «государственные территории» еще в начале 1950-х годов с исчерпывающей полнотой были реконструированы по письменным данным А.Н.Насоновым [153]. Накопленные за последующие тридцать лет материалы показали, что и в археологическом отношении эти области отличаются определенным своеобразием, позволяющим определить их как особую культурно-историческую зону развития раннефеодальной, дружинно-городской культуры, резко противостоящую окружающим племенным, «земским» областям [101, с. 287; 185, с. 27]. Элементы этой культуры сосредоточены наиболее представительно в области Среднего Поднепровья, и прежде всего в Киеве. Столица «Русской земли» возникла в основании широко разветвленной системы рек, сходящихся к Днепру с противоположных сторон Русской равнины [218, с. 19]. Береговые отроги («горы киевские») цепочкой поднимаются по правому берегу Днепра над протекающей вдоль их основания р. Почайной. На горах возникли первые разрозненные поселения; в V-VIII вв. центральным из них становится «градок» летописного Кия на Старокиевской горе [80, с. 179-213]. С юга к нему примыкало «Поле вне града'» (такие «поля», связанные с курганами и кладбищами, известны в ряде других древнерусских городов: Олегово поле в Чернигове, Проклятое поле в Лукомле, Волотово поле в Новгороде, Славенское поле в Изборске). По-видимому, полукольцом охватывал это пространство обширный курганный некрополь («могильник I», по М.К.Картеру) [78, с. 113—115]. «Град», «поле» и «могилы» — вот известные нам сейчас компоненты ряда городских центров предгосударственной поры. Разрозненные и отрывочные данные о киевском могильнике позволяют лишь в общих чертах уловить эволюцию от обычных славянских курганов с сожжениями (погребения № 95, 96, 98-101, по М.К.Картеру) к монументальным насыпям родоплеменной и военной знати (№ 103, 108, 113) и специфически киевским боярским срубным гробницам (№ 105, 109, 110, 112, 123). Во второй половине IX в. начинается бурный рост киевского посада на Подоле (дендродата — 887 г.) [43, с. 28]. Серия из пяти кладов X в. (три куфических и два византийских) указывает на растущее экономическое значение и мощь Киева. В начале X в. в северной части зоны киевского градообразования, несколько в стороне от основного ядра памятников, на Лысой горе, формируется особый торгово-ремесленный центр, с городищем и примыкающими к нему курганными кладбищами [15, с. 42; 78, с. 135; 217, с. 23-25]. Есть здесь и погребения скандинавского облика, с ранними формами мечей типа Е и И [№ 117, 116], фибулами ЯП 51 и ЯП 52 [№ 124, 125], датирующиеся началом — серединой X в. Городище на Лысой горе господствовало над поймой Почайны в ее верхнем течении, где в районе устья р. Глубочицы — Иорданского озера, у так называемой «Притыки» (специально оборудованной набережной) еще в начале XVIII в. сосредотачивались на зимовку суда [19, с. 114]. Факт, ассоциирующийся с сообщением Константина Багрянородного об однодеревках русов, которые "спускаются по реке Днепру и собираются к крепости киевской, называемой Самватас" (подчеркнуто мною — Г. Л.) (Const. Porph., 9-8,9). «Крепость Киева, называемая также Самватас» — одна из давних загадок русской истории [128, с. 66-72]. Известный советский историк А.И.Лященко, специально исследовавший этот текст, пришел к выводу, что название «Самват» относится не ко всему киевскому градообразованию, а именно к крепости (у которой собираются суда). Термин castron, многократно использованный Константином, появляется в III в.н.э., когда античные города, до того в значительной части неукрепленные, стали обносить укреплениями, отрезавшими часть застройки. В VII-XII вв. castron и polis четко различаются. Первый из них — государственная крепость, находящаяся под императорским контролем; castron называлось также любое новооснованное укрепление, даже небольшое (венецианцы построили в своей области свыше двух десятков castro; многочисленные castro отмечены у хорватов, у сербов) (Const. Porph., 27, 31) (консультация Г.Л.Курбатова 24 февраля 1978 г. — прим. авт.). Крепость на Лысой горе полностью отвечает этим характеристикам. Сравнительно небольшое новооснованное укрепление контролировало, во-первых, речную гавань Почайны (вблизи от наиболее емкой и удобной для скапливания судов ее части); во-вторых, к северо-востоку от Лысой горы находился важный перекресток сухопутных дорог на Белгород, Вышгород и Василев, летописные Дорожичи, впервые упомянутые под 980 г. [71, с. 299-300, 342]. Материалы как поселения, так и могильника у Лысой горы ограничены X в. [39, с. 115]. Основные датированные комплексы относятся именно ко временам Константина Багрянородного, более ранних находок здесь нет. Появление княжеской крепости на северной окраине Киева можно отнести ко времени после 882 г., когда из Новгорода «Поиде Олег, поим воя многи, варяги, чюдь, словени, мерю, весь, кривичи» и, без боя заняв Смоленск («прия град»), взял затем Любеч, вышел к Киеву и в урочище Угорском (куда олеговы ладьи могли незаметно для киевлян выйти речным рукавом Черторыя) [228, с. 14] расправился с князьями киевской династии (Аскольдом). После этого, сообщает ПВЛ, «Олег нача городы ставити» [ПВЛ, 882 г.]. Возможно, князь-пришелец (опиравшийся на воинов северных восточноевропейских племен и дружины варягов, истребивший местную династию) предпочел поселиться не в самом Киеве, а в особом «городе», господствующем над столицей полян и контролирующем важнейшие речные и сухопутные коммуникации. Тогда понятно и летописное предание о погребении Олега — на Щекавице, вне киевского основного некрополя и в непосредственном соседстве с «Самватом», если отождествлять его с городищем на Лысой горе. Уже при ближайших преемниках Олега это укрепление теряет свое значение и одновременно начинается бурный рост основного ядра киевского градообразования. Строительство «города Владимира», а затем — «города Ярослава» завершает создание грандиозного урбанистического организма, с великокняжеским «градом» на Старокиевской горе, где поднялась Десятинная церковь Богородицы, с поясом укреплений (охватившим площадь около 70 га), величественным архитектурным ансамблем киевской Софии, храмов Георгия и Ирины (патронов великокняжеской четы Ярослава и Ингигерд), княжескими дворцами, гражданскими и культовыми постройками. Новые укрепления «на Горе» в социально-политическом плане противостояли обширному торгово-ремесленному посаду на Подоле, с его вечевым самоуправлением. К концу X — началу XI в. в сложившемся виде выступает киевское «околоградье», богатая и населенная округа, где возникли многочисленные усадьбы и села (Предславино, Берестово, Выдубнцы и др.). Их можно рассматривать как структурные единицы феодального землевладения, очерчивающие великокняжеский «домен» внутри первичного государственного образования, «Русской Земли» вокруг Киева, Чернигова и Переяславля. В структуре этого качественно нового, определяющего важнейшие характеристики раннефеодального Древнерусского государства явления, объединяющего огромный город с плотно заселенной и организованной округой, нет никаких признаков сколько-нибудь ощутимого варяжского воздействия. Норманны, пришедшие в составе войск и ближайшего окружения Олега, их прямые потомки при дворе Игоря, Ольги, Святослава были полностью растворены среди киевского боярства, разделяли цели и средства этого высшего слоя феодального сословия. Собственно, вклад варягов проявился только в некоторых элементах культуры, языка, ономастики, 'которые прослеживаются лишь в течение X в. Уже во времена Владимира и Ярослава этот ассимилированный варяжский компонент противостоял пришлым контингентам наемных воинов, роль которых была чрезвычайно ограниченной и служебной, находясь под постоянным великокняжеским контролем. Единичное варяжское погребение этой поры (камерная могила № 114) в соотношении с современными ему богатыми срубными гробницами достаточно наглядно раскрывает место и роль северных пришельцев в Киеве времен «конунга Ярицлейва». Подобное положение складывается и в других городских центрах «Русской Земли». В конце X — начале XI в. здесь разворачивается интенсивное городское строительство. Перестраивается детинец Чернигова, здесь возводятся каменные дворцовые постройки, а в 1030-х годах начинается сооружение Спасо-Преображенского собора. Ко времени Владимира относится строительство укреплений Переяславля, где во второй половице XI в. были сооружены каменные стены и ряд храмов, строятся мощные княжеские крепости в Вышгороде, Витичеве, Белгороде, Василеве, Воине, Новгороде-на-Стугне. Строительство этих крепостей, для которых Владимир «поча нарубати муже лучшие от словен и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сих насели грады», было общерусским государственным мероприятием, которое знаменовало новый шаг в укреплении древнерусской государственности, превращение среднеднепровской «Русской Земли» в центральную область Киевской Руси. Показательно, что среди участников в создании и заселении оборонительных крепостей названы (как и в походах 882-980 гг.) многие северные племена, но варяги уже не упоминаются. В конце X — начале XI в. скандинавский компонент «руси» практически полностью растворился, остались лишь воспоминания об участии варягов в походах первых князей, о происхождении некоторых боярских родов новгородцев «от рода варяжьска», о каких-то далеких временах, когда некие варяги «зваху ся русь». Обрусевшие северные пришельцы вместе с князем и его славянскими боярами противопоставляют себя варягам-наемникам или знатным гостям из северных стран. Это противопоставление, равно как процесс постепенного исчезновения варяжского компонента не только в среде русской знати, но и в составе княжеских войск, проявилось в археологических материалах второго по значению центра «Русской Земли», Чернигова. Поблизости от города (в 12 км) в первой половине X в. был построен укрепленный военный лагерь — княжеская крепость, от которой сохранилось городище у с. Шестовицы и расположенный поблизости курганный могильник. По материалам 130 насыпей, систематизированным в последние годы, выясняется, что в составе кладбища наряду со славянскими представлены погребения варяжских дружинников: около 10 богатых камерных могил, некоторые сожжения (в трех женских погребениях найдены наборы скандинавских фибул, в мужских — мечи типов H, Y и типа W — единственная на Руси находка, на Западе представленная серией комплексов первой половины X в.; мечи, вместе с однолезвийными норманнскими боевыми ножами скрамасаксами найдены в парных погребениях воина, в сопровождении женщины и коня, близких камерным могилам типа F в Бирке) [21; 275]. В Шестовицах, очевидно, была дислоцирована дружина киевского князя, в составе которой находились и варяжские воины. Эта пришлая военная организация, призванная обеспечить великокняжеский контроль над городом и размещенная за его пределами, в известной мере противостояла местной боярско-дружинной, землевладельческой знати. Некрополи черниговских бояр и их приближенных плотным кольцом окружают город (могильник летописного Гюричева, курганы «в Березках», группа насыпей «Пять Углов», Олегово Поле, Болдино, Троицкая группа и др.). Монументальные курганы, подобные центральным насыпям всех этих групп, есть и в составе собственно городского могильника — Черная Могила, Курган княжны Чорны [180, с. 51-53]. В обряде Черной Могилы, Гульбища, Безымянного кургана, исследованных археологами, выступает исключительно сложный и пышный ритуал языческих сожжений, близкий по масштабам обрядности гнездовских «больших курганов», но в целом развивающийся на основе несколько иных, средне-днепровских, традиций и никак не связанный с варяжским обычаем сожжений в ладье, составляющим специфику обрядности гнездовских «бояр». Д.А.Мачинский, сопоставив комплекс оружия из Черной Могилы (два меча и сабля, неизвестная в русских дружинных курганах того времени) с рассказом «Повести временных лет» под 968 г., высказал интересное предположение о том, что в Черной Могиле похоронен герой летописного предания, воевода Претич. Во главе воинства «оноя страны», Днепровского Левобережья он пришел на помощь Киеву, осажденному печенегами (т.е. пришел из Чернигова). Переговоры с кочевниками завершились обменом дарами: «...въдасть печенёжьский князь Претичю конь, саблю, стрелы. Он же дасть ему броне, щит, мечь». Этот обмен оружием документально подтвержден находками в Черной Могиле (доклад на научной сессии Гос. Эрмитажа — прим. авт.). В таком случае Претич в Чернигове выполнял функции наместника киевского князя, а погребальный обряд черниговских курганов — свидетельство единства и мощи бояр «Русской Земли» во второй половине X в. Время наивысшей консолидации Древнерусского государства (вторая половина X — начало XI в.) связано с качественными изменениями в организации, культуре, самосознании древнерусского феодального господствующего класса. Эти изменения подвели итог социальной деятельности «русов» предшествующих поколений, действовавших на ранних этапах образования Древнерусского государства, в IX-X столетиях. Принадлежность к общественному слою, который в 830-880-х годах «прозваша ся русь», определялась в отечественных источниках понятием «русин». «Русская Правда» при Ярославе Мудром кодифицировала статус этого слоя. Великокняжеская администрация выступает при этом для «русина» гарантом тех же прав, которые свободным общинникам гарантировала родоплеменная организация: «русин» обеспечен той же вирой в 40 гривен, что и свободный «муж», безопасность которого защищали три поколения ближних и двоюродных родичей [Правда роськая, 1]. В той же статье раскрыт социальный состав этого слоя: русин — «любо гридин, любо коупчина, любо ябетник, любо мечник». Данная в Новгороде «Правда Ярослава» подчеркивает, что княжеская защита распространяется на этот дружинно-торговый класс вне зависимости от племенной принадлежности, «аще изъгои боудеть, любо Словении» [Правда роськая, 1].Всем им гарантирована та же защита, что и непосредственным членам княжеской администрации, огражденным двойной вирой в 80 гривен, которой оплачивается «муж княж» — огнищанин, или тивун княж, «конюх старый», или мечник, выполняющий обязанности вирника-сборщика [Правда роськая, 18, 21, 32]. Новые археологические данные (деревянные замки — «меты» с надписями) свидетельствуют, что вся эта раннефеодальная титулатура была в живом употреблении во второй половине X — начале XI о. [252, с. 138-157]. «Русин» этого времени был полноправным и активным членом хорошо организованного общественного слоя, верхушка которого составляла основу великокняжеской администрации, а основная масса, опираясь на мощь раннефеодального государства, успешно противостояла свободной общине. Облику и деятельности этих «русов» уже в IX в. даны яркие характеристики в сочинениях арабских авторов, внимательно и подробно описывавших население Восточной Европы. «Русы» как особый общественный «разряд» четко противопоставлены земледельческому славянскому населению по всем этнографическим показателям (занятия, жилища, погребальные обычаи, одежда) [111, с. 21-24; Ибн-Фадлан; Каспийский свод]. «Русы», в коротких куртках или кафтанах с золотыми пуговицами, шароварах до колен, гетрах, с золотыми браслетами, постоянно вооружены (франкскими мечами и секирами). Их женщины носят скорлупообразные фибулы («коробочки» Ибн-Фадлана) и мониста. И материальные реалии, и погребальные обряды (сожжение в ладье, погребение в камерной могиле) хорошо известны по дружинным могильникам как скандинавский вклад в дружинную культуру Киевской Руси. На кораблях, небольшими отрядами «русы» ходят по землям славян («постоянно по сотне и по двести они ходят на славян». — Гардизи) — эти сообщения Б.А.Рыбаков рассматривает как отражение в восточных источниках механизма полюдья киевских князей [186, с. 329]. Кроме того, они занимаются торговлей мехами (Ибн-Хордадбех, Ибн-Русте). Эти известия раскрывают основные звенья системы раннефеодальной эксплуатации: сбор даней пушниной во время полюдья и затем превращение пушнины в товар на внешних рынках. Необходимо констатировать сложение этой системы в государственном масштабе не позднее середины IX в., так как Ибн-Хордадбех писал в 846 (885?) г., Ибн-Русте — в 903 г., фиксируя уже сложившуюся ситуацию. Образ «русов», военно-торговой, дружинной среды, насыщенной варяжскими элементами, сложился в арабской литературе на базе непосредственных наблюдений последних десятилетий IX — первых десятилетий X в. В пределах этого хронологического интервала, уточняя его временем княжения Олега в Киеве, с 882 по 912 (922) г., Б.А.Рыбаков выделил «норманнский период» русской истории [182, с. 36; 184, с. 488-491]. Именно в этот период варяжский компонент в среде «русов» наиболее ощутим. Однако при оценке обстоятельств появления варягов во главе с Олегом в Киеве 882-922 гг. обычно несколько переоценивается пришлый характер этого контингента, не учитывается длительная, насчитывающая более столетия предыстория «норманнского периода». Его подоснова, заложенная славяно-скандинавскими контактами 750-830-х годов, отчетливо выступает и в письменных, и в археологических источниках. Вопреки распространенному мнению, летопись не рассматривает Олега как пришельца, он впервые упомянут (в 879 г.) как родич Рюрика («от рода его суща»), спустя почти два десятилетия после «призвания». Родичем ладожско-новгородского князя вполне мог быть и представитель одного из местных знатных семейств. Несомненно, Олег был тесно связан с пришлой варяжской дружиной, это явствует и из текста летописи, и из имен его ближайшего окружения. В варяжской, может быть даже западноскандинавской, среде IX — начала X в. складывался и бытовал цикл эпических мотивов, вошедших и в русские летописные предания о Вещем Олеге, и в норвежскую сагу об Орвар-Одде [189, с. 173—192]. Однако, независимо от того, был ли Олег словенином, породнившимся с ладожскими норманнами, либо — норвежским викингом, ушедшим, как полагает Б.А.Рыбаков, умирать за море [186, с. 312], он, несомненно, значительно более тесно, чем с викингами скандинавских стран, был связан с русской, притом общерусской, средой, и прежде всего — дружинно-феодальной. Связь эта отразилась и в топонимике («Олеговы могилы» показывали не только в Киеве и Ладоге XII в., но и во многих местах Новгородской земли); и в ономастике, где его имя, причем сразу же в славянизированной форме — Ольг, Олег, было принято в княжеской среде (в отличие от имени Рюрика, включенного в древнерусский ономастикой лишь в XII в.); и в обилии относящихся к нему эпических, народных преданий, где с Олегом из киевских князей может соперничать лишь Владимир Красное Солнышко русских былин. Этой стихийно сложившейся оценке Олега вполне соответствовал масштаб его политической деятельности (объединение Среднеднепровской и Верхней Руси в единую державу, подчинение давних противников Полянского Киева — древлян, высвобождение из-под хазарской дани северян и радимичей, локализация не только хазарской, но и угорской угрозы, создание общерусского войска, совершившего поход 907 г. на Византию, увенчавшийся заключением первых сохранившихся в русских архивах договоров Руси с греками). Размах и направленность этой деятельности, даже если считать Олега варягом-пришельцем, свидетельствуют о единстве его интересов с интересами киевских «русов», и не только киевских, но и новгородско-ладожских, и ростовских, словом, всей той выделившейся из словен и полян, кривичей и древлян, радимичей, вятичей, северян, хорватов, дулебов и тиверцев, чуди и мери раннефеодальной дружинной силы, в составе которой нашли место и варяжские дружины с их предводителями, породнившимися со славянской знатью и постепенно сливающимися с нею [327, с. 20-24]. Процесс этого слияния достаточно ясно выступает в основных, наиболее достоверных документах эпохи, договорах 907, 912, 945 гг. Под Константинополем Олег, начиная переговоры с греками, «посла к нима в град Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулава и Стемида». Вовсе не обязательно все эти люди со скандинавскими именами были варягами; они могли получить имя в честь варяжского родича или отцова товарища по дружине... тем не менее сама концентрация варяжского элемента — показательна для характеристики «русов» 907 г. Также выглядит ономастикой 912 г.: «Мы от рода рускаго, Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид». 33 года спустя из этих «варяго-русских» сподвижников Олега, возможно, лишь Фост (Фаст), Гуды и Труан (Туад?) оставались в среде «княжья и боляр» киевского великого князя. В 945 году «Либиар Фастов», «Алвад Гудов», «Фудри Туадов» выступают посланцами от представителей старшего поколения, но действуют они уже среди нового, судя по именам, разноплеменного поколения «боляр». В этом поколении распространяются бесспорно славянские имена — как среди княжеского рода (Святослав), так и на других уровнях (Володислав, Передъслава, Синко, Борич). Одному из варягов в среде русского боярства 940-970-х годов посвятил в 1966 г. блестящий биографический этюд М.И.Артамонов: Свенельд, воевода Игоря, Ольги, Святослава и Ярополка, на протяжении 30 лет занимал один из высших постов киевской феодальной иерархии. «Этот вельможа, варяг по происхождению, выдвинувшийся, по-видимому, благодаря своей храбрости и полководческим талантам, как и многие его соплеменники, остался на Руси и стал одним из создателей Русского государства, самым влиятельным советником княгини Ольги и молодого Святослава» Свенельд выступает одним из организаторов и руководителей таких важных внешнеполитических акций, как походы в Закавказье, на Булгар и Хазарию, балканские войны Святослава. Он оказался одним из первых, засвидетельствованных по имени ленников киевского князя, получив право сбора даней с уличей (940 г.) и с древлян (942 г.). Дружина его, «изодевшаяся оружием и порты» в далеких грабительских походах, вызывала зависть великокняжеских дружинников. Блестящая карьера Свенельда, завершившаяся в 977 г., — своего рода эпилог «норманнского периода» истории Киевской Руси. В середине X в. начинается политическая стабилизация Древнерусского государства. Внешняя экспансия сменяется углубленным внутренним строительством. Место военных предводителей «героической поры» постепенно, но неуклонно занимает феодализирующаяся землевладельческая знать. Интересам этой знати, феодального класса служило создаваемое им государство, административный и военный аппарат. Эти процессы значительно труднее уловить и представить во всей конкретности; сведений о «землеустроителях» в летописи сохранилось значительно менее, чем о полководцах, однако они есть. В договоре 945 г. перечень послов князя Игоря заключает имя «Боричь». В состав посольства входили, во-первых Ивор («сол Игорев»), а также послы великокняжеской семьи (Вуефаст, Искусеви, Слуды); во-вторых, «объчии ели», названные по именам их сюзеренов; в-третьих, 26 послов, перечисленных без особых указаний на лиц или группы, их пославшие. Это деление посольства подтверждено заключительной формулой, также трехчленной: «...от Игоря, великого князя рускаго, и от всякоя княжья, и от всех людий Руския земли» [ПВЛ, 945 г.]. Судя по месту в списке, Борич относился к третьей группе послов. Он представлял в Константинополе интересы «людий Руския земли», и очевидно, занимал среди них какое-то руководящее положение. Имя «Боричь» сопоставляется с топонимом «Боричев увоз» в Киеве. Ссылки на дворы и угодья киевских бояр обычны в летописи. «Боричев увоз» назван уже в событиях того же 945 года; древлянские послы к Ольге «присташа под Боричевым в лодьи». Бытовал этот топоним в Киеве до XII в., когда он упоминается в заключительных строках «Слова о полку Игореве». Боричев ввоз находился на склоне Старокиевской горы, в непосредственной близости от княжеского «града Киева». Вероятно, здесь же, по соседству с княжеской резиденцией, стоял и «Боричев двор». Ввоз был важной коммуникацией, которая связывала город на горе с устьем Почайны, речной гавани Киева. Он, безусловно, служил значительным источником боярского дохода. Видимо, здесь же находилась и старинная переправа через Днепр, тот самый «перевоз Киев», который дал основания для известной топонимической легенды о Кие-"перевозчике". Опровергая ее, летописец тем не менее отметил, что «седяше Кий на горе, где же ныне увоз Боричев» [ПВЛ, I, с. 13]. Новое имя, вместе с владельцем, утвердилось за перевозом и «увозом» вряд ли ранее середины X в. Из письменных источников больше ничего о деятельности Борича в Киеве нам не известно. Однако контекст этой неизвестной нам деятельности освещен с достаточной полнотой. Древлянских послов в 945 г. предали мучительной казни в непосредственной близости от двора Борича. Вполне правомерно предположение, что и он принял участие в экзекуции: яму для древлян вырыли буквально у него за усадьбой. Наверное, Борич с другими знатными «киянами» (а не только Свенельд и Асмуд) руководил карательной экспедицией Ольги в Древлянскую землю, во главе каких-нибудь «людий Руския земли». Не зря ведь две трети древлянской дани Ольга назначила Киеву, его боярам. Два года спустя Ольга кодифицировала государственные поборы на севере, в Новгородской земле. У нас нет данных о непосредственных исполнителях этой акции. Но характерный почерк землевладельческой знати позволяет и здесь предположить участие если не самого Борича, то социально очень близких ему людей. В середине 960-х годов Святослав и Свенельд, а с ними «вой многи и храбры» уходят в далекие походы. В Киеве остается Ольга с боярами. Ощущается своего рода поляризация сил молодого господствующего класса. На одном полюсе — Святослав и его воинственные соратники, варяг Свенельд. На другом — безымянные «кияне», Претич во главе «людий оноя страны», а возможно — и Борич, представитель Полянского, киевского боярства. Вероятно, из родов, выдвинувшихся в последние десятилетия IX в.; после гибели местной княжеской династии, он завладел «выморочным» племенным имуществом (выгодными городскими угодьями, переправой); утвердился (как и Претич) во главе территориальной организации, связанной и с распределением податей, и с военными отношениями, и с торговлей (в Царьграде он блюдет именно торговые интересы «людий Руския земли»). Вероятно, он должен был стать и одним из сторонников (по крайней мере потенциальных) христианства: «русь» 945 г. уже делилась на язычников и христиан, поддержавших позднее крещение Ольги. Эта боярская знать, посягавшая на племенные земли, освященные вековыми языческими обычаями, вряд ли была тверда в вере отцов и дедов (ср. Добрыню, то утверждавшего в Новгороде перунов кумир, то низвергавшего его). Словом, в противоположность героическим хищникам, рыщущим бесстрашно в поисках «чюжея земли» — перед нами рачительный, оседлый, может быть даже благочестивый феодальный хозяин. В 940-х годах он скромно держится в хвосте киевской знати, замыкая список варяго-русских послов, но два-три десятилетия спустя именно эта боярская знать станет главной политической силой Руси. Именно такие вот Боричи создавали густую сеть из «многих тысяч боярских вотчин, составлявших устойчивую основу русского феодального общества» [186, с. 430]. Не зря имена новых владельцев закрепляются на столетия. Будущее Руси — за Боричем, Претичем, Добрыней. Союз с этой боярской знатью княжеской власти стал основой дальнейшего развития феодального Древнерусского государства. Десятинная церковь на Старокиевской горе, заложенная три десятилетия спустя после запустения Самвата, соль и слава которого полегла в походах Святослава, воплощала не только торжество новых идей, но и новых, феодальных норм эксплуатации. Фундамент ее, и не только в буквальном смысле, стоял на срубных гробницах Борича и его современников русов середины — второй половины X столетия. Среднеднепровская Русская земля была ядром этой, феодальной Киевской державы. Здесь достигли расцвета новые формы раннефеодальной древнерусской культуры: так, мечи «местных», русских типов (в том числе изделие «коваля Людоты») сосредоточены в пределах «Русской земли» Среднего Поднепровья (82, № 82-84, 86, 87). Именно здесь концентрировались новые силы и средства, и прежде всего отсюда исходили социальные, политические, культурные импульсы, определявшие со времен «каганата росов» на протяжении IX-XII вв. ход, направление, сферы русско-скандинавских отношений. Варяги на Руси в той или иной мере оказывались участниками строительства грандиозного государственного организма, цели и средства которого были подчинены общественным потребностям восточного славянства и с которыми должны были согласовывать свои цели, иногда жертвуя ими, дружины викингов. 6. Этапы развития русско-скандинавских отношений Связи Древней Руси со Скандинавией эпохи викингов проявились не только в распространении тех или иных «норманнских древностей» на Руси, но и в систематическом поступлении встречного потока ценностей на Север Европы; его динамика не менее важна для оценки интенсивности и характера этих связей, нежели динамика распространения скандинавских украшений и оружия в древнерусских памятниках. Из числа восточных импортов, поступавших в Скандинавию с территории Древней Руси, наиболее массовой и динамичной категорией находок является монетное серебро. Наряду с кладами, особое значение имеют монеты в закрытых археологических комплексах могильника крупнейшего шведского центра, связанного с Востоком — Бирки [117, с. 149-163]. Из примерно 1200 погребений Бирки в 106 найдено 129 восточных монет (2 византийских, 3 сасанидских, 124 арабских), 18 — западных и 37 — скандинавской чеканки. На протяжении IX — первой половины X в. серебро поступало в Бирку неравномерно, несколькими волнами. Первая волна восточного серебра в Бирке датируется временем до 839 (859) г. В середине IX столетия (отмеченного участием свеев в деятельности «каганата русов») наступает спад в поступлении арабского серебра, который, видимо, попытались восполнить, во-первых, поступлением западных монет, во-вторых, первыми опытами собственной чеканки: «монеты Бирки» типов KG 3, KG 4, KG 5 (по классификации Б.Мальмер) выпущены около или после 825 г. [358, с. 109-133, 201-218, 246]. Перерыв, вызванный, видимо, взиманием дани, а затем «изгнанием варягов», прекращается после того, как славяне Ладоги, опираясь на «призванного» князя Рюрика с его, вероятно, западнобалтийской (датской или датско-норвежской) дружиной викингов, стабилизировали отношения со шведами. Вторая волна восточного серебра поступила после 860 (862) г. Монета византийского императора Михаила III (842-856 гг.), возможно, связана с участием варягов в походе Аскольда на Константинополь (по византийским источникам, 860 г.). Вскоре после этого «русы», по свидетельству Мухаммеда аль-Хасана, написавшего «Историю Табаристана», напали на Абесгун. Видимо, уже во второй половине IX в. наметился своеобразный «круговой маршрут» через Русь в мусульманские земли, непосредственно к источникам серебра. Третья волна, наиболее компактная и массовая, датируется временем между 907 и 913 гг. Несомненно, она связана с походом Олега на Константинополь, после которого «русы» в 909-910 гг. разграбили Абесгун, Миан-Кале и другие города Закаспия, а в 912-913 гг., по свидетельству Масуди, совершили еще один грабительский поход «на 500 кораблях» [130, с. 218, 231-234] Четвертая, последняя, волна арабского серебра (ок. 944 г.) может быть сопоставлена со знаменитым походом на Бердаа, во главе которого, как предполагал М.И.Артамонов, стоял воевода киевского князя Игоря варяг Свенельд [17, с. 32]. Бердаа находился в центре зоны обращения серебра, выпускавшегося на тех монетных дворах, продукция которых, по данным X.Арбмана, представлена в Швеции [270, с. 136]. Именно здесь в первую очередь было захвачено это серебро в качестве военной добычи. Могилы предполагаемых «ветеранов походов» 913-914, 943-944 гг. содержат не только серебро, но и другие вещи, свидетельствующие о связях с Востоком. Наряду с предметами роскоши (дорогие ткани, посуда, украшения), которые могли быть не только добычей, но и товарами, поступавшими в Бирку, есть находки, иллюстрирующие более сложный, многоплановый характер этих связей. Так, в камерном погребении №735 (X в. с монетой первой волны, превращенной в подвеску), открыто захоронение воина в сопровождении женщины и коня. Среди мужских вещей — массивная булавка с длинной иглой, украшенная тремя масками, по манере изображения близкая маске из гнездовского клада 1867 г. В женском погребении, кроме скандинавских фибул (типа ЯП 51 с) найдено зеркало, остатки шелковой материи, бубенчик восточноевропейского происхождения. Особенно интересен набор вооружения: меч с опущенным перекрестьем (черта, по мнению оружиеведов, восточная), пика и овальные стремена. Весь этот набор мог сложиться только на Востоке, в условиях постоянного военного контакта с кочевнической степью. Перед нами, вероятно, одно из типичых погребений «русов в Бирке» — пышная могила варяга, после долгой жизни на Руси, вернувшегося на родину, где он, судя по погребальному обряду, занял видное положение среди местной раннефеодальной знати. Вещевой импорт восточноевропейского происхождения позволяет уточнить маршруты шведских викингов. Ряд вещей происходит из Финляндии, Прибалтики и лесной зоны Древней Руси (от Смоленщины до Ярославского Поволжья): подковообразные пряжки круглого, треугольного и четырехугольного сечения, некоторые виды бубенчиков (прорезанные с пояском), подвески-уточки, гребни с фигурной спинкой. Следующий ареал аналогий — Прикамье (отсюда, в частности, происходят известные ажурные кресала; в орнаментике некоторых камских кресал Г.Ф.Корзухина установила параллели со скандинавской мифологией) [97, с. 135-140]. Наконец, серия вещей — «хазарского происхождения» (по Арбману) — связана с ареалом салтово-маяцкой культуры (поясные бляшки, солярные привески, оружие, сбруя). Таким образом, документировался путь варяжских дружин через земли Хазарского каганата, по Дону — на Волгу, а равным образом, их движение по Волжскому пути (который, видимо, использовался при возвращении дружин в Скандинавию из Закаспия). Итак, в 830-х, 860-х, 900-х и 940-х годах в материалах Бирки выступают взаимосвязанные явления, которые позволяют предложить следующую реконструкцию событий. Раз в тридцать лет (т.е. каждое поколение) определенные контингент шведских викингов отправлялись «на Восток, в Гарды». Видимо, в Ладоге они вступали в контакт с местным боярством, военно-торговой дружинной средой и княжеской администрацией Древнерусского государства. В качестве наемных варяжских отрядов эти контингента двигались на юг по Пути из варяг в греки. Вероятно, в районе Смоленска — Гнездова был следующий крупный сборный пункт общерусского войска: в развитии Гнездова и Бирки отмечается известная синфазность, сходство структуры этих центров [31, с. 11-17; 174, с. 193—194]. В IX — первой половине X вв., видимо, существовали и конкретные связи между ними. Раннему этапу славяно-варяжских дружинных контактов в памятниках Древней Руси соответствуют комплексы с ранними арабскими монетами, фризской керамикой, биконическими бусами из рубленой проволоки, ранними формами мечей типа Е, дамасцированных копий с «готическим» орнаментом. Это курганы № 7 в могильнике Плакун (Ладога), № 15 (10) из раскопок М.Ф.Кусцинского и № 47 из раскопок Д.А.Авдусина в Гнездове, №95 в Тимерево (раскопки И.В.Дубова). В гнездовском кургане № 47, самом позднем из серии, вместе с монетой Феофила (829-842 гг.) найдена причерноморская гончарная керамика (176, с. 170-172). С начала X в. (точнее, в последних десятилетиях IX в.) главной базой для дальнейшего движения общерусского войска стал Киев. Отсюда русская рать (с наемными варяжскими отрядами) не раз отправлялась на Византию, к стенам Константинополя. Так было в 860 , в 907, 943 гг., так бывало и позднее (до 1043 г.). В дружинных могильниках Древней Руси комплексы второй I половины IX — начала X в. составляют горизонт, характеризующийся мечами типа В, ранними мечами типа Н, равноплечными I фибулами ЯП 58, ЯП 60, скорлупообразными ЯП 37. В Ладоге к этому времени относится курган № 11 (дендродата 879 г.), в Гнездове — серия ранних курганов (85 из раскопок С.И.Сергеева, 35, 38, Ц-2 — Д.А.Авдусина). В киевском «могильнике I» — христианского облика погребение № 122, с имитацией «золотого византийского солида» Василия и Константина (869-879 гг.) и круглой фибулой. Комплекс можно отнести ко второй половине IX в. Известно, что после похода 860 г. какая-то часть «руси» крестилась. Серия находок этого времени имеется в небольших локальных центрах на Пути из варяг в греки. Исторически этот горизонт археологических памятников связан с периодом, завершившимся объединением Древнерусского государства. Варяги, включившиеся на Руси в этот процесс, действуют совместно с русской раннефеодальной знатью, при этом вовлекая в военно-политические и торговые предприятия пришлые контингента дружин викингов, что отразилось и в материалах Бирки. После того или иного решения военно-политических задач очередного похода киевских князей на Византию варяжский контингент (по крайней мере, в значительной своей части) становился избыточным. В то же время Русь, выполняя в соответствии с заключенными русско-византийскими договорами союзнические обязательства, должна была принять участие в арабо-византийской борьбе [192, с. 207]. Именно здесь и могли найти себе дальнейшее применение варяжские дружины. Киевские князья и их воеводы охотно отпускали викингов на свободный воинский промысел. Варяги выходили на Дон; здесь хазары, по свидетельству Масуди, беспрепятственно пропускали их, и под именем «русов» эти дружины обрушивались на враждебные Хазарии города мусульманского Закаспия. Несмотря на тяжелые потери, каждый такой поход сулил богатую добычу. Отягощенные ею, варяги по Волжскому пути (через Итиль, Булгар, Ярославское Поволжье) возвращались на родину. Древнерусские комплексы этого времени с дирхемами 900-913 гг., мечами типов Е и Н, византийскими монетами составляют ранние «большие курганы» Гнездова, срубные гробницы «могильника I» и первые погребения «могильника II» в Киеве, ранние курганы Шестовиц (Гнездово — курганы 23 и 13 раскопок Д.А.Авдусина, 20 и 21 — В.И.Сизова; Киев — могилы 14, 30, 110, 121, 116, 117; Шестовицы — курганы 83,100). Серия комплексов относится ко временам походов Игоря, правления Ольги, «русов» Константина Багрянородного; в них найдены мечи X, V, фибулы ЯП 51 (Гнездово, курганы 61 — Д.А.Авдусина, 52-41 и 88-28 — С.И.Сергеева, 39-17 и 59-37 — В.Д.Соколова; Киев —могилы 108, 112, 114, 123, 94, 124; Шестовицы — курганы 36, 53, 58, 61, 78, 110). Серия синхронных камер Бирки свидетельствует о значении восточных ресурсов для роста статуса свейской знати. Расцвет и, пожалуй, само существование Бирки во многом определялось этими походами, сложившимися в своеобразную систему уже во второй половине IX в., после того, как потерпели неудачу попытки обложения славянских племен «варяжской данью» и она была ограничена государственным откупом в 300 гривен (около 75 марок, т.е. вполне символическая сумма в год). Основное количество серебра, жизненно необходимое для успешного развития социально-политических отношений во всех скандинавских странах эпохи викингов, поступало с Востока через Бирку, и его поступление регулировалось Киевским государством. Русь сумела подчинить движение викингов своим политическим целям, используя военную силу варяжских дружин в обмен на предоставление им свободы действий в заморских землях, и свободы передвижения по Волжскому пути. Именно в Закаспии можно видеть известную параллель деятельности викингов на Западе Европы. Эти своеобразные отношения сотрудничества, подготовленные славяно-скандинавскими контактами в Верхней Руси еще довикингского времени, в полной мере определяли характер деятельности варягов на Руси, а в значительной степени — и значение результатов этой деятельности для развития Скандинавии. Дальнейшая эволюция политики Древнерусского государства вела к неизбежному столкновению с Хазарским каганатом. Соответственно, радикально изменилась ситуация и резко ограничились возможности варягов, сузилась сфера их интересов, которые в итоге переориентировались с Востока на Византию; как и в самой Скандинавии, дружины викингов все более оказываются под контролем государства и постепенно вытесняются с политической арены. В 965 г. киевский князь Святослав (со своим варяжским воеводой Свенельдом) осуществил дальний военный поход на Волгу, разгромил булгар и буртасов, разорил Булгар и уничтожил Итиль. Хазарский каганат перестал существовать. В 970-х годах грозной силой в припонтийских степях становятся печенеги. Регулярность движения по Волжскому пути, установившаяся за полтора столетия, нарушается. Видимо, именно этим изменением сложившейся системы связей по Волжскому пути был обусловлен последовавший вскоре упадок Бирки. Дружины Святослава подрубили устои «серебряного моста», связывавшего Север Европы с Востоком. Лишь два дирхема ( 951 г. и 954 г.) поступили сюда после 944 г. В комплексах второй половины X в. нет синхронного им серебра, а к 980-м годам Бирка вообще перестала функционировать [282, с. 26]. Варяги, участвовавшие в походах Святослава, можно сказать, своими руками уничтожили основу процветания Бирки. Памятью о дунайских походах остались венгерские вещи в некоторых камерных могилах (№ 581, 644); варяжским дружинникам Святослава, павшим на Крарийской переправе, быть может, принадлежали найденные на Днепрострое мечи [176, с. 615; 186, с. 383]. В дальнейшем мы знаем варягов в войске Владимира; добившись в 980 г. киевского престола, князь спровадил наемников в Константинополь, где в 987 г. был создан варяжский корпус, в котором служили многие выдающиеся викинги конца X-XI вв. [34]. «Сага об Эймунде» повествует о варяжской дружине Ярослава в 1016-1020 гг. [189, с. 89-104]. Варяги Якуна (Хакона) сражались на стороне Ярослава в 1024 г. в битве при Листвене. «Кто сему не рад? Се лежит северянин, а се — варяг, а дружина своя цела», — заметил после боя победитель, князь Мстислав [ПВЛ, 1024 г]. Серии археологических комплексов с фибулами ЯП 52, ЯП 128, ЯП 227, ЯП 55, ЯП 73, ЯП 237, мечами W, Т, S соответствуют этим поздним этапам варяжского присутствия на Руси, в Киеве (могилы 123, 125), Шестовицах (курганы 42, 59), наиболее представительно — в Гнездове (раскопки М.Ф.Кусцинского — курган 13, С.И.Сергеева—34-23, 37-15, 74-16, 86-18, 90—44, В.Д.Соколова — 67, 29, 40, 47, Д.А.Авдусина Ц-2, 4, 26). В Швеции XI в. 20 рунических камней «Ингвара Путешественника» связаны с последним походом викингов «на Востоке, в Гардах». Это военное предприятие Е.А.Мельникова совершенно справедливо отождествила с походом князя Владимира Ярославича в 1043 г. (139, с. 74-88). Первая часть "маршрутной схемы путешествия Ингвара и его дружины полностью соответствует реконструкции всех предшествующих варяжских походов. После неудачи русских войск в морском сражении и разгрома их под Варной, лишь часть русских воинов (спустя три года) вернулась домой. Ингвар с дружиной отправился «в Серкланд», где он сам и значительная часть его соратников погибли, оставшиеся смогли вернуться на родину. По-видимому, после поражения под Варной, варяги отправились знакомым путем в Закаспии. Анонимная «История Дербенда», написанная в конце XI в. и дошедшая до нас в сочинении XVII в., сообщает о последнем по времени походе руссов в Закаспий в 40-е годы XI в. [147, с. 46-70]. Это известие не только позволяет включить поход Ингвара в серию «восточных походов» варягов, но и сделать попытку уточнить происхождение топонима «Серкланд». Его связывали с народом Serkir — сарацинами, с латинским Sericum — «шелк» [140, с. 206-207]. Не отрицая этих версий, добавим, что в интересующем нас районе одним из крупных политических образований был Серир (на территории Дагестана). В первой четверти XI в. сложились особо прочные отношения Серира с приморскими областями [37, с. 187], и, возможно, именно в это время название «Серир» стало известно в Закаспий скандинавам, а в форме «Серкланд» утвердилось для обозначения мусульманских стран. О том, что какая-то часть дружины Ингвара устремилась именно на Кавказ, свидетельствует и грузинская «Летопись Картли»: вскоре после 1043 г. 3 тыс. «варангов» по р. Риони поднялись с моря, и приняли участие в войне клдекарского эристава Липарита Багваши с царем Багратом IV [163, с. 164-172]. Гибель Ингвара в последнем из закаспийско-кавказских «походов русов» завершает, по существу, заключительный этап русско-скандинавских связей эпохи викингов. Обобщая данные исторических и археологических памятников, необходимо констатировать, что различные этапы и стороны этих отношений неравномерно отразились в разных группах источников. Систематизация сведений скандинавских саг в «Россике» Е.А.Рыдзевской, рунических надписей в своде Е.А.Мельниковой, археологических материалов, проведенная коллективными силами исследователей, подтверждает давно уже обоснованный вывод о том, что ни теория «норманнского завоевания», ни — «норманнской колонизации» важнейших центров Восточной Европы не находит в этих источниках подтверждения [236, с. 152-165]. Но зато все более отчетливо выступает многосторонний и глубокий характер русско-скандинавских связей, отнюдь не исчерпывавшихся использованием наемных вооруженных сил, или даже «призванием» князя в один из северных городов. Динамика постепенного накопления общего культурного фонда — будь то ремесленные приемы, орнаментальный стиль, погребальные обряды, ономастикой, эпические предания, наконец, политические идеи (реализованные, в частности, в династических браках XI-XII вв.), — свидетельство длительного развития отношений, охвативших — в разной мере — различные уровни экономической, общественной, политической, культурной жизни обеих сторон. Области культурного взаимодействия между Русью и Скандинавией можно сейчас дифференцировать и обозначить лишь приблизительно; тем не менее они отчетливо выявляются в разных группах источников. Выделяются четыре уровня обмена. I. Материально-ценностный: представлен артефактами и материальными ценностями, включая монетное серебро и различные категории вещей, от керамики (славянской — в Скандинавии, скандинавской — на ОТРП) до украшений. Обмен на этом уровне начинается в середине VIII в., достигая максимума в первой половине X в. II. Семантически-знаковый: обмен знаковыми системами, художественными мотивами, образами. Надписи, граффити на монетах, заимствованные орнаменты, «вещи-гибриды», ономастикой, билингвизм свидетельствуют, что этот уровень обмена устанавливается в начале IX в. и достиг максимума в течение X в. III. Социально-политический: социальные институты и нормы, их взаимопроникновение также было двусторонним (ср. заимствования: слав, «гридь» и сканд. torg); по изменениям погребального обряда, распространению новых социальных атрибутов начало этого взаимодействия относится ко второй половине IX в., максимум — ко второй половине X в. IV. Идеологический: обмен духовными ценностями. Он находил выражение в политических и религиозных идеях, династических связях, в использовании общего фонда сведений при создании национальных литератур. Основные импульсы (включавшие и ряд «восточных» образов и мотивов [310, с. 177-339]) поступали из Руси на Север. Если «заморье» в ПВЛ выступает обобщенным воплощением представления об эпическом источнике единой великокняжеской власти, то и в композиции «Хеймскринглы» мотив пребывания конунгов-миссионеров «на Востоке в Гардах» фиксирует поворотные моменты в судьбах Норвегии. Русская летопись не сохранила никаких воспоминаний о северных конунгах, гостивших в Киеве; напротив, киевский князь Ярослав Мудрый, «конунг Ярицлейв» королевских саг — эпически обобщенный образ христианского правителя, воплощающий новые государственно-политические идеалы, не только родич и союзник, но в чем-то и образец для северных конунгов. Центр тяжести новых идеологических ценностей — скорее, на Руси, чем на Севере. Варягов-мучеников киевляне чтили как местных православных святых; а иноземная церковь Олава в Новгороде, первый зарубежный храм во имя христианского патрона Скандинавии, словно акцентирует сакральную значимость для норманнов того пространства, «Гардов», откуда начинался его провиденциальный последний поход. Уровень обмена в идеологической сфере намечается (в области эпоса) не позднее середины X в., достигает максимума — в XI в., а художественное выражение обретает уже в русской литературе XII, и скандинавской XII-XIII вв. В примерном соответствии с этими четырьмя основными уровнями находится и та периодизация, которая устанавливается для русско-скандинавских отношений VIII-XIII вв. Лишь три из пяти периодов относятся собственно к эпохе викингов в Северной Европе. Ее конечный рубеж приходится на начало четвертого периода, и отмечен богатырской фигурой Харальда Хардрады, из Киева отправляющегося «туда, где арабы с норманнами бой ведут на земле и на море», но только уже не в отрезанный печенегами «Серкланд» Ингвара Путешественника, а в Византию. Эта пора его деятельности, полностью принадлежащая еще эпохе викингов, освещена в сагах и «драпах» с широким использованием восточноевропейских, русских эпических мотивов, входивших в общий дружинный фонд [189, с. 184, 200-202]. Вернувшись в Киев со сказочными богатствами, Харальд — Соловей Будимирович, добивается, наконец, руки воспетой им «Герды Гардов», Елизаветы Ярославны. И вся его дальнейшая судьба — возвращение в Норвегию, утверждение на престоле, длительная борьба с соседними королями и, наконец, героическая гибель в битве за английский престол — это уже, собственно, средневековье; а в плане русско-скандинавских отношений — начало нового, «династического этапа». Династические связи между правящими дворами в эпоху феодально-монархических государств были действенным средством развития и регулирования политических отношений, поэтому их следует рассматривать как закономерную форму эволюции русско-скандинавских связей, выражающую переход этих связей в новое, государственно-политическое качество. И снова необходимо констатировать, что инициатива в развитии этих связей принадлежит Руси, где значительно раньше, чем в Северных странах, конституировалась построенная по византийским нормам концепция верховной феодальной власти. Создателем новой системы отношений стал столь хорошо известный норманнам «конунг Ярицлейв», к концу своей деятельности не только претендовавший на равноценный византийскому титул «царя» [186, с. 416], но и умело зафиксировавший родственными связями стабильные отношения со скандинавскими королевствами (он взял в жены дочь шведского короля Ингигерд, а их дочь Елизавета стала женой сначала Харальда Норвежского, а после его гибели — Свейна Эстридсона Датского). Именно так была заложена основа системы международных династических связей киевских государей, функционировавшая до XIII в. [383, с. 426-429]. Международные связи киевской великокняжеской династии в X-XII вв. (по данным X.Рюсса). Династические связи русских князей Владимир — (989-1011) — Анна (Византия) Владимировичи Ярослав — (1020-1050) — Ингигерд-Ирина (Швеция) Мария-Добронега — (1040-1087) — Казимир I (Польша) Ярославичи Владимир — (?) — Ода, графиня Липпольд (Германия) — (до 1052) — Ида фон Эльсдорф (Германия) Изяслав-Дмитрий — (1043-1078) — Гертруда (Польша) Вышеслава — (?) — Болеслав II (Польша) Всеволод-Андрей — (1050-1067) — дочь Константина IX Мономаха (Византия) Анастасия — (1039-1046) — Андрей (Венгрия) Елизавета — (1044-1066) — Харальд (Норвегия) — (1067-?) — Свейн (Дания) Анна — (1050-1060) — Генрих (Франция) — (1060-1075) — Рудольф, граф Креспи-Валуа (Франция) Внуки Ярославли Ростислав-Иван Владимирович — (1060-1067) — Ланка? (Венгрия) Ярополк-Петр Изяславич — (1073-1086) — Кунигунда фон Орламюде (Германия) Святополк-Михаил Изяславич — (до 1113) — Комнина (Византия) Евпраксия Изяславна — (1088—1089) — Мешко III (Польша) Олег-Михаил Святославич — (1083) — Феофа yо Музалон (Византия) Владимир-Василий Всеволодович Мономах — (1070-1107) — Гита Гарольдовна (Англия) Апраксия-Адальгейда Всеволодовна — (1089) — Генрих III фон Стаде — (?) Генрих IV (Германия) Мономаховичи Мстислав-Харальд-Федор Владимирович — (1095-1122) — Кристина (Швеция) — (1122-1132) — дочь новгородского посадника Завидя-Дмитрия Марица — (1116) — Леон Диоген (Византия) Евфимия — (1117-1138) — Коломан I (Венгрия) Мстиславичи-Мономаховичи Ингеборг — (1118) — Кнуд Лавард (Дания) Мальфрида — (?) — Сигурд Крестоносец (Норвегия) — (?) — Эйрик II (Дания) Святополк-Иван — (1144) — Евфимия (Моравия) Ирина — (?) — Андроник Комнин (Византия) Ефросинья— (1146-1176) — Геза II (Венгрия) Русско-скандинавские связи не были определяющими в этой системе, но занимали в ней устойчивое место и заботливо поддерживались. Сто лет спустя после Ярослава Мстислав Владимирович тщательно восстанавливает созданную в середине XI в. картину «политического равновесия», обновляя династические узы и со Швецией, и с Данией, и с Норвегией. Эти отношения оставались стабильными и прочными. Взаимодействие между двумя феодальными культурами — русской и скандинавской — в эпоху Владимира Мономаха и Мстислава продолжало развиваться [186, с. 462-466], но, в отличие от IX-XI вв., оно осуществлялось главным образом в политической и идеологической сфере. В это время «варяжская легенда» прочно включается в композицию ПВЛ, а в норвежско-исландской письменной традиции начинается формирование цикла «королевских саг» с их устойчивым мотивом пребывания королей-миссионеров в Гардах, при дворе конунга Ярицлейва. Оба памятника — «Повесть временных лет» и «Хеймскрингла» — лежат в основании национальных литератур, и оба они оказываются за пределами общесредневековой европейской традиции, основанной на латинской книжности. Те специфические черты, которые предопределили исключительно национальную, и в то же время общечеловеческую значимость воплощения средневековых духовных ценностей на своем языке, на собственном культурном материале, не омертвлённом церковно-феодальными канонами, те черты, которые обусловили всемирно-историческое значение русской литературы нового времени и близкой ей по духу скандинавской литературы конца XIX — начала XX в., корнями уходят в мощную подоснову многовековых русско-скандинавских связей, и корни эти непосредственно соприкасаются с наследием эллинистической культуры, сохраненным раннесредневековой Византией. Эпоха образования Древнерусского государства — для Киевской Руси так же, как эпоха викингов для скандинавских стран, — стала временем не только оформления классового общества и феодальной государственности. В результате социально-экономических и политических процессов, проходивших в условиях тесного двустороннего взаимодействия, и Русь, и Скандинавия вошли в состав нового для них культурного единства. Условно, выделяя преемственную связь с античным культурным и политическим наследием, это единство можно назвать «романским» (имея в виду не только западную, римскую, но и восточную, «ромейскую», его ипостась). «Романский мир», в котором Русь обретала многие исходные формы своей средневековой культуры, был плотной и обширной культурной тканью, охватившей огромное европейское пространство за многие столетия до его разделения на Запад и Восток Европы. Христианская каменная архитектура, развивавшая позднеантичные нормы, навыки и традиции, так же, как развивали их религия, письменность, государственность, единым культурным комплексом распространялась в переживающей социальную революцию «варварской» среде. «Романская культура» VII-XII вв. — это не только и не столько зодчество. Это — особое отношение к письменности, стремящейся приспособиться к языку народа: в высшей степени «романской» (не «латинской!») была деятельность Кирилла и Мефодия, и кириллица — одно из проявлений «романики» (так же, как готский перевод библии Ульфилы). Романика — это земляные замки франкских и саксонских графов, также, как городища славянских волостелей, и борги — скандинавских конунгов, древо-земляные укрепления городов (даже — возникавших у развалин каменных римских крепостей). Определенный тип вооружения — и лишь с появлением в Европе «готического доспеха» (как и готического храма) различия между Западом и Востоком становятся ощутимы. Неправомерно проводившееся маститым русским историком С.М.Соловьевым противопоставление горного, каменного Запада с гнездами замков и городов — деревянной, равнинной Руси [204, VII, 13, с. 46]. То и другое — еще единый мир, и различия от области к области его неуловимы и несущественны по сравнению с теми, что сформируются пять столетий спустя. Основой романского единства в Европе IX-XII вв. было цветущее, богатое, древнее Средиземноморье, римско-византийская цивилизация, с великолепными супергородами, блистательной властью кесарей, авторитетом церкви, иерархической государственностью, семью свободными искусствами, с богатством и силой античной традиции. Русь и Константинополь, Рим и Запад — вот четырехчленная структура романского мира. Норманны, варяги, были наиболее подвижным и относительно самостоятельным его элементом. В поисках внешних ресурсов для строительства средневековой цивилизации, на которые их решительно обрекала скудость и суровость местных условий, создававших лишь некий исходный минимум для социального развития, они устремлялись с Запада в Рим, из Рима в Константинополь и на Русь, либо наоборот — по любой из летописных ветвей Пути из варяг в греки. Оборотной стороной этого движения было встречное, куда менее заметное по внешним формам, но неизмеримо более глубокое по существу. Византийские мастера, участвовавшие в строительстве Киевской, Новгородской, Полоцкой Софии (33) несли навстречу северным варварам, «Из Грек в Варяги» новую систему ценностей, открывая путь к строительству общечеловеческой цивилизации. Этот же путь, между северным варварством и эллинской духовностью, исторический свой путь вершила Русь. Общность исторического пути при переходе от финальной первобытности к феодальному средневековью, — вот подлинное содержание «варяжского вопроса», как тенденциозно и неверно обозначили проблему исторических связей Руси и Скандинавии ученые XIX в. И норманизм, и антинорманизм как течения буржуазной науки вместе с нею уходят в историографическое прошлое [233, с. 96-181; 237, с. 35-51]. Марксистско-ленинская методология позволяет исследовать «варяжский вопрос» как процесс русско-скандинавских отношений, развивавшихся с 750 по 1222 г. на протяжении всего домонгольского периода Руси, осваивая этап за этапом различные уровни и сферы, от экономической до социально-политической и культурно-идеологической. Весь комплекс данных, относящихся к сфере этих отношений, свидетельствует, что вопреки давним тенденциозным представлениям определяющие импульсы шли с Востока — на Север, из Руси — в Скандинавию. Русь обеспечила во многом северные страны ресурсами, необходимыми как для начала строительства феодального общества (не менее 4-5 млн. марок серебра; при этом ничтожную долю, около 0,25% составлял государственный откуп 882-1054 гг., не превысивший 12-13 тыс. марок), так и для завершения его (комплекс политических идей, вдохновлявших королей-миссионеров). В обмен она использовала военные, отчасти — культурные ресурсы, образовавшиеся в виде своего рода «перепроизводства надстроечных элементов», порожденных социальным движением викингов. Итогом этого обмена стало длительное творческое сотрудничество, которое предопределило развитие международных отношений на севере европейского континента на многие столетия вперед. Переход от этого сотрудничества к военной конфронтации феодальных государств в 1164 г. открывает эпоху многовековой борьбы России со Швецией за речные выходы побережья Балтики, завершившейся лишь в 1703 г. после основания российской крепости Санкт-Питер-Бурх в устье Невы. Заключение Эпоха викингов в Северной Европе — один из важнейших этапов исторического прошлого скандинавских стран. Она отделяет десять тысячелетий первобытности от начала собственно исторического периода, который на севере Европейского континента открывается становлением раннефеодального общества, как первой классовой социально-экономической формации. Последовательный анализ всех доступных изучению аспектов экономики, социально-политической структуры, материальной и духовной культуры, основанный на комплексном исследовании данных разных групп источников (письменных, археологических, нумизматических, языковых), и обобщение результатов этого анализа на сравнительно-историческом фоне и в конкретно-исторической взаимосвязи с развитием соседних государств региона позволяет реконструировать основные этапы этого революционного процесса, охватившего IX — первую половину XI столетия. Предпосылки к развитию классовых отношений, основанных на общественном разделении труда, в Северной Европе складываются во второй половине I тыс. н. э., после создания северной системы комплексного хозяйства, основанного на использовании железных орудий труда и приспособленного к экологическим условиям Скандинавии. Вплоть до VIII в. социальное развитие сдерживали продолжавшие функционировать и медленно эволюционировавшие институты традиционного родоплеменного строя. Общественная стабильность обеспечивалась свойственным варварскому обществу механизмом «вынужденной эмиграции», существо которого было раскрыто Марксом: «...избыточное население было вынуждено совершать те полные опасностей великие переселения, которые положили начало образованию народов древней и современной Европы» [1, с. 568]. По своему социальному содержанию эпоха викингов представляет собой финал общеевропейской эпохи Великого переселения народов (V-VI вв.), но финал запоздалый, развернувшийся в иных политических условиях. В Скандинавии он вызвал к жизни особое социальное явление — «движение викингов», которое охватило широкие и различные общественные слои, и выработало новые, специфические организационные формы. Движение викингов обеспечило (за счет военных походов и внешней торговли) поступление в Скандинавию значительного количества материальных ценностей. В ходе движения дифференцировались и консолидировались новые социальные группы: военно-дружинный слой, купцы, ремесленники. На базе накопленных материальных и социальных ресурсов сформировались политические институты раннефеодальной государственности, королевская власть, которая последовательно подчинила органы племенного самоуправления, уничтожила или адаптировала родоплеменную знать, консолидировала военно-феодальные элементы, а затем ликвидировала движение викингов. Соотношением всех этих социальных сил на протяжении двух с половиной столетий были предопределены характерные особенности скандинавской средневековой государственности, неизвестные в других феодальных странах Европы (сохранение институтов крестьянского самоуправления, народной вооруженной силы — ледунга, отсутствие крепостного права). В то же время именно к концу эпохи викингов сложились и функционировали основные институты раннефеодальной государственности: королевская власть, опирающаяся на иерархически организованную вооруженную силу (практически совпадающую с классом феодалов и противостоявшую вооруженной организации свободного населения); регламентированное этой властью законодательство, обеспечивающее контроль государства над налогами, повинностями, судом; христианская церковь, освящавшая социальную систему и политический строй феодальной формации. Эти основополагающие элементы средневекового классового общества вызревали на протяжении всей эпохи викингов, а к концу ее уже определяли общественную, политическую и культурную структуру каждой из скандинавских стран. Следуя ленинскому определению: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы» [5, с. 7], необходимо констатировать, что именно эпоха викингов в Северной Европе стала эпохой вызревания и развертывания непримиримых классовых противоречий, завершившихся установлением классового, феодального государства. Специфика этого процесса в Скандинавии IX-XI вв. заключалась в широком использовании дополнительных, внешних ресурсов, исчислявшихся минимум в 7-8 млн. марок серебра и перераспределенных в итоге в пользу формирующегося класса феодалов (составлявшего с семьями не более 2-3% населения и исчислявшегося в 12-15 тыс. вооруженных людей). Первичная концентрация этих средств была осуществлена силами викингов. Это движение, численность которого достигала на разных этапах 50-70 тыс. человек, привело к своеобразному «перепроизводству надстроечного элемента» в виде военных дружин, оторвавшихся от племенной организации и не вошедших в состав класса феодалов. Постепенная (и неполная) дифференциация викингов, их растворение в составе разных социальных групп средневекового общества (в Скандинавии и за ее пределами); методичная борьба с ними королевской власти, а самое главное — изъятие в пользу государства, феодального класса накопленных излишков средств, подорвали социально-экономическую основу движения викингов и привели к его прекращению. Это движение было вызвано к жизни политическими условиями эпохи. В отличие от германских и славянских племен IV-VI вв., скандинавы имели дело не с разлагающейся античной, рабовладельческой империей, а с системой феодальных государств — либо сложившихся (Каролингская империя, Византия, Арабские халифаты), либо — складывающихся (Древняя Русь, Польша, полабские и балтийские славяне). На Западе, где норманнам противостояли сложившиеся государства, викинги смогли получить определенное количество материальных ценностей (путем военных грабежей), принять участие в феодальных войнах, частично войти в состав господствующего класса, и усвоить при этом некоторые политические и культурные нормы феодального общества. Эти отношения особое значение имели на ранних этапах эпохи викингов (793-891 гг.), для вызревания в жестоком военном противоборстве организационных форм движения (дружины викингов). В дальнейшем, потерпев военное поражение, скандинавы вышли на западноевропейскую арену лишь после того, как в основе было завершено строительство раннефеодальных государств в Северной Европе. Отношения на Востоке развивались иначе. Необходимые материальные ценности (через Русь на Север поступило не менее 4-5 млн. марок серебра, т.е. более половины использованных для «феодальной революции» средств), невозможно было получить непосредственно путем грабежей, так как они накапливались здесь в результате многоступенчатой, транзитной торговли славян с мусульманским миром и Византией. Варяги были вынуждены включиться в строительство системы государственных коммуникаций, территорий, центров, институтов, и в силу этого — в значительной степени подчинить свои интересы и цели интересам и целям славянского господствующего класса Древней Руси. Отношения варягов с Русью приняли характер длительного и многостороннего сотрудничества. Оно началось в раннюю и наиболее плодотворно развивалось на протяжении средней эпохи викингов (891-980 гг.), в самый ответственный для скандинавских стран период собственного государственного строительства. Эти отношения, охватившие сферу материального производства (ремесло), торгового обмена, социальных институтов, политических связей, культурных норм, обеспечили поступление в Скандинавию не только материальных ценностей, но в значительной мере и социально-политического опыта, выработанного господствующим классом Киевской Руси, который, в свою очередь, был тесно связан с крупнейшим и авторитетнейшим из феодальных государств эпохи — Византийской империей. В это время норманны, столкнувшиеся с государствами «римско-германского синтеза» в безуспешном военном противоборстве, в какой-то мере были втянуты в орбиту иного пути строительства феодализма — на основе взаимодействия общинных, «варварских» порядков славянских и других племен с античной традицией, которая в Византии преемственно развивалась от рабовладельческой формации к феодальной. Некоторые нормы и ценности этого восточноевропейского мира глубоко укоренились в обществе эпохи викингов и на столетия предопределили своеобразие духовной культуры скандинавских стран. Собственный, «северный», путь развития феодализма окончательно определился в позднюю эпоху викингов (980-1066гг.), когда постепенно были свернуты разносторонние отношения с внешним миром. В середине XI в. скандинавские страны опирались уже главным образом на внутренние, ограниченные ресурсы, чем и определялась в дальнейшем их роль в истории Европы средних веков. Цитированные источники Источники даны по способу их цитирования в тексте и размещены в следующей последовательности: сочинения древних и средневековых авторов; эпические произведения (включая саги); кодексы законов, летописи. Геродот Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А.Стратановского. Л., 1972 Тацит О происхождении германцев и местоположении Германии. Корнелий Тацит (соч. в 2-х т.). Т. 1. Анналы. Малые произведения / Пер. и коммент. А.С.Бобовича. Л., 1969 Ргосор. Procopii Caesariensis opera omnia. Rec. J. Havry, De bellis libri V-VIII. Lipsiae 1963 Iord. I ordanis Getica. Иордан. О происхождении и деяниях гетов / Текст, пер. и прим. Е.Ч.Скржинской. М., 1960 Rimbertus Vita Anskarii auctore Rimberto . Hannover , 1884 King Alfred's Orosius «Орозий короля Альфреда». — Английские средневековые источники IX-XIII вв. / Тексты, пер., комментарий. В.И.Матузовой. М., 1979 Памятники Бертинские анналы (фрагмент). — Памятники истории Киевского государства IX-XII вв. / Сб. документов подг. к печати Г.Е.Кочиным. Л.,1936 Widukind Res Gestae saxonicarum. Видукинд Корвейский . Деяния саксов / Вступ. ст., пер. и коммент. Г.Э.Санчука. М., 1975 Ибн Фадлан Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Пер. и коммент. А.П.Ковалевского, под ред. акад. И . Ю . Крачковского . М., Л., 1939 Const. Porph. Constantine Porphyrogenitus. De administrando mperio / Ed.G.Moravcsik, R.Jenkins. Washington 1967 Каспийский свод Каспийский свод сведений о Восточной Европе / Под ред. Б.Н.Заходера. Т. 2. М., 1967 Adam Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Adam von Bremen. Hamburgische Kirchengeschichte. Hrsg. von B.Schmeidler. Hannover-Leipzig, 1917 Беовульф Беовульф (Пер. В.Тихомирова, прим. О.Смирницкой). Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975 V Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkm Прорицание вёльвы Е.А.Мелетинский. Прорицание вёльвы (перевод). — Скандинавский сборник, XXII, Таллин, 1982 Речи Высокого Эдда / пер. А.И.Корсуна, прим. М.И.Стеблин-Каменского. — Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. Речи Гримнира. Песнь о Велунде. Первая песнь о Хельги, убийце Хундинга; Вторая песнь о Хельги, убийце Хундинга; Пророчество Грипира; Речи Регина; Речи Сигрдривы; Плач Оддрун; Гренландская песнь об Атли; Речи Хамдира; Песнь о Риге; Песнь о Хлёде Младшая Эдда Младшая Эдда. Издание подготовили О.А.Смирницкая и М.И.Стеблин-Каменский. Л., 1970 Поэзия скальдов Поэзия скальдов / Издание подготовили С.В.Петров и М.И.Стеблин-Каменский. М., 1979 Ynglinga saga, Halfdanar saga svarta Snorri Sturluson. Heimskringla. Bd. I / Bjarni Adalbjarnarson gaf Lit. — Islenzk fornrit, Bd. XXVI Reykjavik, 1941. Haralds saga ins h Of Snorri Sturluson. Heimskringla. Bd. II. (XXVII). Reykjavik, 1945 Magn Snorri Sturluson. Heimskringla. Bd. III. (XXVIII). Reykjavik, 1951. Haralds saga Sigur Сага об Инглингах Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг. А.Я.Гуревич, Ю.К.Кузьменко, О.А.Смирницкая, М.И.Стеблин-Каменский М., 1980. Сага о Харальде Черном; Сага о Харальде Прекрасноволосом; Сага о Хаконе Добром; Сага об Олаве сыне Трюггви; Сага об Олаве Святом; Сага о Харальде Суровом; Сага об Олаве Тихом Сага об Эгиле Исландские саги / Ред. вступ. ст., прим. М.И.Стеблин-Каменского. М., 1956. Сага о людях из Лаксдаля; Сага о Ньяле Gulatingslov Norges gamle Love indtil 1387. Bd. I. Christiania, 1846 Frostatingslov Ibid., Bd. II, Christiania, 1848 Landslov, Hir Cermanenrechte, Bd. 5. Norwegisches Recht. Das norwegische Gefolgsschaftrecht / Hrsg. R.Meisner Weimar, 1938 ПВЛ Повесть временных лет, ч. I (текст и перевод) / Под ред. В.П.Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950 НПЛ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / ред., предисл. А.Н.Насонова. М.; Л., 1950 Правда роськая «Краткая Русская Правда» (по Академическому списку половины XV в.) — В кн.: Сборник документов по истории СССР. IX-XIII вв. / Под ред. В.В.Мавродина. М., 1970, с. 131-133 Цитированная литература 1. Маркс К. Вынужденная эмиграция. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8. 2. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20. 3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч, т. 21. 4. Энгельс Ф. Письмо Паулю Эрнсту 5 мая 1890 г. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37. 5. Ленин В. И. Государство и революция. — Полн. собр. соч., т. 33. 6. Авдусин Д. А. Гнездовская экспедиция. — КСИИМК, 1952, № 44. 7. Авдусин Д. А. Отчет о раскопках Гнездовских курганов в 1949 г — МИСО, 1. Смоленск, 1952. 8. Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Гнездове в 1957-1961 гг. — МИСО, 7. Смоленск, 1970. 9. Авдусин Д. А. Гнездовская корчага. — В кн.: Славяне и их соседи. МИА, № 176. М., 1970. 10. Авдусин Д. А. Гнездово и днепровский путь. — В кн.: Новое в археологии. М., 1972. 11. Авдусин Д. А. Скандинавские погребения в Гнездове. — Вестн. Моск. ун-та, 1974, № 1. 12. Авдусин Д. А., Каненецкая Е. В., Пушкина Т. Л. Раскопки в Гнездове. — АО 1978. М., 1979. 13. Алексеев Л. В. О распространении топонимов «Межа» и «Рубеж» в Восточной Европе. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968. 14. Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX-XIII вв. М., 1980. 15. Антонович В. Б. О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве. — Труды IV АС, ч. I. Казань, 1884. 16. Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962. 17. Артамонов М. И. Воевода Свенельд. — В кн.: Культура Древней Руси. М., 1966. 18. Белецкий С. В. Культурная стратиграфия Пскова (археологические данные к проблеме происхождения города). — КСИА, 1980, № 160. 19. Берлинский М. Краткое описание Киева. СПб., 1820. 20. Бернштейн-Коган С. В. Путь из варяг в греки. — ВГ, № 20, 1950. 21. Блiфельд Д. I. Давньоруськiпамятки Шестовицi. Киiв, 1977. 22. Бранденбург Н. Е. Курганы южного Приладожья. — MAP, 1895, № 18. 23. Бранденбург Н. Е. Старая Ладога. СПб., 1896. 24. Брим В. А. Происхождение термина «Русь». — В кн.: Россия и Запад, ч. 1. Пг., 1923. 25. Брим В. А. Путь из варяг в греки. — Изв. АН СССР, VII. Сер. общ. наук, 1931, вып. 2. 26. Булкин В. А. Типы погребального обряда в курганах Гнездовского могильника. — В кн.: Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970. 27. Булкин В. А. О так называемых пустых курганах Гнездовского могильника. — КСИА, № 135, 1973. 28. Булкин В. А. Большие курганы Гнездовского могильника. — СС, 1975, № 20. 29. Булкин В. А. О появлении норманнов в Днепро-Двинском междуречье. — В кн.: Проблемы истории и культуры Северо-Запада РСФСР. Л., 1977. 30. Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Археологические памятники Древней Руси IX-XI вв. Л., 1978. 31. Булкин В. А., Лебедев Г. С. Гнездово и Бирка (к проблеме становления города). — В кн.: Культура средневековой Руси. Л., 1974. 32. Булкин В. А., Назаренко В. А. О нижней дате Гнездовского могильника. — КСИА, 1971, № 125. 33. Булкин В. А., Рождественская Т. В. Надпись на камне из Полоцкого Софийского собора. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1982. М.; Л., 1984. 34. Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе в XI-XII веках. — ЖМНП, 1874-1875, № 176-178. 35. Васильевский В. Г. Труды 1-4. СПб., (Л.), 1908-1930. 36. Вилинбахов В. Б. Несколько замечаний о легендах Великого Новгорода. — Вести. Ленингр. ун-та, 1963, № 4. 37. Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IX-X вв. Л., 1979. 38. Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах (с первой половины VII века до конца X века, по Р. X.). СПб., 1870. 39. Голубева Л. А. Киевский некрополь. — МИА, 1949, № И. 40. Голубева Л. А. Весь, скандинавы и славяне в X-XI вв. — В кн.: Финно-угры и славяне. Л., 1979. 41. Голубева Л. А. Новые скандинавские находки в Белоозере. — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. сканд. Петрозаводск, 1979. 42. Горюнов Е. А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л., 1981. 43. Гупало К. Н. Подол в древнем Киеве. Киев, 1982. 44. Гуревич А. Я. Большая семья в северо-западной Норвегии в раннее средневековье. —Средние века, 1956. вып. 8. 45. Гуревич А. Я. Некоторые вопросы социально-экономического развития Норвегии в I тыс. н.э. в свете данных археологии и топонимики. — СА, 1960, № 4. 46. Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1966. 47. Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967. 48. Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 49. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 50. Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 51. Гуревич А. Я. К истолкованию «Песни о Риге». — СС, № 18, 1973. 52. Гуревич А. Я. «Эдда» и право (к истолкованию «Песни о Хюндле»). — СС, 1976, №21. 53. Гуревич А. Я. Норвежское общество в раннее средневековье. Проблемы социального строя и культуры. М., 1977. 54. Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 55. Давидан О. И. К вопросу о происхождении и датировке ранних гребенок Старой Ладоги. — АСГЭ, 1968, № 10. 56. Давидан О. И. К вопросу о контактах древней Ладоги со Скандинавией (по материалам нижнего слоя Староладожского городища). — СС, 1971, № 16. 57. Давидан О. И. Стратиграфия нижнего слоя Староладожского городища и вопросы датировки. — АСГЭ, 1976, № 17. 58. Давидан О. И. К вопросу об организации костерезного ремесла в древней Ладоге. — АСГЭ, 1977, № 18. 59. Даркевич В. П. Художественный металл Востока VIII-XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории Европейской части СССР и Зауралья. М., 1976. 60. Джаксон Т. Н. «Восточный путь» исландских королевских саг. — История СССР, 1976, № 5. 61. Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории народов Европейской части СССР X-XIII вв.: Автореф. канд. дис. М., 1978. 62. Джаксон Т. Н. Скальднческие стихи в исландских королевских сагах (к вопросу о степени достоверности королевских саг в качестве источника по истории народов Европейской части СССР). — В кн.: Теория и практика источниковедения и археографии отечественной истории. М., 1978. 63. Джаксон Т. Н. Бьярмия, Древняя Русь и «Земля Незнаемая» (несколько замечаний о методике анализа сведений исландских саг). — СС, 1979, № 24. 64. Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К. Рунические надписи и скандинавская символика на куфических монетах. — Тез. докл. VII Всесоюзн. конф. сканд. Л., 1976. 65. Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К. Рунические граффити на куфических монетах. — В кн.; Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. М., 1977. 66. Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К. Новые источники по истории Древней Руси. — Вести. Ленингр. ун-та, 1978, № 2. 67. Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К. Классификация и интерпретация граффити на восточных монетах. Коллекция Эрмитажа. — ТГЭ, 1981, № 21. 68. Добровольский И. Г., Дубов И. В., Рождественская Т. В. Новая находка граффити на куфической монете. — Вести. Ленингр. ун-та, 1982, № 2. 69. Довженок В. И. Сторожевые города на юге Киевской Руси. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968. 70. Дубов И. В. Северо-восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л., 1982. 71. Закревский Н. Описание Киева, т. 1. М., 1868. 72. 3акс В. А. Социальные отношения и право в Норвегии раннего средневековья: Автореф. канд. дис. Калинин, 1980. 73. Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, 2. М., 1967. 74. История Швеции. М., 1974. 75. История Норвегии. М.., 1980. 76. Каменецкая Е. В. Керамика из скандинавских погребений Гнездова. — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. сканд. Петрозаводск, 1979. 77. Кан А. С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). М., 1980. 78. Каргер М. К. Древний Киев, т. 1, М; Л., 1958. 79. Каргер М. К. Новгород Великий. М.; Л., 1961. 80. Кiлiевич С. Р. Археологiчна карта Киiвського дитинця. — В кн.: Археологiчнi дослiдження стародавнього Киева. Ки i в, 1976. 81. Клейн Л. С., Лебедев Г. С, Назаренко В. А. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения, — В кн.: Исторические связи Скандинавии и России. IX-XX вв. Л., 1970. 82. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Т. I -II. Л., 1966. 83. Кирпичников А. Н. Ладога и Переяславль Южный — древнейшие каменные крепости на Руси. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977. М., 1977. 84. Кирпичников А. Н. Ладога и ладожская волость в период раннего средневековья. — В кн.: Славяне и Русь. Киев, 1979. 85. Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А. Русско-скандинавские связи в эпоху образования Древнерусского государства (IX-XI вв.) — Scando-Slavica, 1978, № 24. 86. Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А. Русско-скандинавские связи эпохи образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения. — КСИА, 1980, № 160. 87. Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Дубов И. В. Северная Русь (некоторые итоги археологических исследований). — КСИА, 1981, № 164. 88. Ковалевский С. Д. К вопросу о толковании прозвища SKOTKONONGAER. — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. сканд. Л., 1976. 89. Ковалевский С. Д. Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977. 90. Конецкий В. Я. Нередицкий могильник. — КСИА, 1981, № 164. 91. Корзухина Г. Ф. Русские клады IX-XIII вв. М; Л., 1954. 92. Корзухина Г. Ф. О гнездовской амфоре и ее надписи. — В кн.: Исследования по археологии СССР. Л., 1961, 93. Корзухина Г. Ф. О времени появления укрепленного поселения в Ладоге. — СА, 1961, № 3. 94. Корзухина Г. Ф. Находка на Рюриковом городище под Новгородом. — КСИА, 1965, № 104. 95. Корзухина Г. Ф. О некоторых ошибочных положениях в интерпретации материалов Старой Ладоги. — СС, 1971, № 16. 96. Корзухина Г. Ф Некоторые находки бронзолитейного дела в Ладоге. — КСИА, 1973, № 135. 97. Корзухина Г. Ф. Об Одине и кресалах Прикамья. — В кн.: Средневековая Русь. М., 1976. 98. Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры. М., 1967. 99. Круг Ф. Критические разыскания о древних русских монетах. СПб, 1807. 100. Куза А. В. Новгородская земля. — В кн.: Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. 101. Куза А. В., Леонтьев А. Е., Пушкина Т. А. [Рец. на кн.: Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Археологические памятники Древней Руси IX-XI вв. Л., 1978, 147 с., 1 карта]. — СА, 2, 1982. 102. Кузьмин А. Г. К вопросу о происхождении варяжской легенды. — В кн.: Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. 103. Кухаренко Ю. В. Могильник Брест-Тришин. М., 1980. 104. Кушнир И. И. К топографии древнего Новгорода — СА, 1975, № 3. 105. Лебедев Г. С. Разновидности обряда трупосожжения в могильнике Бирки. — В кн.: Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970. 106. Лебедев Г. С. Шведские погребения в ладье VII-XI веков. — СС, 1974, № 19. 107. Лебедев Г. С. Путь из варяг в греки. — Вести. Ленингр. ун-та, 1975, № 20. 108. Лебедев Г. С. Археологические памятники Ленинградской области. Л., 1977. 109. Лебедев Г. С. Социальная топография могильника эпохи викингов в Бирке. — СС, 1977, № 22. 110. Лебедев Г. С. Погребальный обряд как источник социологической реконструкции (по материалам Скандинавии эпохи викингов). — КСИА, 1977, № 148. 111. Лебедев Г. С. Этнографические сведения арабских авторов о славянах и русах. — В кн.: Из истории феодальной России. Л., 1978. 112. Лебедев Г. С. Монеты Бирки как исторический источник. — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. скан. Петрозаводск, 1979. 113. Лебедев Г. С. Археологический тип как система признаков. — В кн.: Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Л., 1979. 114. Лебедев Г. С. Проблема генезиса древнерусской курганной культуры. — КСИА, 1981, № 166. 115. Лебедев Г. С. Археологическое изучение Новгородской земли. НИС, 1982, № I (II). 116. Лебедев Г. С. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет». — В кн.: Историческая этнография. Традиции и современность. Проблемы археологии и этнографии, вып. 2. Л., 1982. 117. Лебедев Г. С. Монеты Бирки как исторический источник. — СС, 1982, № 27. 118. Лебедев Г. С. Конунги-викинги (к характеристике типа раннефеодального деятеля в Скандинавии). — В кн.: Политические деятели античности, средневековья и нового времени. Л., 1983. 119. Лебедев Г. С., Булкин В. А., Назаренко В. А. Древнерусские памятники бассейна р. Кэспли и «Путь из варяг в греки», — Вестн. Ленингр. ун-та, 1975, № 14. 120. Леонтьев А. Е. Сарское городище в истории Ростовской земли (VIII-XI вв.): Автореф. канд. дис. М., 1975. 121. Лерберг А. X. Исследования, служащие к объяснению древней русской истории. СПб., 1819. 122. Лещенко В. Ю, Восточные клады на Урале в VII-XIII вв. (по находкам художественной утвари): Автореф. канд. дис. Л., 1971. 123. Лихачев Д. С. 1). Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975; 2). Текстология. Л., 1983. 124. Ловмянский Г. Рерик Ютландский и Рюрик Новгородский. — СС, VII. Таллин, 1963. 125. Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII —первая половина IX в.). — МИА, 1968, № 152. 126. Ляпушки в И. И. Новое в изучении Гнездова. — АО 1967. М., 1968. 127. Ляпушкин И. И, Гнездово и Смоленск. — В кн.: Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. 128. Лященко А. И. Киев и … у Константина Багрянородного. — Доклады АН СССР, 1930, № 4. 129. Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. 130. Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. 131. Мавродин В. В. О племенных княжениях восточных славян. — В кн.; Исследования по социально-политической истории России. Л., 1971. 132. Массой В. М. Экономика и социальный строй древних обществ, Л., 1976. 133. Матузова В. И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты, пер., коммент. М., 1979. 134. Мачинский Д. А. О времени и обстоятельствах первого появления славян на Северо-Западе Восточной Европы по данным письменных источников. — В кн.: Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982. 135. Мелетинский Е. М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. 136. Мелетинский Е. М. О семантике мифологических сюжетов в древнескандинавской (эддической) поэзии и прозе. — СС, 1973, № 18. 137. Мельникова Е. А. Сведения о древней Руси в двух скандинавских рунических надписях. — История СССР, 1974, № 6. 138. Мельникова Е, А. Древняя Русь в исландских географических сочинениях. — В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976. 139. Мельникова Е. А. Экспедиция Ингвара Путешественника на восток и поход русских на Византию в 1043 г. — СС, 1976, № 21. 140. Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. М., 1977. 141. Мельникова Е. А. Восточноевропейские топонимы с корнем gar d — в древнесеверной письменности. — СС, 1977, № 22. 142. Мельникова Е. А. Ранние формы торговых объединений в Северной Европе. — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. сканд. Петрозаводск, 1979. 143. Мельникова Е. А. 1) Этнонимика севера Европейской части СССР по древнеисландской письменности и «Повести временных лет». — В кн.: Северная Русь и ее соседи. Л., 1982; 2) Новгород Великий в древнескандинавской письменности. Новгородский край. Л., 1984. 144. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. 145. Микляев А. М. Археологическая география — задача, метод и первые результаты. — В кн.: Контакты и взаимодействие древних культур. Л., 1981. 146. Минасян Р. С. Проблема славянского заселения лесной зоны Восточной Европы в свете археологических данных. — В кн.: Северная Русь и ее соседи. Л., 1982. 147. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963. 148. Миролюбов М. А. Орудия вторичной обработки почвы и уборки урожая из Старой Ладоги. — АСГЭ, 1976, № 17. 149. Назаренко В. А. Исторические судьбы Приладожья и их связи с Ладогой. — В кн.: Славяне и Русь. Киев, 1979. 150. Назаренко В. А. Об этнической принадлежности приладожских курганов. — В кн.: Финно-угры и славяне. Л., 1979. 151. Назаренко В. А. Об уровне социально-экономического развития населения юго-восточного Приладожья IX-X вв. — В кн.: Fenno — ugri et slavi 1978. Helsinki, 1980. 152. Назаренко В. А. Норманны и появление курганов в Приладожье. — В кн.: Северная Русь и ее соседи, Л., 1982. 153. Насонов А. Н. «Русская Земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951. 154. Неусыхин А. И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII-XII вв. М., 1964. 155. Новосельцев А. П. К вопросу об одном из древнерусских титулов русского князя. — История СССР, 1982, № 4. 156. Носов Е. Н. Старая Ладога и поселения. Приильменья конца I тыс. — Тез. докл. советской делегации III MKCA. М., 1975. 157. Носов Е. Н. Нумизматические данные о северной части балтийско-волжского пути конца VIII-X вв. — ВИД, 1976, № 8. 158. Носов Е. Н. Волховский водный путь и поселения конца I тысячелетия н.э. — КСИА, 1981. № 164. 159. Носов Е. Н. Археологические памятники Новгородской земли VIII-X вв. — В кн.: Археологическое изучение Новгородской земли. Л., 1984. 160. Нюлен Э. Поминальные камни Готланда. — В кн.: Сокровища викингов. Л., 1979. 161. Орлов С. Н. Старая Ладога. Л., 1949. 162. Орлов С Н Вновь открытый раннеславянский грунтовой могильник в Старой Ладоге. — КСИИМК, 1956, № 65. 163. Папаскиви 3. В. «Варанги» грузинской «Летописи Картли» и некоторые вопросы русско-грузинских контактов в XI веке. — История СССР, 1981, № 3. 164. Пашуто В. Т. Русско-скандинавские отношения и их место в истории раннесредневековой Европы. — СС, 1970, № 15. 165. Пашуто В. Т. Летописная традиция о племенных княжениях и варяжский вопрос. — Летописи и хроники, 1973. М., 1974. 166. Петренко В. П., Кузьменко Ю. К. № 144. Старая Ладога II . — В кн.: Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. М., 1977. 167. Петров С. В. Поэзия древнеисландских скальдов и понятие народности в искусстве. — СС, 1973, № 18. 168. Петрухин В. Я. О картине мира у скандинавов-язычников (по «памятным камням» V-XI вв.). — СС, 1978, № 23. 169. Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973. 170. Потин В. М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII вв. Историко-нумизматический очерк. Л., 1968. 171. Потин В. М. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (IX-XII вв.) — В кн.: Исторические связи Скандинавии и России. IX-XX вв. Л., 1970. 172. Потин В. М. Нумизматическая хронология и вопросы истории Руси и Западной Европы в эпоху раннего средневековья. — В кн.: Северная Русь и ее соседи. Л., 1982. 173. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XIII вв. М., 1938. 174. Пушкина Т. А. Монетные находки Гнездова. — Тез. докл. IX Всесоюзн. конф. сканд. Тарту, 1982. 175. Пушкина Т. А. Работы Гнездовского отряда. — АО 1981, М., 1983. 176. Равдоникас В. И. Надписи и знаки на мечах из Днепростроя. — ИГАИМК, 1933, № 100. 177. Равдоникас В. И. Старая Ладога (из итогов археологических исследований 1938-1947 гг.) — СА, 1949, № И; 1950, № 12. 178. Рожнецкий С. Из истории Киева и Днепра в былевом эпосе. — Изв. Отделения русского языка и словесности, 1911, № 1. 179. Русанова И. П. Славянские древности VI-VII вв. М., 1976. 180. Рыбаков Б. А. Древности Чернигова. — МИА, 1949, № И. 181. Рыбаков Б. А. Предпосылки образования Древнерусского государства. — Очерки истории СССР III-IX вв. М., 1958. 182. Рыбаков Б. А. Обзор общих явлений русской истории IX — середины XIII в. — ВИ, 1962, № 4. 183. Рыбаков Б. Л. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. 184. Рыбаков Б. Л. Варяги. Норманская теория. — История СССР, первая серия, т. 1. М., 1966. 185. Рыбаков Б. А. О двух культурах русского феодализма. — В кн.: Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабовладения и феодализма. М., 1970. 186. Рыбаков Б. А. 1) Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982; 2) Язычество древних славян. М., 1981. 187. Рыдзевская Е. А. Некоторые данные из истории земледелия в Норвегии и Исландии в IX-XIII вв. — Исторический архив, 1940, III. 188. Рыдзевская Е. А. Сведения по истории Руси XIII в. в «Саге о короле Хаконе». — В кн.: Исторические связи Скандинавии и России. IX-XX вв. Л., 1970. 189. Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия IX-XIV вв. М., 1978. 190. Рябинин Е. А. Владимирские курганы (опыт источниковедческого анализа материалов раскопок 1853 г.). — СА, 1979, № I. 191. Рябинин Е. А. Скандинавский производственный комплекс VIII века из Старой Ладоги — СС, 1980, № 25. 192. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. IX — первач половина X века. М„ 1980. 193. Сванидзе А. А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции (XIV-XV вв.). М., 1967. 194. Сванидзе А. А. Швеция в период Кальмарской унии. Начало сословной монархии (конец XIV — начало XVI в.) — В кн.: История Швеции. М., 1974. 195. Седов В. В. Исследования в Изборске. — АО 1974. М, 1975. 196. Седов В. В. Раскопки в Изборске в 1971 и 1972 гг. — КСИА, 1975, № 144. 197. Седов В. В. Некоторые итоги раскопок в Изборске. — В кн.: Северная Русь и ее соседи, Л., 1982. 198. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (Х-XV вв.). М., 1981. 199. Седых В. Н. Керамика Тимеревского поселения (предварительное сообщение). — В кн.: Северная Русь и ее соседи. Л., 1982. 200. Скржинская Е. Ч. Примечания. — В кн.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960. 201. Смирницкая О. А. Беовульф. — В кн.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. 202. Смирницкая О. А. О поэзии скальдов в «Круге Земном» и ее переводе на русский язык. — В кн.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. 203. Сокровища викингов. Каталог произведений искусства и памятников культуры Швеции II-XI вв. из собраний Государственного исторического музея в Стокгольме и других музеев Швеции / Научн. ред. Г.С.Лебедев, М.Б.Щукин. Л., 1979. 204. Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. I, II. М., 1959, 1960. 205. Спегальский Ю. П. Жилище Северо-Западной Руси IX-XIII вв. Л., 1972. 206. Стеблин-Каменский М. И. Древнеисландский поэтический термин «дроттквет». — Научн. бюлл. Ленингр. ун-та, 1946, № 6. 207. Стеблин-Каменский М. И. Происхождение поэзии скальдов. — СС, 1958, № 3. 208. Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. М., 1967. 209. Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Л., 1971. 210. Стеблин-Каменский М. И. Старшая Эдда. — В кн.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. 211. Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976. 212. Стеблин-Каменский М. И, Историческая поэтика. Л., 1978. 213. Стеблин-Каменский М. И. Скальдическая поэзия. В кн.: Поэзия скальдов. М., 1979. 214. Стеблин-Каменский М. И. [Прим. к кн.:] Поэзия скальдов. М., 1979. 215. Стриннгольм А. М. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. СПб., 1861. 216. Строков А. А., Богусевич В. А. Новгород Великий. Л., 1939. 217. Толочко П. П. Iсторична топография стародавнього Киева. Киiв, 1970. 218. Толочко П. П. Ки 219. Томсинский С. В. О двух типах построек Тимеревского селища. — В кн.: Северная Русь и ее соседи, Л., 1982. 220. Топоров В. Н. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы. — Балто-славянские исследования 1982. М., 1983. 221. Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народности. — МИА, 1970, № 179. 222. Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. Л., 1982. 223. Тьерри О. История завоевания Англии норманнами, т. I. СПб, 1868. 224. Федоров М. Н. О покупательной способности дирхема и динара в Средней Азии и сопредельных с нею странах в IX-XII вв. — СА, 1972, № 2. 225. Фомин А. В. Начало обращения куфических монет в районе Балтики. — КСИА, 1982, № 171. 226. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974. 227. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980, 228. Фундуклей И. Обозрение Киева в отношении к древностям. Киев, 1847. 229. Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. 230. Херрманн И. Полабские и ильменские славяне в раннесредневековой балтийской торговле. — В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978. 231. Хольмквист В. Золотая пектораль из Мёне. — В кн.: Сокровища викингов. Л., 1979. 232. Шарыпкин Д. М. «Рек Боян и Ходына» (к вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игореве»). — СС, 1973, № 18. 233. Шаскольский И. П. Норманская теория в современной буржуазной науке. Л., 1965. 234. Шаскольский И. П. Походы викингов и социальные сдвиги в шведском обществе. — В кн.: История Швеции. М., 1974. 235. Шаскольский И. П. Возникновение раннеклассового общества и государства (IX-XI вв.). — В кн.: История Швеции. М., 1974. 236. Шаскольский И. П. Норманская проблема в советской историографии. — В кн.: Советская историография Киевской Руси. Л., 1978. 237. Шаскольский И. П. Антинорманизм и его судьбы. — В кн.: Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы историографии. Л., 1983. 238. Шаскольский И. П., Свердлов М. Б., Лебедев Г. С. Была ли Швеция IX-XI вв. самой отсталой страной Европы? — Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. сканд. Петрозаводск, 1979. 239. Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919. 240. Ширинский С. С. Объективные закономерности и субьективный фактор в образовании Древнерусского государства. — В кн.: Ленинские идеи в изучении истории. М., 1970. 241. Шмидт Е. А. Археологические памятники второй половины I тысячелетия н.э. на территории Смоленской области. — МИСО, № 5. Смоленск, 1963. 242. Шмидт Е. А. Археологические памятники периода возникновения города Смоленска. — В кн.: Смоленск. 1100 лет. Смоленск, 1967. 243. Шмидт Е. А. Об этническом составе населения Гнездова. — СА, 1970, № 3. 244. Шмидт Е. А. К вопросу о древних поселениях в Гнездове. — МИСО, № 8. Смоленск, 1974. 245. Штыхов Г. В. Древний Полоцк IX-XIII вв. Минск, 1975. 246. Щукин М. Б. Современное состояние готской проблемы и черняховская культура. — АСГЭ, 1977, № 18. 247. Эрдели И. Об археологической культуре древних венгров конца IX — первой половины X в. н.э. — В кн.: Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972. 248. Якобссон Г. Варяги и Путь из варяг в греки. — Scando-Slavica, 1983, № 29. 249. Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956. 250. Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М., 1977. 251. Янин В. Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований. — НИС, 1982, № 1 (11). 252. Янин В. Л. Археологический комментарий к Русской Правде. — В кн.: Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. 253. Янин В. Л., Алешковский М. X. Происхождение Новгорода (к постановке проблемы). — История СССР, 1971, № 2. 254. Янин В. Л., Колчин Б. А. Итоги и перспективы новгородской археологии. — В кн.: Археологическое изучение Новгорода. М,, 1978. 255. Янина С. А. Неревский клад куфических монет X века. — МИА, 1956, № 55. 256. Янина С. А. Второй Неревский клад куфических монет X века. — МИА, 1963, №. 117. 257. Ярославское Поволжье в X-XI вв . М ., 1963. 258. Marx К . Secret diplomatic history of the eighteenth century. L., 1899. 259. Aberg N. Uppsala h 260. Almgren B. Hj 261. Ambrosiani В., Arrhenius В., Danieisson K., Kyhlberg O. Birka. Svarta jordens havnomr 262. Ambrosiani B. Neue Ausgrabungen in Birka. — In: Vor— und Fr 263. Aner E. Das Kammergr 264. Anthoni E. Egils sagas bet 265. Appelgren H. Suomen muinaislinnat. — SMYA, 1891, 12. 266. Arbman H. Schweden und das Karolingische Reich. St., 1937. 267. Arbman H. Birka. Sveriges 268. Arbman H. Der Arby-Fund. — AAL, 1940, 11. 269. Arbman H. Birka. I. Die Gr 270. Arbman H. Svear i 271. Arbman H. Skandinavisches Handwerk in Russland der Wikingerzeit — Meddelanden Iran Lunds Universitets historiska museum (1959), Lund, 1960. 272. Arbman H. The Vikings. L., 1962. 273. Arbtnan H. B 274. Arne T. J. La Su 275. Arne T. J. Skandinavische Holzkammergr 276. Arne T. J. Das Bootgr 277. Arrhenius B. B 278. Arrhenius B. Ett tr 279. Arrhenius B. Knivar fr 280. Arrhenius B. Granatschmuck und Gemmen aus Nordischen Funden des fr 281. Arrhenius B. Islamisk keramik. — In: Ambosiani B. e. a. Birka. Svarta jorden hamnomr 282. Arrhenius B. Birka. 2. Arch 283. Arwidsson G. Armour of the Vendel period. — AA, 1939, 10. 284. Arwidsson G. Vendelstile. Email und Glas im 7-8. Jahrh. Uppsala, 1942. 285. Arwidssоn G. Die Gr 286. Arwidsson G. Valsg 287. Arwidsson G. B 288. Beck H. Einige vendelzeitliche Bilddenkmaler und die literarische Ueberlieferung. M 289. Berichte 290. Blindheim Ch. Smedegraven fra Bygland i Morgedal — Viking, 1963, 26. 291. Blindheim Ch. Kaupang in Skiringssal. A. Norwegian port of trade from the Viking Age. — Vor— und Fr 292. Blindheim C., Tollness R. Kaupang, Vikingenes handehplass. Oslo, 1972. 293. Пропуск в тексте 294. B 295. Вrate E. Runverser. Unders 296. Br 297. Br 298. Вr 299. Br 300. Br 301. Bruce-Mitford R. Sutton-Hoo and the Background to the poem. — In: Girvan R. Beowulf and the Seventh Century. L., 1971. 302. Bruce-Mitford R. The Sutton Hoo ship burial. 1-2. L., 1975, 1978. 303. Callmer J. Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. D. — AA, 1977, 11. 304. Capelle T. Der Metallschmuck von Haithabu. Neum 305. Crumlin-Pedersen O. Skind eller Trae. — In: S 306. Deemant K. Das Steingr 307. Deemant K. Ausgrabungen in Proosa. — Ibid., 1981, Bd. 30. 308. Dekan J. Vel'ka Morava. Doba 309. Durand F. Les Vikings (Que sais-je?). Paris, 1977. 310. Ellis Davidson H. R. The Viking Road to Byzantium. L., 1976. 311. Eriksson M. Byar och hamnor i fornatidens Vendel. — UFT, 1938, Bd. 46, №1. 312. Evans A. Batgraven i Sutton Hoo. — In: Vendeltid, St., 1981. 313. Faber G. Piraten oder Staatengr 314. Foote P. G., Wilson D. M. The Viking Achievement. N. Y., 1970. 315. Frick J. von. Wikingerschiffe. 316. Friesen O. von. Om runskriftens h 317. Gejer A. Birka. Bd. III. Die Textilfunde aus der Gr 318. Gimbutas M. The Baits. L., 1962. 319. Graslund A. S. Birka IV. The Burial customs. A study of the graves on Bj 320. Hachmann R. Die Goten und Skandinavien, Berlin, 1970. 321. Hachmann R. Die Germanen. — Archaeologia mundi. Genf, 1971. 322. HagbergU. E. The archaeology of skedemosse. — KVHAA, St., 1967, 46. 323. Hagen A. Studier i jernalderens g 324. Hagen A. Norway. L., 1967. 325. Haidu P. (ed.) Ancient cultures of the Uralian peoples. Budapest, 1976. 326. Hardh B. Wikingerzeitliche Depotfunde aus S 327. Herrmann J. Siedlung, Wirtschaft u. gesellschaftliche Verh 328. Herrmann J. Die Ostsee — ein v 329. Herrmann J. Wikinger und Slawen. Berlin, 1983. 330. Holmqvist W. Exavations at Helg 331. Holmgvist W. Helg 332. H 333. Jankuhn H. Die fr 334. Jankuhn H. Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit. Neum 335. Jankuhn H. Typen und Funktionen vor— und fr 336. Jankuhn H. Zusammenfassende Schlussbemerkungen. — In: Vor— und Fr 337. Jansson S. The runes of Sweden. St., 1962. 338. Jansson S. Runinskrifter i Sverige. Uppsala, 1963. 339. Kendrick T. D. A History of the Vikings. Oxford, 1930. 340. Kivikoski E. Studien zu Birkas Handel im 341. Kivikoski E. Kvarnbacken. Helsinki, 1963. 342. К ivik о ski E. Die Eisenzeit Finlands. Helsinki, 1973. 343. Klindt-Jensen O. Bornholm i Folkvandringstiden. K 344. K 345. Lebedev G. S. On the early date of the «Way from Varangians to the Greeks». — Fenno-ugri et slavi. Helsinki, 1980. 346. Lebedev G. S. Der slawisches Burgwall Gorodec bei Luga (zur Probleme den ost— und westsiawischen Beziehungen). — In: Werner Coblenz Festschrift, Bd. II. Leipzig, 1982. 347. Leciejewicz L. Cmentarzysko w Birce. Proba interpretacii spolecznej. — Archeologia, 1954, 6. Warszawa; Wroclaw, 1956. 348. Leciejewicz L. Normanowie. Wroclaw, 1979. 349. Lindqvist S. Vendel-Time Finds from Valsg 350. Lindqvist S. Hednatemplet i Uppsala. — Fornv 351. Lindqvist S. Uppsala hogars och Ottarsh 352. Lindqvist S. Gotlands Bildsteine. Bd. 1-2. Uppsala, 1941-1942. 353. Ljungberg H. Bj 354. Lundberg O. Vendel s 355. Lundstr 356. Lundstr 357. Madsen H. J. Vikingernes 358. Malmer B. Nordiska mynt f 359. Malmer M. Metodproblem inom j 360. Maure M. Les 361. M 362. M 363. M 364. M 365. Nerman B. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der j 366. Nicolaysen N. Langskibet fra Gokstad. Kristiania, 1882. 367. Nordman C. A. Karelska j 368. Odobescu A. Le tr 369. Olsen M. Om troldruner. — Edda, 1916, 5. 370. Olsen O. Farms and Fanes of Ancient Norway. Oslo, 1928. 371. Olsen O. Nogle tanker i anledning of Ribes. — Fra Ribe Amt. Aarhus, 1975; Olsen O., Crumlin-Pedersen O. F 372. Petersen J. De vikingesverd. Een typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Kristiania, 1919. 373. Petersen J. Vikingetidens smykker. Stavanger, 1928. 374. Petersen J. Gamle g 375. Petersen J. Vikingetidens redskaper. Oslo, 1951. 376. Petersen J. Forhistoriske g 377. Pritsak O. The Origin of Rus', I. Cambridge, Mass., 1981. 378. Randsborg K. The Viking Age in Denmark. L., 1980. 379. Randsborg K. Les activit 380. Randsborg K. The Viking Age State Formation in Denmark. — Offa, 1981, 38. 381. Raudonikas W. I. Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebiet. St., 1930. 382. R 383. R 384. Salin B. Die altgermanische Thierornamentik. St., 1904. 385. Schaefer U. Anthropologische Untersuchung der Skelerte von Haithabu. Neum 386. Schietzel K. Bemerkungen zur Erforschung der Topographic von Haithabu. — In: Vor— und Fr 387. Sсh 388. Sсhuldt E. Der altslawische Tempel von Gro 389. Selling D. Wikingerzeitliche und fr 390. Shetelig H. Vestlandske graver fra jernalderen. Bergen, 1912. 391. Shetelig H. Tuneskibet. Kristiania, 1917. 392. Shetelig H. Vikingeminner i Vest-Europa. Oslo, 1933. 393. Stalsberg A. Skandinaviske vikingetidsfunn Era det gammelrusiske riket. — Fornvannen, 1979, 74. 394. Steenstrup J. Normannerne. K 395. Stenberger M., Klindt-Jensen O. Vallhagar, a migration period settlement on Gotland / Sweden. Kopenhagen, 1955. 396. Stenberger M. 397. Stenberger M. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. Bd. I. St., 1958; Bd. II. Lund, 1947. 398. Stenberger M. Das Gr 399. Stenberger M. Det forntida Sverige. St., 1964. 400. Stenberger M. Eketorp, Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung. — In: Vor— und Fr 401. Stenberger M. Vorgeschichte Schwedens. Berlin, 1977. 402. Steuer H. Zur statistischen Auswertung des Gr 403. Stolpe H. Vendelfyndet. En farbereande ofversikt. — ATS, 1884, 8, 1. 404. Stolpe H., Arne T. J. Graff 405. Strinnholm A. Svenska folkets historia fr 406. Str 407. Thorson P. A new interpretation of viking. — In: Proceedings of the Sixth viking congress. Uppsala, 1971. 408. Thorvildsen K. Ladby-Skibet. — Nordiske Fortidsminder, 1957, 6, 1. 409. Todd M. The Northern Barbarians 100 BC — AD. 300. L., 1975. 410. Varangian problems. Scando-slavica supplement I. Copenhagen, 1970, 411. Vogel V. Arch 412. Wadstein E. Norden och V 413. Wilson D., Klindt-Jensen O. Viking art. L., 1966. 414. Wilson D. Sverige — England — In: Vendeltid. St., 1981. Список сокращений АО Археологические открытия АС Археологический съезд АСГЭ Археологический сборник Гос. Эрмитажа ВГ Вопросы географии ВИ Вопросы истории ВИД Вспомогательные исторические дисциплины ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения ИГАИМК Известия Государственной Академии истории материальной культуры КСИА Краткие сообщения Института археологии КСИИМК Краткие сообщения Института истории материальной культуры МАР Материалы по археологии России МИА Материалы и исследования по археологии СССР МИСО Материалы по изучению Смоленской области МКСА Международный конгресс по славянской археологии НИС Новгородский исторический сборник СА Советская археология СС Скандинавский сборник ТГЭ Труды Гос . Эрмитажа AA Acta archaeologica ATS Antikvarisk tidskrift f ENSV TA Академия наук ЭССР F. Frostatingslov HTF Historisk tidskrift for Finland G. Gulatingslov KVHAA Kungliche Vitterhets Historic och Antikvitets Akademien L. Landslov SM Stavanger Museums Arbok (L) Lund (K) K SMYA Suomen Muinaismuisloyhdistyksen Aikakauskirja UO Universitets Oldsaksamling UFT Upplands forminnesforenings tidskrift UOS Universitets Oldsaksamlings skrifter (А) Личные имена и прозвища даны по русскому переводу «Хеймскринглы» (см.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М, 1980). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|||||||