 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Нортон Андрэ :: Лесков Николай Семёнович :: Грин Александр :: Станюкович Константин Михайлович :: Сименон Жорж Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Часы без пружины :: Аквариумист :: Тюремные дневники :: Камероны :: Артур и минипуты :: Советский Союз в локальных войнах и конфликтах :: Экзамен :: Конец материи |
Норманны в ВизантииModernLib.Net / Исторические приключения / ле Ру Гюг / Норманны в Византии - Чтение (стр. 2)
– Слава! Слава! Роману слава! Теофано слава! – кричала жаждавшая богатых милостей от нового базилевса толпа, как будто бы все присутствовали не на похоронах, а находились на зрелище в цирке. В это время толпа была отодвинута к стенам триклиния сильным натиском конвоя из варягов и других народностей. Этот отряд, как стая верных псов, всюду следовал за базилевсом. В состав его входили – и наголо бритые болгары, и хазары, и печенеги, одетые в грязные звериные шкуры, и руссы, в шлемах с шишаками, подобные тем, каких встречал Дромунд на великом греческом пути. Не видя среди них норманнов, он с удивлением спросил своего товарища: – Что же нет наших? Но Харальд был слишком поглощен старанием не отстать от процессии и добраться до церкви Всех Святых, где предполагалась раздача милостыни народу. – Идем, идем, – отвечал он, увлекая за собой Дромунда. Кортеж подходил к церкви. Дворцовые певчие пели дрожащими прочувствованными голосами погребальные гимны. Все улицы, перекрестки, портики благочестивой столицы были изукрашены дорогими материями. Вся дорога покрыта зеленью, ветками и золотым песком. Отборная стража из руссов, армян, скандинавов, венецианцев и амальфитян стояла вдоль нее шпалерами, держа в руках кривые сабли, обоюдоострые алебарды, копья и луки. Большая часть этих воинов была лично известна покойному императору, пользовалась его благоволением и получала от него подачки. Поэтому, во время шествия похоронной процессии, отборная стража выражала свое горе такими громкими и дикими криками, что испуганные лошади кортежа кидались в сторону. Перед входом в церковь Дромунд был охвачен суеверным страхом при виде духовенства, выходившего навстречу, чтоб благословить тело покойного. Во главе старцев в золотых одеяниях, с бородами, доходящими до пояса, и распущенными по плечам густыми волосами шел патриарх Полиевкт. Он был духовником Багрянородного, и он же обратил в христианство княгиню Ольгу. Только одна из всех тут присутствовавших базилисса Теофано подняла голову и могла спокойно выдерживать необыкновенно проницательный взгляд благочестивого монаха. Все духовенство разместилось около патриарха и образовало полукруг у изголовья катафалка. В ногах покойного стоял великий евнух с белым жезлом в руках. Он следил за всем происходящим, распоряжался церемонией последнего прощания с усопшим и допускал, смотря по чину и рангу, кого только до поклона, кого только до целования руки. Когда все отдали последний долг покойному, главный распорядитель погребальной церемонии выдвинулся из-за колонны и громовым голосом воскликнул: – Выходи базилевс! Царь царствующих и Господь господствующих тебя призывает. Это служило сигналом для взрыва всеобщей скорби. Загремели серебряные трубы органа; волны дыма аравийского ладана как туманом наполнили весь собор; пение придворного хора то раздавалось жалобными печальными стенаниями, то бурным воплем и отрывистыми восклицаниями возносилось к сводам храма, а бесчисленная толпа народа, наполняя улицы, дворцы, террасы, сады, палубы ладей, потрясала воздух отчаянным криком, доносившимся по воде Босфора до азиатского берега. Потом толпа обратила свои жадные взоры и приветственные восклицания прирожденных рабов к новому самодержцу, от которого ждала удовлетворения вечной своей жажды «хлеба и зрелищ», свойственной несчастным, лишенным инициативы и потому неспособным выбиться из самой жалкой нищеты. Части стен рушились под напором зрителей. Оставшиеся на ногах ходили, как по какой-нибудь насыпи, по теплым трупам упавших. Всякому хотелось быть поближе к молодому самодержцу, встретиться с ним глазами и обратить на себя его внимание.  Глава 5 Варяги Берега Средиземного моря в то время содрогались от постоянных разбоев сарацинов, которые дошли до такой дерзости, что безнаказанно разоряли даже города, подрывая тем веру в могущество Византии. Острова архипелага, берега Греции и Азии особенно страдали от их набегов. Неприступная греческая цитадель Хандакс на острове Крит, была взята ими и превратилась в громадный притон разбойников, куда, как на базар, стекались богатства всего Востока. Пираты вели там открытый торг христианскими невольниками, а поставщики гаремов приезжали туда запасаться живым товаром. Измученный таким насилием и грабежом, народ возлагал все свои надежды на юного самодержца, надеясь, что он отомстит туркам и прекратит их набеги. Желая успокоить своих подданных и, кстати, удалить из Византии распущенных наемников, державших в страхе всю столицу, Роман придумал снарядить в Средиземное море экспедицию. Начальство над нею он поручил знаменитому полководцу Фоке, который в это время только что прославился своими победами в Малой Азии, на сарацинской границе. Роман дал ему титул сиятельнейшего господина, главнокомандующего армиями Восточной провинции, и приказал немедленно организовать экспедицию на Крит. Эта новость с восторгом была принята и во дворце, и в лагере. Воины любили Фоку за то, что он делил с ними их труды и опасно-сти. Они складывали в честь его даже свои хоровые песни. Самая горячая конкуренция возникла среди варварских гетерий, когда узнали, что император предоставлял право сиятельному Фоке по своему усмотрению составлять из наемников свою армию. Все мечтали о громадных богатствах, собранных в Хандаксе, и уже видели себя возвращающимися на свою далекую родину, загромождая несметной кладью Великий греческий путь. Только в норманнском стане было страшное недовольство, когда узнали, что базилевс исключил из числа этих счастливцев всю скандинавскую дружину с их начальником Ангулем. Привыкший к строгой дисциплине, Дромунд изумлялся распущенности своих земляков. Варяги, как разъяренные волки, сновали по Кабалларию. Во все горло пели они на своем родном языке оскорбительные для императора песни, а по ночам забирались в сады и нижние кварталы Буколеона, где буянили и бесчинствовали. По старой традиции, византийские императоры все прощали своей любимой дружине. Базилевс только смеялся, когда кто-нибудь из придворных доносил ему о проделках, совершаемых по ночам, под воздействием вина, этими варварами. Он хорошо знал, что дикая свора норманнских волков, слушавшаяся своих начальников только во время битвы, моментально стихала и переставала выражать какое бы то ни было неудовольствие при одном виде самодержца. Его радовала уверенность в том, что эти буяны ежеминутно были готовы своей могучей грудью прикрыть его трон. И в награду за такую верность базилевс отдавал в их распоряжение Византию, как какой-нибудь покоренный город. Но за удовольствие императора приходилось дорого платить жителям Царицы мира, в особенности содержателям питейных заведений и мужьям. По преданию, самые знатные византийки и даже те, которые были приняты в императорском гинекее, не отказывались участвовать, наряду с разными женщинами из низов общества, в ночных похождениях варягов. Соскучившись жить среди изящных, изнеженных мужчин своего круга, эти дамы искали по ночам новых, сильных эмоций в Буколеоне. В гавани, против судов, которые привозили из страны руссов громадные транспорты хлеба, варяги устроили обширную пивную И там, в честь асов, выпивали рога с пенистой брагой. Опьяненные, забывали они прелести греческого моря, лазурь небес, легкость своей жизни, и из глубины их широкой груди вырывались гимны, полные мрачного отчаяния, или меланхолично звучали грустные песни любви. Дромунд слушал их с напряженным вниманием и, казалось, подстерегал тайну, могущую быть высказанной одним из этих людей в пьяном виде. Он жил среди них не как товарищ, с открытой для всех душой, но как притаившийся охотник, выслеживающий добычу. Благодаря присущей людям его племени способности быстро запоминать, равно как и врожденному музыкальному слуху, Дромунд уже начал почти хорошо говорить на мелодичном языке византийцев. Даже на египетском наречии он мог отвечать на вопросы пристававших к нему девиц, которые торговали своей красотой. Но Дромунд оставался холоден, как кусок льда, который не могли растопить самые жаркие лучи солнца, и ни игры, ни любовь не затрагивали его души, там царила только одна занимавшая его мысль. Однажды, когда он стоял на часах у дверей триклиния, Харальд сказал ему: – Когда больной чувствует, что легкие его переполнены кровью, то он велит пустить себе кровь, и это его облегчает. Не решился ли ты так же излить свою печаль? Дромунд, продолжая грустно смотреть в землю, ответил: – Ну, хорошо, я поделюсь с тобой моим горем. Два года тому назад при входе во фьорд я нашел тело моего милого брата. Оно еще содрогалось в предсмертных судорогах от полученной в спину раны. Убийца унес с собой мечь… – Ты предполагаешь, что твой враг служит в варяжской дружине? – спросил Харальд. – Жрец сказал мне это. – Какой знак был на мече твоего брата? – Рукоятка его, – отвечал Дромунд, – представляет собой медвежий коготь. При этих словах брови Харальда нахмурились, и Дромунд, заметя это, воскликнул: – Ты знаешь этого человека? Причем от злобы и горя у него выкатились из глаз две слезы, тяжелые, как свинец. Харальд отвечал с невольной осторожностью: – Да, он находится среди варягов, но слишком высоко стоит, для того чтобы ты мог достать его.  Глава 6 Медвежий коготь По традиции, исстари существовавшей в Византии, каждый самодержец должен был по прошествии трех месяцев после вступления на престол делать смотр своей армии. Это торжество давало случай базилевсу превзойти щедростью своего предшественника. Роман тоже намеревался воспользоваться этим парадом, чтобы щедрыми подарками навсегда упрочить за собой верность варяжской дружины. В порыве гнева он сместил благоразумного Сициния, предложившего ему быть экономнее. На его место Роман назначил одного бесчестного монаха-расстригу, Иоанна, прозванного Хэриной. Этот ловкий человек хорошо понимал, как легко может нажиться организатор народного праздника, распоряжающийся подарками, украшениями и продовольствием народа. Хэрине, например, была вручена базилевсом модель щита, окованного серебром, а из его рук варяжская дружина получила щиты, у которых стальная оправа заменила более драгоценную. Утром, в день предполагавшегося праздника, весь норвежский стан был очень озабочен приготовлениями. Всякому хотелось явиться на парад в блестящем вооружении. Большинство носили вороненой стали кирасы, наручи из золоченой меди и такие же шлемы с Шишаками. Освещенное лучами солнца, их вооружение было так ослепительно, что вся дружина сливалась в одно общее сияние и казалась каким-то чудовищным драконом, извергающим пламя. Развеселившиеся от приготовлений к празднику, воины пели песни и демонстрировали друг другу боевые приемы, возбуждая себя воинственным криком. Некоторые, особенно искусные в стрельбе, забавлялись тем, что пускали стрелы в тело мертвого раба, отнятое у могильщиков. Каждое меткое попадание приветствовалось радостным восклицанием. В стороне от толпы, соединенные взаимной клятвой помогать друг другу, сидели Дромунд и Харальд, ожидая удобного момента для отмщения. Порешивши с делом, которое было главным вопросом их жизни, они не хотели ни о чем больше говорить и молча предались каждый своим мыслям. Они думали о битвах, о геройской славе, и нередко среди представляющихся картин войны им вспоминалась их далекая родина. Но мысль о мести, обещающая блаженство рая, которое они уже предвкушали, наполняла главным образом их геройские сердца. Когда под сводами Кабаллария раздались звуки рога, призывающие в ряды воинов, то Дромунд и Харальд содрогнулись, как будто это был уже призыв валькирий, открывающих им дверь на небо. Начальник норманнской дружины Ангуль был ростом много выше своих товарищей. В последние годы царствования Багрянородного он прибыл вместе с другими скандинавами по Великому пути в Грецию, не имея с собой ничего, кроме туники из звериных шкур да бедного вооружения. Поступив в отряд Фоки, сражавшийся в Малой Азии, он успел там отличиться, а по возвращении из похода стал пользоваться щедрыми подарками одной знатной госпожи. Чтоб ей понравиться, он расстался со своей курткой из кожи моржа и стал надевать под кирасу короткий дибетезий, а наброшенный на плечи разноцветный плащ наполовину прикрывал его щит. Он был суров нравом и безпощаден; воины про него говорили: «Ангуль – это настоящий сын Локи… Он более коварен и хитер, чем храбр». Настал, наконец, момент появления императора. Колесница, в которой Роман приехал на смотр, изображала собой квадригу Аполлона. Базилевс стоял на ней во весь рост, опираясь правой рукой на пику, рукоять которой была обвита пурпуровой тканью. Литая золотая корона, с горевшим на ней, как звезда, громадным рубином, венчала его голову. Другой, не меньшей величины, рубин пристегивал светло-лазуревую мантию, под которой была надета темная, как аметист, хламида. Золотыми пряжками, золотыми наручами и поясом перехватывалась туника. Мелкие жемчужные пуговки застегивали до самых колен его пурпуровые сапоги. Роман сделал сначала смотр своей коннице, состоявшей из венгров, печенегов, хазар, руссов и тавроскифов. Ржание горячих диких коней было так оглушительно что прирученная пантера базилевса, которая всюду следовала за ним, как собака, с испуга поджав хвост и заметая им песок, бросилась бежать в сторону. Но когда самодержец достиг порога Кабаллария и приветствовал свою верную норманнскую дружину, то такой неудержимый взрыв энтузиазма охватил этих до безумия поклонявшихся ему воинов, что двое из них, в знак преданности, выдвинулись вперед из рядов, и пронзили собственным оружием себе сердца. А вся дружина в это время неистово кричала свое грозное «barritus», которое когда-то на дальнем Севере испугало даже римлян. Громче всех кричал Ангуль: – Честь самодержцу! Да предшествует ему слава! Да сопутствует ему щедрость! При этом он так подобострастно изгибался и протягивал вперед своей шлем, что Роман снял со своей руки драгоценное кольцо и бросил его в шлем. Наконец, колесница выехала из Кабаллария, а громкие крики, усиленные этой монаршей милостью, все еще продолжались. Не слушая команды начальника, все норманны кинулись через дворы, портики и лестницы, чтоб посмотреть еще раз на императора. Этой минутой воспользовался Дромунд, чтобы напасть на Ангуля, который забавлялся примериванием на свои пальцы императорского подарка. Услыхав, что его спрашивают по-норвежски, он обернулся, сурово сдвинув брови. – Одно только слово! – сказал Дромунд. – Знаешь ли ты, что скандинавские волки все равны между собою? Гордо подбоченясь, Ангуль отвечал: – Да, я знаю это. Что же тебе нужно? – Я хочу от тебя правосудия, – сказал Дромунд и продолжал: – Из глубины Норвегии прибыл я, чтобы отомстить за смерть любимого брата. Его убийца находится в твоей дружине. Прикажи ему выйти из рядов и назначь воинов в свидетели нашего поединка. Надменность Ангуля сменилась осторожностью, и он, всмотревшись в говорившего с ним человека, спокойно сказал: – По какому признаку можешь узнать ты убийцу? – Тот, кто убил моего брата, воспользовался его мечом. Медвежий коготь изображен на рукоятке последнего… Смотри, он был вот такой же, как этот!.. Тут выхватил Дромунд меч, привешенный к боку Ангуля, и потрясал им, крича: – Я нашел убийцу! Сложив руки на своей широкой груди и смотря в упор на своего врага с поддельной отвагой, Ангуль пробовал сдержать его гнев: – Асы тебе помогают, Дромунд. Вложи меч в ножны и скажи, чего ты требуешь. Я заплачу за кровь, как велит правосудие и наши законы… Но он не успел договорить своего лживого обещания, как Дромунд два раза вонзил меч в грудь своего врага; потом, попирая ногами скатившееся в песок тело, запел гимн, который обыкновенно поют воины, удовлетворившие свою месть: Меня окружала темная ночь, А теперь заснял день! Я смотрел на прах, Теперь я созерцаю звезды! Руки мои обагрены кровью, Но моя честь зато белее снега! 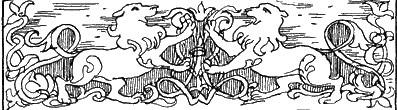 Глава 7 Позорный столб Право мести было признаваемо в стане варягов всеми без исключения. Их варварский мозг так же привык к жестокостям, как тело к сырому мясу. Убийство, совершенное на земле из-за мести, давало доступ в Валгаллу. Но в данном случае смерть Ангуля задевала интересы слишком многих, лишая их надежды на осуществление ожидаемых выгод. Дромунд и Харальд, защитивший своего друга от нападения толпы, должны были поэтому нести ответственность за совершенное ими убийство. Распри среди наемников улаживались в Византии судьями очень просто. Виноватых приводили к пансевасту, и предлагали им заплатить выкуп за убийство. За такого важного начальника, каким был Ангуль, надо было заплатить сто сорок золотых, более чем годовое жалование наемного норманна. Дромунд открыл перед трибуналом свой пустой кошелек… – Ты знаешь закон? – сказал ему главный переводчик. – Топор правосудия должен пасть на твою голову. – Да будет так, но этот человек не участвовал в убийстве, – сказал Дромунд, указывая на Харальда. – Он защищал тебя от возмездия, – отвечал пансеваст, – так пускай и разделяет твою участь. – Я этого и ожидал, – сказал Харальд. Тотчас же по окончании суда назначена была и казнь. Дворцовый сад оканчивался на востоке большой террасой, которая господствовала над Босфором. Эта терраса служила для праздно живущих жителей Византии и для элегантной толпы знати, имеющей доступ ко двору, излюбленным местом прогулок и любовных свиданий. Вечером сюда приходили любоваться заходом солнца. С этой эспланады, как с возвышения, открывался вид на порт, где лавировали суда. Внизу, под отвесной ее стеной, слышались беспрерывные брань и крики; наверху же между тем раздавались веселый смех, любезности, шорох вееров и звуки поцелуев. У подножий этой террасы Дромунд и Харальд были прикованы к позорным столбам. Приставленный для наблюдения за ними воин то и дело отгонял зевак, которые приходили посмотреть на приговоренных к казни, и гонял шалунов-мальчишек, при одном виде его копья обращавшихся в бегство. Равнодушные к взорам любопытных и к детским проказам, оба варяга безмолвно сидели у своих столбов. Их сердца под стальными кольчугами, по-видимому, бились спокойно. Но все же, когда в заливе показалось судно, плывущее на всех парусах в сторону Понтийского моря, Харальд глубоко вздохнул. Не боязнь смерти закрадывалась, однако же, в его душу при потухающих лучах заходящего солнца. Не питая ни к кому ненависти, он не испытывал теперь и удовлетворения от совершенного убийства. Ему просто было грустно. С тоской вспоминал он свои полные приключений плавания среди беспредельной свободы морей; ночи, проведенные в борьбе с волнами и непогодой; длинные рейсы, совершенные со славой; бури и грозы, которым так радовалась его смелая душа. Сквозь высокие мачты судов грезились ему острые скалы, бездонные пропасти, снежные вершины и громадные сосны, тесно стоящие друг около друга, как гиганты, готовые выдержать приступ; все эти воспоминания о милом севере так переполнили его сердце, что он запел старую скандинавскую песню. Он воспевал и зиму с ее глубокими снегами, и весну, которая ломает твердый лед, согревает землю, зеленит ветви сосен, освобождая их от ледяной одежды. Про весну в песне говорилось: В этот час спешит Урда, одна из трех красавиц Норн, за весенней водой к ручейку, чтоб напоить свежей влагой могучий ясень Иггдрасиль. Харальд напевал тихо, сквозь зубы, и голос его звучал жалобно, как ветер, колеблющий снасти судна. Услыхав эти звуки, Дромунд бросил на землю горсть игральных костей, которыми забавлялся с ловкостью жонглера, перекидывая их с руки на руку. Затем, как собака, которую раздражает привязь, он нетерпеливо рванул свою цепь и обратился с вопросом к стражу. – Товарищ, – сказал он, – я не страшусь смерти; скажи, когда нас поведут на казнь? Посмотрев через лес мачт на запад, воин отвечал: – Когда солнце погрузится в море, тогда и ваши головы будут плавать в крови. – Благодарю! Взволнованный своим пением, Харальд не обратил никакого внимания на слова воина. Помолчав несколько времени, как бы для того, чтобы прислушаться к грустным чувствам, царившими в его душе, он снова запел свой гимн: Вода течет и превращается в мед, которым питаются пчелы. Норны не оставляют своими заботами ясень, и он растет и тянется к небу. С душой, умиленной пением, норманн забыл даже, где он находится, и чувствовал себя то трепещущим листком, то жужжащим насекомым, порхающим среди ветвей чудесного Мирового древа. Дромунд заметил сильное волнение Харальда, вскочил на ноги и, подойдя, насколько позволяла цепь, крикнул ему: – Чтоб когти Фенрира вонзились тебе в кожу! Прекрати ты этот волчий вой! Возьми кости и давай сыграем. Ты отказываешься? Что с тобой? Уж не сожалеешь ли ты о Византии? Со спокойствием человека, не боящегося, что усомнятся в его мужестве, Харальд отвечал: – Я мечтал, что возвращусь на родину с нагруженной золотом ладьею. Мне хотелось еще отправиться на конец моря, на запад, и посмотреть на других богов, кроме асов, охраняющих другой мир. Я завещал сжечь себя на своем судне. Вот над своей головой я как бы слышу шелест стяга, которого я уже больше не разверну. Дромунд, желая убедить его, что судьбы людей заранее предначертаны на небесах, промолвил: – Что тебе из того, что несколькими годами больше или меньше морской ветер будет дуть тебе в лицо? След самой знаменитой ладьи исчезнет в океане; дым самого славного костра рассеется в воздухе. Предоставь женщинам оплакивать утраченную молодость и купцам сожалеть о жизни. Неведомый мир находится не на западе от фьордов и Пропонтиды, а над ними. Через несколько часов мы пройдем уже таинственный путь! Двери отпираются перед нами! Свет воссеяет в наших потухших глазах! Голос Дромунда славился среди моряков. Говорили, что он надувает паруса, доходит до неба, что сами асы наклоняют ухо, чтобы наслаждаться, слушая его пение. В этот же вечер, когда Дромунд, экзольтированный верой и предстоящей смертью, обращая к небу свое вдохновенное лицо, спокойное, как у самого Бальдра, торжественно запел похоронный гимн, – голос его звучал, как никогда прежде, и вся фигура как бы дышала гордым сознанием близости к Валгалле.  Глава 8 Евдокия Из придворных дам, окружавших базилиссу Теофано, она более всего любила, за веселость, живое воображение и изобретательность в развлечениях, некую Евдокию, молоденькую вдовушку одного знаменитого патриция, удивлявшую всю Византию своими разнообразными фантазиями и любовными причудами. Она открыто выказывала, например, какую-то необъяснимую привязанность к бывшему придворному писцу, выгнанному Константином Багрянородным со службы за взятки и лихоимство. Она употребила все свое влияние на то, чтобы избавить этого негодяя, Иоанна, прозванного Хориной, от заслуженной казни, устроив ему убежище в монастыре; она вела с ним самую прочувствованную переписку. Впоследствии, при восшествии на престол Романа, благодаря ее стараниям и по ее совету, Хорина сбросил свой монашеский клобук и пристроился опять ко двору. Горячее рвение, высказанное Евдокией в заботах о Хорине, неприятно действовало на императрицу и заставляло ее хмурить брови. Но Евдокия, поведя плечами, с улыбкой, подкупающей равно мужчин и женщин, воскликнула: – Базилисса! Неужели ты ревнуешь меня к евнуху? Благодаря таким шуткам и постоянной веселости, она не только сохранила благоволение императрицы, но и сумела добиться для своего недостойного приятеля назначения главным начальником над первым наемным отрядом, который должен был охранять священную особу самодержца. Расположение Евдокии к Хорине объяснялось отчасти тем, что этот евнух забавлял ее своими циничными разговорами и общими делами. Оба честолюбивые, оба расчетливые, несмотря на кажущееся легкомыслие, они прекрасно понимали, какую силу может приобрести среди придворного общества союз хищного человека с обаятельной женщиной, только для вида прикрывающейся мнимой пустотой своего характера. Большое состояние, которым обладала Евдокия, увеличивало число почитателей ее ума и красоты людьми, поклоняющимися исключительно богатству. Но из этой громадной толпы обожателей она особенно выделяла двух братьев-близнецов, Троила и Агафия. Их поразительное сходство служило предметом постоянных насмешек и шуток для всех знакомых. Эта игра природы забавляла и Евдокию. Ей нравилось смешивать близнецов друг с другом и тем вызывать в них поддельную ревность. – До сих пор я всегда любила зараз нескольких мужчин, – говорила она, – что, конечно, грех. Но небо хочет моего спасения и, создав этих близнецов, дает мне возможность прийти к верности легким путем… В тот день, когда базилевс в Кабалларии производил смотр варяжской дружине, Евдокия дольше обыкновенного занималась своей прической. Сидя перед зеркалом, следила она за движениями азиатской рабыни, сдерживавшей и связывавшей лентами пышную массу ее золотистых волос. В это время привратник, пользовавшийся ее доверием, вошел без доклада в комнату. – Что тебе нужно, Пастилас? – Да вот, – отвечал он, – эти твои близнецы врываются силой и говорят, что ты их ожидаешь. – Они лгут! Но все равно, пускай подождут в саду. Евдокия, не спеша, окончила свой туалет. Удовольствие, которое она получала от созерцания в зеркале своих глаз, подобных цветкам лотоса, заняло и еще много времени; а потом ей нравилось также заставлять ждать своих обожателей, как заставляла она своих лошадей подолгу стоять перед крыльцом, для того чтобы, застоявшись, они потом ретивее бежали. Когда, наконец, близнецы были допущены, то они ворвались как какие-нибудь школьники и остановились, пораженные восхищением, посреди комнаты. Евдокия, ради шутки, для встречи их задрапировалась и приняла позу богини. Свои красивые ноги она поставила на скамеечку из слоновой кости; придерживая одной рукой складки прозрачной туники, другую она откинула назад, как бы доставая стрелу из невидимого колчана. – На колени! – вскричала она. – На колени! Или я вас убью. С веселым смехом близнецы растянулись на полу, и, когда она, сияющая и оживленная, сошла со скамьи, они стали кружиться около нее, как борзые собаки, и, завладев ее обнаженными ногами, слегка кусали их. – Довольно! – кричала она. – Вы разве созданы с собачьими душами? Я хочу, чтобы вы занимали меня разговором, а не звериным рычаньем. Ну поднимайтесь! Оба! И покажите ваши лица, чтоб я узнала, наконец, который же мой возлюбленный. Они по-братски обещали друг другу сообща пользоваться расположением могущественной женщины и, вскочив на ноги, продекламировали обращение к богине Диане, которое произносил один актер из Каррадоса в роли Актеона: О царица ночей! Белоснежная! Сладкая, как молоко! Я любуюсь только твоим лицом; рассей же облака, тебя окружающие, чтобы я мог наслаждаться созерцанием твоих чудных форм и чтоб мое желание упилось вполне твоей красотой… Протянув обе руки, Евдокия зажала им обоим рты и, потрясая своим ожерельем, сказала: – Агафий! – Приказывай, – отозвался один из близнецов. – Как сильно ты меня желаешь? Молодой человек взглянул на нее с бесконечной страстью, окинул глазами комнату и, увидав висевшую на стене мягкую ткань, которой вытирала Евдокия свои божественные формы после ванны, он бросился к этой ткани, приник лицом к складкам, еще не утратившим следов тела богини, и стал безумно целовать еще влажную ткань. Точно в припадке сумасшествия, он целовал ее без конца, завертывая свою голову в материю и крича страстным голосом: – Моя любовь меня сожгла! Я погребальная урна! Я полон пепла!.. Затем поднялся весь всклокоченный. Евдокия, увидев его, неудержимо расхохоталась и, дотрагиваясь до плеча Троила, спросила: – Ну, а ты, как меня любишь? Он, склонив свою красивую голову, грациозно, как лебедь, спустился с мраморной ступени к бассейну, где любила купаться Евдокия и, зачерпнув рукой воду, разом выпил ее и воскликнул: – Восторг, опьянение! Моя любовь меня освежает, моя любовь меня опьяняет! Освященная вода удваивает силы моей любви! Держа Агафия за руку, Евдокия другой рукой взяла руку Троила и, обращаясь к ним обоим, спросила: – Который же поцелуй лучше – тот, что освежает, или тот, который жжет? Я не могу сделать выбора; объясните еще раз. Они оба тяжело вздохнули, и Троил сказал: – Вот слушай, как я буду тебя любить… – Ну, я слушаю… – Нет, ближе, ближе склонись ко мне, не должно, чтобы Агафий слышал. Смеясь, она наклонила к нему ухо, и он стал тихо говорить, касаясь губами ее душистых волос. Агафий наблюдал улыбку молодой женщины, становившуюся все более и более напряженной. Глаза ее выражали ожидание подтверждения слышанных слов, и в груди стеснилось дыхание. Но вдруг Евдокия вскинула своими блестящими плечами и воскликнула: – Обманщик! Это уже мне знакомо. – Ты вот не знаешь моего секрета! – вставил Агафий. – Я его не доверял никому. И если бы богини узнали его, то сошли бы со своего старого Олимпа, чтобы испытать мою любовь. – Посмотрим, – сказала Евдокия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||