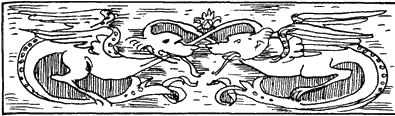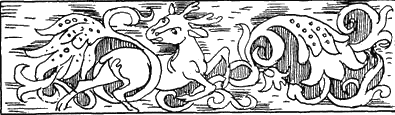– А ты не боишься, старый плут, что в один прекрасный день твоя собственная жена даст тебе такое представление?
– Моя жена?
Несмотря на то, что Ирина никогда не давала серьезного повода к ревности, Никифор в эту минуту страшно испугался, так что даже мысль о барыше выскочила у него из головы. Лицо его налилось кровью, он сжимал кулаки, причем зрачки его вытянулись и сверкали как две блестящие черточки. Едва сдерживая дрожь, от которой тряслась его борода, Никифор с искаженным лицом посмотрел на Дромунда и сказал:
– Хорошо! Ты просишь у меня взаймы сотню червонцев?
– Или две сотни, – небрежно прибавил Дромунд. Никифор не стал спорить и отвечал:
– Так! Но я ставлю одно условие.
– Скажи какое?
– Я хочу, чтоб эта незнакомка на минуту открыла свое лицо, – сказал Никифор, протягивая руку, чтоб сорвать покрывало с Ирины.
Но Дромунд с такой силой отшвырнул его, что он ударился об стену и расшиб до крови руку.
– Ты шутишь!..
– Я требую…
– Ты с ума сошел!..
– Я во что бы то ни стало узнаю, кто эта распутница, взявшая тебя в любовники!
Испуганная Ирина, покидая таверну, едва успела заметить, что Никифор, разъяренный своим бессилием, как кошка, бросился на Дромунда, который, превосходя его ростом и силой, схватил его за горло. И Дромунд задушил бы Никифора, если бы товарищи не высвободили последнего из тисков. Они хохотали между тем и кричали:
– Ура, Никифор! В атаку на Дромунда! Вот храбрый ростовщик! Покачаем его на щите. Ура, ура, Никифор!
И, перевернув большой щит, которым можно было укрыться с головы до ног, взвалили на него Никифора. Руки и ноги последнего болтались, голова поднималась от ужаса, но, не обращая внимания на крики и мольбы своей жертвы, норманны подбросили его до потолка таверны.
Барахтаясь, с выпученными глазами, взбешенный от злобы, Никифор все еще искал Дромунда с его таинственной спутницей. Но их уже не было. Тогда Никифор гневно взглянул на Евдокию, которая танцевала, чествуя его шутовской триумф.
При выходе из таверны, она обернулась и игриво сказала ему: – Будь скромен, Никифор! Честь – самое дорогое сокровище для банкира, так же как и для женщины.
Глава 26
Коварные замыслы
Перепуганная насмерть Ирина между тем поспешно бежала по темным улицам, и когда Дромунд настиг и остановил ее, то долго не узнавала своего возлюбленного и вырывалась из его рук.
Наконец, увидав, что ее отчаяние приводит его в ярость, она сдержалась и покорилась. Дромунд был человек настолько горячий, что способен был возвратиться назад в таверну и убить Никифора, как некогда убил Ангуля.
Неспособная к хитростям и уловкам, Ирина не могла долго переносить затруднений, в которые вводила ее эта связь; она не сомневалась, что последняя неминуемо должна кончиться, и только желала, чтобы время расплаты наступило не так скоро. Сердце Ирины готово было разорваться от горя, когда, подходя к саду ее дворца, Дромунд простился с ней, решив не проводить эту ночь в ее объятиях, а возвратиться в Кабалларий.
Напрасно всю ночь Ирина в слезах обращалась с наивной просьбой к Богу и ниспосланий ей некоторой беззастенчивости для того, чтоб спокойнее перенести первую минуту встречи со своим супругом. Высказывая, в порыве отчаяния, такие желания, противоречившие всякой святости, она была, однако же, настолько искренна, чтоб не обещать, в знак благодарности за поддержку, принести в жертву свою любовь. Грех был для нее еще слишком мил, чтоб от него отказаться.
Заря застала Ирину коленопреклоненной в своей молельне.
Но день прошел, а Никифор не появлялся; прошла и еще ночь, и еще день, и так целая неделя.
Едва живой и весь покрытый синяками вырвался Никифор из рук своих преследователей.
Переплыв в ладье Босфор, он укрылся на одной вилле на левом берегу, которая примыкала к загородному дворцу. Поселившись там, чтоб переждать, пока исчезнут следы побоев с его лица, он страшно мучился мыслью, что Ирина узнает обо всем с ним случившемся. К тому же он слышал, что Фока жаловался на испорченный провиант, которым снабжали его армию; при этом Никифор, конечно, не сомневался, что Хорина не пощадит его, если автократор настоит на отыскании виновного. Он знал тоже, что и общественное мнение обрадуется его несчастию. Поэтому он измышлял уловку, с помощью которой можно бы было отклонить внимание и молву от совершенного им мошенничества при поставке хлеба.
Обуреваемый таким беспокойством, он находил даже некоторое удовольствие в мыслях об измене жены. Он знал, что Дромунд встречается с Ириной то в базарных лавках, то во дворце Евдокии.
Затруднение, в котором они очутились, благодаря громадному долгу за триумфальную колесницу, заставило их поступать неосторожно. Их тайна была в руках ростовщика, который, конечно, не даст пощады и непременно потребует полной уплаты своей ссуды.
Ожидание этого момента было приятно Никифору. Скандал, который произойдет в Византии, при обнаружении проступка Ирины, слывшей такой благоразумной, даст пищу толкам и утолит ненасытную злобу общества.
Привыкший постоянно вызывать смех своими странностями, Никифор не мог остановиться на каком-нибудь решении. Жестокое убийство, например, могло удовлетворить только одну его ревность, а он мало думал об этом.
Ему нужен был кричащий процесс, который бы привлек общее внимание. Тогда все клиенты обратятся к Никифору ради одного только любопытства, чтобы посмотреть на его унижение; и он давал себе слово заставить дорого людей поплатиться за насмешки, гримасы и намеки, обманутого мужа, положение которого среди всеобщей веселости на его счет, действительно, трагическое. Надо было, однако же, хорошенько обдумать все обстоятельства и условия этого страшного скандала.
Никифор хорошо помнил набожность Ирины и знал, что это качество, свойственное ее мягкой натуре, сильно развилось еще от постоянной грусти. Он не сомневался, что даже в пылу любовного увлечения оно не могло в ней не сказаться. Он знал, что, дав религиозный обет, она никогда бы его не нарушила, а потому остановился на решении обратиться к патриарху. Один Полиевкт мог принудить Ирину к полному сознанию.
Его монашеская строгость к грешнице не смягчится никакими мольбами. Он был способен потребовать от преступной супруги публичного покаяния на паперти большого собора.
Придя к такому мудрому решению, Никифор терпеливо ждал, пока его синяки не пройдут через все цвета радуги.
Как только ожидание это исполнилось, а лицо Никифора приняло приличный вид, он отправился к патриарху доложить ему, что молитвой святых отцов поправился от болезни, что жертвует на приют для старцев еще большую сумму денег в память своего выздоровления, и просил Полиевкта почтить своим присутствием праздник, устраиваемый в честь благополучного своего возвращения.
Глава 27
Обвинение
В то утро, когда банкир взошел в свой дворец, с видом возвратившегося с курса лечения на водах, Ирина была еще в постели. Запретив ее будить, Никифор отправился на кухню, чтобы обсудить со своими слугами все подробности роскошного пира.
Такое поведение Никифора не внушило Ирине ни малейшей тревоги. Она только поспешила написать приглашение своим братьям на предполагаемое пиршество. В этот день Ирина совсем не видела Дромунда, так как ей пришлось возиться со своим кредитором и упрашивать его подождать уплаты долга. Она обращалась с ним мягко, как с отцом, снисходительно улыбаясь его цинизму. Оставив же его, почувствовала себя такой униженной, что не могла пойти на свидание с возлюбленным, а, напротив, отправилась в церковь и там, прижавшись в тесном уголке и не смея молиться, обливалась горячими слезами.
При входе в парадный зал, лишенная своих драгоценностей, она робко встретила проницательный взгляд Никифора.
Патриарх Полиевкт был уже там. Отказавшись от всякой роскоши, которой его предшественники так оскорбляли набожных прихожан, он вне церковных церемоний носил поверх лилового подрясника темно-коричневую рясу, на которую спускалась его длинная седая борода. Белоснежные локоны его еще густых волос ниспадали по плечам. Даже на пиру он был крайне воздержан и ел только яйца и хлеб, а пил просто воду. На его исхудалом лице цвета старой слоновой кости жили только глаза. Бдительные, проницательные, они, как стрелы, пронизывали сердца людей.
Когда обед кончился и Полиевкт прочел благодарственную молитву Богу и хозяевам, Никифор пригласил его посидеть на закрытой террасе, выходящей в сад.
Там, усадив патриарха на кресло, он скорбно и смиренно стал излагать ему свое горе.
В волнениях бурной жизни Никифор привык придавать лицу своему любое выражение. Но в эту минуту, когда успех готов был увенчать все его хитрые соображения, под притворным смирением на его лице промелькнула такая жестокая ненависть, что Ирина угадала, о чем заговорит он, и сердце ее похолодело.
– Владыко, – сказал Никифор, – прости, что обращусь к тебе с затруднением, которое меня гнетет. Один мой друг женился на бедной девушке-сироте. Она была беззащитна и одинока. Этот человек думал, что угождает Богу, давая ей приют. У нее не было друзей, и он окружил ее целым двором. Она должна была поступить без призвания в монастырь, и он открыл ей двери в гинекей. Он ей не отказывал ни в чем, ни в драгоценностях, ни в нарядах, ни в чем, что составляет удовольствие всякой женщины. И как же был он вознагражден?
Никифор остановился на минуту. Не сводя своего пристального взгляда с лица патриарха, он все же наслаждался томлением Ирины, как самым вкусным плодом. Помолчав немного, он продолжал с жестокой медленностью:
– Эта женщина не только посягнула на честь своего супруга, но готова была разорить его. Она довершила свое падение еще тем, что выбор ее пал на низкого человека, продающего свои ласки за деньги!
При перечислении преступлений Ирины глаза Никифора блеснули таким огнем, который был зажжен не одной только ревностью. Его рука поднялась было, чтобы указать на виновницу; но этот мстительный жест не был докончен, так как чья-то другая рука, дрожавшая от гнева, опустилась на его плечо.
– Кого касается эта история?
– Тише, Агафий! Она касается нас всех. Твоя сестра назовет нам имя своего любовника…
Высказав это, он как бы освободился от тяжести, его давившей. Но Троил, в свою очередь, бросился к нему со сжатыми кулаками:
– Видит Бог! Ты оскорбляешь нашу кровь.
– Успокойся, Троил.
– Владыко, я требую правосудия!
– Того же хочу и я… пусть патриарх рассудит мужа с его преступной женой.
Тогда близнецы обратились к сестре:
– Ирина, милая сестра, оправдайся же.
– К чему?
Ее губы, сохранившие следы поцелуев возлюбленного, отказывались произносить ложь.
Минута, приближения которой Ирина так боялась, настигла ее уже подготовленной, как тех, которым единое, великое чувство дает силы переносить страдания мучениц.
Полиевкт задумчиво смотрел на расстилавшийся перед ним город. Казалось, что только тело его было тут, на этом кресле, душа же находилась там, перед алтарем в большом соборе, главы которого виднелись с террасы.
Не удостаивая взглядом Никифора, он произнес строгим голосом:
– Никифор, обвинение – тяжелая вещь. Дашь ли ты доказательства, которые я от тебя потребую?
– Я удовольствуюсь признанием самой виновной. Допроси ее сам, владыко, заставь ее поклясться спасением души. Если мои подозрения окажутся несправедливыми, то я готов искупить свою ошибку, раздав бедным столько, сколько ты на меня возложишь; но если, из страха попасть в ад, как того заслуживает, Ирина признается в своей преступной любви, то дай мне сейчас же развод, чтоб я мог выбросить за дверь виновницу моего бесчестия.
– Согласен, – сказал, вставая со своего места, Полиевкт.
Глава 28
Исповедь
Никифор не ошибался, полагая, что уважение к религии и вера в будущую жизнь восторжествуют в душе Ирины над всеми чарами страсти. С этой стороны она была более всего беззащитна, хотя и думала, что любовь сделает ее неуязвимой.
Последние слова мужа вызвали в ней чувство негодования, вырвавшее из ее уст крик, которого не могло вырвать даже страдание; только примешавшееся к гневу презрение заставило ее сдержаться. Опустив голову, пошла она за Полиевктом в домашнюю молельню.
Молельня эта была настолько обширна, что годилась бы и для церкви. На первом месте в ней висел большой образ святой базилиссы Ирины, которая была страстной гонительницей иконоборцев и повелела ослепить даже своего родного сына, чтоб прекратить его развратную жизнь.
Много раз горячо молилась Ирина перед этим святым изображением, отстраняя от себя кровавые воспоминания и умиляясь над терпением, которое святая базилисса проявляла в распрях со своим супругом, автократором Львом. Перед ней воскресали дни, когда, свергнутая с престола великим логофетом, эта базилисса с полной покорностью воле Божьей, вместе со простыми женщинами Лесбоса, пряла шерсть.
Но с тех пор как страсть к Дромунду овладела сердцем Ирины, она перестала посещать молельню.
Ей трудно было переносить пристальный взгляд, смотревший на нее с этой иконы.
Поднимаясь после земного поклона перед святой мученицей, патриарх оперся рукой на налой, причем его пальцы стерли легкий слой пыли, покрывавший верхнюю доску последнего.
Эта обстоятельство обратило на себя внимание Полиевкта, и он, обернувшись к Ирине, сказал.
– Ты перестала молиться?
– О, владыко!
Его взор пронизывал ее еще сильнее, чем глаза, смотревшие с иконы. Ирина предпочла бы лучше открыть свое сердце перед святой базилиссой. Эта последняя понимала ласки любви, так как переживала их до того времени, пока различие верований не восстановило против нее супруга. В строгости же патриарха было нечто другое, большее, чем целомудрие: в ней чувствовалась ненависть к наслаждениям плотской любви, о которой он знал только понаслышке и которую проклинал с презрением, усиливавшимся от чувства зависти.
Приказав Ирине стать на колени, он сказал:
– Правда ли, что забыла ты свой долг? Едва дыша, она прошептала:
– Владыко, Никифор так ревнив и жаден. Она старалась обвинять в свою очередь. Патриарх резко отвечал ей:
– Как бы я ни был далек от сплетен, которыми вы, женщины, друг друга осыпаете, я все-таки слышал много дурного о твоем поведении. Тебя встречали слишком часто вне дома, по вечерам, под арками, в уединенных садах и кладбищах…
Ирина стояла, опустив глаза на мозаичный пол, рисунок которого прыгал в ее глазах, как лилии на поверхности воды.
Почти без мысли, желая только выиграть время, она сказала:
– Владыко, мне дурно, не могу ли я выйти на минуту?.. Полиевкт, решась овладеть этой душою, которая ускользала из его рук, гневно сказал:
– Не лги, женщина, своему пастырю! Если Христос обещает милосердие кающимся грешникам, то ад готовит огонь вечный для тех, кто не хочет отказаться от греховного наслаждения. Бойся гнева Господня!
Уже давно ад не представлялся Ирине огненным жерлом, но он казался ей теперь темной ночью, где голос возлюбленного не будет раздаваться, где ее объятия не найдут его и где разум ее постоянно будет сознавать ужасную истину: «Века пройдут, и я больше его не увижу!»
Вот этот-то ужас и заставлял ее стонать. Она протянула руки, как бы желая отстранить эту вечную разлуку, и залилась слезами, протестующими против неумолимого правосудия, стремящимися умолить палача.
Но эта слабость продолжалась одну лишь минуту. Ирина была готова принять всякие страдания после смерти, только бы доставить лишний день счастия своему Дромунду. В глазах ее не стало больше слез, рыдания прекратились, и, отняв руку от лица, она опять была готова на борьбу.
Полиевкта это рассердило. Он не мог себе представить, чтобы преступная любовь совершала такие чудеса! Он видел в этой любви только эгоизм и испорченность, совершенно не считая ее способной быть источником самопожертвования и героизма.
– Вот что я от тебя требую, – сказал он. – Ты проведешь сегодняшний день в посте и молитве; эту ночь – перед святой иконой. Завтра же на заре, одетая, как вдова, в черное платье, ты выйдешь из дома в сопровождении мужа, братьев и других родственников. В моем присутствии на паперти церкви дашь обет исправиться. Тогда и Господь тебя простит.
Зрачки Ирины расширились. Руки вытянулись вперед, как бы желая оттолкнуть открывшееся перед ней ужасное видение.
Раньше она видела выполнение таких церемоний, при подобных же обстоятельствах, и потому ей казалось, что она уже стоит перед патриархом, слышит грубые замечания толпы, чувствует, как дрожат святые мощи в ее клятвопреступных руках. И у нее вырвался крик отчаяния:
– Владыко! Святой отец! Только не это! Я поклянусь перед тобою! Не требуй от меня большего. Не выставляй меня на площади! Бог тут так же, как и там. Он услышит меня. Если я солгу, Он низвергнет меня в ад… Зачем ты хочешь моего публичного унижения?
На ее мольбы Полиевкт строго сказал:
– Довольно слез! То, что чисто, может предстать безнаказанно перед глазами людей. А что грязно, то должно очиститься перед всеми! Придешь ли ты?
Заметив, что она молится, он удержался от проклятия, которым хотел поразить ее в случае отказа, и стал ждать, что Господь наставит ее на путь истинный.
Ирина возбужденно молилась, слова отрывочно вырывались из ее уст, будто волны, гонимые бурей, ритмически бились о берег.
Она не думала уже больше ни о Боге, ни об аде. Она искала возможности спасти свой разум от последствий такого потрясения. У нее была только одна настоятельная мысль: остаться одной и обдумать. И потому она произнесла слова, нужные для того, чтобы потриарх мог уйти:
– Я повинуюсь.
Глава 29
Перед лицом божьим
Удалявшиеся шаги Полиевкта уже перестали раздаваться, а Ирина все оставалась на том же месте, где он ее оставил.
Все сознание ее сосредоточивалось только в одном протесте против насилия совести: «Нет, так не может быть!»
Часто чувствуя упреки совести, Ирина сравнивала свою слабость с жестоким эгоизмом Никифора. И, как бы ни чувствовала она себя униженной своим проступком, какой-то внутренний голос говорил ей: «Я все же лучше этого человека!»
Она знала, что милосердие Никифора есть не что иное, как лицемерие, что пожертвования делаются им только из тщеславия или трусости. Не могло жестокое притворство обманывать Бога, как оно обманула Полиевкта.
Господь справедлив, думала она. Он читает в сердцах людей. Он не принесет ее в жертву Никифору.
Ирина была воспитана своею матерью в страхе Божьем и преклонении перед вечной правдой Его.
В память о матери она жила эти годы строго следуя правде и своим обязанностям, как река, которая бежит по привычному руслу, не ища другого пути для своего течения. Но Никифор, подобно камню, упавшему в чистый поток, вызвал мутную тину лжи и эгоизма, которая так загрязнила эту благородную натуру. Он купил ее, как покупают христианских невольников, которых агаряне выводят голыми на рынок, чтобы покупатель мог лучше рассмотреть товар. Что в том благословении, которое супруги получили в большом соборе?! Оно было такой же ложью, как и все остальное, так как закрепляло собой принужденное рабство.
Мысль, что, замышляя ее погибель, Никифор хочет воспользоваться собственным ее признанием, возбудила в Ирине такое негодование, которое вывело ее из оцепенения.
Она поднялась на ноги, ломая руки, и стала говорить, как будто сам Бог стоял перед ней на том месте, с которого только что ушел Полиевкт.
– Нет, нет, Господи, Ты не допустишь такой несправедливости! Ты не для того установил в религии клятву, чтоб она служила орудием пытки в руках палача! Ты – защита страждущих, Ты снисходительнее к любви, чем к ненависти! Ты обещал милосердие сознающим свою слабость перед искушением дьявола! Ты знаешь, что я была чиста; я мечтала посвятить Тебе свою жизнь, я хотела предстать пред Тобою девственницей; я отказалась от этого только ради братьев. Не моя вина, что чувство во мне возмутилось от насилия, сердце взволновалось от страдания… Я полюбила сама, потому что не пощадили меня. И если забыла свой долг, то потому, что и купивший меня в полное рабство злоупотребил своим правом!
Ирина смолкла. Выражение досады на ее лице, вызванное воспоминанием о Никифоре, сменилось религиозным экстазом. Любовь, опять наполнившая ее душу, вызвала перед ней дорогой образ Дромунда. Он представлялся ей таким, каким она видела его в первый раз на набережной Буколеона, привязанным к столбу, полным мужественного спокойствия, мечтательно-грустным перед надвигавшейся смертью, освещенным сиянием золотым лучей заходящего солнца.
Там он был, и она стояла перед ним. Как могли очутиться они друг перед другом, если не было на то воли Божьей? Когда Евдокия с братьями пришли за ней в ее спокойное жилище, не была ли она тогда занята своими домашними хлопотами? Не достаточно ли было какой-нибудь случайной встречи в дворцовом саду, другого направления пути, которое они могли легко принять, избирая только более удобный для ходьбы склон, чтоб никогда не увидать того, кто изменить ее судьбу? Бог, которому она ежедневно молилась, не мог отвернуться от нее в такую решительную минуту! Если Он покинул ее в слабости, то как же может теперь так осуждать?
Она жаждала опять услыхать тот голос, то пение, полное мольбы, мужественной решимости, которому отдалось ее сердце. Да, ее унесло тогда как бы ветром, подняло ввысь над видимым миром, в царство любви, где не нужно видеть, где не хочется понимать, где можно носиться как вольное, счастливое облачко.
В этом милом голосе выражалась вся душа возлюбленного, вся его нравственная сила. Он ласкал и в то же время повелевал; он сжимал, как объятия, и вдохновлял, как призыв к свободе; в нем слышалось и страстное томление, заставляющее закрывать глаза на весь мир и энергичный порыв дикой воли, влекущей к деятельности, к подвигу. Геройство и наслаждение, сладострастие и самопожертвование, радость господства и радость подчинения – все, все совмещал в себе этот чарующий голос, начало и конец, жизнь и смерть, блаженство любви и горе разлуки…
Воспоминание о счастии, испытанном на груди Дромунда, так переполнило ее душу, что даже мысль о рае без него ей стала невыносимой. За поцелуй своего возлюбленного она охотно заплатила бы вечной гибелью своей души. Но мысль о таком нечестивом желании, в котором она невольно признавалась в этой молельне, перед святой иконой, среди молитвы, вызвала в душе молодой женщины новый порыв страстного раскаяния. Сознавая глубину своего падения, она вскричала:
– Выбор! Надо сделать выбор! Боже мой! Не допустишь же Ты, чтоб из любви к нему я лишилась радости лицезреть Тебя! Что выбрать: вечное блаженство или вечную казнь? Его любовь, здесь на земле, или созерцание Твоего величия в жизни будущей!
С мольбой протянула Ирина руки к иконе, как будто находясь уже перед судом Божьим и оправдываясь в своем преступлении. Приближающиеся шаги заставили ее обернуться.
– От Евдокии, – сказал вошедший слуга, подавая Ирине записку. На самом деле, она была от Дромунда и заключала только одну строчку:
«Если ты промедлишь прийти еще один час, то я явлюсь сам».
Глава 30
Искупление
В сумерки Ирина направилась по дороге к базару.
Каждая подробность этого пути напоминала ей те волшебные эмоции, которые она испытывала в первом опьянении своей любви, беззаветно отдаваясь Дромунду. На каждом шагу вспоминалось беспокойство, тогда ее охватывавшее, тот ужасный и вместе с тем чудно-радостный страх, сквозь который просвечивало ожидающее впереди счастие.
Сегодня же она шла как сомнамбула, руководимая прежней привычкой. Возможность быть узнанной нисколько ее не заботила. Ей было бы все равно, если бы кто-нибудь указал на нее пальцем, говоря:
– Это Ирина!
Мнение людей для нее не существовало больше. Она чувствовала себя дошедшей до того поворота на жизненном пути, который скоро скроет ее от всех взоров.
Дромунд ждал Ирину, вперив глаза в землю. Они не виделись больше с того несчастного вечера, когда простились у входа во дворец Никифора – Ирина совсем потерянная от испуга, а Дромунд – взбешенный необходимость отказаться провести эту ночь, после триумфа, вместе со своей возлюбленной.
Взволнованный Дромунд не заговаривал с Ириной и даже не посмотрел на нее; она сама бросилась ему на шею, но, боясь встретить взгляд упрека, неутешно зарыдала и спрятала свое лицо на его груди.
Излив в обильных слезах свое горе, она смолкла. В объятии, которым поддерживал ее Дромунд, ей почувствовалась нежность, и ощущение это придало ей силу, которой не хватило бы для того, чтобы перенести упреки. Приподняв свое бледное лицо, Ирина, как цветок к солнцу, протянула к нему свои губы, еще мокрые от слез.
– Не будем омрачать, – сказала она, – упреками и досадой этот последний луч нашего счастия. Я пришла, чтобы сказать тебе «прости» навсегда…
Вместе того чтоб взглянуть в лицо Ирины и лучше понять то, что она сказала, Дромунд порывисто оттолкнул ее от своей груди:
– Что ты сказала?
У Ирины опять не хватило силы выдержать этот взрыв гнева, и она поникла, как птичка, готовая испустить дыхание.
– Отвечай же! – бросив ее на софу, добавил он. Распростершись у его ног и положив руку к нему на колени, она сказала:
– О мой возлюбленный, не увеличивай моих страданий своим гневом. Между мной и тобой те, которых я ненавижу, придумали поставить Бога! Они знали, что я пожертвую всем на свете ради тебя, что для меня перестала существовать разница между справедливостью и несправедливостью, между правдой и ложью; чтоб тебя сохранить, я сделала бы все, что только было бы нужно; я могла бы унижаться и возмущаться, могла быть покорной слугой или показывать когти как львица. Вот и решили они поставить меня перед лицом Божьим! В присутствии священников и народа я должна буду поклясться, что не принадлежу тебе больше!
– Ну, что ж… поклянись!..
Он приподнялся и потянулся к ней.
Ирина изумленно глядела на него, так как в улыбке на этом дорогом ей лице промелькнуло выражение чего-то страшного, непонятного, но что между тем больно кольнуло ее. Дикий варвар не отступил бы, конечно, перед ложью, как только эта ложь оказывалась нужной.
– Сами асы, – воскликнул Дромунд, – учили людей обманывать своих врагов! Я тебе скажу, какими словами поклясться.
Любя, она не могла его осуждать.
Только в печальных глазах возлюбленной Дромунд мог бы прочесть еще большую грусть.
– О Дромунд! – сказала Ирина. – Все счастие, какое отпущено на мою долю в земной жизни, я отдала тебе. Остальное принадлежит моей душе. Снисходя к нашей любви, она принесла себя в жертву. Она согласилась страдать из-за нашего счастья, надеясь искупить этим все, что было в нем нечистого. Но принесение ложной клятвы, как ты требуешь, нельзя ни искупить, ни очистить страданиями; оно прямо низвергнет виновную в огонь вечный. Против этого душа возмущается и протестует; отделяясь и от меня и от тебя; она оставляет в твоих объятиях, Дромунд, лишь одну только мертвую оболочку нашей любви!
Часто Дромунд страдал от мысли, что эта христианка заставляет его нарушать верования, всосанные с молоком матери и от которых он отказаться не мог. Он знал, что если не умрет случайной смертью, то кончит жизнь не под жгучими лучами солнца Византии, а на холодном Севере, распростертым на костре из сосен, при магическом свете луны. Почувствовать в Ирине веру, противную своей, Дромунду было очень тяжело, это уменьшало в его глазах ценность жертвы, принесенной ею его любви.
Он вспыхнул от досады и сказал:
– Ты любишь свой рай больше, чем меня!
Подняв на него свой правдивый взор, Ирина ответила:
– Бог свидетель, что душа моя не побоялась бы никаких мук, если бы за общее блаженство она разделила бы с тобой и общее страдание. Она забыла про свою скорбь, сокрушаясь о твоей, так же как моя радость удвоилась, видя тебя счастливым; но в той жизни наши дороги различны: христианка, преступившая клятву, не может рассчитывать на отеческое милосердие Всевышнего, которое ожидает такого темного и неведующего человека, как ты, Дромунд! Тут же, на земле, должно окончиться наше общее счастье и страдание. Неумолимый Судья не исполнит моей просьбы и не соединит наши страждущие души в одном пламени!
Он понимал в ее словах только сопротивление и воскликнул:
– Оставь их и следуй за мной!
Любовь в ней заговорила, заслонила собою все ее набожные размышления, понесла, как волну, гонимую силой ветра, и она вскрикнула в порыве полного доверия:
– Дромунд! Ты этого хочешь? Мы переплывем Босфор… Мы скроемся под буками. Жить в шалаше под твоей защитой, твоим трудом, любить тебя!..
Но она остановилась, так как брови Дромунда нахмурились от непривычной заботы.
– О, я сумасшедшая! Не для того ты покинул свой край, чтоб вести такую тихую, бедную жизнь! Твое счастье в боевой славе, в победном звуке трубе. Я более не та Ирина, которая могла украшать тебя как божество и силою своей любви возвышать над толпой и завистниками. Теперь я буду для тебя только облаком, затемняющим твою судьбу… Посмотри же ласково на меня еще раз, прежде чем я удалюсь. Любовь сделала меня и скромной и вместе гордой и дала мне такие страдания, что я жду, как освобождения, той минуты, когда даже воспоминания о счастии не обеспокоят меня больше…