 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Громов Дмитрий :: Эллисон Харлан :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Гость :: Сожженная заживо :: Ярмарка Святого Петра :: Памятные встречи :: Агафья :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Запечатленный труд (Том 2) :: Контактов не будет (сборник) |
Жизнь замечательных людей (№255) - БортнянскийModernLib.Net / Биографии и мемуары / Ковалев Константин / Бортнянский - Чтение (Весь текст)
Константин Ковалев Бортнянский От автора Услышу ль вновь я ваши хоры?.. Когда речь заходит о музыке, у того или иного читателя возникает порой желание отложить в сторону книгу, ибо он бывал часто разочарован опытом знакомства уже с множеством музыкальных изданий, где даже не алгеброй, а многословием автора пытаются «поверить гармонию». Отчасти это неизбежно — музыку не передашь словами. И все же хочется пригласить его в российский музыкальный XVIII век, потому что есть в его истории страницы, способные увлечь, заразить своими сокровенными тайнами, важнейшими идеями, занимательными сюжетами всех, кому дорога память о былом. В этой книге читатель встретится с выдающимся человеком, своей жизнью внесшим замечательную лепту в музыкальную летопись России, да и всего мира. Еще не так давно имя Дмитрия Степановича Бортнянского воспринималось большинством как отголосок некоей давно ушедшей эпохи, связанной отчасти с историей русской православной церкви, а отчасти — с некоторыми страницами истории русского хорового искусства. Зная о его подвижнической деятельности в области духовного пения в России, мы находились в плену этих стереотипных представлений о творчестве композитора, воспринимая лишь некоторую «предварительную», «предшествующую» его роль в становлении русской классической национальной композиторской школы. Титаны XIX века словно бы заслонили собой тех, а в данном случае — того, кто был титаном не меньшего, а в некоторых сферах и более значительного масштаба. Именно на традициях, заложенных им, взросли многие таланты, именно он питал своим творчеством поколения русских музыкантов. Мы говорим ныне об истинном Бортнянском, ибо год от года увеличивается количество находок его произведений, считавшихся утерянными. Сегодня сама музыка говорит за себя… Можно ли определить словами, что есть «музыка»? Человечество многие тысячелетия пыталось выразить смысл и суть этого понятия. Но оно почти не поддавалось тем или иным формулировкам. Говорить об определении музыки столь же непросто, сколь и определять такие понятия, как «любовь» и «счастье», «добро» и «зло». Все ли, что мы слышим, что облечено в звуки, является музыкой? Если бы это было так, то разве смог бы Александр Сергеевич Пушкин написать: «Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия…»? Века мировой истории минули, но и сегодня мы видим, что в древности о музыке рассуждали точно так же, как и ныне. Разве не близки нам слова Иоанна Златоуста, называвшего музыку «духовным напитком»? Ее величали «сладкодушным утешением» и «подобием философской премудрости», «согласным художеством» и «глаголом таинственным», «наукой, познающей согласованность во всем и являющейся вторым разумом человеческого естества» и «искусством, доходящим до сердца через ухо, подобно тому, как живопись есть искусство, доходящее туда через глаза». «Музыка изображает одни предметы невидимые», — писал Г.Р.Державин. А.Н.Серов называл ее «языком души». На страницах этой книги мы попытаемся раскрыть загадки жизни и творчества выдающегося музыканта предглинковской эпохи. Глава 1. Уроженец города Глухова Глагол таинственный небес, Тебя лишь сердце разумеет... В начале июля 1751 года малороссийский град Глухов торжественно встречал нового и последнего гетмана «обеих сторон Днепра и войск Запорожских», президента Академии наук, действительного камергера, подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, кавалера и графа Кириллу Григорьевича Разумовского. Из столицы до Глухова проделан был немалый путь. Брат находящегося в фаворе Алексея Григорьевича Разумовского — приближенного императрицы Елизаветы Петровны и ее тайного мужа — потребовал для своего эскорта 125 подвод, да к тому же еще обязательные 200 подвод на каждом почтовом стане от Петербурга до Москвы и от Москвы до малороссийской столицы. «Слава гетману Украины!» — слышалось со всех сторон, когда громадная процессия проезжала населенные пункты. Крики услужливых сельчан и уличных ротозеев заглушал шум бесчисленных карет и экипажей, гвардейцев пехотного Измайловского полка, посаженных для такого путешествия на коней, служителей-гайдуков, а порой и гром походной музыки, исполняемой специально нанятой труппой. Москва встречала хлебосольно. Столь радушно, что можно было задержаться здесь надолго. Но недосуг. Следовало прибыть в Глухов скорее. И так отъезд оттягивался долгие месяцы. Пора приступать гетману к исполнению своих обязанностей. До первой почтовой станции у Пахры Разумовского провожали знатные москвичи. В Туле гетман также был «благополучным приездом поздравлен и богато трактован». Чем далее на юг, тем дороги становились все более покладистыми, менее ухабистыми. Местность являлась ровная, лес уступал свои права широким ровным пространствам полей. Все меньше попадалось черных деревянных изб, взобравшихся на косогоры тесных среднерусских деревенек. Хвойные леса и березняки сменялись густой зеленью. То тут, то там белели первые мазанки, крытые соломой, — явная примета малороссийского ландшафта. Уже наливались красным соком вишни, уже распустили широкие лопасти листья южного тополя, уже засеребрились в дуновении ветерка кроны прибрежных верб, запестрели разноцветными огоньками придорожные мальвы. Маковки церквей обозначали далекие ориентиры широко разбросанных украинских сел. Этих маковок по мере приближения к столичному городу становилось все больше. Навстречу процессии из Глухова выехал генеральный есаул Волкевич с бунчужными товарищами и запорожскими казаками. С ним была и депутация, состоящая из генерального писаря А. Я. Безбородки да лиц духовного сана. Вскоре показались и городские стены. Город-крепость готовился к праздничному веселью. — Ваша Светлость, ко въезду в гетманскую столицу через Севские ворота выстроено по обеим сторонам дороги шесть тысяч казаков. У ворот ждут Вашу Светлость все генеральные старшины и бунчужные товарищи, — отрапортовал Волкевич. — А музыка есть? — с улыбкой переспросил Кирилла Григорьевич. — Точно так, Ваша Светлость. И музыка имеется. — Тогда поехали. Раздался залп тысяч ружей. Тут же грянули музыка и литавры. Однако не успели въехать в ворота, как пушечный салют заглушил и оркестр, и стрельбу, и крики восторженных глуховчан, бросившихся сквозь казачий строй к карете графа. Толпу удалось осадить. И в едва установившейся тишине другой генеральный есаул, Якубович, обратился к светлейшему с торжественной приветственной речью. Затем были еще речи, окропление святой водой в Николаевской церкви, молебен, застолье в гетманских палатах. Празднества по прибытии нового гетмана окончились далеко за полночь... Появление в Глухове Кириллы Григорьевича Разумовского, запечатленное в многочисленных сводках, документах, мемуарах, вызвавшее всяческие толки и пересуды, надолго оставшееся в памяти малороссиян, совпало с происшедшим позднее событием — рождением в одной глуховской семье младенца мужеского пола. О событии сем знало лишь несколько человек — родители, бабка-повитуха, кормилица да приходской священник Троицкого храма, крестивший новорожденного и записавший в книгу имя появившегося на свет отрока — Дмитрий Степанов сын Бортнянский. А пока же объявлено было о созыве в Глухове в июле 1751 года всех старшин, полковников, шляхетства и прочих особ всякого звания для публичного оглашения жалованной грамоты императрицы Елизаветы Петровны, выданной гетману Разумовскому. Объявлено на званом обеде у гетмана, на следующий по приезде день, когда глуховская знать приглашена была к Разумовским. Мужчины встречались с самим графом, женщины — с супругою его, графиней Екатериной Ивановной. Были, как не быть, на обеде том и родители Дмитрия Бортнянского. Раскланивался перед светлейшим отец, Степан Васильевич Бортнянский. Высказывала свое почтение и осыпала любезностями графиню, прикрывая рукою, словно извиняясь, заметно раздавшийся живот, матушка — Марина Дмитриевна, ранее Толстая1. На объявлении жалованной грамоты присутствовал, видимо, лишь Степан Васильевич. При таком стечении народа и громыхании пушек беременной жене находиться было небезопасно. Июля 13-го дня чуть только пробили утреннюю зарю, подан был пушечный сигнал, по которому малороссийские полки вошли в город и заняли свои места от гетманского дворца до Николаевской церкви. Во дворце уже собрались разные чины. За окнами Степан Васильевич разглядел необычное для глуховской жизни зрелище. На площади была собрана вся разом вместе войсковая музыка. Вновь громыхнули пушки, и многочисленный оркестр грянул марш. Сценарий пышного торжества был отрепетирован тщательно. Первоначально по дороге двинулись музыканты. Они задавали тон и настроение. Жителям Глухова предстояло увидеть еще одно необычайное зрелище — шествие нового гетмана со свитою для вручения ему знаков отличия его сана, называемых гетманскими клейнотами. За музыкантами от дворца двинулись два отряда по 60 казаков. Им вослед вели великолепной красоты коня в богатой сбруе. На его седле привязаны были серебряные литавры, подаренные Разумовскому самодержицей всероссийской. Провели коня, и показались верховые. Впереди генеральный бунчужный Оболонский, показывавший восторженному народу гетманский бунчук. За бунчужным — верхом же — следовал генеральный хорунжий Ханенко, с трудом удерживая тяжелое, шитой парчи войсковое знамя-хоругвь. Показалась запряженная цугом пышная карета, а за ней — открытая коляска. В карете чинно восседал Безбородко, держа на бархатной подушке войсковую печать. А в коляске глуховчане разглядели генерального подскарбия Скоропадского, который также торжественно держал бархатную подушку; на ней возлежала гетманская булава. Наконец глазам публики предстал помощник и друг Разумовского Григорий Николаевич Теплов. Он тоже ехал в богатой карете, и в его руках находилась высочайшая жалованная грамота, привезенная из Петербурга. Замыкал шествие сам ясновельможный гетман Кирилла Григорьевич. Степана Васильевича вместе с другими гостями пригласили в церковь. Посреди помещения был поставлен стол, накрытый великолепным персидским ковром. На сей стол и положили грамоту, а по бокам — булаву и печать. Тут же встала охрана. Рядом поместили знамя. Провозгласили торжественную обедню. Не успели закончить, как на амвон вышел Теплов и, дождавшись полной тишины, развернул драгоценный документ. Оратор взглянул на всякий случай в сторону Кириллы Григорьевича. Тот чуть заметно одобрительно кивнул головой. — Жалованная грамота матушки нашей, императрицы всероссийской, Елисафет Первой, — громко произнес Теплов. По залу прошел гул. Кое-кто в волнении осенил себя крестным знамением. — Всем обще и каждому особливо, — продолжал читать Григорий Николаевич, — паче же малороссийскому народу, известно и ведомо да будет, что Мы, милосердуя о Наших верноподданных и имея о благосостоянии оного материнское попечение и призрение... соизволили по прежнему обыкновению, вольными голосами избрать гетмана... Кирилла Григорьевич на этих словах поднял правую руку и отер лоб. Теплов, задержавшись на мгновение, продолжил: — 22 февраля 1750 года в Глухове от всех обще и малороссийских чинов и народа единогласно избран гетманом природный малороссиянин орденов святого Александра, Белого Орла и святой Анны кавалер, граф Кирилла Григорьевич Разумовский. При крестном целовании, в придворной Нашей церкви присяге войсковые клейноты, булаву, знамя, бунчук, печать и литавры от нас получил... Сию грамоту собственною Нашею рукою подписали и Нашею государственною печатью утвердить повелели. Дано в Санкт-Петербурге мая 22-го дня лет от Рождества Христова тысяча семьсот пятьдесят первого. Прихожане стояли в зале не шелохнувшись, и после того, как закончилось чтение грамоты, и после того, как вручили гетману булаву, и после того, как хор спел многолетие и пушечный салют известил об окончании службы. К вечеру довелось Степану Васильевичу Бортнянскому побывать на роскошном ужине в гетманском дворце, куда были созваны почти все знатнейшие малороссияне. Город освещен был в ту пору разноцветными огнями, а в зале, где был накрыт стол, играл инструментальный оркестр. За столом рядом с четой Разумовских сидела и матушка Кириллы Григорьевича, незабвенная Наталия Демьяновна с дочерьми, которая еще покажет себя в своем новом положении — родительницы ясновельможного. Со следующего утра и настал период властвования в Глухове нового гетмана. Стоило ли сопоставлять два этих, чудом совпавших по времени события: назначение в Глухов Разумовского и рождение там же, в том же 1751 году младенца Дмитрия Бортнянского? Но «случай», словно предначертание судьбы, свяжет в ближайшие годы два этих имени, двух людей, разделенных пропастью не только по возрасту, но и по социальному положению. Могло ли что-нибудь предвещать семейству Бортнянских удачу в те достопамятные дни? Вряд ли. Жизнь шла своим чередом. Матушка Марина Дмитриевна души не чаяла в новорожденном. По вечерам, качая малыша в люльке, она напевала ему старинные казацкие песни. Днем вместе с кормилицей услаждала дитятко бренчанием самодельных погремушек. Дом, где жили Бортнянские, находился в самом центре гетманской столицы, неподалеку от Троицкого храма. Глухов, по тем временам довольно большой город, с незапамятных времен окружала высокая стена. Расчлененный прямыми улицами на квадраты, он был сплошь застроен небольшими, главным образомдвухэтажными домами. И все же архитектуру имел скорее сель-скую, нежели городскую. Точно так же, как и в окрестных селах, глуховские дворы полнились вишнями и сливами, точно так же окаймляли улочки островерхие мальвы. Род свой Бортнянские вели из Бецкой области, находящейся на территории Польши. Там жил дед Степана Васильевича — Дмитрий Бортнянский. Еще от отца своего Дмитрий унаследовал приличный достаток — несколько сотен десятин земли. Село, в котором обитал дед Степана Васильевича, именовалось Бортное. Отсюда и пошла фамилия Бортнянских, предки которых, как можно предположить, занимались нелегким лесным медовым промыслом. Дмитрий Бортнянский был человеком служилым. Занимал должность судьи да, кроме того, как отмечал позднее внук его Степан Васильевич, имел «привилегию королевскую». Вот потому и земли у Бортнянских было предостаточно. За хорошую службу и награда поспевала. Разбирал тяжбы на сельских сходках, защищал права крестьян. Дел хватало. Сын Дмитрия, Василий, также пользовался почетом и уважением у односельчан. Наследство досталось от судьи солидное, что и позволило ему иметь большую семью и заняться образованием своих сыновей. Сам Василий, видимо, занялся купеческим делом. Быть может, и землицу свою продал для того, чтобы поместить оставшийся капитал в торговое дело. Нелегкому купеческому ремеслу обучался у отца Степан Бортнянский. А когда преуспел в оном, то послан был из дому для дальнейшего расширения кругозора «в иные края». Так оторвался от отцовской земли родитель будущего композитора. И пошел он по градам и весям. Торговал различным товаром, изучал народы и быт, набирался опыта. Судьба привела его в Глухов, где он и решил обосноваться окончательно. Благо в городе принят был своими сородичами, несмотря на то что прибыл с польской земли. Не всякий пришелец, хотя и свой, единокровный по происхождению, мог так запросто войти в число жителей Глухова. Принимали не всех подряд. Хотя вольностей и прав не лишали никого, но следовало жителю уездного российского града принять присягу на верность Ее Императорскому Величеству. Степан Васильевич Бортнянский не задумываясь принял сию присягу и, как свидетельствуют документы, стал постоянным жителем «города Глухова в числе тамошних глуховских мещан»1. Жил не бедно. Деньги имелись. Трудился исправно. Слыл хорошим экономом и знатоком лучших товаров. В 1740-е годы поставлял для глуховской казачьей сотни продукты и одежду, за что и получил благодарность, где особо отмечена была его многолетняя служилая «беспорочность». Купил Степан Васильевич в Глухове и дом — солидный, большой. Отдал за него вдове-казачке немалые деньги. Решил поселиться тут, обзавестись хозяйством, семьей, детьми. Да не вышло. В одно утро 1748 года город проснулся от тревожного колокольного набата. Жители повыскакивали на улицы, вокруг далее двадцати шагов ничего не было видно. Все застлал дым. В криках, панике метались глуховчане. От реки несли ведра с водой. Казаки баграми пытались растащить в разных концах города охваченные огнем деревянные строения. Но было уже поздно. В огне громадного пожара сгорели многие глуховские дома. Добрался огонь и до Белополовских ворот крепостной стены, где стоял дом Степана Бортнянского. В один день исчезли и дом, и накопленные средства, и надежды на тихое счастье на новом месте. Однако Провидение смилостивилось над судьбой торгового поставщика. Приютила его на время у себя одна казачка. Жила она одиноко. Муж давно погиб в одном из петровских походов. Был у нее сын — Иван, — уже взрослый, служилый при музыкальной должности человек. Иван на поприще музыки достиг немалых успехов и призван был даже ко двору в Петербург. Потому и матушка его, Марина Дмитриевна, пользовалась в Глухове особым почетом и уважением. Жила вдова Марина Дмитриевна Толстая в доме, оставленном ей мужем, у самой Троицкой церкви. Дом был большой, места много. Живи, будь счастлив. Сюда-то, в сей дом и вошел после пожара Степан Бортнянский, как постоялец. Вошел и остался насовсем. Не прошло и года, как «молодые» обвенчались. А затем — время не ждет — родилась у них дочь, названная Меланьей. Вослед за дочерью — сын Тимофей, который скончался в малолетстве. А уж в приезд Кириллы Григорьевича Разумовского Марина Дмитриевна порадовала мужа еще одним сыном, которого в честь прадеда и назвали Дмитрием. Родиной будущего композитора, таким образом, стал малороссийский город, один из исконных центров казачества, место, где будут еще разворачиваться разнообразные события, которые скажутся на дальнейшей судьбе отрока. Судьбе, от самого рождения окруженной ореолом удачливости. Глухов известен как один из древнейших городов Руси. С 1152 года упоминают о нем летописи, как уже о существующем граде, где останавливались целые рати. Бывал он и центром удельного княжества, переходил из рук в руки в разные времена, ибо находился на пограничной с Литвой и Польшей территории черниговских земель, всегда слывших лакомым кусочком, столь сладким для всякого ворога древнерусского государства. Позже пришел в упадок. Так бы и остался Глухов затерянным в днепровских чащах городком, если бы вдруг не вздумал царь-реформатор Петр Великий в 1708 году переменить место расположения гетманства на Украине. До того времени резиденция гетманов находилась в городе Батурине — центре Левобережной Украины. Петр же, в пику «предателю» Мазепе, перенес его в Глухов, где и учинил заочную «казнь» гетмана: «Персону онаго изменника Мазепы вынесли, — писал очевидец, — и, сняв кавалерию, которая на ту персону была надета с бантом, оную персону бросили в палачевские руки, которую палач взял и, прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы и потом повесил». Так был приведен в исполнение приговор, правда, не самому Мазепе, а изображавшему гетмана чучелу. Глухов строился и расширялся. Один из проезжавших в те времена путешественников оставил такую запись:«Город Глухов земляной, обруб дубовый, вельми крепок, а в нем жителей вельми богатых много панов, и строение в нем преузорочное, светлицы хорошия; палаты в нем... зело хороши; ратуша зело хороша и рядов (торговых. — К.К.) много; девичий монастырь предивен зело, соборная площадь хороша очень...» Это редчайшее свидетельство о глуховской застройке для автора этих скупых, но похвальных строк послужило доказательством весьма тонкого, хотя и эмоционального утверждения: «зело лихоманы хохлы затейливы к хорошему строению». Великолепие Глухова и дало право заметить страннику, что «в малороссийских городах другова вряд ли такова города сыскать...» Если прибавить еще к тому и достаточно удобное географическое положение Глухова, стоявшего на берегу реки Эсмань, в одном-двух десятках верст от исторической границы между Россией и Украиной, то можно сказать, что не случайно он стал временной, пусть и не столицей, но резиденцией малороссийского «гетманского уряда», как называли исстари в этих краях правительственную власть. Граф Кирилла Григорьевич Разумовский, вступив в гетманство, устраивал жизнь в Глухове по петербургскому образцу. Он не спеша, постепенно создавал свой «двор» наподобие столичного, царского. Ритуалы соблюдались похожие на те, что происходили в Зимнем дворце. Штат придворных был расписан наподобие императорского. Даже грамоты свои Разумовский подписывал «по-царски»: «мы приказуем», «нашим повелением», «дана в граде Глухове» и т. д. и т. п. Но главное, что походило на жизнь петербургского двора, так это здешние празднества и увеселения. Та же пышность, то же великолепие, те же церемонии, платья, мундиры и даже манеры. Застолье всегда в полную меру. Выходы и выезды — с пушечной пальбой и фейерверками. Особливо же приказал Разумовский следить за музыкой и театром. «Забава по моде» — музыкальный театр — была явным новшеством для глуховской знати, выгодно отличавшая знатока столичных балов — гетмана — от его «подданных». Началось все с французской комедии. Одной из первых была поставлена при «дворе» Разумовского комедия «La foire de Hizim» («Ярмарка в Изиме»). Казацкие старшины, паны и шляхта громко аплодировали актерам, а иные, поглаживая усы, лишь дивились петербургского склада новинкой. Балы во дворце следовали один за другим. Установилась даже их определенная регулярность. По всякому, порой незначительному, случаю устраивались приемы и вечера, застолья с обильными виновозлияниями. По сим, самым непредсказуемым случаям заведена была инструментальная музыка. Постоянные оркестры сопровождали веселья. Но, кроме того, проходили и нарочно устраиваемые концерты, на которых местные виртуозы показывали свое мастерство. Была и еще одна страсть, поглощавшая в иные часы досуг Кириллы Григорьевича. Любил он, отбросив все мирские дела и забавы, послушать духовное пение, превосходные хоры, которыми в сию пору славился Глухов. Услышишь, как согласно звучат голоса певчих в любом из городских храмов, так и в самом деле нельзя оторваться и не дослушать до конца. Страсть эта была у гетмана давняя, еще с Петербурга, а вернее, с самого малолетства, когда певали они вместе с братом Алексеем в церковных хорах. Кирилла Григорьевич прекрасно разбирался в певческом искусстве, сам прошел достаточную школу. Теперь же ничто не мешало ему утверждать хоровую науку и здесь, в Глухове. Утверждать основательно, надолго, не хуже, чем в столице. Благо для этого здесь уже существовала по-настоящему плодородная почва. Своими певцами Малороссия славилась. Еще с середины XVII столетия, когда через Западную Украину в Россию стали проникать всяческие европейские новшества, «прииде во град Москву» и малороссиянские музыканты. При Петре Великом дело не переменилось. Напротив, лучшими певчими — альтами и дискантами — считались выходцы из Киева или Харькова, из Батурина или Чернигова. Особенно же из Глухова. Певчие малороссийские пользовались славою не только при дворе. Петербургские вельможи содержали таковых при своих домашних хорах. Известно, что у князя А.Д. Меншикова служил «при спевацкой музице» талантливый солист Афанасий Ревукович. Со временем своеобразная «мода» не только не проходила, но, наоборот, пускала все более глубокие корни. Среди городов, имевших особую репутацию в деле подготовки певчих, главное место прочно занял опять же Глухов. После кончины Петра I вдовствующая императрица Екатерина Алексеевна приглашала неоднократно глуховских певчих на придворную службу. Однажды она отдала специальное распоряжение прибывшему в Москвугетману Даниле Апостолу, дабы тот выслал в Малороссию служителя Василия Евстратова. Последнему следовало вручить «универсал», что отправляется он «для сыску двух певчих алцест (альтов. — К.К.), которые необходимы к ее двору». История с посылом Евстратова интересна одной подробностью. Данила Апостол разъяснял в ответе царице вопрос о порочной практике, сложившейся при направлении послов для отбора певчих. «Разными временами, — писал Апостол, — посылаючиеся в Малую Россию для выбираня певчих многие чинят обывателям тамошним обиды, и яких не надобно, и таких, токмо для взятков, насильно отымают хлопцов». Видимо, посыльные часто отбирали певчих по указанному числу, как теперь сказали бы, «для галочки». Потому Апостол решил приискать альтов самолично. В декабре 1728 года гетман вернулся в Глухов. Здесь его догнал новый указ из Петербурга, что к двум альтам надобно добавить еще и двух дискантов. Выполняя обе просьбы, Данила Апостол сообщал: «Имеючи я в незабвенной памяти, что в бытность мою в Москве соблагоизволили Ваше Высочество требовать присылки двох певчих алцест, которым надобно быть при дворе Вашего Высочества, прибывши же сюда в Глухов, посылал от себя в полки рейменту моего малороссийские таковых певчих искать; а теперь получил вторично Вашего Высочества предложение, дабы до музыки спеванной ко двору Вашего Высочества двох дишкантов, а двох алтов прислать; и я по тому Вашего Высочества требованию, которые теперь могли вынайтись хлопцы з тих, а именно двох дишкантов, а двох алтов отправляю...» «Обиды тамошним обывателям» при отборе певчих чинились по известной причине. Кому из родителей хотелось, чтобы его родное дитя отнимали от семьи и отправляли хоть и в столицу, но все же за тридевять земель! А отправляли порой... на всю жизнь. Пусть и в придворные певчие, но не всякий родитель согласится отдать своего ребенка. Однако позднее положение изменилось. Семьи певчих получали льготы, ради которых многие уже не только соглашались, но и считали за счастье устроить отрока в Петербурге. Но об этом позднее. Данила Апостол завершил свое послание словами: «двох дишкантов, а двох алтов отправляю, и хотя еще к тому оные не обучены, ибо обученних сискать теперь весьма трудно, понеже тут, в Малой России, спеванные музики звелися, за бывшим здешним пременением, однако, надеюсь, когда обучатся, то до спевання будут не неугодны». В Глухове — прославленном малороссийском центре музыкальной певческой культуры — не нашлось обученных «дишкантов и алтов»! Все говорило о том, что «звелися» учителя музыки. А потребности двора в новых певчих продолжали расти. И при Анне Иоанновне, и при Елизавете Петровне из Глухова привозили одаренных «парубков». И с каждым годом все больше. Требовалась хорошая подготовка. Нужны были учителя и средства. Статистика сохранила сведения: в 1736 году для глуховских певчих из царской казны было выделено 50 рублей (сумма крайне мизерная, ее хватало лишь на самую недорогую одежду и буквально на хлеб с квасом), в 1737-м — 100 рублей, в 1738-м — 250 рублей. Певчих обучали как придется и кто придется. Но результаты вскоре дали свои плоды. К лету 1738 года в Глухове учились пению десятка два отроков. В августе того же года им был устроен экзамен, и лучшие 11 певчих были отправлены ко двору Анны Иоанновны. Возглавлял хор регент Федор Яворский. Первые же выступления при дворе показали необычные способности глуховских солистов. Щедрость Анны Иоанновны по сему случаю была неожиданной. 21 сентября 1738 года растроганная императрица подписывает указ об основании в Глухове первой в России музыкально-хоровой школы. «Из оставшихся за отсылкою сюда (ко двору. — К.К.) певчих, — гласил указ, — оставить одного регента, который бы в пении четверогласном и партесном был совершенно искушен, и учредить небольшую школу, в которую набирать со всей Малой России... из казачьих и мещанских детей и протчих, и содержать всегда в той школе до двадцати человек, выбирая, чтоб самые лутчие голоса были и велеть их оному регенту обучать киевского, такоже и партеснаго пения, а при том, сыскав искусных мастеров из иностранных и из малороссиян, велеть из оных же учеников обучать и струнной музыке, а именно: на скрыпице, на гуслях и на бандоре, дабы могли на оных инструментах с нот играть». Указ был продиктован царскому писарю знающим человеком. Детальное разъяснение музыкальных наук, коим должны были бы обучать певчих в глуховской школе, выявляет грамотного, прошедшего подобную школу певчего. Не был ли это сам Алексей Григорьевич Разумовский?! Текст указывал и дальнейшую судьбу наиболее одаренных выпускников школы. «И которые пению, такоже и на струнной музыке обучены будут, и с тех по вся годы лутчих присылать ко двору Ея Императорского Величества человек по десяти, а на те места паки вновь набирать, и пока те учители тамо в школе обучать будут, давать им надлежащее жалованье, а ученикам определить на пропитание и платье и обучь сколько потребно...» В Глухове словно бы и ждали этого указа. Тотчас началось строительство здания для вновь введенной школы. По предписанию канцелярии министерского правления малороссийских дел в новом доме были отстроены «две горницы с комнаты да пекарня», утвержден и хозяйственный штат «для варения» — «две бабы и один мужик». Объявлен был также своеобразный конкурс на прииск хорошего регента-учителя, знающего и киевское и партесное пение. Учеников же решили собрать из Киева, Переяславля, Чернигова и окрестностей. Оттуда же подыскать мастеров — гуслиста, бандуриста и скрипача. Из двадцати хлопцев предполагалось семерых обучить совершенству «струнной музыке по ноте». Штат и содержание в школе певчих были расписаны детально. Годовые расходы определялись в сумме 100 рублей. Регенту-наставнику в жалованье отдавалось первенство. Он получал половину всех ассигнований — 50 рублей. Лучшему «басисту», исполнявшему партии баса, полагалось 5 рублей. Гуслисту и бандуристу — по 20 рублей. Из назначенных денег потребное число уходило на платье: кафтаны, рубахи, порты, шапки, рукавицы. На пропитание оставалось по две копейки в день, однако же «егда из оных хлопцов которые будут обучаться ревностнее, оным давать по десяти копеек на месяц каждому». «Чтобы ученики не своеволили и не гуляли», предписывалось найти из глуховского гарнизона унтер-офицера, «человека доброго, которому, как, будучи при той школе у смотрении, поступать, дать инструкцию». Почему текст указа или, во всяком случае, его идея могла принадлежать Алексею Григорьевичу Разумовскому? Прежде всего потому, что сам он вышел в графы и поднялся до самого подножия трона через певческое искусство, к которому приуготовлен был с детства. И Алексей Григорьевич, и брат его Кирилла, будущий гетман, происходили из тех же черниговских земель: из деревни Лемеши Козелецкого повета. Хоть Алексей Розум (так первоначально звучала фамилия будущего графа) и служил простым пастухом, но по праздникам, случалось, певал на клиросе. Чем дальше, тем чаще, ибо голосом обладал сильным и звучным. Однажды его услышал проезжавший мимо полковник Вишневский, который содержал при себе хор певчих. Он и взял к себе Розума. Вместе с хором Вишневского Алексей Григорьевич попал в Петербург. Уже потом будут съезжаться петербургские жители на его выступления, наступит нечаянное благорасположение слышавшей его пение будущей императрицы Елизаветы Петровны, а затем — любовная близость и тайный брак с дочерью Петра, титулы, награды и высшие чины, положение «первого человека» державы. Старший брат вызвал к себе из Лемешей младшего — Кириллу — в 1743 году. В том же году пятнадцатилетний юноша направлен был на обучение за границу вместе с адъюнктом Академии наук Григорием Николаевичем Тепловым. Изучив там языки, арифметику, географию, историю, а также музыкальное дело, танцы, он через год вернулся на родину и уже тут получил — вслед за братом — титул графа, придворный чин камергера и, наконец, пост президента Академии наук. А двадцати двух лет от роду он стал гетманом Малороссии. Вот так певческое дело связало между собой российский престол, украинское гетманство, древний город Глухов и его хоровую школу, обеспечив на ближайшие годы многим наиболее выдающимся ее выпускникам довольно заманчивое будущее. 1751 год в придворной петербургской жизни ничем особенным ознаменован не был. Пока в Глухове происходили вышепоименованные события, в столице продолжали вершиться государственные дела, подписываться указы и договоры. Все это перемежалось с балами, смотрами, парадами. Как всегда, происходили дворцовые волнения, ибо многие российские дворяне по сию пору не одобряли то, что на российском престоле восседает вот уже вторая императрица, отнюдь не император. В сентябре 1751 года раскрылся заговор солдат, пытавшихся свергнуть Елизавету Петровну. О заговоре знал ее племянник, наследник престола Петр Федорович. Ему-то заговорщики и намеревались отдать императорскую корону. Но «император» сам оказался предателем. Придя с повинной к тетушке, он раскрыл планы переворота и перечислил имена смутьянов. Засим был прощен, заговорщики схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость. А мирная жизнь продолжалась. В день, когда Кирилла Григорьевич Разумовский был награжден орденом Святого Андрея Первозванного — 4 октября 1751 года, — весь двор, словно и не было никаких заговоров, мирно выехал на охоту за город, в Красное Село. Музыка сопровождала громадную свиту, а за ужином в палатке был устроен настоящий инструментальный концерт. Знатнейшие особы в суконных, бирюзового цвета черкесских кафтанах, алых камзолах, обшитых золотыми галунами, егеря также в черкесских платьях и зеленых камзолах с золотыми позументами слушали со вниманием придворных музыкантов. Как ни в чем не бывало сидел подле императрицы Петр Федорович. За стенами палатки «аккомпанировали» музыке лаем три сотни отборных гончих и борзых собак. Звучали вдалеке охотничьи рожки. Нетерпеливо ржали одетые в дорогие сбруи лошади. Только глубокой ночью вернулся двор с охоты в Петербург. Вот и все из ряда вон выходящие события придворной жизни 1751 года... Недолго побыл в Глухове гетман Разумовский. Успел дать ряд указов. Получил учрежденный при Петре I высший в России орден Святого Андрея Первозванного. Знаки ордена привез в Малороссию в апреле 1752 года Василий Суворов — отец будущего великого полководца. По случаю вручения Андреевской ленты снова были фейерверк, обед и бал. Вместе со свитой гетман успел объездить Малороссию, осмотрел полки, городские укрепления. Произвел на свет сына, которого по случаю награды назвали Андреем. Сразу же после крестин мальчика, ставшего ровесником, да к тому же еще по случаю и земляком по рождению Дмитрия Бортнянского, Разумовские стали собираться в Москву, куда переехал двор и куда приглашала их сама императрица. В ноябре 1752 года при пушечной пальбе гетманское семейство выехало из Глухова. История Глуховской певческой школы небезынтересна в первую очередь и потому, что именно здесь свои первые шаги в музыке начал Дмитрий Бортнянский. Дом, где он рос, как мы знаем, располагался в самом бойком месте города. Сюда захаживали многие именитые глуховчане. Семья жила в достатке. На застолья средств хватало. Бывали в доме и купцы, и знатные мещане, и служилые казаки. Степан Васильевич пользовался особой доверенностью Кирилла Григорьевича Разумовского и бывал неизменно принят при его дворе тепло. В обязанности его, как поставщика, входила доставка лучших продуктов к столу гетмана, а также всевозможного обмундирования. Отличия Бортнянского-старшего были налицо. Однако до последнего времени он лишь числился при казацкой глуховской сотне, но не входил в нее. В январе 1755 года Степан Васильевич направил Разумовскому свое прошение о зачислении его в состав казачьего войска, где обязался «служить всероссийскому и императорского величества престолу в войсковом звании, которое от сотенного глуховского правления запрошено было в минувшем 754 году марта дня 23-го в генеральную войсковую канцелярию». Заслуги Бортнянского были признаны, и сам Кирилла Григорьевич Разумовский приложил свою гетманскую руку к указу, в котором предписывалось присвоить Степану Васильевичу положенное ему войсковое звание и внести его в «список казачий» всей глуховской сотни. С этого дня Бортнянские стали полноправными жителями гетманской столицы. В то время сыну Дмитрию шел уже четвертый годок. Еще ничто не предвещало будущих способностей мальчика. Такой же, как все, стриженный наголо парубок, он в сопровождении кормилицы прогуливался по улочкам, часто заигрывался в саду, с любопытством всматривался в кипучую городскую жизнь, вслушивался в песнопения, когда по воскресеньям родители брали его с собой к обедне. Первые ростки неожиданного таланта домашние приметили, едва исполнилось Дмитрию шесть лет. Да и то лишь потому, что проявляла внимание к этому матушка, имевшая любовь к музыке и часто певшая на голоса со своими подругами украинские и казацкие многоголосные песни. А примечено было, что отрок обладает прекрасным чистым голосом, да к тому же еще и поет правильно, без фальши. Причем схватывает мелодии буквально на лету, даже повторять не надо. Порой, едва услышав какую-либо песню, начинает напевать различные варианты темы, да так увлечется, что Степан Васильевич и скажет сгоряча: — Ну что, казак, не надоело ли глотку драть?! — Пусть поет, — вмешивалась матушка. — Выйдет голосом, отдадим в певческую школу. Вот и толк будет. — Толк будет, ежели пойдет он по военному, казацкому делу, — отвечал отец. — Смешно сказать, единственный сын, наследник — да в певчие! — Что же тут такого? Певчие нынче в почете. У Кириллы Григорьевича в хоровой капелле вон сколько хлопцев спивают. Многие из именитых семей казацких. Сие дело ничуть не зазорно. Степан Васильевич не любил говорить на эту тему, а потому быстро завершал неожиданно возникшую беседу. — Мало тебе, что первенец твой, Иван, пропал где-то там, в столице, по музыкальному делу. Теперь и второго хочешь туда же... Нечего говорить. Не пойдет он в певчие. Марина Дмитриевна обычно не отвечала. Продолжала вышивать узорочным шитьем занавеси для окон или иное что из рукоделья. Через несколько месяцев привели Бортнянские Дмитрия в певческую школу. Прослушивал мальчика сам регент, который тут же отметил: — Иные силком тащат детей своих, петь заставляют. Думают, что можно из дурного дерева сделать хорошую бандуру. Не разумеют люди, что талант Богом дается и никакие учителя ему не поспособствуют. — Так берете мальца или нет? — с надеждой на возможный отказ спросил Степан Васильевич. — Я бы не взял, мест у нас нету. Да как не взять это чудо природы! Ведь парубок сей словно из чистого золота вылеплен. Талантом наделен истинным. Такого дышканта редко сыщешь. Неделю спустя Дмитрий Бортнянский был зачислен в Глуховскую певческую школу и поставлен на довольствие. Училось ему легко. Принуждать не надо было. Ко всему проявлял новичок большой интерес. До пения был охотен, а это и было главным, ибо не столько учение, сколько постоянная служба была правилом для глуховских школяров. Еще в 1755 году Кирилла Григорьевич основал в Глухове музыкальную капеллу, куда входили и хор и оркестр. Набирали в Глухов и взрослых певчих. Во всех была нужда, чтобы «в обучении пения не учинилось остановки». Пели часто. По воскресеньям и праздникам. Много и регулярно. Обучение напоминало постоянную работу. Основная методика сводилась к следующему утверждению: нет лучше способа научить делу, чем исполнять его постоянно. Глуховские солисты имели громкую славу. В гетманском домашнем театре пели известные мастера. Блистали в свое время голосами Гаврила Головня и Марк Полторацкий. Недаром их ждали большие перемены и признание при высочайшем дворе. Известностью пользовались Г. Белгородский, Р. Богданович, В. Иванов, С. Котляревский, П. Марченко, К. Росовский, В. Харченко. Юный Дмитрий Бортнянский примечен был сразу. Не было и речи о том, чтобы отставить в сторону и не дать возможности развиться его таланту. Уже в первых же своих выступлениях он показал все имеющиеся у него возможности и задатки, а потому часто выставлялся в качестве солиста. Без сомнения, уже в глуховской школе Бортнянский начал заниматься на одном из музыкальных инструментов. Скорее всего на скрипке, ибо именно этот инструмент столь способствует развитию слуха, а в дальнейшем — приобретению навыков и умения в области композиции. Почетно и лестно было находиться в стенах певческой школы. Уже достаточно известными стали иные ее выпускники. Не так давно покинул это гнездо подающий надежды певчий, смышленый и начитанный Григорий Сковорода. Разносторонние интересы юноши, стремление познать всевозможные сферы науки и искусства обещали дать хорошие всходы. Григорий Сковорода, будущий философ и поэт, покинув стены школы, к тому времени проходил обучение в придворном хоре в Петербурге. Перешел учиться из Глухова в стены Киевской духовной академии еще один даровитый отрок, отмеченный печатью вдохновения, — Максим Березовский. Сей «поразительный малороссиянин» в свои двенадцать с небольшим лет уже не только хорошо знал музыкальную науку, прекрасно исполнял главные партии в хоровых произведениях, но и сам пробовал себя в сочинении. Плодовитость его была исключительной, и многие учителя пророчили ему великое будущее. Но семилетний Дмитрий Бортнянский еще не знал ни Григория Сковороду, ни Максима Березовского. С первым он, видимо, не увидится ни разу в своей жизни. Со вторым пройдет бок о бок немало лет своей многотрудной жизни в музыке... Бортнянский обладал особым голосом — дискантом, присущим мальчикам до определенного подросткового возраста. Чистота дискантов всегда имела важнейшее значение для хора, так как большинство многоголосных песнопений были построены на специфической игре верхних голосов, на их своеобразном и совершенно неповторимом тембре. Хоры мальчиков обычно были украшением любого праздника. Голоса их сравнивали с «ангельским» пением. В сводах храмов, когда мелодия отражалась эхом от акустически продуманно выстроенных стен, возникали поразительные эффекты наложения мальчишеских дискантов и мужских басов. Особо же чистые дисканты — а таковым и обладал Дмитрий Бортнянский — и в самом деле всегда были настоящей редкостью. Посему и выделился отрок в первые же месяцы обучения среди своих сверстников. Первоначальные успехи глуховского школяра уже предопределяли его музыкальную жизнь. Регенты-наставники не сомневались, что сего Дмитрия следует беречь всячески, а быть может, и отправить в числе лучших учеников в Петербург. Так что предстояло окунуться ему в музыкальную жизнь столицы, в тот особенный мир, по-своему отличный от иных сфер музыкальной жизни, да и жизни вообще. Бортнянский родился и рос в эпоху великих музыкальных изменений и преобразований. Мировая музыка только что понесла невосполнимую утрату. В 1750 году скончался Иоганн Себастьян Бах. В год рождения Дмитрия исполнил свою последнюю ораторию титан музыки Георг Фридрих Гендель. Осуществил великую реформу в области оперы Кристоф Виллибальд Глюк. Дидро и д’Аламбер выпустили знаменитую энциклопедию, большую часть которой посвятили всевозможным искусствам. Они пытались четко сформулировать столь трудно понимаемые эстетические законы музыки. Уже звучали многочисленные сонаты молодого Йозефа Гайдна. А в Зальцбурге в семье музыканта Леопольда Моцарта родился на свет мальчик необычайного таланта, названный Вольфгангом Амадеем. В России также произошло немало событий в муыкальной жизни. Век XVIII — самая его середина — стал для Российского государства словно бы переходной вехой в истории музыкального театра и музыкального исполнительства. Столичные и придворные театры заполнены были итальянскими маэстро. Постепенно разрушался строгий, веками складывавшийся регламент древнерусского пения. Уже тогда к привычному мужскому пению а капелла — без сопровождения инструментальной музыки, пению, которому обучался Бортнянский, — прибавлялись по специальному регламенту «гласы мусикийских инструментов». Еще с петровских времен иные проводники новшеств в области пения называли мужские хоры «бычьим рыком, ни к чему не годным». Музыка обретала парадность и маскарадность. Особенно преуспел в этом новый жанр — опера, родиной которой была Италия. Модные итальянские композиторы появились при дворе во всем своем непривычном великолепии. Слушателей покорял неукротимый неаполитанец Франческо Арайя. Итальянские труппы заняли театральные подмостки. Одновременно пробивала себе дорогу растущая смена отечественных исполнителей и композиторов. Еще только в зачатке, но уже проявились выдающиеся силы российских музыкантов. В 1751 году явилась на светмузыка роговая — явление исключительно национальное, русское. В 1755 году впервые в Петербурге была исполнена опера А. П. Сумарокова — «Цефал и Прокрис» — на русском языке. В сию пору и выпало попасть на нелегкую музыкальную ниву облеченному багажом одаренности юному Дмитрию Бортнянскому... Наступление 1757 года при российском дворе праздновалось весьма пышно. Кроме обычного застолья и гуляний, в Санкт-Петербурге произведен был в темноте новогодней ночи грандиозный фейерверк. Фейерверк, как и прежде, был приготовлен заранее. Для его осуществления пришлось построить специальный исполинский огненный театр — со статуями, архитектурными сооружениями, картинными декорациями. Первое явление посвящено было изображению «цветущего состояния империи в мирное и силы в военное время». В назначенное мгновение, по орудийному залпу, заиграла музыка, зажглись разноцветные огни, взлетели, раздирая со свистом воздух, ракеты. Что-то крутилось, что-то вспыхивало и угасало, что-то дымилось и шипело. Одни цвета сменялись другими. От низко висевших над землей зимних облаков отражался свет, словно само небо озарилось в новогодний праздник. Затем декорации переменились, и огни осветили «гениев усердия, верности, благоговения и благодарности». Третье явление потрясло всех собравшихся. Вдалеке, почти на горизонте, представилось число — 1757. Оно двигалось, освещенное светлой дугой, от востока к западу. Над числом видно было «в круге наподобие Солнца сияющем небесное благословение, держащее рог изобилия под числом новаго году и над Россиею...». Мирный фейерверк, предсказывавший благосостояние и изобилие, озарился, однако, под конец красными огнями, и отражение их от хмурого неба показалось некоторым присутствовавшим немного зловещим. Однако в наступившем 1757 году ничего особого в истории государственной не приключилось, если не считать только, что после длительной мирной передышки, начавшейся по завершении еще Петром Великим Северной войны, началась война новая — Россия вступила в конфликт с Пруссией, отправив в поход против нее 80 тысяч солдат, одержавших в августе выдающуюся победу при Гросс-Егерсдорфе... Граф Кирилла Григорьевич Разумовский, словно позабыв о своем гетманстве, прижился основательно в столице и вроде бы уже и не собирался выезжать в Малороссию. Императрица Елизавета Петровна однажды выразила на сей счет свое неудовлетворение. Пришлось графу собирать вещи и готовиться к новому переезду. Он уверил матушку-императрицу, что собирается к отъезду, но обратился-таки к ней со следующей просьбой: «Высочайшее повеление, дабы мне в Малую Россию немедленно отъехать, мне объявлено... Но при отъезде моем дерзновение приемлю всеподданнейше просить милосердным оком воззреть на обстоятельства моей опечаленной теперь фамилии. Беременная моя почти уже на сносях жена с восемью малолетними и по большей части больными детьми в таком состоянии теперь, что мне их с собою взять... и помыслить невозможно; а оставить к приближающимся родам одну ее с столь многочисленною и малолетнею фамилиею любовь и само человеколюбие воспрещает...» На это Разумовский получил разрешение дождаться родов жены. Младенец — сын Лев — родился в здравии, и после крестин граф стал собираться в дорогу. Уже 17 марта 1757 года он рапортовал императрице из Глухова: «Приехал я в Глухов... и все по нынешним военным конъюнктурам осмотрел с крайним моим усердием и верноподданнической верностью. По исполнении же того дерзновения приемлю Вашему Императорскому Величеству донести, что Малая Россия во всех ея пределах... находится в верноприсяжной своей должности, и никаких посторонних ниже подсылок, ниже каких-либо сумнительств по сие время нигде и ни от кого не слышно, и не было». Ничто не изменилось за эти годы. Все происходило по «присяжной своей должности». По этой же должности продолжала существовать и Глуховская школа певчих, а в ней — и Дмитрий Бортнянский. Быть может, коли не приехал бы в тот год в Глухов гетман, то судьба юного музыканта сложилась бы иначе. Но именно потому, что граф все-таки оказался в малороссийской столице как раз в тот год, когда Дмитрий зачислен был в певческий штат, стоило обратиться к столь затяжной истории с его отъездом из Петербурга. Отъездом, которого по различным обстоятельствам могло и не быть. Такова история — капризная муза... Разумовскому и в самом деле не очень хотелось оставаться в Глухове. Там, в столице, — молодая жена, двор. Да к тому же простудная болезнь давала о себе знать. Конечно, в Глухове лечить болезнь эту можно было ничуть не хуже, чем на холодном севере, в Петербурге, однако граф усиленно ссылался в своих письмах императрице на свое заболевание, чтобы убедить ее вернуть его назад. «Гнусное место Глуховское, — писал он графу М. И. Воронцову, нарочито сгущая краски, — на котором я построился, уже было и немало и притом по сырости, низости и болотной земле почти уже деревянное строение, не в пору строенное и скороспешно худыми плотниками и из мелкого лесу...» Писал он и государыне: «Признаваюся, что в моем слабом здоровьи... не снесу в наступающие осень и зиму Глуховского сырого и гнилого воздуха». В Глухове граф скучал и ждал высочайшего разрешения вернуться назад. А пока убивал время всяческими мелкими делами, а из более крупных — строительством дворца в Батурине, архитектурными проектами и, самое главное, любимой им музыкой. Как и прежде, домашняя гетманская капелла певала для Разумовского в назначенные для того дни. Участвовали в том и мальчики глуховской школы. В один из таких концертов и приметил Кирилла Григорьевич отличные голоса некоторых певчих. — А что, — спросил он неотлучного от него Теплова, знатока музыкальных увеселений, будущего автора песенного сборника «Между делом безделье», — посылаем ли мы еще в Петербург лучших наших солистов? — Посылаем, Ваша Светлость. Ежегодно, по десятку наиболее одаренных. — А ведь есть у нас и нынче кого послать. Слышу — есть кого. Посмотри, каких отроков славных мы вырастили. Во-он тот, ангелоподобный, со светящимися глазами. Кто таков? — Тотчас испрошу у регента, Ваше Сиятельство, — ответил Теплов. — Не поспешай. Сам спрошу. Слышь-ка, — обратился Разумовский к регенту, — кого пошлешь нынче в столицу, ко двору матушки-императрицы? — Из нынешних, Ваша Светлость, — раскланиваясь, заговорил регент, — найдутся достойные. И немало. — А во-он того пошлешь? Разумовский вновь указал на испуганно смотревшего на него мальчугана. — Сего? Рановато ешо. Молод. Шести годков. Голос отменный, но молод, ой молод. — Как кличут? — Бортнянский, Дмитрий, сын Степана Бортнянского, поставщика Вашей Светлости. — Что ж, достойной фамилии. Гляди, ежели и дальше будет свои способности выказывать, то определи его в нашу столичную капеллу. Слово гетмана осталось в памяти наставников. Сам Разумовский недолго пробыл в Глухове во второй свой приезд. Уже в декабре того означенного пышным фейерверком 1757 года он по высочайшему соизволению наскоро помчался в Москву, даже не прихватив с собой обычной своей свиты. Год спустя очередной выпуск певческой школы был готов покинуть ее стены. При пристальном изучении способностей питомцев отделили из них десяток наиболее одаренных. По специальному распоряжению велено было готовить их к отъезду. — Вот, дождалась-таки, — бурчал сердито на жену Степан Васильевич. — Теперь кто наследует отцовское дело? А? — Что же поделаешь. Такова наша родительская судьба, — с показной покорностью отвечала Марина Дмитриевна. — Судьба наша детей взрастить и оставить им наше нажитое в наследство. А це що за лихо — отдать дитину незнамо куда, — в волнении новоявленный сотник то и дело перескакивал на «ридну украиньску мову». — И ежели случится что —перестанет он, скажем, петь, как сие случилось вон с хорунжего детьми? Голос-то, он не вечен. Подрастет Дмитрий, попоет лет пять, а далее? Матушка лишь качала головой в ответ. — Лучше быть купцом или казаком военным, нежели простым певчим. Одно радует, что нынче всех родителей отобранных отроков освобождают от податей. Однако ж и это недолгая утеха... Летом 1758 года избранные певчие глуховской школы отъезжали в Петербург. Двигались большим обозом. Разместили мальчиков на подводах, иных — вместе с харчами и багажом. На городской площади после обедни собрались все провожающие. Прощание было недолгим. Пополудни двинулись в путь. Матушка перекрестила Дмитрия, сунув ему в узелок с дорожными гостинцами маленькую иконку. — Ну с Богом, сыночек. Не плошай. Знай, что за хороший голос все человеку прощается... Обоз тронулся и вскоре скрылся за поворотом. Больше своих родителей Дмитрий Бортнянский не увидит никогда... По дороге нагнали другой обоз, выехавший из Киева. Оттуда тоже везли певчих, собранных по округе. Не только мальчиков, но и взрослых. На одной из подвод сидел неприметный на первый взгляд худощавый подросток, лет тринадцати от роду. То был Максим Березовский, посланный в Петербург из Киевской духовной академии. Так произошла встреча двух выдающихся в будущем композиторов. Петербург 1758 года... Каким встречал он малороссийских певчих? Что узнали они, чем поразились, во что пришлось им окунуться в этот год, в то незабываемое время? Прямые улицы и громадные, особенно для уроженцев небольшого городка, площади, великолепные дворцы и соборы, Петропавловская крепость и шпиль Адмиралтейства... Все это предстало перед ними, удваиваясь в отражении невской воды. Новобранцев привели в покои старого Зимнего дворца. Тут располагались специальные комнаты для певчих. Выдали одежду на первое время. Покормили. И, почти не дав опомниться и отдохнуть, спустя два дня отправили на репетицию. Началась работа, серьезная, ответственная и трудная. Ведь им предстояло петь в лучшем хоре России. Дмитрию Бортнянскому тогда едва минуло семь лет... Глава 2. Малолетний певчий Ибо все те, кои... детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употребят, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать... повелеваем. Императрица Елизавета Петровна не любила шутов, в отличие от своего наследника — Петра Федоровича. Она боялась приближающейся старости и кончины. Постоянная смена нарядов, как и смена театральных декораций, долженствовала отвлекать ее от невеселых мыслей. Шуты же всегда настраивали государыню чересчур «философически». Запрещалось все, что напоминало или могло напомнить о смерти, — похоронные процессии у дворцов или на виду императрицы, траурное одеяние, черное сукно. И даже пение придворного хора, пусть самое что ни на есть печальное, должно было звучать для слуха цветисто и более торжественно, нежели грустно. Императрица отсчитала уже сорок восемь лет своей жизни. По тем временам — немалый срок, почти старость. Мысли о близком конце не давали ей покоя. Здоровье резко ухудшилось. Начались странные припадки. Память терялась. Страхи давали о себе знать. По ночам Елизавета разговаривала вслух с полюбившимся ей иконописным образом. Чтобы отвлечься хоть как-нибудь от подозрений о возможном заговоре, она почти ежедневно в 11 часов вечера слушала оперу, в час ночи садилась за стол ужинать и засыпала лишь с рассветом, под утро, каждую ночь в другом покое дворца и никогда в парадной спальне. Волноваться между тем было о чем. Супруга наследника Петра Федоровича, тогда еще просто великая княгиня Екатерина Алексеевна, уже проявляла свой характер. К тому же не раз была замечена участвующей в хитросплетенияхсговоров свергнуть здравствующую императрицу. В начале 1758 года был раскрыт заговор, в котором если не прямое, то косвенное участие принимала Екатерина. Были арестованы многие соучастники, в том числе Иван Перфильевич Елагин, будущий директор придворных театров. Ныне он пострадал за ту, которая позже его щедро облагодетельствует. Дело кончилось тем, что Екатерина дважды падала на колени перед Елизаветой Петровной, обливаясь слезами, просила у нее прощения и даже лицемерно умоляла отпустить ее из России за границу. Искусной лицедейке ее игра удалась. Но страхи, опутавшие дурманом сознание императрицы, отнюдь не уменьшились, а напротив, достигли предела. Елизавета хворала, вместе с ней «хворал», ожидая перемен и «выздоровления», петербургский двор. Управлял придворным хором Марк Федорович Полторацкий. Давнишний друг Разумовских, сам выходец из черниговских земель, учившийся в Глухове же, он, конечно, благоволил ко всем тем, кто прибыл из гетманской столицы. Полторацкий знал на собственном опыте многогранную жизнь музыканта при дворе. Певал он и в хорах, за что был не раз отмечен особо. Участвовал и в оперных постановках на заре итальянской оперы в России, еще в памятном 1742 году, когда исполнил одну из заглавных партий в опере Хассе «Титово милосердие». Приходилось петь ему и в спектаклях Франческо Арайи. Словом, когда утвердили его в 1756 году в должности директора придворного хора, никто не удивился. Полторацкий принял новое пополнение хора и отдал распоряжение разместить малолетних певчих. Часть из них отправили в покои старого императорского Зимнего дворца, а иных — на Адмиралтейский канал, где вот уже многие годы капелла арендовала для своих исполнителей дом у поручика Нащокина. Первые дни новоприбывшим усердно растолковывали инструкцию, принятую десять лет назад и неукоснительно выполняемую все это время. Инструкцией быт певчих был расписан во всех подробностях, и требовалось лишь педантично исполнять ее. Старшие певчие обязаны были заниматься воспитанием младших. Иерархия взаимоотношений устанавливалась прочная. Ответственность же за шести-семилетних мальчиков целиком ложилась на взрослых солистов капеллы, дабы, как гласил документ, «тихо и смирно жили, никаких шалостей не делали, без ведома и позволения никуда не шатались, а ежели куды отпущать подлежит, то времени на часы определить, а когда он назначенное время упустит, наказывать при всех ребятах, дабы и прочие страх имели». Взаимовлияние старших певчих на младших — самая простая и действенная школа, какую можно было придумать в то время. Подавляющее большинство из них были земляки, порой даже родственники. Куда уж лучше найти воспитателей, нежели брать со стороны, и кто еще надежней выполнит указание — «ежели что сделается, в том большой за неприсмотр оштрафован будет». У Дмитрия же Бортнянского здесь, в Петербурге, служил брат по матери — Иван Толстой. Поставили певчих и на довольствие. Тут же выдали и платье — простое, то есть повседневное, и парадное, для придворных выступлений. Уже в первые недели по прибытии пришлось глуховским школярам участвовать в выступлениях капеллы. Не предполагалось никакого подготовительного периода. Не было предварительного обучения. Сразу же началась трудная и повседневная работа. Не зря же их отбирали как самых лучших из лучших. Подготовленности их отдавалась дань, и считалось, что певчие уже полностью пригодны для придворной службы. Но это не значит, будто не предвиделось никаких занятий. Сложная структура хоровой организации требовала постоянного, неустанного совершенствования. Выделялись свои же, известные, учителя — Яков Тимченко, Гаврила Головня. К тому призывала и инструкция, обязывавшая повышать уровень пения и знаний «с радением». Хоровая русская певческая школа в то время, имея глубокие корни и традицию, достигла немалого совершенства. Отдельные теоретические положения о характере и методике вокального мастерства были давно сформулированы и широко использовались на практике. Михайло Васильевич Ломоносов уже выпустил в 1755 году свою «Российскую грамматику». В разделе «О голосе» он как истинный знаток определил основные моменты, характеризующие голосовые состояния и их изменения. «Во-первых, — написал он, — изменяется голос выходкою, второе — напряжением, третье — протяжением, четвертое — образованием». Детализируя свои положения, основанные на глубоком изучении материала, на большой практике слушания пения придворного певческого хора, Ломоносов отмечал: «Выходка возношением и опущением, протяжение долготою и краткостию, напряжение громкостию и тихостию, сколько различия в голосе производят, довольно известно из музыки... Образование состоит в отменах голоса, которые от повышения, напряжения и протяжения не зависят. Такие изменения примечаем в сиповатом, звонком, тупом и в других голосах разных... К образованию принадлежат и слова человеческого выговора, как вид оного, которым голос различно изменяется...» Ломоносов выводил свои утверждения из глубокого понимания и осознания русской певческой традиции, которую, конечно же, знал сам, еще с детства и юности, когда приходилось певать ему в церковном хоре. Один из иностранных современников, услышав пение русского хора, заметил: «Их голоса превосходны и в высшей степени пленительны, заключая в себе нечто идущее от сердца...» Это «идущее от сердца» и являлось сущностью и особенностью певческого искусства России. Но «сердечное» еще нужно было заключать в рамки «гармоничного», «правильного». «Инструкция», которой пользовались в жизни придворного хора, давала наставления и в области тщательной подготовки и развития голосов певчих. «Всех же манерно доходчиво, — читал в ее строчках Дмитрий Бортнянский, — правильно, с соблюдением художественности, образной выразительности петь обучать надлежит, а кто из ребят леностью обучаться будет, тем же определенным наказывать розгою...» Разучивание новых песнопений происходило просто. Порой весь хор делился на несколько ансамблей. Небольшие, миниатюрные хоры расходились по комнатам. В каждый из них включались и басы, и теноры, и альты, и дисканты. Таковой прием назывался «коригацией в разных комнатах». Затем хор соединялсяи спевался в единое целое. Такая «коригация» обязывала работать певчих «в неделю всенепременно... по три часа», однако же, видимо, для многих хористов такое занятие было не в труд, а в охотку, потому же рекомендовалось: «А за охоту и больше повторяется». Учили в придворном хоре не только пению. Предстояло многим из них участвовать в операх итальянских и французских. А значит, требовалось знать эти языки. Приходилось петь на греческом и на немецком, и даже на латыни. И опять — учение. И «Инструкция» рекомендовала: «Из ребят, кто партесное пение совершенно имеют, токмо тех обучать чтению или кто к чему способен будет...» Среди иных занятий выделялись «инструментальные штудии». Учили играть на разных инструментах, продолжая то, что было начато ранее, еще в Глухове. Тех, кто проявлял способность к актерскому мастерству, прикрепляли к иным школам, как-то — определяли в сухопутный Шляхетский корпус для обучения театральному делу. Драматическое искусство в стенах кадетского корпуса пользовалось успехом и славою. Преподавал здесь молодой И.А. Дмитриевский — будущая звезда русской сцены. Обучали и композиции. Правда, не всех, а лишь тех, кто показал к тому склонность. Среди преподавателей композиторской школы были и заезжие немцы — педантичный Герман Раупах и пунктуальный Иозеф Старцер. По окончании каждого года учреждался «генеральный экзамен ученикам перед директором и полковником М. Ф. Полторацким». Певчих свидетельствовали по всем наукам, дабы тем «спознать их успех». Что говорить, нелегкая школа. Да если бы только школа, а то и работа, которая пострашнее, чем экзамен. По первому же требованию спешили певчие ко двору, всегда соблюдая данную «Инструкцией» рекомендацию появляться «во дворец в платье вычищенном», то есть нарядном, парадном. Таково обернулась жизнь в Петербурге семилетнему Дмитрию Бортнянскому. Елизавета Петровна редко ложилась спать ранее пяти-шести часов утра. Ночные бдения и вовсе стали для нее привычным времяпрепровождением. Ужинала — далеко за полночь. Затем говорила с придворными, веселилась, слушала музыку. Пасхальные торжества, а особенно ночная служба, посему ни в коей мере не нарушали ее привычного распорядка. Чем дольше продолжалась служба, тем императрица все более впадала в приятное меланхолическое состояние задумчивости, отвлекающее от болезней и тревожных мыслей о старости. Ей не доставляло особенного труда и напряжения простоять всю пасхальную заутреню, слушая, как придворный хор исполняет величественные протяжные песнопения. Певчие хора давно привыкли к длительным службам. Марк Федорович Полторацкий хорошо знал некоторые «слабости» императрицы, любящей, когда мелодия поется не спеша, без резких переходов, душевно и гармонично. Когда хор вытягивал какую-нибудь тихую высокую ноту, Елизавета прикрывала глаза, брови на ее лице приподнимались, едва заметная блаженная улыбка появлялась на ее устах, казалось, что она переносилась мысленно в далекие, лишь ей ведомые страны. Императрица любила слушать юных хористов. Голоса мальчиков умиляли ее, напоминали ангельское пение, заставляли вспомнить о далеком детстве. Порой она прерывала песнопение, подавала знак, чтобы к ней пододвинули пюпитр с нотами, и принималась исполнять партию вместе с хором. Так могло продолжаться по нескольку часов. Пасхальная заутреня длилась долго, почти до пяти часов утра. Если для Елизаветы то было время, когда еще только начинались приготовления ко сну, то для многочисленных придворных — привычное время сновидений. Что говорить о певчих. Они хоть и приноровились ко всяческим неординарным поручениям, но ночь есть ночь. Тем более, ежели вся служба проходит при непрерывном пении, когда необходимо показать все, на что ты способен. Тяжелее всего было мальчикам. Простоять до утра, исполнить службу, не сомкнув глаз, не так-то и просто. Перед тем, правда, позволялось выспаться. Да и после давалось немного отдыху. И все же днем как следует не поспишь. А ночью... Дмитрий Бортнянский стоял в ту пасхальную ночь на правом клиросе. Безумно хотелось спать. Однако в присутствии императрицы, обоих Разумовских, Шуваловых и многочисленных царедворцев приходилось стоять почти не шелохнувшись. Дмитрию поручено было, кроме обычных хоровых песнопений, исполнять отдельные сольные арии. По мановению руки регента-концертмейстера он вступал в нужную минуту и своим тоненьким, но отчетливым и ясным голосом оживлял своды зимнедворцового храма. Лица многих придворных озарялись улыбкой при пении мальчика. Более всех умилялась сама императрица. Не имевшая ни сына, ни внука, она чувствовала невольную душевную симпатию к миловидному казацкому отпрыску. Служба уже подходила к концу. Был в ней такой момент, когда соло Бортнянского на время прерывалось, а значит, можно было передохнуть. Дмитрий отодвинулся к притвору алтарной преграды, прислонился к нему и... незаметно для себя задремал. Сказалась усталость от бесконечных репетиций накануне... Событие не ахти какое. Заснул на императорской службе во время пасхальной заутрени семилетний певчий. Могли бы разбудить, могли бы после наказать, в конце концов — высечь утром за то, что подвел весь хор. Но на деле малозначительный сам по себе случай имел для юного Дмитрия удивительные последствиями. Настало время вступать солисту. Регент взмахнул рукой, но... не услышал его голоса. Произошло замешательство. И тут все увидели присевшего у стены, спящего, невзирая на звания и чины, ангельским сном Дмитрия. Возмущению регента-концертмейстера не было предела. Уже выдвинули из рядов правого клироса другого мальчугана, дабы он пропел положенную партию, ибо попытки поднять и разбудить вконец разомлевшего солиста ни к чему не привели. В сей миг раздался властный голос императрицы: — Оставьте его. Что же поделаешь, ведь младенец еще... Поднимите-ка лучше нашего нарушителя. В голосе Елизаветы слышались нотки материнской заботливости. Кто-то из старших певчих взял спящего Дмитрия на руки и поднес к императрице. — Пусть выспится, — сказала она, улыбаясь. — Ему еще достанет хлопот... Присутствующие столь же умиленно заулыбались. Елизавета сняла с шеи положенный для службы платок, нарочито осторожно, словно на куклу, повязала его на шею Дмитрия. — Отнесите мальчика на мою половину. Там ему ничто не помешает досмотреть свои сны... Приказание исполнили тотчас. А служба пошла своим чередом, закончившись под утро... Биографы будущего композитора впоследствии отметят: «Бортнянский проснулся и не верил глазам своим. Считая пробуждение продолжением сна, он долго не мог прийти в себя и своим детским страхом и смущением заставил смеяться свою милостивую покровительницу...» Событие сие, конечно же, сыграло свою роль в судьбе Дмитрия. Но от этого ученическая жизнь его не стала легче, а напротив. В сухопутном Шляхетском корпусе ему приходилось бывать не менее чем по два раза на неделе. Мальчика, удачно певшего в сольных партиях придворного хора, поспешили направить к учителям, способствовавшим развитию актерских навыков. Что же, собственно, предстояло Дмитрию в ближайшем будущем делать на театральной сцене? Это он мог лицезреть сам во многочисленных оперных постановках, идущих в Петербурге и при дворе. Ибо земляк его, Максим Березовский, не успев приехать в столицу, тут же был взят в придворную труппу великого князя Петра Федоровича с жалованьем в 150 рублей в год. На глазах у Дмитрия, буквально через год, он стал так известен, что получил первые роли в лучших итальянских операх. Однако все по порядку. Музыкальный мир, окружавший глуховского певчего в Петербурге, представлял собою донельзя удивительную и противоречивую картину. Юный Бортнянский появился на ниве российской музыки в самый разгар наступательного шествия так называемой в народе «итальянщины». При дворе господствовали итальянские маэстро. В восприятии публики — итальянские вкусы. В манере исполнения — итальянская техника. В музыкальном языке — итальянский же язык. Явление это, конечно же, не было органичным для российской истории. Да и возникло оно неожиданно, так же декларативно, как и в свое время введение европейского платья Петром Великим. Шествие светскости во всех видах музыкального искусства достигло России еще в XVII столетии, а окончательно восторжествовало в начале XVIII. Долгие века хранившаяся традиция мужского пения без сопровождения инструментов, как его ныне было принято называть по-итальянски а капелла, стояла у порога своего разрушения. Постепенно к пению прибавлялись «гласы мусикийских инструментов». Упрочиваются при дворе маскарады и балы, развлекательная музыка, «песни бахусовы». А затем и вершинный для того времени музыкальный жанр — опера. Первоначальное просто итальянское влияние затем прочно переросло в «итальянщину». Само понятие «итальянщина» возникло в народе не как желание полностью отрицать прекрасно разработанную и чрезвычайно усовершенствованную музыкальную традицию, а скорее как стремление защититься от неуклонного проникновения ее в сам строй и лад древнерусского мелоса, в хоровое пение, основы которого уходили корнями на семь столетий в глубь времен. Многие российские мыслители боялись «облегчения» в музыке, дальнейшей поверхностности в духовной преемственности, упрощения смысла сокровенного наследия, без чего никогда не существовала и не могла бы существовать отечественная музыкальная культура. Итальянская традиция внедряла в подавляющем большинстве те начала, которые не были свойственны ни русскому духовному пению, ни народной песенной традиции: экспрессивно-выразительные, эмоциональные, виртуозно-исполнительские. Сами по себе эти начала имели громадное значение для всей европейской культуры. Их легко можно было освоить, к ним без труда можно было приобщиться. Но поверхностное восприятие их не столько даже закрывало, сколько напрочь зачеркивало более глубинное, исконное, духовное, истинное, национальное. Ненужное и неумелое подражание итальянцам выглядело пародийным и вызывало справедливые укоры со стороны ревнителей отечественного искусства. В пылу споров итальянскую музыку называли «бесовертошным балалаечным, скоморошьим шумом». Один из современников, прекрасно осознавая силу и великолепие итальянского стиля, выступал против «итальянщины», засевшей в российской музыке, словно болезненный вирус, так: «Если же когда поют, хотя вышеупомянутыми скоропорывистыми сочинениями, да имеют искусство, и к тому — натурально хорошие голоса малороссиянцы, то не столь противно. Но уже и наши великороссиянцы, не только из купечества купцы, из господских домов слуги, да и фабричники и суконщики, а разных мастеров художники, многие, научившись пению по партесу1, но тем же многоздорным сочинениям, поют на скороговорных паузах, и столь же иногда неприятно, что слушать их прескаредно, ибо оной русской дристун басистый, растворя свою широкую пасть, кричит скороговорно, как в набатный колокол бьет; есть ли же случится чрез паузы с верхней ноты ему взять, то так неискусно возьмет, как жеребец заржет, или на отрывах так безчинно оторвет, точно как бык рыкает». Или уж совершенство в итальянской гармонии, в пении, или же точное блюдение священных древних традиций — в этом сходились многие передовые россияне. Среднего — «итальянщины» — быть не должно. Совершенство же в гармонии достигалось постепенно и повсеместно. Уже поклонник итальянского искусства замечал: «Если судить о совершенстве вкуса, до которого достигла теперь наша певческая музыка, то, кажется, она получила самой высокой степень своей изящности... Так гармония и на хладном севере во всей своей силе владычествует, и здесь восхищает она сердца, вливая в них сладостное утешение. И в таком расположении души чувства текут в различных изгибах голоса, и — наконец, — во всей полноте производят то, что мы называем восторгом». Началось же декларативное вторжение итальянцев в Россию, а с ними и появление «итальянщины» с одного, казалось бы, вполне безобидного случая. Лишь только вступила на российский престол в 1730 году герцогиня курляндская Анна Иоанновна, как в знак признания новой императрицы польский король Август II решил прислать к петербургскому двору несколько музыкантов из своей труппы. В составе этой труппы впервые в Россию на длительное время в качестве придворных солистов-виртуозов попали итальянцы. Приверженность к итальянской музыке уже тогда считалась «забавой по моде». С тех пор постепенно, год за годом, Анна Иоанновна, стараясь не уступать ни в чем европейским дворам, приглашает к себе все новых и новых исполнителей из Италии. Прибыли в Россию скрипачи Луиджи Мадонис со своим братом, а также Петро Мира по прозвищу Петрилло, который, по словам современника, «впоследствии стал знаменит в роли первого шута...» В 1734 году этот Петрилло, будучи отправленным в Италию, начал специальный набор большой музыкальной труппы для русского двора. Целый год он уговаривал именитых маэстро, суля им солидные выгоды, в чем ему были даны всяческие полномочия. И вот летом 1735 года на булыжные набережные Невы ступила нога человека, с именем которого будет связано начало «итальянизации» русской музыки. То был прославленный неаполитанец, 26-летний композитор Франческо Арайя. Так при дворе появился первый известный капельмейстер-итальянец. Вместе с Арайя на подмостках русского музыкального театра появились известные солистки, популярные певцы-кастраты1, скрипачи и виолончелисты, театральные художники, машинисты, фигуранты и фигурантки, красавицы «примадонны», бойкие «субретки», превосходные амплуа «любовников» и многие-многие другие. Одновременно, по меткому замечанию современника, прибывали в Россию и «актеры посредственного значения». Так или иначе, итальянская труппа прибыла, была встречена, размещена, обласкана и в скором времени внедрена в быт. Появилась и первая опера на русской почве. 29 января 1736 года в празднование дня рождения Анны Иоанновны была дана «драма на музыке» — опера Франческо Арайи «Сила любви и ненависти». Для большего понимания и усвоения нововведения либретто оперы напечатали на двух языках: итальянском и русском. Инструментальная музыка, исполняемая оркестром, в котором приняли участие и лучшие гобоисты четырех полков императорской гвардии, а также великолепные красочные декорации, множество технических эффектов — залпы орудий, атаки слонов, сменяемые картины крепостей, орудий, галерей, амфитеатров, темниц и палат — возымели разительное действие на неискушенных российских, вернее, придворных слушателей, большую часть которых тогда составляли приближенные к Анне Иоанновне немцы. Вслед за тем в январе и 1737-го, и 1738 года ставились новые оперы Арайи, и зрелище вошло в обиход. Увеселения модных актеров еще не казались угрожающими и не предопределяли появления «итальянщины». Более необратимые события произошли по восшествии на российский престол Елизаветы Петровны. В торжества по случаю ее коронации предполагалось включить исполнение оперы А. Хассе «Титово милосердие». Предусматривалось в связи с этим поразить публику широтой размаха и мощью исполнения. Однако для осуществления планов явно не хватало солистов, тем более для исполнения задуманных громогласных хоров. Вот тогда-то впервые императрица отдала распоряжение взять певчих из придворного хора и разучить с ними итальянские партии. И хотя нововведения в музыкальной жизни двора воспринимались как вполне обычное дело, но на святая святых традиционного русского хорового пения — придворный хор — доселе не покушались. Никто тогда не мог представить, как степенные мужи и юные солисты, привыкшие к строгому регламенту древних песнопений, будут распевать со сцены замысловатые оперные арии, веселя досточтимую публику. Но приказ императрицы следовало выполнять. Отобрали около пятидесяти певчих. Каждому выдали либретто, расписанное по-итальянски, но русскими буквами, дабы певчие смогли их произнести. В течение нескольких репетиций четырехголосные хоры были быстро заучены, а затем с триумфом исполнены. Современник писал: «Превосходных результатов добился хор. Недаром впоследствии, выступая перед иностранными посольствами, он с полным правом заслужил от них название несравнимого». Голоса российских певчих, многие из которых были земляками Дмитрия Бортнянского, сделали свое дело, и, как отмечалось, «опера в числе такой массы превосходных сильных голосов получила такой хор, какой нелегко встретить где-либо в Европе». В последующие годы «эти музыкальные певцы употреблялись во всех операх, где встречались хоры, и настолько вошли в тонкий вкус итальянской музыки, что многие из них в пении арий мало уступают лучшим итальянским певцам...». Уже в итальянской традиции начала подрастать своя, отечественная исполнительская смена. Год от года появлялись все более и более одаренные русские солисты, способные заменить и даже затмить своих итальянских коллег. Все эти обстоятельства и предопределили появление на российской сцене первой оперы, написанной на русское либретто. То была опера «Цефал и Прокрис», текст к которой сочинил Александр Петрович Сумароков, а музыку по досконально, слог в слог переведенному на итальянский язык либретто написал так и не изучивший русского языка все тот же неутомимый Франческо Арайя. Когда Бортнянский постигал все стороны придворного музыкального быта, когда с самого своего малолетства он стал заниматься актерским ремеслом в сухопутном Шляхетском корпусе, оперы А. П. Сумарокова считались для подрастающей русской смены музыкантов лучшей школой исполнительства, через которую нельзя было не пройти. Зачаток этой любопытной традиции был заложен в день премьеры первой оперы на русский текст — 27 февраля 1755 года. В тот день на сцену петербургского театра вышли актеры и разыграли музыкальную драму на античный сюжет, взятый еще из Овидиевых «Метаморфоз». Но совсем иным был удивлен привыкший к изощренному итальянскому стилю столичный слушатель: ведь исполнителями всех арий были только русские актеры! Пели они на русском, понятном всякому языке! И поразительно — самому старшему из солистов было не более 14 лет!.. Цефала пел малороссиянин Гаврила Марцинкович. Трагическую партию Прокрисы — обворожительная юная солистка Елизавета Белоградская, дочь выдающегося придворного певца и композитора Осипа Белоградского, прославившаяся еще и своей искусной игрой на клавесине. В остальных ролях выступили столь же юные Николай Клутарев, Степан Рашевский, Степан Евстафьев и Иван Татищев. Успех спектакля затем громким эхом разойдется по многочисленным мемуарам, рассказам, историям. Но со временем забылось не менее важное обстоятельство. А именно — исключительное малолетство русских исполнителей. Конечно, юные солисты в истории оперы выступали и прежде. Но на русской сцене — никогда. Тем более в русской опере, и тем более — свои, отечественные... Обстоятельство отнюдь не было случайным. Приложил к тому руку автор — Александр Петрович Сумароков. Это по его настоянию состоялась постановка, это по его радению вышли на сцену доселе неизвестные артисты, это он скажет позднее: «Музыка голоса, коль очень хороша, так то прекрасная душа...», как бы подтверждая талантливость первых исполнителей своей первой оперы. И он же напишет известные стихотворные строки: Любовны Прокрисы, представившая узы: Ко удовольствию Цефалова творца, Со страстью ты поя тронула все сердца И действом превзошла желаемые меры, В игре подобием преславной Лекувреры1. С началом оперы до самого конца, О Белоградская! прелестно ты играла, И Прокрис подлинно в сей драме умирала. «Цефала» ставили много раз. Год за годом. И всякий раз приглашали для участия юных солистов. И всякий раз — новых. Так, опера Сумарокова стала как бы «школьной» для подрастающих отечественных талантов. Через эту школу прошли многие из выдающихся русских музыкантов, одним из них будет и сам Дмитрий Бортнянский. В сентябре 1759 года в Петербурге при дворе Сумароков представил на суд зрителей оперу-балет «Прибежище Добродетели» с музыкой Г. Раупаха. Среди списка действующих лиц мы встречаем все тех же юных певцов, что и в «Цефале». Добродетель, г. Елизавета Белоградская. Минерва, г. Шарлотта Шлаковская... Гений Европы, г. Иван Татищев. Гений Азии, г. Степан Евстафиев. Гений Африки, г. Степан Писаренко. Гений Америки, г. Григорий Покас. (придворные Е. И. В. певчие)... Последняя ремарка, указывающая на участие в постановке придворных певчих, заставляет предположить возможность участия в хоровых сценах и других певчих — из придворного хора. Мог ли быть среди них Дмитрий Бортнянский? Скорее всего да. Во всяком случае, мальчику позволено было присутствовать если не на премьере, то, по крайней мере, на репетициях грандиозной оперы. Такое, пусть и косвенное участие входило в систему обучения в хоре. Торжество же «Добродетели» на сцене происходило следующим образом. В спектакле аллегорически показывались Европа, Азия, Африка, Америка и в конце — Россия. Добродетель везде ищет себе пристанища, но никак не находит. Попадает в Европу, но тут родной отец отдает свою дочь замуж за богатого жениха, отлучая от любимого. Появляется в Азии, но там ревнивый муж убивает свою супругу. В Африке того хуже — муж просто продает свою жену. В Америке счастливые муж и жена преследуются неким тираном и, дабы избежать мук, кончают с собой. И, наконец, Добродетель снова в море. Она «приближается к берегам России. Вдруг море превращается в приятное жилище, является великолепное здание на седьми столпах, знаменуя утверждение седьми свободных наук, которые в державе сей употреблены. Российский орел, огражденный толпою гениев в светлых облаках, является и распростертыми крылами изображает наукам в области своей покровительство. Радость и удивление владычествуют сердцами обитателей, которые восхищены ревностным усердием и благодарностью и устремляются торжествовать сей благополучный день и в совершенном счастии веселятся, что жилище их есть „Прибежище Добродетели“. Венчал торжественный конец продолжительный хор, исполненный певчими. А среди «непоющих» участников спектакля находились на сцене начинавшие историю русского театра и столь известные в будущем актеры — Иван и Аграфена Дмитриевские, Анна Тихонова, Григорий, Федор и Марья Волковы. Так театральные подмостки связали судьбы многих выдающихся людей России. Почти одновременно в Петербурге состоялась премьера еще одной русской оперы Сумарокова — «Альцеста» на музыку того же Г. Раупаха. Как и «Цефал», опера была исполнена «малыми певчими». Именно в этой опере придется через некоторое время дебютировать в качестве солиста и Бортнянскому. Пока же в придворной музыкальной жизни все происходило по прежнему распорядку. Чем более ухудшалось самочувствие стареющей императрицы, тем более всех занимали вкусы и привычки наследника престола — Петра Федоровича. Принц Голштинский являл собой неподражаемый контраст всем царствующим особам российского XVIII века. Он играл и импровизировал почти на всех музыкальных инструментах. Таковым увлечением он досаждал в первую очередь своей супруге — Екатерине, не выносившей уже тогда ни его самого, ни его игры, по правде сказать, изрядно фальшивой. Больше всего Петр Федорович любил мучить своих придворных штудиями на скрипке. Один из его приближенных, немец Якоб фон Штелин, писавший историю искусств России и замечавший многие музыкальные события, зафиксировал, что великий князь играл неоднократно в оркестрах и при опере. «А так как итальянцы, — писал Штелин, — даже когда он фальшивил или перескакивал через трудное место, — всегда его прерывали возгласами „браво, Ваша Светлость, браво“, — то он думал, при своем пронзительном ударе смычка, что он играет с такой же правильностью и красотой, какой требовал действительно его музыкальный вкус». Штелин был близок к наследнику престола и был им облагодетельствован. Он и так чересчур сильно подчеркивал достоинства Петра Федоровича как музыканта. Но даже и он не удержался, чтобы не отметить фанатического непонимания великим князем своего чудовищного дилетантизма, бравируя которым тот измучил двор, а у собственной супруги вызывал едва скрываемые на людях взрывы бешеной ненависти. Петр, потакая своим страстям, швырял деньги направо и налево. Едва увидев ценную скрипку, он уже не оставлял владельца и покупал ее за любые деньги. В его покоях имелись инструменты работы великих Амати, Штейнера, но ему было мало. Выбирая одну из скрипок из своей коллекции, наследник вечерами собирал знатных особ, кавалеров и даже иностранных послов и заставлял их садиться в оркестр. Присоединив к ним некоторых музыкантов-профессионалов, князь закатывал многочасовой концерт, в котором сам играл партию первой скрипки, а порой выдавал пассажи на флейте-траверсе1. Именно по его указу в Ораниенбаумском дворце близ Петербурга отстроили в 1755 году Оперный дом — замечательное произведение театральной архитектуры. Здесь, на этой сцене, состоялась оперная премьера, ставшая лебединой песней Франческо Арайи на российской земле. На двадцати четырех скамьях партера театра в Ораниенбауме и на обоих ярусах лож свободных мест не было. На многочисленную придворную публику молчаливо взирал с плафона на потолке покровитель искусств Аполлон, окруженный Музами, одна из которых — Эвтерпа, охранительница музыки — словно бы удовлетворенно улыбалась, предполагая свой триумф. Арайя давал свою оперу «Александр в Индии». Наследник в глубине души предполагал затмить подобные спектакли, которые шли в столице — Петербурге. Ведь он, будущий монарх, должен же показать, что способен устраивать зрелища не хуже и не менее пышные, чем его царственная тетка, одной ногой стоящая в гробу, но в своих предсмертных чудачествах все-таки отдававшая часть времени музыкальным увеселениям. Театральная и музыкальная жизнь, по мнению Петра Федоровича, должна переместиться в Ораниенбаум. Двору следует понять наконец, что он, наследник, не просто сухопарый вояка, кутежник и музыкальный дилетант, но настоящий предводитель культурных увеселений, знающий толк в изящных искусствах. Императрица Елизавета Петровна, с ее подурневшим вкусом и неестественными увлечениями, сильно сдала в последние месяцы. Притчей во языцех стал припадок, случившийся с нею прошлой осенью в Царском Селе, когда она намеревалась по своему обыкновению отслушать Литургию. Но при самом начале службы ей вдруг стало дурно. Незаметно выйдя на улицу, Елизавета прошла несколько шагов и упала, неловко ударившись головой о камни. Поддержать ее оказалось некому, так как никого рядом не случилось, все были в храме. Испуг охватил придворных. Именно тогда и открылось, что императрица уже давно больна и эпилептические припадки такого рода случаются с нею ежемесячно, после чего она теряет способность говорить на два-три дня. Петр Федорович хотел удивить всех. На «мишуру и медную фальшь», на реквизит, декорации и «машинерию» ассигновывалось более двух с половиной тысяч рублей. Оркестр был составлен отборный, а кроме этого, в числе первых скрипок играл сам великий князь. Партию индийского царя Пора исполнял друг Дмитрия Максим Березовский. Так же, как и одну из главных ролей — «Иркана, князя Скифского, любовника Тамиры» — в другой опере — «Узнанная Семирамида», поставленной в Ораниенбауме на следующий, 1760 год. Обе роли достались Березовскому трагические. Погибает Пор в борьбе с Александром Македонским. Неудачи преследуют Иркана, которому не улыбнулась фортуна в любви. В обеих операх Березовский был единственным русским солистом. Петр Федорович крайне любил итальянских примадонн, они исполняли все мужские партии, ибо на кастратов, требовавших баснословных гонораров, денег у наследника пока не хватало. «Узнанную Семирамиду» написал не так давно прибывший из Италии маэстро Винченцо Манфредини. Арайя сразу же после «Александра в Индии» уехал из России, правда, как оказалось позднее, не насовсем. Манфредини «Семирамидой» открывал новую страницу в жизни окружения Петра Федоровича. Тот сделал итальянца руководителем всей своей музыки. Тогда еще трудно было предположить, что малоизвестный молодой композитор займет в ближайший год место первого придворного капельмейстера. Однако время брало свое. Болезнь Елизаветы Петровны прогрессировала. Музыкальная жизнь петербургского двора поутихла, всяческие увеселения почти прекратились. В июле 1761 года новый истерический приступ, сопровождавшийся продолжительными конвульсиями, дал понять всем окружавшим императрицу, что ее дни сочтены. 25 декабря того же года, в возрасте 53 лет Елизавета скончалась. «Наконец-то у нас император!» — воскликнул некто из придворных, узнав эту весть. Петр Федорович по восшествии на престол, получив титул императора Петра III, объявил траур на целый год. По сему случаю при дворе не должна была исполняться никакая развлекательная музыка. Оперы прекратились. На духовное пение, однако, распоряжение не распространялось. А следовательно, жизнь придворного хора продолжалась своим чередом. Так же, как и прежде, Дмитрию приходилось участвовать в размеренном распорядке еженедельных служб, петь всевозможные хоровые и сольные партии. Винченцо Манфредини произвели в первые придворные капельмейстеры, и Петр III сделал ему ответственнейший заказ — сочинить реквием по покойной императрице. Манфредини приступил к выполнению заказа со рвением. Контакты его с придворным хором к тому времени не наладились, да и сам император особого расположения к хору не имел. Притом реквием итальянский маэстро сочинил по западному образцу — для четырех солистов в сопровождении оркестра. Полный состав инструменталистов придворного хора репетировал его сочинение в течение месяца. Не исключено, что в этом оркестре играл и Бортнянский. Исполнение реквиема происходило в петербургской церкви францисканцев в феврале 1762 года. Сооружен был траурный помост, и театральный художник Градицци вместе с театральным машинистом Бригонци преуспели в траурном оформлении помещения. Реквием пели итальянцы. Бас, правда, был немец. По мнению современника, «музыка... была такой сильной и привлекательной, что если бы она продолжалась и четыре часа, то слушатели и тогда бы не нашли ее скучной. Император сам слушал внимательно от начала и до конца...» Исполнение сочинения Манфредини — единственное музыкальное событие полугодичного правления императора-«музыканта», не считая, правда, еще одного, которое невольно станет одной из последних капель, переполнявших чашу терпения императрицы Екатерины Алексеевны и побудивших ее к решительным действиям. 3 июня 1762 года, когда возмущение порядками Петра III при дворе и в столице было всеобщим (чего он, правда, не замечал), по его указанию таки было устроено представление музыкальной драмы «La Pace degli Eroi»1. Эта героическая пастораль сочинена была поэтом Лацарони, а музыку к ней написал все тот же Манфредини. Исполнение драмы происходило по случаю празднества по заключении мира с прусским королем. Пышность праздника (а ведь траур не отменялся), полупьяный ликующий вид императора, раздававшего направо и налево либретто оперы, отпечатанное на итальянском и немецком языках, видимо, привели в ярость Екатерину и ее теперь уже многочисленных тайных сторонников, лелеющих план его свержения. Едва ли стоит здесь пересказывать события произошедшего спустя короткое время переворота. Стоит, однако, напомнить, что свергнутый монарх пишет победительнице-супруге умоляющие письма с просьбой отпустить его чуть ли не за границу, что он не будет мешать ей более в ее правлении, и даже подписывает их — «преданный Вам лакей». Просит в них прислать скрипку и любимую собачку. Дни его, однако, сочтены. И вот она, Екатерина, теперь уже Вторая, получает от Алексея Орлова записочку — «как бы сего дня или ночью не умер», — в которой явно намекается на предстоящее событие. Наконец 22 июня 1762 года император Петр III кончает свои дни в захудалом Ропшинском дворце, куда был заточен, а затем убит приближенными новой императрицы. За полгода своего правления Петр III успел, правда, издать один указ, который вошел в русскую историю как важнейшая веха. 18 февраля 1762 года Петр III подписал «Манифест о вольности дворянства» — документ, закрепивший и расширивший значение дворянства в России и имевший немаловажное значение в области искусств. Ведь в нем предопределено было то, благодаря чему в самом ближайшем будущем сложится счастливо судьба Дмитрия Бортнянского. По новому указу определялось — «обучать благородное юношество не только разным свободным наукам, но и многим полезным художествам, посылая оных в Европейские государства и для того ж самого учреждая и внутрь России разные училища, дабы с наивящщею поспешностью достигнуть желаемого плода». Документ констатировал успехи в развитии российских художеств и оценивал, «сколь есть велики преимущества просвещенных держав в благоденствии рода человеческого против бесчисленных народов, погруженных в глубину невежеств». Развитие художеств в России уже достигло громадных результатов, и, как констатировал манифест, «что ж из всего того произошло, мы с удовольствием нашим видим, и всяк истинный сын отечества своего признать должен, что последовали от того неисчетные пользы...» И еще два важнейших положения документа сыграют свою роль в жизни Бортнянского. А именно: «Кто ж пожелает отъехать в другие Европейские государства, таким давать нашей Иностранной коллегии надлежащие паспорты безпрепятственно с таковым обязательством, что, куда нужда востребует, то б находящиеся дворяне вне государства нашего явились в своем отечестве...» А также о детях, которым исполнилось 12 лет: «...У кого оные в смотрении, брать известии, чему они до двенадцатилетнего возраста обучены и где далее науки продолжать желают, внутри ли Нашего государства в учрежденных на иждивении Нашем разных училищах, или в прочих Европейских державах, или в домах своих чрез искусных и знающих учителей». Но Бортнянскому пока еще 11 лет. И хотя он при дворе, хотя, видимо, участвует в составе придворного хора в службе по отпеванию покойного императора, для которого, естественно, никто не заказывал громогласного реквиема, хотя все складывается у него благополучно, он может и не мечтать о том, о чем говорится в царском «Манифесте». Впрочем, наверное, мечтать все-таки может... С восшествием на престол Екатерины II началась новая эпоха и в истории государства Российского в целом, и в области культуры, искусств в частности. «Не можно сказать, — писал современник, — чтобы она не была качествами достойна править толь великой империей... Одарена довольной красотой, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системе, славолюбива, трудолюбива по славолюбию, бережлива, предприятельна, некое чтение имеющая... Напротив же того, ее пороки суть: любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает». Другой современник отмечал: «Царствование Екатерины II изобилует изящными художествами и в их числе музыкой... В течение первых двух лет эта императрица, казалось, больше заботилась о неотложнейшем государственном устройстве и меньше о музыке. Лишь после того, как был выработан распорядок для церкви и государства, армии и флота, торговли и промышленности, а также новые регламенты и инструкции для каждого департамента империи, обратила она свой проницательный взор и на изящные искусства, расцвет которых обыкновенно является следствием и несомненным признаком благосостояния государства. Музыка, занимающая среди искусств определенное место, также не была забыта императрицей и засверкала при дворе новым невиданным блеском...» И действительно, первое полугодие воцарения Екатерины II совпало со вторым полугодием траура, объявленного в память о Елизавете Петровне. Траур по кончине императора Петра III не объявлялся. Не звучала и музыка при дворе, вплоть до того осеннего дня, когда были назначены коронационные торжества. Проходили они в Москве, в Кремле. В Грановитой палате после завершения всех служб были накрыты столы для торжественного обеда. Здесь же расположился и придворный хор, для которого были специально построены обшитые золотом и бархатом тумбы. Ликующе звучали то громогласные раскаты, то тихий шелест голосов искусных певчих. А 24 ноября 1762 года сначала в Москве, а затем в Петербурге несколько раз исполнялась сочиненная по столь торжественному случаю опера Манфредини «Олимпиада». Как отмечали те, кому довелось попасть на праздничные представления, театральные помещения ломились от слушателей, а на площади около императорского оперного театра скапливалось до трех тысяч повозок. С таким музыкальным триумфом началось правление Екатерины II. Бортнянский продолжал занимать заметное место в хоре. Год от года росло его мастерство. Все чаще и чаще доверяли петь ему, помимо службы, в операх, среди сборного хора. Достигнув возраста, оговоренного в «Манифесте о вольности дворянства», — 12 лет, он уже стал признанным солистом. А через год предстояло ему испытать славу первого актера. «Альцеста» Сумарокова ставилась постоянно. Популярность оперы не уменьшалась. Кроме того, при дворе все уже привыкли, что каждая возобновленная постановка музыкального спектакля — это встреча с новыми именами юных солистов. Для одной из постановок «Альцесты» в 1764 году на императорской сцене отпечатали либретто. В списке действующих лиц и исполнителей против главной партии — царя Адмета — стояла фамилия Бортнянский. Сюжет из античной мифологии — обычное дело для опер XVIII века. Сумароков в «Альцесте» использовал некоторые фрагменты из легенд о Геракле. Дмитрий, исполнявший роль Адмета, еще не мог тогда предположить, что когда-то и ему придется писать оперу на античный сюжет о подвиге Геракла, да еще к тому же почти с теми же героями. По сюжету царь Адмет должен умереть. Любящая его супруга — Альцеста — готова сама погибнуть ради мужа, чтобы спасти его от адовых мук. Боги щастье вознесите, В коем ныне я живу, И Адмета вы спасите, Вас я к помощи зову, — поет она свою арию, а затем ее подхватывает хор: Ваши казни строги; Отвратите, боги, Прелютейший час Бедствия от нас! Альцеста добивается своего. Но ужас охватывает Адмета, когда узнает он о таком самопожертвовании жены. Дуэт Альцесты и Адмета — эмоциональная и трагическая сердцевина сумароковской оперы. Именно это место особенно нравилось петербургским слушателям. Альцеста Ну, любезный, оставайся И меня не позабудь. Адмет Слез ток горких проливайся, И в очах до смерти будь. Оба О горесть, о мука! О злая разлука! Колико вы люты. Плачевного времени страшны минуты! Альцеста С отрадой теперь иду я ко гробу. Адмет Нежалостный рок терзает утробу. Оба Исполняется беда, Несказанно огорчаюсь; Я с тобою разлучаюсь, Расстаюся навсегда, Не увижусь никогда. Адмет поет в опере три замечательные арии. Тринадцатилетний Дмитрий Бортнянский исполнял их в теноровом диапазоне. Так указывалось в печатном либретто. Оставшись на сцене один, полон слезной тоски по утраченной любимой, Адмет — Бортнянский исполнял запомнившуюся многим арию-речитатив: Не пойте песен те, Которые сердца стенящим неприятны. Лишенному утех, Едины горести и жалости мне внятны. Нещастливый Адмет! Ни малой у тебя веселости уж нет. Только лишь отрады Я в тоске ищу: Помня милы взгляды, Плачу и грущу. Злой подвержен доле, Мучуся, стеня, Нет на свете боле Щастья для меня... Наконец по сюжету в опере появлялся Геракл и спасал Альцесту, «вырывая» ее из недр подземелья, из адовых оков. Все заканчивалось благополучно. По тому, как часто ставилась «Альцеста» — а ставилась она многократно в течение не только 1764-го, но предыдущих и последующих годов, — легко догадаться, насколько она была популярна у российских любителей музыки. Как играл Дмитрий роль Адмета? Если полистать современный ему учебник по сценическому мастерству — труд французского постановщика Ф. Ланги «Рассуждение о сценической игре», который использовался тогда довольно основательно, то можно и представить себе характер исполнения Бортнянского. «В сильном горе или в печали, — писал Ланги, — можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в грудь или в грудную перевязь, хотя бы публика их и не разбирала, — сила горя будет понятна по самому лепету, который красноречивее самих слов». Или: «При удивлении следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю... При выражении отвращения надо, повернув лицо в левую сторону, протянуть руки, слегка подняв их, в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет...» Были ли еще спектакли? Да сколько угодно. С 1764 года в музыкальной жизни России произошло еще одно знаменательное событие. Из Парижа прибыла ко двору труппа для исполнения французской комической оперы, заметно отличавшейся по стилю от итальянской. Правда, на первых порах прибывшие парижане спешили удовлетворить двойственные вкусы. Ведь привычной и наиболее посещаемой оперой слыла итальянская. А наиболее употребительным разговорным языком из иностранных при дворе был французский. Новая труппа учла и первое и второе. Она играла оперы на итальянский манер, но на французском языке. Нечто подобное тут же было поручено певчим придворного хора, который по высочайшему повелению с 1764 года стал именоваться Придворной певческой капеллой. Так, в апреле 1765 года «в парадной комнате... представлена была малолетними придворными певчими опера на французском диалекте». Жизнь Дмитрия в те годы была крайне насыщенной и напряженной. Наиболее одаренные солисты, да к тому же и обладающие актерским мастерством, да притом еще и свои, отечественные, были нарасхват. Заметки в газетах, Камер-фурьерском журнале, в мемуарах, записках иностранцев-современников так и пестрят рассказами о самых разнообразных постановках музыкальных спектаклей на российской придворной сцене. Однако признанного лидера из числа именитых музыкантов (а таким мог в ту пору быть только кто-либо из итальянцев) при дворе в те годы не было. Сочинения Манфредини не вызывали восторженного отклика у просвещенной публики. Как он ни старался поразить слушателей, как ни пытался упрочить свое положение, ему не удалось предотвратить то, что было предопределено заранее. Ведь еще 31 марта 1763 года, когда после завершения траура по Елизавете новая императрица задумала превзойти свою предшественницу, она подписала указ «О выписании в службу ко двору из Венеции славного капельмейстера Галуппи Буронельли и других принадлежащих театральных служителей и на выписывании оных о переводе денег». Екатерина хотела заполучить ко двору не просто именитого композитора, а музыканта-«звезду», одного из лучших европейских капельмейстеров. Сделав этот шаг, Екатерина невольно повлияла на судьбу малолетнего певчего Дмитрия Бортнянского, самозабвенно распевавшего тогда арии на оперных подмостках Петербурга. Вызвать Галуппи из Венеции не стоило особого труда, хотя он и размышлял о поездке почти два года. Жалованье, объявленное итальянскому композитору, привело его в восторг, и он тотчас согласился. Даже завидное место капельмейстера cобора cвятого Марка — главного в Венеции, того самого, где до него беспредельно главенствовал его учитель и наставник Антонио Лотти, — даже это нелегко полученное место не прельстило оперного мастера так, как должность капельмейстера при российском дворе, обещавшая и славу, и почет, и состояние. Галуппи, которому вот-вот должно было исполниться 60 лет, имел солидный аттестат, и характеризовать его как композитора не было необходимости. Несколько блестящих комических опер, таких, как «Аркадия», «Лунный мир», «Деревенский философ», «Дьяволица», прославили его имя по всей Европе. Репутация маэстро понаслышке вызывала признание российской публики, уже вкусившей мед гармонии итальянской музыки. И не только признание, но и почет. Приехав в Санкт-Петербург, Бальдассаре Галуппи нашел, что российские музыканты вполне преуспели во всех музыкальных жанрах. Однако, имея опыт в написании духовных произведений для католических соборов Венеции, он решил, что и петербургскому уху не будет чересчур неприятно услышать песнопения православные, написанные на итальянский манер. Изложив свои соображения перед дирекцией театральной конторы, а затем перед самой императрицей, он вдруг получил особое распоряжение заняться осуществлением задуманного, впрочем, не забывая одновременно и об опере, и о непосредственных обязанностях преподавателя Придворной певческой капеллы. Для поощрения грядущих заслуг итальянскому маэстро назначили жалованье в тысячу рублей в год — фантастическое по тем временам для капельмейстера, хотя и названного «первым». Одновременно ему были выделены «экипаж государев, покуда контракт его не кончится» и дом для проживания за счет казны. И экипаж, и самого Галуппи на улицах Петербурга узнавали все. Его приезд отметили в «Санкт-Петербургских ведомостях». А уже 27 сентября 1765 года Камер-фурьерский журнал сообщил о том, что «ввечеру... играла итальянская инструментальная и вокальная музыка, причем приехавший сюда музыки сочинитель Галупий удостоен был Е.В. высочайшей апробации, который в музыке играл на клавицыне». В один из первых же дней по приезде в российскую столицу Галуппи был приглашен на выступление Придворной певческой капеллы. Пение капеллы настолько потрясло его, что он произнес слова, ставшие потом известными, те самые, что Якоб фон Штелин затем занес в свою летопись музыкальной жизни России: «Un si magnifico coro mai non io sentito in Italia» («Такого великолепного хора я никогда не слышал в Италии»). В тот самый день Галуппи приметил нескольких, на его взгляд, наиболее одаренных солистов. Одним из них оказался Дмитрий Бортнянский. — Мок бы я поговорить с этот виртуоз? — спросил маэстро, с трудом еще говоря по-русски, у Полторацкого и, получив утвердительный ответ, после выступления взял за руку солиста и отвел его в сторону. — Мне нужен много хороший ученик. Я хотель бы взять вас. Приходить? — Могу ли я сметь, маэстро? — Си, мио кариссимо синьоре, сметь, можешь сметь. Галуппи спешил набирать учеников. Ему нужны были достойные исполнители, способные, по его мнению, участвовать в его нелегких для воплощения на сцене операх и хорах. Вскоре он узнал, что его новый подопечный уже снискал себе славу на оперной ниве. Присматриваясь же все больше к талантливому подростку, он примечал и некоторые другие особенности. Дмитрий необычайно быстро схватывал все то, что он говорил. Ему не стоило никакого труда повторить тут же, на память любые замысловатые пассажи, отдельные арии или же мотивы, наигранные композитором. Что же касается музыкальной науки, то и здесь не ощущалось особенных препятствий, чувствовалась основательная подготовка и — что особенно важно — горячее желание познавать все новое, неизведанное. Одним из первых испытаний в музыке прославленного итальянца для капеллы в целом и для Бортнянского в частности стал концерт, состоявшийся в ноябре того же года, концерт, снова удостоившийся одобрения свыше. Репутация маэстро все более упрочивалась. Галуппи блистал при дворе еще и как клавесинист. Игрой на этом инструменте он славился многие годы и в Италии. Теперь же, готовясь к концертам, он стал приучать к особенностям своей манеры игры и Дмитрия. А когда случались публичные выступления, непременно брал юношу с собой. Таковые концерты проводились им с особою регулярностью. Каждую среду, в послеобеденное время, императрица, по свидетельству современников, в душе глубоко равнодушная к музыке, но склонная показать себя покровительницей искусств, благоволила слушать маэстро в собственных апартаментах. Случавшиеся при этом гости отмечали особенную, ни с чем не сравнимую технику игры Галуппи, его педантичность и точность, ревностную аккуратность в исполнении композиций. Постепенно Бальдассаре покорил придворную публику. Императрица же отметила его старания роскошным подарком перед предстоящей, еще ни разу не испытанной итальянским мастером русской зимой. Посланные ему шитый золотом бархатный кафтан на собольем меху, соболью шапку и муфту из того же меха пораженный такой щедростью Галуппи первое время даже не решался надевать, ибо стоимость подобного подарка для привыкшего к южному климату приезжего была необычной. Тогда же Екатерина предложила Галуппи ко дню своего тезоименитства зимой 1766 года поставить оперу. Маэстро поспешил подготовить ее, взяв за основу либретто Пьетро Метастазио — «Дидона». К работе над постановкой он решил подключить лучшие силы придворной музыки. И, конечно же, первейших учеников, а среди них и юного Бортнянского. Уже тогда, наблюдая за деятельностью солиста, Галуппи определил и еще одну замечательную его способность. — Деметрио, — сказал он однажды своему подопечному. — Вам скоро предстоит пройти такой возраст, когда петь будет нельзя. Голос начнет ломаться. Я желаю вам славы и успеха, потому что у вас большой талант. И теперь вам нужно всецело отдаться композиция. Вы меня понимать? — добавил он по-русски. — Си, маэстро, — ответил по-итальянски Бортнянский. — Вы желаете продолжить наши занятия по контрапункту и композиции? — Надо быть очень серьезным. Я буду просить императрицу оказать вам особое расположение. Небольшого роста, худой, словно изможденный длительной лихорадкой, Галуппи нервно ходил по комнате взад-вперед. Чувствительный к славе, окружившей его в новом отечестве, он старательно выговаривал трудные русские слова: — Вы должен знать о себе, что вы будете иметь слава. Вы должен знать, что и в Италия, в мой божественный Италия, мало сыскать такой природный дар. Мы теперь займемся только композиция. В опера, который я намерен ставить в Россия, вы не будете петь. Вы не примадонна, Деметрио, вы настоящий композитор. Поверьте мне, я много видеть и слышать в эта жизнь. — А как же служба, капелла?.. — Потом бывать и служба, и капелла. Но сначала клавесин и ноты, ноты, ноты... Квартира самого Галуппи была завалена нотными листами. Он спешил, расписывая партитуры для оркестра к предстоящей премьере «Дидоны». Помогали переписчики из капеллы. День и ночь трудился бок о бок с ним Дмитрий, постигая вновь и вновь нелегкую науку оркестровки. Он воочию наблюдал, как либретто именитого драматурга и либреттиста Метастазио превращается под рукой мастера в оперное произведение. Еще мальчиком, только попав в Петербург,Дмитрий слышал «Дидону» на музыку Франческо Цопписа, а потому уже знал точное содержание либретто. На тексты Метастазио придется в будущем писать оперы и ему. Но пока — учение и труд, труд кропотливый, ежедневный. Репетиции оркестра, собранного из учеников капеллы, Шляхетского корпуса и приезжих итальянцев, начались уже в январе. Галуппи мечтал поразить императрицу, ведь опера была его главным экзаменом. Он нервничал. Ему казалось, что никто не может сыграть так, как ему хотелось. Репетиции повторялись почти через день. Время поджимало. Галуппи кричал на музыкантов и ругался на венецианском наречии всякий раз, лишь только хоть кто-нибудь брал неверную ноту. В конце концов, измучив музыкантов, он добился беспрекословного подчинения и точнейшего исполнения всех пассажей. Однако спектакль все-таки был сорван. Но не по вине измученного бессонницей маэстро. Для придворной постановки были заказаны многочисленные костюмы и дорогие декорации. Ко дню именин Екатерины их так и не успели приготовить. — Передайте Галупию, чтобы он не нервничал и не загонял моих музыкантов, как лошадей на скачках, — отметила Екатерина накануне торжества. — Времени достаточно. Оперу его дадим в ближайший карнавал. В масленую неделю 1766 года, выпавшую на конец февраля и начало марта, на императорской сцене состоялась премьера «Покинутой Дидоны». Спектакль ставили дважды подряд. Оркестр, в котором, видимо, участвовал и Дмитрий Бортнянский, не подвел. Сюжет из Вергилиевой поэмы разыгрывали одни итальянские актеры. Дидону, основательницу Карфагена, пела синьора Колонна, Энея, основателя Рима, — кастрат Люини, других действующих лиц — певцы Путтини и Сандало, которого Галуппи привез с собою из Венеции, и актриса Шлаковская, немка по происхождению. Винченцо Манфредини, все еще не терявший надежд, что сумеет поправить свое пошатнувшееся после приезда Галуппи положение при дворе, сочинил превосходную музыку для балетов. Галуппи выдержал свой первый оперный экзамен с честью. Обе премьеры были встречены с восторгом. Отличились все — и актеры и музыканты. Императрица, о которой позже княгиня Дашкова писала в записках — «я пламенно любила музыку, а Екатерина — напротив», — щедро вознаградила участников спектакля. Галуппи был вызван во дворец через несколько дней после второй постановки, и встретивший его секретарь обратился к нему с вопросом, несколько его озадачившим: — Знаете ли вы, маэстро, о завещании Дидоны? — Какое завещанье иметь в виду синьор? — То самое, где для вас имеется небольшой подарок. С этими словами секретарь преподнес изумленному композитору усыпанную алмазами табакерку из чистого золота. По приезде домой Галуппи вскрыл «завещание Дидоны» и обнаружил в нем еще и тысячу золотых рублей. Прибыла во дворец по приглашению и синьора Колонна. Во врученном ей ларце она отыскала бриллиантовое кольцо стоимостью также в тысячу рублей и записку, в которой почерком Екатерины было начертано: «Это кольцо было найдено на пожарище Карфагена у бывшего жилища Энея. Предполагают, что оно предназначалось им для его возлюбленной Дидоны, ей оно и пересылается». Оценка деятельности итальянских мастеров говорит сама за себя. Подобного рода подарки имели еще и некоторый «политический» резонанс. Европа должна была понять, что и в России умеют ценить итальянскую оперу. Для российских музыкантов таких подарков еще не готовилось. И все же до появления первых имен в отечественном композиторском ряду, способных поразить просвещенную Европу не только знанием наиболее передовых течений в музыке, но и собственным музыкальным миром, несущим в себе ошеломляющий духовный заряд, оставалось уже совсем-совсем немного. Галуппи понимал это. К его чести можно отметить, что, оказывая достаточно сильное влияние на строй русской музыки, влияние, намного превосходившее его итальянских предшественников и будущих последователей, он одновременно способствовал сплочению вокруг себя даровитых композиторских сил. Место Галуппи в истории русской музыки определило то, что, кроме сочинения музыки развлекательной, оперной и инструментальной, он решил в чем-то реформировать духовное хоровое пение в столичных хорах. С трудом владея немногими словами русского языка (а что было говорить о древнерусском!), он, однако же, берется за сочинение хоровых концертов, думая включить их в постоянный исполнительский обиход Придворной певческой капеллы. Правда, особо погружаться в сущность древнерусских песнопений маэстро и не собирался. Будучи первоклассным специалистом в католических концертах, он просто поспешил переложить некоторые тексты на европейский гармонический лад. Сие оказалось отнюдь не скверно и для слуха российского, но воспринималось все же как концертное представление. Певчие капеллы, однако, хоть и исполнявшие арии на итальянском языке, но привыкшие и знавшие совсем иную традицию в хорах, с превеликим трудом, точнее сказать — с недоумением исполняли такие его сочинения, как концерты «Суди, Господи, обидящие мя», «Услыши тя Господь» или «Готово сердце», а также отдельные песнопения вроде «Плотию уснув», «Благообразный Иосиф» или «Единородный Сыне». Как ни старался прославленный музыкант, не приживались прочно его хоры на российской почве. И, видимо, понимая это сам, мудрый Галуппи способствует иному решению своей «просветительской» задачи. Он растит и помогает как педагог юным российским талантам, выделив особо из них Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского. Дмитрий под его руководством участвует в постоянных выступлениях капеллы. Он знает, что контракт Галуппи подписал на три года, а значит, уже скоро тот отправится назад в Венецию, и тогда придется работать самостоятельно. Но за оставшиеся два года следует успеть взять у учителя все необходимое, все самое главное. Ведь в этом залог его, Бортнянского, возможного будущего успеха, потому что школа Галуппи для настоящего композитора — это подарок судьбы, и какое же счастливое совпадение, что маэстро именно теперь покинул свою родину и на склоне своих лет оказался здесь, в Петербурге, в Придворной певческой капелле. Во многом Дмитрий брал пример со своего старшего товарища — Максима Березовского. Тот уже успел к этому времени создать несколько величественных хоровых сочинений. Услышав их, Галуппи первоначально не мог поверить, что они созданы юношей, который никогда не учился в именитых консерваториях и академиях, а который набрался знаний и достиг поистине совершенства, не выезжая из Петербурга. Повсеместные исполнения сочинений молодых российских музыкантов из капеллы еще не были приняты. Вот тут-то, видимо, и оказал содействие юным дарованиям Бальдассаре Галуппи. Скорее всего именно по его рекомендации и произошло событие, зафиксированное в Камер-фурьерском журнале и ставшее первым в бесконечной затем цепочке исполнительской славы подрастающего поколения российских Орфеев. Означенное событие произошло в обычный день, 22 августа 1766 года, когда двор находился в Царском Селе, в недавно завершенном новом Екатерининском дворце. Свидетелями его стали императрица, ближайшие к ней придворные сановники и друзья, которые расположились в печально знаменитой в далеком будущем Янтарной комнате дворца. Описание происшедшего занимает в Камер-фурьерском журнале две строчки. Вот они: «Для пробы придворными певчими пет был концерт, сочиненный музыкантом Березовским». Две строчки в придворном журнале. Но сколько же стоит за ними! Скорее всего то был знаменитый концерт «Не отвержи мене во время старости», как известно, уже тогда сочиненный Максимом Березовским и навсегда ставший вершиной его творческого гения. По всей видимости, принимал участие в его исполнении, находясь среди «придворных певчих», Дмитрий Бортнянский. По-видимому, именно эта «проба» решит дальнейшую судьбу Березовского, о которой речь позже. Итак, «Не отвержи мене во время старости»... Зрелое, выдающееся творение российского гения, квинтэссенция срединного русского хорового музыкального XVIII века, произведение, столетиями поражавшее всех, кто хотя бы раз слышал его. Хоровой концерт, в котором говорится об одиночестве как о непосильном, неизъяснимом бремени, о старости как о времени угасания творческих возможностей, прекращения бурной, насыщенной противоречиями и борениями жизни, как о беспредельной муке, словно бы о прижизненной смерти... И написано это юношей, вряд ли еще по-настоящему осознающим столь отдаленное от его возраста душевное состояние! Загадка... И была, и есть загадка гения друга Бортнянского. Ведь есть же иное — слава, успех, нашумевшая женитьба, покровительство высочайших особ, а тут... скорбь, предельный трагизм, боль, плач... Смутная разгадка видится в оценке уникального таланта российского композитора. И разгадка эта тем более становится реальностью, чем более внимательно, пристально мы всматриваемся в факты его придворной службы. Вспомним, что имя Березовского несколько отошло на задний план после кончины Елизаветы, а затем и Петра III. В свои 14—15 лет он был тогда ведущим солистом лучших итальянских опер. В это же время он беспрестанно пишет музыку, но мы не знаем, исполнялась ли она. Тот факт, что его концерт был пет в августе 1766 года, не говорит ничего о времени его создания. Быть может, он, пролежав несколько лет в стопке нотных листов, тогда был именно лишь исполнен. А написан много ранее!.. В те самые юные дни, годы признания, в последние годы умирающей Елизаветы, так страшно боявшейся своей старости и неизбежной кончины... «Не отвержи мене во время старости»... Разве не подсказана или даже не заказана идея и тема произведения тем, или, вернее, той, что с такой силой переживала это состояние?! Разве может быть случайным столь важный смысл многочастного, грандиозного концерта, написанного специально для исполнения самим придворным хором?! Разве торжественность и мощь песнопения не предопределена важностью и значительностью аудитории, которая должна была его слушать?! Петр III вовсе, а Екатерина до поры до времени, во всяком случае, не думали о старости. Скорее напротив. Елизавета же мучилась ею... Текст же концерта еще более напоминает о страхах Елизаветы перед возможной изменой. «Не отвержи мене во время старости, внегда оскудевати крепости моей, не остави мене» — так начинается песнопение. А далее: «яко реша врази мои мне и стерегущие душу мою совещаша вкупе...» Как красноречиво выражена боязнь злодейского сговора! Так же, как и красноречив конец концерта: «Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою...» Семнадцатилетний Максим Березовский достаточно созрел, чтобы написать такую музыку. Удивительного ничего в этом не было. Двенадцатилетний Моцарт в ту пору уже писал симфонии. Последующие же факты жизни глуховского певчего лишь только подтверждают возможную догадку... Галуппи не остановился на «Дидоне». В конце лета 1766 года он закончил еще одну оперу — «Король-пастух». Поставили ее в сентябре, но она не вызвала столь бурного восторга, как предыдущая. Запомнился лишь балет, который давал в конце оперного спектакля только что прибывший из Италии новый балетмейстер Анджолини. Музыку взяли все из той же «Дидоны», а потому и балет назвали «Отъезд Энеев, или Оставленная Дидона», использовав прежнюю декорацию полугодичной давности, изображавшую Карфаген, объятый пожаром. Музыкальные и театральные постановки последних месяцев обратили внимание театральной дирекции и всех тех, кто занимался с актерами и исполнителями, на то, что до сих пор не существовало единого точного регламента для театральной жизни. Российский же театр, и в первую очередь музыкальный, делалзначительные успехи, и сама жизнь требовала четкой и недвусмысленной регламентации складывавшихся традиций и взаимоотношений. Да и деятельность Галуппи показывала, насколько непросто ему было осуществлять свои постановки. Ведь актеров хороших было немало. Русские и итальянские солисты имели достаточную известность. Только работать порой приходилось с ними напряженно. Особенно беспардонно вели себя иные итальянцы. Порою даже некоторые ценители музыки высказывали тревожные опасения о состоянии и перспективах музыкального театра. «Наша опера в плохом состоянии, — писала А. К. Воронцова своей дочери за границу. — Танцовщики сбесились и не хотят танцевать... А наконец, я думаю, что и вовсе опера наша исчезнет...» Все это привело к тому, что после «Короля-пастуха» сама императрица указала готовить специальное театральное распоряжение. И уже 13 октября 1766 года она подписала «Узаконения Комитета для принадлежащих к Придворному Театру», вошедшие в историю наравне с важнейшими екатерининскими указами. Узаконения ограничивали оперных постановщиков и исполнителей определенными рамками. Так, указывалось, что «дается три недели для изучения большой роли и десять дней малой комедии...» Недоразумения во взаимоотношениях актеров-солистов решались особой, девятой статьей документа: «Есть ли кто дерзнет обижать другаго ругательными словами или употребить другия наглости во время пробы или представления, то дирекция будет иметь право не токмо наложить на виноватого штраф, но, смотря по обстоятельствам, дать ему отпуск...» Более точно определялись обязанности музыкантов: «Что касается придворных музыкантов и танцовщиков, то они равным же обстоятельствам как и актеры подвергаются... при больших и малых операх и балетах. Сверх того обязаны первые рачительно изправлять должность свою при комнатной и столовой музыке, и исполнять в точности все то, что им по повелению дирекции объявлено будет...» Новые положения повышали ответственность и приезжих и отечественных музыкантов за выполнение своих обязанностей. Спеша вновь выказать свои работоспособность и мастерство, Галуппи уже тогда, окруженный учениками, начал работать еще над одной оперой — «Ифигения в Тавриде». Но поставить ее скоро не удалось, ибо придворная музыкальная жизнь в Петербурге была прервана отъездом Екатерины в путешествие по российским городам. С молодой императрицей выехали многие придворные и часть императорской музыки. Были ли среди певчих в этой поездке Бортнянский и Березовский? Как знать... Ведь в период путешествия, как, впрочем, и год спустя, то есть с мая 1767 года, почти не говорится о концертах певческой капеллы в столице, и уж вовсе не сыскать упоминаний о глуховских музыкантах. Все же можно предположить, что Бортнянский остался в Петербурге, рядом с Галуппи. Ибо с этого момента их дружба становится еще более тесной. Старик привязался к малороссийскому юноше и окружил его отеческой заботой. Что же касается Екатерины, то она вернется в столицу лишь зимой будущего года. А пока, по словам современника, «берега Волги от Твери до Казани зазвучали навстречу императрице отборными хорами... и ликующим пением восторженных городов, местечек, сел и деревень». «Осенью же и зимой, — продолжал мемуарист, — жители Москвы вкушали с величайшим наслаждением императорскую придворную и театральную музыку...» Когда, устав от трудных переездов, Екатерина въехала в Петербург и жизнь, казалось бы, приобрела обычный ритм, Галуппи осмелился предложить свое сочинение на высокий суд, получил одобрение, и уже в апреле состоялась премьера, встреченная с восторгом, значительно большим, нежели даже «Дидона», мотивы которой все еще напевали по памяти столичные любители музыки. Екатерина после поездки по России несколько иначе стала смотреть и на театральный репертуар, и на судьбы тех или иных музыкантов. Ей довелось воочию увидеть и собственными ушами услышать во многих городах пение приветственных кантов, народные песни и пляски. Как бы там ни было, но, приметив даже мельком народные таланты, можно ли после того усомниться в громадных способностях отечественных самородков! Не исключено, что именно эта поездка заставила Екатерину более внимательно отнестись к воспитанию отечественной музыкальной смены, ибо именно с этого времени мы замечаем, как дирекция императорских театров, возглавляемая Иваном Перфильевичем Елагиным, занимает несколько иную, чем прежде, более благоприятную позицию по отношению к музыкантам-россиянам. И что особенно важно — делается более щедрой. По крайней мере, так случилось с Дмитрием Бортнянским. Опять «случилось»... Впрочем, случай — порой — что это, как не следствие определенной закономерности, тем более если в ее основе лежат талант и труд. После «Ифигении в Тавриде» Галуппи почти сразу же попросил отставку. Ведь он все продолжал числиться соборным капельмейстером в Венеции. Да к тому же северный климат, возраст... Правда, до конца действия подписанного им контракта, то есть до лета 1768 года, оставалось еще несколько месяцев, и ему следовало все это время пробыть в Петербурге. Он потратил его на занятия со своими учениками. Относительно же Бортнянского Галуппи вдруг понял главное — то, что этого юношу нельзя бросить просто так, что следует объяснить необходимость продолжения его образования. — Деметрио, я скоро уеду из России. Поедешь со мной в Венецию? — все чаще повторял он одну и ту же фразу. На что получал один и тот же ответ: — Вы же знаете, маэстро, родители мои бедны, а жалованья моего не хватит доехать и до Варшавы. Куда уж мне жить в Италии? — Я возьму тебя с собой. Будешь жить у меня, познавать все законы музыки и станешь великим музыкантом. — В Италии и без меня много великих. Разве что буду там одним из многих. Думаю, что у себя на родине я смогу работать не хуже. — Теперь для настоящей работы нужна настоящая аттестация. А получить ее можно только в Италии. Здесь, в России, ныне требуется и диплом, и звание. Без них тебе трудно будет творить. Едем! — Я не волен решать сии дела. Для этого нужно высочайшее соизволение. — Будет высочайшее соизволение, мой мальчик, не сомневайся. И Галуппи предпринял все для того, чтобы осуществить свою благородную цель. Он объяснял свои замыслы в Дирекции придворных театров, он убеждал в этом Полторацкого, наконец, воспользовавшись случаем, не преминул на аудиенции у самой императрицы намекнуть о необходимости послать с ним юношу в Венецию. Екатерина, выслушав маэстро, попросила Елагина доложить о том, как и кого в последнее время посылали «пенсионерами» за границу. Иван Перфильевич ответил, что в Италию из музыкантов за прошедшие годы не отправляли никого. — Кого же вы думаете выделить особо, маэстро? — обратилась императрица к Галуппи. — Могу советовать послать двоих музыкантов: синьоров Бортнянского и Березовского. Из них первый пользуется моим особым покровительством, и, Ваше Величество, я хотел бы просить послать его вместе со мной. Императрица обернулась к Елагину: — А что, Иван Перфильевич, не стоит ли подумать о том, чтобы впредь нам своих природных русских готовить капельмейстеров? Директор на миг задумался: — Пожалуй, что Бортнянский, хотя и молод еще, но будет не хуже иных италианцев при дворе российском. — Не тот ли это Бортнянский, который пел в «Альцесте»? — Он самый, Ваше Величество. — А Березовский — это тот, что женился на дочери нашего придворного музыканта Франце Ибершер? — Тот самый, Ваше Величество. Вы еще, если помните, соблагоизволили пожаловать невесте для свадьбы платье со своего плеча и разрешить брак вашего подданного с католичкой. — Помню, помню. Так давай, Иван Перфильевич, уважим ходатайство дражайшего маэстро и изыщем средства для учения упомянутого отрока Бортнянского, а потом и музыканта Березовского. — Вы, Ваше Величество, не ошибаетесь, принимая столь милостивое решение, — вмешался Галуппи. — Считайте, что разрешение уже дано. Иван Перфильевич все подготовит. А о вознаграждении будем говорить после того, как посмотрим, что получится из наших «пенсионеров». Галуппи сообщил Дмитрию радостную новость, которая вскоре стала известна всей Придворной капелле. Марк Федорович Полторацкий, узнав о предстоящем отъезде Бортнянского, посетовал: — Оно, конечно, капелла не перестанет существовать без тебя, Дмитрий. Но жаль отпускать за тридевять земель своего орла. Гляди, вернешься — только к нам. Нельзя оставлять хор, для которого трудились столько лет. В июле 1768 года Бальдассаре Галуппи уже считался свободным от выполнения обязанностей первого придворного капельмейстера. В последних числах месяца он отправился в далекий путь до Венеции. Вместе с ним, собрав нехитрую дорожную поклажу, ехал и Дмитрий Бортнянский. Августа 2-го дня они проехали Ригу, о чем и сообщено было в рапорте, направленном в Коллегию внутренних дел. Далее путь лежал на юго-запад... Глава 3. Венецианец из России Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением... исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самыя смерти. Пушечный залп оглушительно прогремел над затаившим дыхание портом, отразился эхом от стен Кронштадтской крепости и растворился в громогласном, тысячеустом «ура!». То был сигнал к отплытию. Русская эскадра, играя на солнце наполненными легким ветром разноцветными парусами, двинулась в путь. Стреляли холостыми зарядами с флагмана — 84-пушечного «Святослава», на котором находился штаб флотилии под командованием адмирала Г. А. Спиридова. Жаркий, долгий с изнурительным торжественным приемом, парадом и бесконечными прощаниями июльский день 1769 года закончился, когда корабли были уже в открытом море. Построенные в две линии — одна за другой, они бесшумно разрезали волны навстречу заходящему солнцу. Так началась знаменитая средиземноморская кампания. В ночь на 9 августа у берегов острова Готланда разразился редкий в это время года, но всегда жестокий балтийский шторм. «Святослав», наскочивший бортом на прибрежные камни, получил большие повреждения и наутро должен был повернуть обратно. На военном совете, состоявшемся в каюте другого мощного корабля — «Три святителя», кто-то заговорил о нехорошем предзнаменовании... Впрочем, Спиридов такому не верил. Эскадре предстояло большое плавание, впереди было многое — и обеды в Копенгагене во дворце Фридрихсберг у датского короля Христиана VII и его супруги Матильды, и туманные берега Ла-Манша, и продолжительные стоянки в Гибралтаре. Поздней осенью того же года русские корабли достигли Средиземного моря и бросили якоря у берегов Италии... А здесь на Апеннинском полуострове уже поселился юный российский музыкант — восемнадцатилетний Бортнянский. Быстро сбежав по ступенькам мраморной лестницы к воде, спрыгнул в гондолу и тронул за плечо дремавшего в ней старика. Тот будто очнулся от сна, хотя глаза его были открыты. Длинным шестом оттолкнул гондолу от набережной, медленно, нарочито медленно стал разворачивать. Так же не спеша они поплыли вдоль узкого канала. Миновали мост, напоминающий ротонду — с крышей, стенами и большими окнами, сделали несколько сложных поворотов по замысловатым лабиринтам венецианских улочек и вдруг выплыли к огромной площади, увенчанной башнями, высокими колоннами со статуями наверху, двух-, трехъярусными виадуками. Мимо большого многоэтажного дворца с двумя рядами колоннад сновали взад-вперед многочисленные торговцы мелким товаром, разномастные дельцы, ступени лестниц облепили нищие в лохмотьях. Тут же рядом важно прохаживались кавалеры в красных до колен узких штанах — кюлотах, вышитых кафтанах — аби, напудренных коротких париках и замысловатых треуголках. Стараясь сохранить грациозность, вышагивали знатные дамы, едва переставляя ноги и устремив взгляд прямо перед собой, дабы не уронить высокую, до полуметра, взбитую прическу, обильно усыпанную матерчатыми цветами, бантами или перьями. «Всюду одежду женщины изобретает и направляет сладострастие, оно дает одежде рисунок и покрой, приспосабливает ее к любви, создавая ее покровами соблазн», — писали братья Гонкур в своем эссе «Женщина XVIII столетия». Чудовищные по количеству всевозможных элементов украшения верхней одежды, иногда чересчур открытые корсеты и лифы, начинающие входить в моду упрощенные платья типа «неглиже», навешанные на дамах со всех сторон бесчисленные по форме и цвету драгоценности, веера, носовые платки, табакерки, перчатки, коробочки для мушек, зонтики — весь этот забавный, до мелочей продуманный женский туалет проник не только во все страны, но и во все слои населения. «Вечером герцогиня и горничная выглядят одинаково одетыми», — замечал наблюдательный современник. Одна верховная Дама властвовала европейскими вкусами, по характеристике Вольтера, — «богиня непостоянная, беспокойная, странная в своих вкусах, безумная в своих украшениях, которая появляется, возвращается и рождается во все времена; Протей был ее отец, и ее имя Мода». Не так ли и итальянская музыка, переодетая в некий, блещущий своими аксессуарами ослепительный костюм, стала приверженкой этой, созданной самими людьми, богини и покоряла сердца неискушенных художников?.. Весь этот изыск был уже знаком Дмитрию — в Петербурге одевались точно так же, новые веяния с быстротой новой музыки вселялись в умы российского двора. Поражало лишь обилие венецианских красок, да еще особая мелодичность и стремительный темп итальянской речи... Вчера он побывал у здешнего российского консула, действительного статского советника и кавалера Маруция, к которому имел специальное рекомендательное письмо. — Наслышан о твоих талантах, — Маруций, страдавший одышкой, говорил не спеша, через вздох. — Я, знаешь ли, музыку итальянскую очень уважаю. В Венеции множество театров, каждый в сезон или в карнавал ставит новый спектакль, а то и оперу. Красиво, красиво. Пойдем как-нибудь вместе. А может быть, и на твою оперу полюбуемся?.. — Немыслимо это, — смутился Дмитрий, — не бывало еще, чтоб опера русского композитора ставилась в Венеции. — Что же, — Маруций улыбнулся, — ты да Березовский — два первых наших пенсионера. Взоры наши на вас стремятся... Ну да ладно, теперь о делах. Где живешь? — У Галуппи, он приглашал. — Что же, достойно. Он человек весьма уважаемый в городе, поможет во многом. А тебе надобно привыкнуть к жизни здешней да приблизиться к «золотой книге». — Что это? — Так тут называют знать местную, записанную в книгу родословную. Живут многие во дворцах роскошных да в загородных виллах. — Виллах? — Ну да... В особенных домах с садами, за городом, значит. И должно тебе со всеми соотечественниками жить в дружбе и согласии. В этом тебе помогу. Графы Орловы живут в Италии второй год. Сейчас флотилией нашей граф Алексей Григорьевич командование принял. Он тут для нас — и царь, и отец. На вот, прочти его для нас наставления, тебе весьма потребно будет. Здесь, «во время пребывания вашего... — читал Бортнянский, —нося на себе некоторым образом публичный характер, должны вы стараться вести себя таким образом, чтоб поведенье ваше всемерно согласовалось с честью и достоинством... и отнюдь бы никогда к предосуждению российской нации и к нарушению и уничтожению предпринятого в определении нашем намерения наималейшего случая подано не было... Впрочем, долг службы, в которую вы добровольно обязались, и собственной вашей честности требуют неотменно, чтоб вы... соединяя верность с усердием, и в поручаемых вам делах... производили оныя по предписаниям с точностью, рачением и по лучшему вашему разумению...» — Тебе я всегда помощник и советник, — говорил Маруций, — но знай, что предписано нам, консулам, не вмешиваться во здешние внутренние дела. В оных волен ты поступать как знаешь... Бортнянский поднялся по ступеням к широкому порталу входа в собор святого Марка, у которого беспрерывно сновали люди. Из открытых дверей доносились громкие аккорды. Играл орган, пел хор. Дмитрий спросил скромно, но со вкусом одетого юношу, прислонившегося к пилястре, не знает ли он, как отыскать синьора Галуппи. Тот ничего не ответил, но указал пальцем наверх, откуда доносились звуки органа. Бортнянский протиснулся среди стоящих у дверей и оказался в просторном помещении храма, на удивление пустом в сравнении с многолюдством близлежащей площади. Играли мессу Антонио Лотти, бывшего когда-то главным органистом собора. Ее исполняли здесь в особо праздничные дни. Храм казался большим театром. Прихожане — слушателями, готовыми аплодировать искусству виртуоза. Органную ритурнель сменяли арии, соло, менуэты, исполняемые под аккомпанемент литавр, труб, барабанов, гобоев, скрипок, флейт и свирелей. Казалось, прихожане готовы были выкрикнуть «браво!», «фора!», прервать музыканта и потребовать повтора, что, по правде говоря, и случалось иной раз на самом деле. Служба походила на красивый, хорошо организованный спектакль, каждая часть которого была оформлена в самом изысканном музыкальном стиле. За внешним шумом бесчисленных аккордов и гармонических созвучий стушевывалась едва заметная мелодия — мысль музыканта-автора, то, чем на самом деле была жива его душа в момент создания произведения. Замысловатость и витиеватость, подобная хаотическому нагромождению орнаментов в архитектурных стилях барокко и его наследника рококо, сковывала пластику звука, не давала пробиться на свет хрупкому ростку подлинного переживания и видения многомерного мира. Внешне эта музыка потрясала количеством сложных декоративных украшений, удивляла мастерством и знанием контрапункта, замысловатым и невозможным для постижения человеческим слухом сочетанием тембров, голосов и тем. Но было за этой количественностью и что-то едва уловимо поверхностное, ощущалось что-то безвозвратно утерянное — то, что должно лежать не в области музыкальной формы, а скорее в самой музыке, что можно исполнить подчас лишь естественным человеческим голосом, со свойственным ему взволнованным тембром, или же тихо проиграть на деревянной дудочке-флейте, истинно природном инструменте, заменявшем человеку в проникновенные минуты, когда язык не подчиняется разуму, внутреннюю духовную речь. Не было в ней того, о чем столь эмоционально писал еще Блаженный Августин, — «голоса сии проникали в уши мои, и входила истина в сердце мое и возбуждала чувство благоговения, и источались слезы, и хорошо мне было с ними». Но красота, та, которая присуща каждой вещи, каждой былинке, даже камню на дороге, эта красота, выписанная в мелодии с предельной виртуозностью настоящего мастера, безраздельно процветала в этой новой музыке, внешняя нарядность этой красоты, ее кажущаяся доступность привлекала к себе массы людей, ищущих хотя бы временного пристанища в мире душевных конфликтов и потрясений. Эта красота могла быть понята всеми. Классическая гармония, воплощенная в четкой системе «Хорошо темперированного клавира», который был так мастерски разработан Иоганном Себастьяном Бахом, стала как бы новым международным языком, заданной системой, с помощью которой можно было воздействовать на чувства и вкусы любого европейца, будь он французом, русским или кем-либо еще. Это была надмирная музыка, она взметнулась над европейской культурой могучим исполином, вобравшим в своем облике все высшие достижения музыкальной мысли и озирающим жизнь с такой высоты, с которой не всегда можно отличить едва заметные очертания реального, вещественного мира. Один лишь недостаток был в этом музыкальном механизме, способном стать поистине разрушающим для традиционных национальных музыкальных систем — для того, чтобы по-настоящему слышать музыку, должно было быть к ней серьезно подготовленным. Она не воздействовала, не проникала в сердце непосредственно, сразу, как это делает, например, нехитрый напев какого-нибудь пастушка. Ее смысл и форму нужно было осваивать, к ней нужно было приобщаться, а для этого требовались немалое время, силы и в известной степени — способности. Отныне музыкант — это была не просто и не только профессия, то была жизнь, отданная на служение музе Евтерпе, во власть гигантского клана, именовавшего себя подлинными знатоками и ценителями чрезвычайно усложненного искусства. Но даже затраченные силы и время, даже способности не могли бы способствовать успеху, а тем более славе, ежели сочинитель не был признан в специально названных для этого местах, в городах, кругах, обществах. Иметь учителя с именем, получить диплом и звание от какой-либо из итальянских академий или консерваторий — вот цель, которая стояла перед всяким юным путешественником, прибывшим сюда искать счастья... Мысли о предстоящем не давали покоя Дмитрию. И каждая ступенька длинной скрипучей лестницы, ведущей на балкон, где находился соборный органист, была как шаг навстречу неизведанному, но в тайне и в смущении ожидаемому миру. Галуппи ждал его. И вот он сам, встает, протягивает навстречу Дмитрию руки... «Есть такие люди, которые упражнение в музыке считают непристойным и опасным... Но чем они доказывают такое свое мнение? Трудностью музыки; почему и не должно бы ничему учиться, что только трудно,.. злоупотреблением музыки; почему надлежало бы бросить все науки,.. ветреным поведением музыкантов... Что должно думать о последнем доказательстве?.. Что оно крайне глупо... Между музыкантами много великих, разумных, искусных и честных людей, которые нередко употребляемы были к исполнению великих государственных дел; или которые по личным их качествам похваляются...» — так разъяснялось в книге «Краткое понятие о всех науках для употребления юношеству», изданной в 1774 году в Москве. Дмитрий Бортнянский претендовал на звание «совершенного музыканта», но знание теории и практики ему еще предстояло заиметь. Пошли один за другим долгие месяцы обучения. Бортнянский занимался контрапунктом, играл на клавесине и органе, регулярно посещал венецианские театры, не пропускал ни одной важнейшей премьеры. Любил захаживать он в Cобор Cвятого Марка, чтобы послушать оперных певцов, исполнявших там за несколько цехинов партии в мессах. В рождественский сочельник собор богато иллюминировался, по стенам зажигали сотни свечей. На мессе, внимая солистам, присутствовали венецианский дож, послы и папский нунций. Ученические опусы юного музыканта становятся все более профессиональными, самостоятельными. Галуппи (его современный композитор Чарлз Бёрни однажды сравнил с Тицианом) внедрял в своего подопечного выработанный им принцип — «утонченность, ясность и хорошая модуляция», что, по сути, означало умение сочетать простоту и ясность музыкальных фраз с едва уловимой, но впечатляющей игрой мелодии. Изо дня в день, систематически, Бортнянскому приходилось работать над композицией. Но начинающему контрапунктисту еще не позволялось выступать с большими, законченными вещами. Время от времени он покидает Галуппи, который позднее получит из России «за труды по обучению Дмитрия Бортнянского» тысячу цехинов. Музыканта ждут Понтийские болота, старательно ухоженные огороды и сады, Агро Романо — все то, что окружает древнюю италийскую столицу — Рим, без признания которого ни один из композиторов не считается модным. Он участвует в работе здешних академии и капеллы, о которой Пьетро Метастазио как-то писал: «Когда певцы папской капеллы, с младых лет также обученные по новейшей школе, принимаются в сей хор, то им надлежит, под страхом строжайших наказаний, совершенно отрешиться от всех награждаемых рукоплесканиями прикрас обыкновенного пения и приучиться укреплять и поддерживать самый голос». Бывает Бортнянский также в Болонье и во Флоренции, в Милане и Модене. В Болонской академии он встречается с необыкновенным человеком, одним из самых ярких представителей музыкальной Италии — падре Джамбаттиста Мартини, с тем самым падре Мартини, у которого в это время обучался Максим Березовский. Известный археолог, путешественник, библиофил и собиратель старинных рукописей, в том числе и нотных, непревзойденный знаток музыкальных трактатов, обладатель уникальной библиотеки в 17 тысяч томов, в состав которой входили также бесценные ноты и музыкальные исследования, — Мартини много лет работал над созданием «Истории музыки» с древнейших времен. Кипучую жизнь этого человека омрачала лишь давняя болезнь. Кашель отнимал его силы, распухшие ноги не позволяли подниматься к соборному органу. «Уже пять лет я страдаю астматической грудной болезнью, — писал он в одном из писем, — каковая меня вынуждает каждые полтора месяца дважды кровь отворять...» Но все же он не уподоблялся другому аббату-композитору, великому Вивальди, покидавшему иной раз свой алтарь во время мессы, и продолжал работать что было сил. Мартини был первоклассным педагогом. В 1774 году вышла его знаменитая книга «Esemplare ossta sagio di contrappunto» («Основы контрапункта»), в которой он изложил свои основные взгляды на современную музыку, а также немалый опыт работы с начинающими композиторами. В эти самые годы у него как раз учился Максим Березовский, бывал Дмитрий Бортнянский. И им казалось, что никому иному, как им, были адресованы строки седовласого падре: «Юноша, изучить искусство контрапункта желающий, должен употребить все старания, дабы полностью овладеть элементами и правилами, в сей книге изложенными, поелику оные суть основание и фундамент всего искусства, овладев коим он получит тот запас знаний, с коими он в состоянии будет сочинять легко и изрядно во всяком роде музыки, как старинной, так и новой, и во всяком стиле...» Вместе с тем Мартини серьезно обращал внимание своих учеников на древние музыкальные традиции, которые сильно повлияли в дальнейшем на творчество Бортнянского. «Молодой сочинитель должен быть уверен, что старинная музыка есть основание и фундамент всех стилей и всех различных родов музыки, от начала оной до наших дней». Максим Березовский стал любимым учеником Мартини. «Бывают таланты, особливые и редкие, ограничение коих методой их собственного наставника или какой-либо определенной методой нанесло бы им лишь величайший вред, ибо сие препятствует им достигнуть того совершенства, коего не могли достигнуть самые их наставники» — эти слова мудрого Мартини в прямом смысле можно отнести к Березовскому. Всячески помогая своему подопечному, падре рекомендовал его в число Болонских академиков — высшее из званий, которого мог в ту пору достигнуть европейский музыкант. Экзамен назначили на 15 мая 1771 года. То всегда был самый торжественный день для музыкальной академии. Сегодня миру предстояло узнать имя еще одного почетного академика. Вернее, сразу двух. Обычно это звание присваивалось во время приема лишь одному музыканту. В предыдущем 1770 году его получил, хотя и не без некоторых трудностей, вызванных возрастом, 14-летний Вольфганг Амадей Моцарт. Ныне в ряды «филармонических кавалеров» вступают Иозеф Мысливечек и Максим Березовский. Экзамену предшествовало собственноручное прошение музыканта, текст которого небезынтересен. Вот его перевод: «Глубокоуважаемому синьору Антонио Маццони, президенту и профессорам музыки. 15 мая 1771 Максим Березовский (Русский). Глубокоуважаемый синьор президент и профессора музыки. Максим Березовский, по прозванию «Русский», желая быть принятым в качестве композитора и капельмейстера известнейшей филармонической Академии, просит синьора президента и членов филармонической Академии допустить его к испытанию для принятия в Академию...» В день испытания было назначено жюри под председательством «принципе» — главы академии. Им как раз и был известнейший музыкант Антонио Маццони, которому адресовано«прошение» Березовского. Пятнадцать судей, у каждого по два шара — белый и черный. Решение принималось тайным голосованием. Если в шкатулке оставалось больше белых шаров, композитора встречали громом аплодисментов. Он становился почетным академиком. Испытуемым дана была тема, на которую за условленное время нужно было написать четырехголосный старинный антифон (произведение для поочередного пения двух хоров или хора и солиста). Работы были приготовлены в срок. Одна из них, подписанная по-итальянски «Massimo Beresovski», хранилась затем в стенах Болонской академии многие десятилетия. Когда шкатулку открыли, в ней оказалось 15 белых шаров. «Массимо» единогласно было присвоено звание maestro, а также титул академика. Протокол гласил: «...Синьор Максим Березовский представил свою работу, которая была рассмотрена членами комиссии и оценена и признана тайным голосованием положительной, и он был принят в число академиков композиторов-иностранцев». Имя его было высечено золотыми буквами на мраморной доске, а традиционный портрет, как предполагается, был написан на стене церкви Сан Джакомо, рядом с другими академиками. Стать болонским академиком лестно. Однако Бортнянский, обучаясь у Галуппи, не стремился к получению этого звания. Для него достаточно было рекомендаций маэстро. И вместе с тем звание академика еще не говорило о том, что композитор достиг своего совершенства. Знание итальянской музыкальной системы, в целом уже тогда испытывавшей кризис, было лишь началом, лишь одной из ступеней для внутреннего роста. О состоянии, в котором находилась современная музыка в Италии, красноречиво говорил тот же Джамбаттиста Мартини: «Если мы прямо и без пристрастия взглянем на музыку нашего времени, столь полную разных обольщений, всевозможных грациозных, шутливых и изысканных штук, мы принуждены будем признаться, что она служит лишь для того, чтобы обольщать и восхищать чувственность; а коль скоро затронута бывает чувственность, то столь же усыплен и удручен бывает дух». Пьетро Метастазио — признанный либреттист — с горечью замечал: «Уже и сейчас музыканты и композиторы, кои лишь тем занимаются, что щекочут ухо и нисколько не заботятся о сердце зрителей, осуждены за сие во всех театрах на постыдное положение служить интермедиями между номерами танцовщиков... Дело дошло до таких крайностей, что оно ныне подлежит изменению, иначе благодаря сему мы сделаемся шутами всех народов...» Почти в то самое время даже Г.Р. Державин, современник Бортнянского и Березовского, прекрасно разбираясь в итальянской опере и почитая ее, писал: «Часто, конечно, очень часто в Италии в театре зевают, говорят, едят мороженое и пьют лимонад... На то есть и достаточныя причины. Возьмем в пример одну из лутших опер Метастазия. Будь и музыка соответствующая, выйди на сцену Фемистокл или Ораций — победитель персов, спасая римлян, запоет бабьим голоском, и все вероподобие представления... исчезло. Вторыя лица обыкновенно действуются такими же кастратами. Их неподвижность, неловкость, огромные туши действительно отвратительны. Прибавьте, что вообще все оперные актеры учились только музыке, а действовать на театре вовсе не умеют. Прибавьте, что голосом и знанием музыки первые только три лица отличаются, а все протчия лицы самые плохия. Прибавьте, что в Италии одну оперу играют тридцать раз кряду, и вы согласитесь, что как бы она ни была хороша, при таком представлении позволительно вздремнуть, а при долгом не грех и без просыпу спать...» Максим Березовский держал экзамен не на правах итальянца, а в качестве «иностранного композитора» для того, чтобы, как это специально оговаривалось в тексте, быть капельмейстером у себя на родине. Для него то была вершина славы в Италии. Итальянское общество любителей музыки избирает его также и своим капельмейстером. Он пишет хоровые произведения, их упоминает местная печать. Начинает работу над оперой «Демофонт» на либретто вышеупомянутого Пьетро Метастазио, обеспечившего текстами многих европейских композиторов. Активная творческая деятельность друга для Бортнянского была приятным вспомоществованием, способствовала и его славе, воодушевляла, придавала силы для достижения успеха. В Неаполь прибыла российская эскадра. Цель приезда была вербовка людей и сбор средств для новой военной кампании. Российские корабли стояли в порту, привлекая к себе внимание публики. Ни один шаг неапольских гостей не оставался незамеченным и непрокомментированным. Популярная флорентийская газета «Notizie del Mondo» публиковала репортажи о жизни русских моряков. 16 марта 1771 года неаполитанцы наблюдали необычное зрелище. Цвет русского офицерства в сопровождении двух батальонов албанского полка вместе с албанским маршалом проследовал в местную греческую церковь. На обратном пути подразделения албанцев были построены по обеим сторонам улицы, ведущей в порт. С почетным эскортом русские возвратились на свои квартиры... Освящение новопоставленного храма назначили в канун Страстной недели. Множество людей сбежалось, когда начался молебен, а за ним — крестный ход. Протяжное, мощное мужское пение разносилось над крышами невысоких построек, звуки песнопений, подхваченные ветром, устремлялись в долину, казалось, отражались эхом от мрачных ущелий Везувия, растворялись в «прекрасном ужасе его сернистых испарений» и густо наполняли морской воздух. «Возвыша-а-ают ре-еки голос сво-ой...» Мелодии и гласы сменяли один другой, единогласие чередовалось с многоголосием. Такой музыки не слыхали в Неаполе. Сюда, на площадь, пришли многие профессора, студенты и пенсионеры музыкальной академии. Собралась почти вся театральная джунта — вершительница музыкальных дел в Неаполе. Вышли на улицы артисты театров Реале и Сан Карло, пришел даже сам импресарио Гаэтано Санторо. Трудно было понять гармонию древних напевов. Где же минор? Где мажор? Музыка была не похожа на образцовую, классической школы. В чем ее закономерность? То чувствуется некоторый порядок тактов, то он будто исчезает, не поддается слуховому восприятию. Но все же в мелодии явно замечается некое внутреннее единство и строгая ритмичность музыкальных фраз. Все в ней было переплетено, все органично перетекало из одного в другое. Встречались и знакомые лады, древнегреческие, лежавшие в основе музыкальной культуры Средиземноморья. Апреля 19-го дня, с утра в русском гарнизоне готовились к приезду Ивана Ивановича Шувалова. Вечером построенные на площади моряки встретили генерал-поручика криками «ура!». Некогда фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основатель и президент Академии художеств, отпущенный новой государыней то ли для отдыха, то ли в почетное изгнание, Шувалов обошел строй, остался доволен выучкой солдат и матросов и в сопровождении офицеров и гостей направился в палатку. Ударили в походные корабельные колокола. Все, кому не хватило места в храме, сгрудились у входа, на площади... Дмитрий Степанович, стоявший чуть левее Шувалова, все время ловил себя на том, что не слышит слов, теряет порядок службы. Торжественность праздника, почти два года не слышанные древнерусские мелодии вдруг поразили своей ясностью, простотой и проникновенностью. Вот она, уже готовая, выстраданная, выношенная мелодика, достойная самого лучшего воплощения в современной нотации. Задушевные переходы, двухорная перекличка клиросов — все это было близко, понятно и вместе с тем открывало новые музыкальные миры, необозримые просторы для творческого вдохновения. В эти мгновения, радостные, каких было мало, так что, быть может, все их можно по пальцам пересчитать, складывались в уме части будущих концертов, программы вокальных циклов и даже отдельные куски сонат и опер. Что за чудесная ночь! Как будто в студеную весеннюю пору, дома, когда талая земля в сумерках подмерзнет и запахи весны перемешаются со свежестью морозного ветерка, где-нибудь в родном Глухове — где к воскресному рассвету властвует праздничное гуляние, куличи и писанки, смех, новые надежды и мечты... Продолжительное и многократное пение пасхальныхвеличаний воскрешало в памяти Бортнянского ночь удивлений, тревог и чудес. Каждый раз вспоминалось, как семилетним солистом, в такую же ночь во время службы в петербургском Зимнем дворце, уставший от нескончаемых репетиций («не осрамить пение капеллово перед царицей-государынею!»), он вдруг заснул. Позже рассказывали ему, как пришла его очередь петь и наступила неожиданная пауза, как произошло замешательство, как регент-концертмейстер растерялся и как сама императрица Елизавета Петровна подала знак рукой не трогать мальчишку, подошла, наклонилась, сняла с плеч шелковый платок и повязала ему на шею. Мысли Дмитрия Степановича были где-то далеко. Опять отвлекся. Вот бы и сейчас заснуть, да проснуться где-нибудь у себя дома, на родине. А мысли приходили самые разные. Здесь, в Италии, пришлось ему столкнуться не только с непониманием, но и с удивительным незнанием даже и весьма образованными и учеными итальянцами культуры России. Действия русского флота, успех политики, проводимой А.Г. Орловым в борьбе с Турцией, вдруг как бы возбудили интерес у итальянцев к этой великой стране. Приходилось читать ему в одной местной газете о том, что «шумная деятельность России в настоящее время пробудила любопытство у многих людей, жаждущих глубоко узнать нравы, силы, религию этой страны и ознакомиться с ее историей». В другой газете он нашел такие строки: «Мы составляем себе о древних русских такое представление, какого они не заслуживают. Мы считаем их варварами и невежественными лишь потому, что не знаем, какими они были и что они знали». С радостью увидел Дмитрий Степанович на прилавке магазина «Очерки Русской литературы», переведенные Доменико Блекфордом. Но музыка... Тот запас знаний, что был у Дмитрия еще со времен, когда он солировал в школе певчих в Глухове, а потом в Петербурге — здесь был абсолютно бессмыслен, не нужен. Тут учили иначе, нужно было многое начинать сначала. Теперь, когда он захаживал в местные консерватории, знакомые встречали его радостным восклицанием: «А, руссо, Бортнянский!» Некоторые интересовались системой древнерусской нотации, даже пытались что-то писать в этом стиле. Помнил Дмитрий Степанович и известную дискуссию между эллинистом Доменико Диодатти и самой российской императрицей, которая недавно прислала ему в подарок роскошный фолиант. Ответ, полученный Диодатти от секретаря императрицы Григория Васильевича Козицкого, на вопрос — все ли еще русские поют в церквах по-гречески, был опубликован в той же «Notizie del Mondo» 9 января 1770 года: «Мы, русские, в наших церквах пользуемся только родным языком». Каково же было узнать это итальянским маэстро, хоровые музыкальные произведения которых были сжаты в жесткихрамках академической латыни... Мечталось Дмитрию написать ряд концертов, в которых можно было бы показать внутренний мир и строй исконно русской стародавней мелодики, обобщить то здоровое и удивительно плодотворное зерно, которое было заложено в древнем знаменном распеве. Из России пришла весть, что вот-вот увидит свет грандиозное издание древних российских песнопений в современной пятилинейной нотации. Многие годы готовился этот четырехтомный труд. И вот теперь, когда капелла петербургская обрела силу, стала важнейшим хором страны, это собрание старинных мелодий во всех отношениях будет способствовать развитию музыки российской... Колокол ударил вновь, спутав мысли Дмитрия. Читали отпуст. Гости медленно расходились и направлялись в трактир «Дель Алабардиере», где был готов праздничный ужин. В Неаполе наступал рассвет... Музыкальные занятия Бортнянского в Италии были безоблачным и приятным времяпровождением только на первый взгляд. Ведь русские войска и флот не случайно расположились в портах. Шла тяжелая война. Не участвовать, вольно или невольно, в происходящих событиях, даже осененный благословением муз молодой композитор, конечно же, не мог. Обстоятельства сами дали о себе знать. Когда граф Алексей Григорьевич Орлов неожиданно прибыл в Венецию, здесь он встретился с консулом Маруцием. Долго беседовал с ним. На следующий день Дмитрий Степанович был поднят ни свет ни заря и вызван в консульский дом. Встретил его Орлов. — Наслышан о ваших успехах, — улыбаясь и похлопывая своей широченной ладонью Бортнянского по плечу, проговорил граф. — Видел вас еще мальчиком в опере «Альцеста» в Санкт-Петербурге. И Галуппия слыхал там же. Хотелось бы в бытность ныне в Венеции и на концерт лучший попасть, да дела отвлекают. У нас с вами теперь разговор пойдет отнюдь не по музыкальной части. Маруций молчал. Бортнянский со вниманием приготовился слушать командующего российским флотом. — Наслышан я также, — продолжал Орлов, — что вы изрядно в языках многих способны. По-французски, по-итальянски, по-немецки. К тому же латынь и греческий. Да, кроме того, репутация у вас среди здешних, и не только здешних, музыкантов отменная. Вот посему должен я вас просить о помощи. Не откажите, время обязывает... — Конечно, Ваше Сиятельство. В чем дело состоит? — Нынче мы продолжаем нашу кампанию по оказанию помощи восставшим против турок албанским и греческим поселенцам на островах. Кампания эта военная, сами понимаете, желательно наш с вами разговор в секрете содержать. — Чем же я смогу быть полезен? — удивленно переспросил Бортнянский, глядя на Маруция. — Вы, именно вы, со своей известностью, со своими знаниями языков поможете мне в ведении переговоров, связанных с военными приготовлениями. — Но я же не дипломат и никогда на подобной службе не состоял. — Знаю. Я тоже не дипломат, тем более не адмирал. Однако и флотом командую, и противу турок веду большую дипломатию. Без этого нынче войну не выиграть. А повстанцы — наши союзники. От согласия с ними зависит и весь успех дела. Мы переговорами, а адмирал Грейг кораблями да пушками — вот, глядишь, и конец турецкому султану, — граф рассмеялся, а затем уже серьезно продолжил: — Важна сия кампания, очень важна. Вы уже слышали что-нибудь об Антонио Джикке? — Это сын некоего командира македонского полка из Неаполя. Кажется, он сражается на стороне повстанцев. — Да, так. Не столь давно обратился он к нам через флорентийскую газету с призывом оказать помощь восставшим грекам. После чего небезызвестный, видимо, вам публицист здешний, Марио Пагано, написал на мое имя открытое письмо, обратился уж больно велеречиво — графу Алексею Орлову, бессмертному мужу, главнокомандующему победоносным русским флотом, находящимся в экспедиции в Средиземном море. А затем Джикка сей перешел к нам на службу. И вот он уже «полномочный депутат от албанской нации» и ответственный за набор в российскую службу особенного «Албанского легиона». Командовать сим легионом предполагаю назначить Сергея Григорьевича Домашнева. Но чтобы успешно набор его закончить, надобно еще на свою сторону правления местные на островах переманить. Доказать им важность дела. Убедить в возможной победе. В том-то ваша задача как дипломата и заключаться будет... Бортнянский задумался. Долго не отвечал. — Ну что, Дмитрий Степанович, — прервал молчание Маруций. — Непривычное дело — военная служба? — Отчего же, мы из казаков. Батька мой всегда меня в войска прочил. Да не мог я предположить, что так-то вот буду воевать — без шпаги и пистолетов. — Считайте, что вы на моей службе, — сказал Орлов. — А как же музыкальные занятия? — Пока повремените. Галуппию мы найдем что сказать. Отправляться же придется вместе со мною. Немедля. Выезжаем послезавтра... Через день Бортнянский выехал в свите графа Алексея Орлова на секретные переговоры к союзным повстанцам. Сколько времени бывал он на островах? Где и с кем встречался? О чем говорил и договаривался? В какие переделки попадал? Когда возвратился назад, в Венецию? Сколько раз ездил? Ответов на эти вопросы не сыскать, ибо дело, как уже говорилось, вершилось под великим секретом. Бумаг не велось, а очевидцы молчали. Не любил говорить на эту тему и Дмитрий Степанович. И в Италии, и затем, много позднее, дома, в России. Лишь почти три десятилетия спустя, однажды, в одной из служебных бумаг он впервые запишет: «Во время шествия флота в Архипелаг часто был употребляем главнокомандующим оного графом Орловым в бытность его в Венеции для переговоров с греками, албанцами и другими народами касательно до военных приготовлений с великою опасностию от тамошнего правления...» Какова была мера сей «великой опасности»? И как измерить ее в военное время?! Результаты же действий русского корпуса известны: многие острова освободились от турецкого ига. Одна из итальянских газет того времени писала: «Граф Орлов очень доволен тем воодушевлением, с каким греки способствовали своему освобождению...» Газета отмечала также, что русские пробудили «огромное воодушевление и стремление греков тотчас же уничтожить все полумесяцы и поднять на их месте кресты и русских орлов...» Когда поутихли военные страсти в Средиземноморье, когда турки окончательно поняли, что совладать со все усиливающимся русским флотом будет непросто, и наступила мирная передышка, Дмитрий Степанович вернулся к основному своему занятию. Наука итальянской музыки, как и господствовавшая здесь музыкальная эстетика, была замысловата и непроста. Очередной карнавал в Венеции должен был открываться премьерой новой оперы. Этой традиции придерживались настолько неукоснительно, что скорее был бы отменен сам карнавал, чем он прошел без новой оперы. Постановка старого спектакля представляла собой редчайшее исключение, на него «смотрели, как на прошлогодний календарь». Венецианские карнавалы устраивались часто — с первого воскресенья в октябре и до Рождества, с 6 января и до начала Великого поста, а также в день святого Марка, в праздник Вознесения и обязательно в день выборов дожа — правителя Венецианской республики. «Маска, свеча и зеркало» — такой образ карнавальной Венеции XVIII века отметил один из путешественников. В самом деле, все жители облачались в так называемую «баутту» — черно-белое одеяние, состоящее из белой атласной маски, черного плаща с кружевами, черной шелковой вуали на лице, шляпы с серебряными галунами, туфель с блестящими пряжками и белых шелковых чулок. В таком одеянии во время гуляний на иллюминированной факелами площади святого Марка веселящаяся и кричащая в восторге толпа была похожа на чудовищный муравейник, обитатели которого словно исполняли какую-то никому не понятную симфонию под никем не слышимый аккомпанемент. В день, когда готовилась премьера оперы, толпы черно-белых масок, похожие в неровном факельном освещении на гигантских насекомых, устремлялись в один из главных театральных залов Венеции. Таковых театров было семь. Популярным был Сан Джованни Кризостомо, принадлежащий синьору Гримани. Можно было по очереди обойти и другие: Сан Самуэле, Сан Лука, Сан Анджело, Сан Кассиано, Сан Моизе. В двух из них ставились серьезные спектакли — seria, в двух других — buffa, в остальных — театрализованные комедии. Но главным среди венецианских театров считался Сан Бенедетто, открытый не так давно, вместительный, предоставляющий свою сцену лишь наиболее именитым авторам. Афиша нового карнавального сезона 1776 года в Сан Бенедетто объявляла оперу на античный сюжет — «Креонт», сочинения синьора Бортнянского, музыканта из России. Либретто, отпечатанное большим тиражом, возвещало со своей обложки о «музыкальной драме». В назначенный час, в ту минуту, когда зал, затаив дыхание — то ли в ожидании встречи с неизвестной прекрасной музыкой, то ли в предвкушении позора дерзкого «новичка», обреченного превратиться в предмет многочисленных насмешек, — устремил свои взоры в сторону оркестра, на сцену вышел автор, встал перед пюпитром, взмахнул рукой, и... понеслась вперед яркая и звучная, лишенная излишней сложности увертюра... Венецианская публика капризна. На протяжении всего спектакля гости обычно ведут разговоры, громкие, даже нарочито громкие, и обращают внимание лишь на наиболее интересные или уже популярные арии. Если опера не нравится — уходят из лож в соседние комнаты, где играют в карты и кости, закусывают. Автору-неудачнику или невольному плагиатору обычно оглушительно аплодируют и язвительно кричат: «Браво, Галуппи!», «Браво, Паизиелло!», имея в виду тех корифеев, чью музыку, сам того не замечая, «использовал» композитор. Но если опера пришлась по душе — берегись, маэстро! Темперамент влюбленных почитателей выражался даже таким образом: композитору писали сонеты, специально печатали их на многочисленных бумажках, а затем осыпали ими сцену и зал. Оркестр забрасывали туфлями, сумочками и шляпами. Восторг экспансивной итальянской публики носил столь возбужденный характер, что, например, губернатор папской столицы Рима в свое время издал грозный приказ, по которому на спектаклях запрещалось свистеть и аплодировать, нарушитель наказывался тремя оборотами на дыбе, не разрешался повтор арий, за что полагалось телесное наказание или большой штраф... «Креонт» Дмитрия Бортнянского хоть и не имел особой славы, но был отмечен. Кто из именитых солистов исполнял в нем арии? В то время известностью пользовались певицы Кафарелли, Катерина Габриэлли, Агнесса Амурат, Жанетта Казанова (мать известного авантюриста). Некогда папа Климент XI под страхом серьезного наказания запретил в Риме «особам женского пола учиться музыке в целях сделания пения своей профессией, ибо известно, что красавица, желающая петь в театре и в то же время сохранить свое целомудрие, подобна человеку, бросающемуся в Тибр и не желающему замочить ноги». Все женские партии там исполняли мальчики. Но на другие города Италии этот запрет не распространялся. Правда, популярность женских голосов блекла перед необычайной известностью певцов-кастратов. Это чудовищное явление в европейской музыкальной культурной жизни до сих пор остается предметом внимания и изучения. Мальчиков, проявлявших замечательные музыкальные способности, специально готовили на поприще служения вожделенной публике. Певцов, изуродованных — иногда насильно, — воспитывали с самого детства, после продавали и перепродавали. Более того, в бедных семьях Неаполя мальчиков подготавливали сами родители или другие родственники, и если вдруг певца ждала неудача, например, ломался-таки голос, — в Риме он получал специальное разрешение принять священнический сан. Зато голос певца-кастрата, высокий и чистый, считался изумительным. Кто из популярных артистов пел в опере Бортнянского — мы не знаем. Ничего не ведомо нам сегодня об исполнителях и двух других опер композитора — «Алкид» и «Квинт Фабий», также написанных на античные сюжеты. Первая была поставлена в той же Венеции два года спустя после «Креонта», а вторая, вслед за ней, на сцене театра в Модене. «Квинт Фабий» сотрясал стены герцогского театра весь сезон моденского карнавала 1778 года... Если писатели и философы выражают свои взгляды в литературно-художественных произведениях или трактатах, то где еще, как не в музыке, может воплотить свои замыслы композитор? Опера для «итальянца» Дмитрия Бортнянского была главным музыкальным жанром, в котором можно было приложить свои силы. И, естественно, выбор сюжета означал не просто любительские интересы сочинителя, а отражал его миросозерцание, умонастроение и даже взгляды на современность. Главное, что предстояло музыканту перед тем, как он принимался сочинять партитуру, — это выбор либреттиста, автора текста. Можно было брать и уже готовый прозаический сценарий. Модно было, например, писать оперы на сюжеты, уже не раз использованные, имевшие успех, что означало большую смелость композитора. Либреттист, по тогдашним взглядам, считался автором оперы, а тот, кто писал музыку, — лишь «оформителем». Ведущим «сценаристом» того времени считался неутомимый Пьетро Метастазио, создавший более 60 либретто, снабжавший своими текстами самых именитых музыкантов XVIII столетия — Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта. На один лишь его сюжет — «Артаксеркс» — было написано свыше ста опер. В современном музыкальном словаре так и говорилось: «Когда глаза у тебя полны слез, когда твое сердце бьется, когда на тебя нападает ужас, когда восхищение сожмет твою грудь, возьми Метастазио и работай. Его гений твой собственный распалит, по его примеру ты станешь творцом, и другие глаза отдадут тебе те слезы, кои твой учитель у тебя вызвал». К Метастазио обратился в своем творчестве Максим Березовский. Не обошел знаменитого сочинителя своим вниманием и Бортнянский, написавший оперу «Алкид» на его либретто. Автором текста «Квинта Фабия» стал Апостоло Дзено — виднейший драматург, либреттист «номер 2», незадолго до того умерший. О постановке этой последней итальянской оперы Бортнянского в Модене журнал писал: «Вечером 26-го дня текущего месяца открылся местный герцогский театр драмой под названием „Квинт Фабий“, поставленной заново с музыкой маэстро синьора Дмитрия Бортнянского из Москвы, находящегося на службе у Ее Величества императрицы России. Разнообразие, изящество и блеск вокального исполнения, изобретательность и приятность балета, искусное построение сюжета создали спектакль, доставивший наслаждение и получивший высокое одобрение двора Его Светлости и единодушные аплодисменты зрителей, среди которых было много иностранцев, согласившихся разделить удовольствие первых представлений». Итак, Бортнянский, в чьих воззрениях тогда царил дух истинного «классициста», поступил как всякий творчески одаренный, поставивший своей целью общественное служение человек: он избирает для своих опер античные сюжеты, популярные не только по своей теме, но и важные с точки зрения приложения их к животрепещущей современности. Креонт — герой первой оперы, царь, неожиданно получивший престол, — по замыслу композитора занимает главное место в опере по известному античному сказанию об исполняющей свой родственный долг, преданной своим обязательствам Антигоне. Креонт должен предстать перед зрителем во всем блеске «просвещенного правителя». Подразумеваемый главный адресат — российская императрица, публично заявившая о намерении в государстве своем «все устраивать ко благу всех вообще и всякого особо». Это благо воплощается в опере в тяжких переживаниях и безмерном великодушии Креонта, который дарует в финале жизнь молодой чете — Антигоне и Гомену, и в этом он идет даже наперекор своему же приговору. Таковой развязки требуют не только правила итальянского театра. Счастливый конец — это еще один пример того, как должен поступать со своими подданными просвещенный монарх, государь, способный при разумной оценке течения обстоятельств выбрать наиболее гуманное, соответствующее духу времени решение. Те же идеи воплощает Бортнянский в «Алкиде» и «Квинте Фабии». Не житейские радости и тихая, но лишенная глубокого смысла жизнь импонируют Алкиду (Гераклу), а путь служения идеалам добра, истины, путь подвигов, борьбы за славу отечества, путь тернистый и героический. «Души прекрасные, терпите те мучения, от которых рождается радость...» — поет хор, воплощая в этих словах главную мысль оперы. Музыка «Алкида» уже более зрелая, нежели в «Креонте». Бортнянский стал более внимателен к рисунку характеров персонажей, более разнообразен в мелодике, более раскован. Он старается передать музыкой состояние раздумий и настороженности героя, его нерешительности и сомнений. Речитативы и арии, сменяя друг друга, приближают финал с его более отчетливыми мелодиями. Хор органично вливается своими голосами в содержание оперы. Оркестр выказывает многообразные возможности инструментовки, особенно в таких эпизодах, как «Танец духов» и «Танец фурий». Душевное состояние Алкида отражено почти буквально. В его пении слышится стук взволнованного сердца, отображенный звучанием валторны в арии: «Что это? Как внезапен ужас адской ночи!» Удары сердца незаметно переходят в маршевую мелодию. В речитативе Алкида: «Страшные призраки!.. Нет, не надейтесь, что я погибну!» композитор блестяще передает состояние ужаса, охватившее героя. Дрожащие, прерывистые звуки поразительно воздействовали на слушателя. «Алкид» — тема не случайная для Бортнянского. Подвиги Геракла — уже знакомый сюжет для него. И не только потому, что многие композиторы писали музыку на подобное либретто. Еще была так близка в памяти постановка в Петербурге той самой оперы Г. Раупаха «Альцеста», также рассказывающая об античном герое и его подвигах. Той самой, где Дмитрию довелось исполнять одну из главных ролей. Бортнянский сам, будучи в Италии, и позже, всю свою жизнь, трудную, тернистую на протяжении всего пути восхождения его по придворной лестнице к славе выдающегося российского музыканта, был прекрасным примером служения возвышенным идеалам. Последняя его опера — тоже об этом. Гениальный полководец Квинт Фабий нарушает запрет на военные действия, данные ему диктатором Люцием Папирием. Он вступает в бой с врагом и одерживает блестящую победу. Что выше, что значительнее перед лицом истины — глупый приказ или разумная инициатива, приносящая столь важные плоды? Нужно ли сидеть сложа руки в тот момент, когда отечество находится в опасности, или, невзирая на субординацию и рутинные мелочные правила, выступить на его защиту, рискуя быть не только осмеянным, но и уничтоженным руками своих уязвленных соотечественников? Что выше — долг перед народом или заслуга перед начальством? Эти вопросы ставило время, их ставит в «Квинте Фабии» и Бортнянский. Исследователями его творчества уже замечалось такое удивительное совпадение этого сюжета с эпизодом из только что завершенной русско-турецкой войны, когда А. В. Суворов, невзирая на приказ П. А. Румянцева, взял Туртукай, чем нанес сокрушительный удар по противнику, оправиться от которого тот уже не мог. Какова была развязка? Суворову грозил военный суд. «Победителя судить не должно», — решила, однако, Екатерина II. В «Квинте Фабии» Папирий также прощает полководца. Но это еще не все. Сам Квинт не удовлетворен таким «снисхождением», и тогда в качестве судьи выступает народ. Он берет под защиту Квинта Фабия. Народ ставит последнюю точку в этой драме, то есть он и является главным вершителем судеб и дел. Не слишком ли смелый намек, скрытый совет композитора для «просвещенного слушателя»? Не слишком ли явный ответ на известные слова императрицы о том, что «черни не должно давать образования, поскольку... не станут Нам повиноваться в такой мере, как повинуются теперь». А ведь над Россией еще гремело эхо только что смолкнувшего под ударами топора бунтарского клича Емельяна Пугачева... Иван Петрович Мартос отложил молоток, повернулся навстречу другу. — Дмитрий, вот и ты пришел навестить хворого. Ну, рад тебе, садись. Русский скульптор не так давно прибыл в Рим пенсионером от Академии художеств. Молодой художник подавал большие надежды. Славился он своими небольшими скульптурными портретами и был настолько работоспособен, что мог за несколько дней изготовить мраморный бюст. — Буду, Дмитрий, тебя ваять. Всех именитых российских граждан решил я здесь запечатлеть. — Какая ж я знаменитость? — При дворе, брат, о тебе говорят. Видимо, скоро попросит тебя императрица назад. Надобен ты в Петербурге. После опер твоих да иных успехов славу себе ты снискал немалую. Андрей Кириллович Разумовский, земляк твой, говорили, хотел тебя слышать. Нынче он в Вене, послом едет в Неаполь... Иван Петрович всегда успевал что-то делать за разговором. То рисовал, то, не обращая внимания на собеседника, разминал глину. Сейчас ему нездоровилось, и он прохаживался по комнате взад-вперед. Достал из буфета бутылку, откупорил. — Выпьем, Дмитрий, за тебя и за твой успех... Друзья подняли хрустальные гравированные бокалы. — А ты, случаем, не перешел ли в иную веру? — усмехнулся, едва пригубив, Мартос. — Чего это? — Наслышаны мы тут, что пишешь ты мессы и другие разные католические концерты. Бортнянский покосился на перевязанный атласной лентой сверток, который принес с собой. — Пишу, Иван Петрович. Учеба у меня такая. Заказали мне Богородичный канон — по-латыни называется «Ave Maria». Там ведь частенько хоровое пение исполняется на новую заказанную музыку. А кое-что я тебе в подарок приготовил. Ну да выпьем же наконец... Бортнянский пододвинул стул к клавичембало1, открыл крышку. Пробежал привычными пальцами по клавиатуре снизу вверх, как бы проверяя настрой и упругость клавиш. Затем, после паузы, проиграл несколько аккордов. На середине такта оборвал. — Настройщика надобно пригласить. На твоем инструменте только разве что водку пить да закусывать... Дмитрий Степанович потянулся, взял со стула свою поклажу — аккуратно упакованную связку нот — и протянул Мартосу. — Что, новые опусы? — Новые, да уже и старые. Тоже на заказ писанные. — «Gloria», «Salve Regina», «In convertendo», «Montes valles», — читал на титульных листах Мартос. — Ты бы что-нибудь наше записал, чай, интересно было бы италианцам. — Заканчиваю ныне «Российскую Вечерню». Но всему свой черед. Для церкви лютеранской обедню нынче сотворил. Так и назвал — «Немецкая обедня». Знаешь, не мог в ней без нашего, киевского распева обойтись. А заказ тоже — для Венеции... — А что, много там немцев? — Что ни неделя, маршируют австрийские баталионы по улицам. Вена нас не только музыкой балует. Двух принцесс своих выдал император австрийский за италианских принцев. А эрцгерцог Фердинанд, слыхал, женился в Модене на Марии Беатриче д’Эсте. — Теперь запоют свою обедню во всех тутошних столицах... Принесли горячий борщ. — «Макарони» здешние весьма приятны на вкус. Но не могу жить без нашего украинского борща. Жаль, сметаны не нашлось, не слишком ее здесь жалуют. Иван Петрович отправлял в рот полные ложки дымящегося варева, крепко посыпая солью свежеиспеченный хлеб. Разговоры за столом обычно затягивались. За рюмкой ликера друзья часами обсуждали самые разнообразные события. Вспомнили приезд в Италию генерал-адъютанта Василия Николаевича Зиновьева, привезшего известия о заключении мира с Турцией, произведенного в местечке Кючук-Кайнарджи. От Зиновьева перешли незаметно к обсуждению проделок здешних масонов, в число которых тот вступил одним из первых. Всякий, кто побывал в Италии, особенно же в Неаполе, не мог не обратить на их деятельность внимания. Многие русские офицеры средиземноморской эскадры проявляли к ней повышенный интерес, особенно к организации и порядку, существовавшему в местных масонских ложах. А когда барон Гримм прибыл по поручению императрицы сюда из Парижа, то не обошлось без переговоров и встреч с масонскими лидерами, организованными по их инициативе. Особое внимание они оказывали всем вновь прибывшим русским. Да и те, со своей стороны, частенько стремились к «вольным каменщикам» — кто на веселые пирушки, кто за сердечным успокоением. В этой истории явное наконец так спуталось с тайным, что даже посланник Пьемонта во Флоренции Бруно де Самош писал в одном своем донесении, что якобы появившиеся в итальянских портах русские активно вовлекают местную молодежь в ложи франкмасонов. Собеседников давно интересовали в особенности вопросы трактовки итальянскими масонами злободневных проблем социальной и духовной жизни. Впрочем, в то время любимой темой дискуссий было установление некоего синтеза между истиной вечной, высокой, мистической, о которой невнятно вещали масоны, и истиной рациональной, рационалистической, опирающейся не на тайные, а на явные знания. Поиски истины заставляли иных русских аристократов бросать насиженные места, пускаться во многолетние путешествия по дальним странам. И неизбежен был заезд в Италию. Об этом и говорили два соотечественника, и даже не один вечер. Иван Петрович вспоминал к месту слова земляка Григория Сковороды — о том, что ежели ты дома ума не набрался, то, объездив весь свет, подавно не наберешься. И все-таки магически влекла к себе эта тема. Было в ней что-то такое, что не подвластно обычному разумению, рациональному осмыслению, нечто загадочное и вместе с тем необыкновенно сильное по своей внутренней сущности, и даже страшное — по неумолимой перспективе какого-то ожидаемого тайного осуществления... — Э-э, брат, это тебе не оперы писать... — Да что оперы. Музыка, она сейчас легче слов. Чего вслух не скажешь, то пропеть можно. К сему же мелодия современная — она вне разума нашего как бы обретается, а школа итальянская — во все щели и поры проникает, границ-то для нее не существует. Будь ты композитор из Африки, будь ты из Азии — все едино... — Все, да не все. Неужто, думаешь, у нас допустят при дворе кастратам петь? Это же по какой такой власти? Мерзкое дело... Вот, кстати, анекдотец на сию тему последний. Приезжий француз видит вывеску: «Qui si castra ad un prezzo ragionevole» и переводит ее так: «Здесь бреют по дешевым ценам». Заходит, радостный, в эту «цирюльню», садится в кресло и говорит: «Signor, castrate mi...» Хозяин, удивленный, начинает делать угрожающие приготовления. Тот сначала не понимает, а потом вдруг, напуганный, замечает себя выбегающим что мочи есть на улицу... Так проводили время друзья. А оно текло медленно, как летние итальянские дни, и вместе — незаметно и мимолетно, как северное российское лето... Шпалера на стене, вытканная гротескным орнаментом, изображала сценку из итальянской комедии. Испещренная цветами ваза на двойном клавесине в углу отсвечивала в глаза искрами заходящего солнца. Выписанные на дверцах комода веселые человечки в духе Гуарди играли какой-то полуестественный спектакль. Комната была наполнена тишиной, лишь где-то под окном бурчал под нос угрюмый гондольер. Дмитрий Степанович задремал в кресле. Вдруг сон исчез, какая-то давняя, много раз возникавшая во сне мелодия мгновенно забылась, как и прежде. Явь снова торжествовала. Бортнянский поправил распущенный галстук. Письмо скользнуло с колен на пол... Давот же оно, это письмо. Оно существует на самом деле, его час назад принес посыльный... Конверт с двуглавым орлом. На небольшом листке бумаги: «Господин Бортнянский! Как уже десять лет прошло бытности Вашей в Италии и Вы, опытами доказав успехи Вашего искусства, отстали уже от мастера, то теперь время возвратиться Вам в Отечество, для чего я рекомендую Вам как можно скорее отправиться, взяв с собою все Ваши сочинения. На жалование Ваше при сем прилагается вехсель в 200 червонных; а на проезд 150 черв. получите от маркиза Маруция. Ежели же Вам надобно будет впредь для новаго вкуса еще побывать в Италии, то можете надеяться, что отпущены будете...» Затем, видимо, уже на скорую руку, более неровным почерком была приписка: «Я Вас повторительно прошу немедля... сюда ехать; первое — что в Вас настоит великая нужда; второе — что сие послужит ко всегдашнему и непременному Вашему счастию, и к основанию чести Вашей навсегда. Впрочем, будьте уверены, что я Ваш охотный слуга. Иван Елагин 10-го апреля 1779-го года». Подписано директором Придворных театров... Его просят домой, ко двору. Десять лет, долгие, нелегкие, и в то же время такие быстротечные — позади. Что-то ждет его дома? Многое переменилось там с тех пор, как он уехал. Граф Алексей Григорьевич Орлов, когда они сиживали в компании за столом где-нибудь в Ливорно, любил говаривать: «нынче и нашего брата оттирают, много ли увидишь, когда станешь ходить в потемках», — делая ударения и намекая на то, что его брат Григорий уже не пользовался таким влиянием на императрицу, а его место занял быстро восходящий наверх новый фаворит — граф Потемкин. Вспомнились и горестные письма Максима Березовского, чья жизнь на родине сложилась неудачно. Уже два года как пришла весть о его кончине... Дмитрий Степанович невольно посмотрел на шкаф с книгами и рукописями. Вот они, его сокровища, его послужной список. Написано за это время немало, есть чем ответ держать. Но сборы, предстоящие сборы... Одна лишь мысль о них ужасала. Что делать с коллекцией живописи, так долго и основательно собираемой? Как перевезти любимый инструмент? Да надо бы завершить и ряд дел. Нельзя пропустить и очередной летний оперный сезон. Нет-нет, двинуться в путь он сможет лишь осенью... Неуклюжий, основательно груженный экипаж не спеша катился по направлению к Вене. Путь был долгим, по самым лучшим справочникам от Венеции до Санкт-Петербурга расстояние исчислялось в 2163 версты, впрочем, в другом месте указывалось и больше — 2435 верст. По дороге встретили двух русских посыльных — Башловского и Калышева, отправленных вперед графом Разумовским, решившимся наконец ехать в Неаполь — к месту своего назначения, похожего на ссылку. Почти у самой Вены повстречали и самого Андрея Кирилловича без обычной шумной свиты. Когда же скрипучие колеса застучали по венским мостовым, повеяло блаженством длительной стоянки. В Вене были приемы у князя Д. Голицына, российского посла в Австрии, многочисленные концерты, которыми славилась австрийская столица, встречи с именитыми музыкантами. Далее путь лежал на северо-восток. Российской границы достигли в середине ноября. Пока у разлинованного пограничного столба проверяли бумаги, Дмитрий Степанович выпрыгнул на дорогу, пошел по глубокому сугробу. Хватая пригоршнями мягкий, рыхлый снег, подбрасывал его вверх, будто хотел вызвать снегопад. Комья рассыпались, снежная пороша обжигающе обволакивала лицо. Вот она, Россия, ее порог — снежный, свежий и студеный — знаком и сладостен. Но что-то там, впереди... Глава 4. Орфей реки Невы Прохладный ветерок, на небе солнце ясно Приятствовали мне, я видел все прекрасно; Дворец, цветник, пруды, красивых тьму громад, Театр... Иван Михайлович Долгорукий успел в свои еще молодые годы довольно много. И университет в Москве закончил, и в армии затем послужил, а когда недавно в Петербург переехал — в гвардию поступил. Но это все так — не главное. Театр — вот было его настоящее призвание. Бесконечные светские театральные забавы, самым деятельным участником и заводилой которых приходилось бывать именно ему, балы и любовные интриги, в центре которых он возникал непременно, отнимали массу времени. А успех Ивана Михайловича на сцене был неописуем. Однажды даже сам управляющий придворными увеселениями сенатор Стрекалов, сидя рядом в партере на одном из спектаклей, нагнулся к его уху и, осыпав парадное платье пудрой с парика, сказал: — Жаль, что вы, Долгорукий, — князь. А то бы я тотчас дал вам четыре тысячи жалованья и принял в придворную труппу. Вскоре Ивана Михайловича представили наследнику престола — Павлу Петровичу. Он был приглашен на музицирование при «малом» дворе. Не прошло и месяца, как Иван Михайлович стал завсегдатаем Павловска. Теперь, кроме всего прочего, добавились и другие забавы. Быть или слыть начитанным и следить за своим внешним видом — это, признаться, нелегкий труд. Блеснуть фразой, едко и точно высмеять соперника в светском разговоре и не забыть при этом в нужный момент выудить из памяти как дорогую заморскую жемчужину какую-нибудь цитату из нового французского романа — все это тоже требовало основательной подготовленности. Наследник — Павел Петрович — слыл большим знатоком всяческих новшеств, и вступать в спор с ним решались лишь немногие. Разве что Никита Иванович Панин, наставник великого князя, в свое время настойчиво разъяснял своему подопечному какие-то идеи, суть которых Иван Михайлович до сих пор не мог уяснить. А впрочем, в его двадцать с небольшим лет, думалось Ивану Михайловичу, стоит ли забивать ум политикой так, как это делают убеленные сединами придворные сановники. Слава, окружение прекрасных дам, восторг и поклонение перед его искусством актера — разве не достаточно этого для его жизни, стоящей столь далеко от таких часто употребляемых нынче понятий, как франкмасонство или конституционная монархия. Ивану Михайловичу бывало обидно, когда в свете его звали «Балкон». Поводом для такого прозвища стала, видимо, его длинная нижняя челюсть, выдающаяся далеко вперед. Но зато князю было разрешено пользоваться книгами из личной библиотеки Павла Петровича. И все же, как только брал он обшитые красным бархатом фолианты с золотым гербом на переплетах, так жизнь казалась ему скучной, скованной в рамках каких-то идей, течений и мнений. Актерская стезя казалась более надежной и во многих отношениях безопасной, она наполняла его жизнь атмосферой, лишенной того приторного смысла, который по его представлению сразу же выводил ум из равновесия, заставляя его перебирать те или иные обстоятельства, мучительно копаться в себе, ища в чем-то какого-нибудь разумного выхода или определения. Иван Михайлович был человеком весьма одаренным. Когда вечером он подходил к пиано-форте с орга|нами из красного дерева, что стояло в зале Большого павловского дворца, просил кого-нибудь подыграть, потому что сам не умел, и начинал петь, все собирались вокруг, наступали незабываемые, восхитительные минуты. Муза Евтерпа, казалось, сама присутствовала рядом. Любовь озаряла жизнь Ивана Михайловича в Павловске. Евгения Сергеевна Смирная — актриса прекрасная, певшая арии во многих операх, предмет сердечной страсти именитых кавалеров, отвечала ему взаимностью. Ничто не стояло преградой в их отношениях. Пылкая фрейлина согласилась отдать ему руку и сердце. И музыка, и новая семья безвозмездно и по какому-то немыслимому праву принадлежали молодому князю, а судьба казалась ему огромной вазой, заполненной благоухающими цветами... Иван Михайлович с юности пописывал стихи и эпиграммы. Дневник, который он тоже вел почти ежедневно, в силу обстоятельств был на некоторое время им заброшен. Но вот уже несколько лет мечталось ему написать нечто значительное, какое-нибудь произведение, в котором можно было бы рассказать о всей его жизни, о людях и нравах его окружавших, чтобы стали они достоянием истории. Как-то, отлучившись из Павловска, после очередного спектакля, когда вместе с пропетыми ариями и исполненными танцами будто вся энергия покидает тело, оставляя лишь приятную истому, а в такой момент всегда возникало удовлетворение от прожитого дня, Иван Михайлович закрылся в своей комнате, выпил чашку холодного кофе, затем сел за инкрустированный письменный стол, разложил перед собой листы чистой бумаги, долго рассматривал сильно сточенное гусиное перо, наконец обмакнул его в чернильницу, на секунду задумался о чем-то и, решительно опустив его на белый лист, вывел: «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве, 1788 года в августе месяце на 25-м году от рождения моего...» Как же нелегко литературное поприще! — думалось Ивану Михайловичу. Вот чистый лист перед глазами, но что можно вместить в это прямоугольное пространство из того, что пережито, выстрадано! Можно ли рассказать о переполняющем душу? С чего начать? И как всегда в таких случаях нахлынули воспоминания, отвлекая от основной цели. Оттого-то, верно, так трудно стать писателем, что нужно обладать известной долей отрешенности от предмета твоего внимания. А иначе воображение уведет тебя прочь и рука с пером, приготовившаяся, как рука ремесленника, производить действо и создавать целостное творение, вдруг застынет недвижно, словно окаменев перед подавляющей силой реальных переживаний. Тому, кто живет полной мерой, — удел писать стихи или музыку, — решил Иван Михайлович, — но никак не прозу. Чтобы писать хорошие стихи, князь это сам хорошо понимал, необходимо было чувство такта и формы, то шестое чувство, когда ты знаешь наверняка, где поставить точку, а где дать в строке паузу, чтобы в ней ощутилось не только движение ритма и смысла, но и какое-то внутреннее мистическое дыхание. Такое «дыхание» — дитя вдохновения. Что же касается музыки, так для этого нужно было еще усердие и образование. А такового никто при «малом» дворе, кроме Дмитрия Степановича Бортнянского, не имел. Шутка ли — жить столько лет в Италии, постичь всю эту кабалистическую нотную азбуку и распоряжаться ею так, будто ты и впрямь ангел трубящий, знающий всю душевную гармонию, ведающий ее клавишами — когда и как на них нажать, чтобы извлечь необходимый чувствительный звук... Вспомнив о чем-то, князь отложил в сторону титульный лист с выведенным на нем заглавием своей повести и на следующем стал неторопливо, каллиграфическим почерком записывать. «Я обучался петь у г-на Бортнянского, он руководствовал нашими операми, и при имени его я с удовольствием воображаю многие репетиции. Искусной музыкант... он один из тех людей, о которых вспоминая, я живо привожу на мысль картину молодости моей и лучшие ее минуты». Тут воспоминания опять одолели князя. Он представил себе два-три акта из «Празднества сеньора» Бортнянского, рассмеялся бесшумно, потом вдруг как бы посмотрел на себя смеющегося со стороны, понял, что отвлекся, и продолжил на полях, думая о композиторе: «Он был артист снисходительный, добрый, любезный; попечения его сделали из меня в короткое время хорошего оперного лицедея, не зная вовсе музыки, не учась ей никогда, я памятью одной вытверживал и певал на театре довольно мудреные оперные сцены, не разбиваясь ни с оркестром, ни с товарищами, что почесть можно было диковинкой...» Невольно пришел на ум еще один анекдот из жизни двора. Иван Михайлович припомнил, как вытверживал он наизусть арии, а мотивы запоминал с ходу, лишь только скрипач наиграет их два-три раза. Никто в Павловске не верил, что он знает арии назубок, не разбираясь в нотной грамоте. «Я никогда не учился музыке и правил ее совсем не знал... Однако же я пел в операх и самые значительные роли, не ошибаясь ни в одной ноте, напротив, случалось иногда в квартетах, где так музыка многосложна и сбивчива, помогать другим, мурлыча про себя их партию, и всегда кстати и вовремя попадал в свое собственное место... Сама великая княгиня, когда ей о сем доложили, не хотела верить и нарочно пришла на одну школьную репетицию, чтобы удостовериться в этом. Бортнянский сидел за своим фортепиано, у нас у всех, в том числе и у меня, ноты были в руках, всякий пел свою партию, дошла до меня очередь, и я, глядя в ноту, очень исправно пропел свой куплет. — Как же, — вскричала великая княгиня, — государи мои, вы сказали, что он музыки не знает, да он поет по ноте! — Извольте, Ваше Величество, приказать князю Долгорукову показать вам место на бумаге, которое он теперь протвердил, — ответствовал Бортнянский. Государыня подошла ко мне ближе, и каково было ее удивление, когда она изволила увидеть, что не только я схватил не ту партию, которую в то время разыгрывали, но даже и бумагу держал вверх ногами, что ясно показало Ее Величеству, что никакого понятия не имел о музыкальных правилах и пел одним навыком, благодаря верному своему слуху и памяти...» Иван Михайлович на этом месте рассмеялся, даже не успев поставить точку. Эпизод сей давнишний, в реальности наполненный массой пикантнейших деталей и подробностей, вновь отвлек его, и князь полностью отдался воспоминаниям, оставив лист бумаги. А когда вспомнил о своем намерении, решил продолжить оное занятие после, при первом же удобном случае. Случай же не представлялся довольно долго. Тогда месяц спустя Иван Михайлович твердо постановил для себя: ежедневно, ввечеру, записывать события дня, а ежели не удастся, то в конце недели для памяти оставлять краткие пометки. Вернувшись мысленно к своему музыкальному учителю и наставнику — Бортнянскому, Долгорукий решил для начала восстановить в последовательности то, как композитор попал в павловский кружок. Много воды утекло с тех пор. Когда же все началось? По-видимому, в год 1776-й, когда опера «Креонт» завоевала сердца итальянской публики, когда наследник российского престола Павел Петрович отправился в Берлин, где познакомился со своей невестой, вюртембергской принцессой Софией-Доротеей. Позже, когда белокурая принцесса стала супругой Павла и переехала в Россию, она получила вместе с титулом великой княгини и новое имя — Мария Федоровна. Именно с ней, как и со всем «меньшим» двором, будут потом связаны многие творческие начинания Бортнянского, а благотворительность и доброжелательность Марии Федоровны и хозяев двора, который в свое время станет «большим», сослужат ему немалую службу в его общественных устремлениях... Тогдашние восторженные отзывы Екатерины II и триумфальный прием прочно закрепили репутацию композитора как одного из талантливейших российских музыкантов. Но применить свои способности было не так-то просто. Для того чтобы писать музыку, слышать свои произведения, видеть ноты напечатанными и изданными, требовались по меньшей мере звание и чин. Таково уж было время. Если имя Бортнянского прогремело звонко, то должность, которой его удостоили при дворе, казалась незначительной — придворный капельмейстер, каких числилось там немало. Все главные места, все возможности для создания и постановки новых опер, музыкальных спектаклей, концертов были сосредоточены в руках все тех же итальянцев. А первым из них стал Джованни Паизиелло, мастер оперного жанра и легкой музыки — непревзойденный в своих оригинальных находках, способствовавших увеселению непритязательной публики. Бортнянский возвратился под родной кров, где, верилось, сама судьба должна была благоприятствовать ему. И он окунулся в работу, не теряя ни минуты из тех, что оставались у него после службы. По утрам и вечерам он играет при Придворной певческой капелле, а днем идет через весь Петербург к Смольному институту благородных девиц, где руководит работой тамошнего хора. В промежутках между этими занятиями он успевает сочинять собственные хоровые произведения, отдельные романсы и песни, многие из которых позднее станут частями его больших опер, пишет церковные сочинения, как, например, свою знаменитую четырехголосную «Херувимскую». Покупатель или книгочей, вошедший в книжную лавку где-нибудь у Сухопутного кадетского корпуса, или «у Миллера в Миллионной», или «напротив гостинаго двора в доме Шемякина», в ту часть, где продавались ноты, первым делом мог заметить изданные с особым изыском «Сочинения г. Бортнянского», напечатанные, как это отмечалось, «с одобрением самого автора». Его творческая плодовитость уже не на шутку стала беспокоить не только знатоков, но и его друзей. Одновременно такие его достоинства, как домовитость и доброжелательность, спокойствие и рассудительность, мягкость и внешнее обаяние, притягивали к нему немало людей. И все они бывали удивлены той неустанности, с какой он создавал свои произведения, быстроте, с какой появлялись на свет его новые и по сути и по форме музыкальные творения. Что ни издание — то нечто новое в русском нотопечатании. Ивану Михайловичу именитый маэстро преподнес первое выпущенное отдельно в России авторское духовное музыкальное произведение, а также песню «Dans le verger de Cythиre» («В саду Цитеры») «с аккомпанированием клавикордов», которая увидела свет отдельным выпуском. Особенно приятно было сознавать князю, что ничего подобного еще не было видано в отечественной издательской практике. Хоры Бортнянского, написанные им в то время, распевали по всему Петербургу, они уже тогда поистине вошли в российскую музыкальную сокровищницу. Дела у Бортнянского шли весьма успешно, и он мог бы добиться еще более значительного успеха и прославиться уже хотя бы тем, что гениально продолжил музыкальные традиции, заложенные в свое время Галуппи, Березовским, Траэтто, Сарти, но, как всякий гений, он не мог прожить одну только жизнь, он успел в отведенное ему время для бытия прожить их несколько. Мотивы и традиции партесного пения уже доживали свой век. А разве мог композитор, считавшийся популярным и модным, идти тем же путем, которым шли его учителя?! И его хоры — совсем из другой эпохи. Это отточенный музыкальный язык, использование всех известных и наиболее употребительных форм музыкального выражения, это смелое включение в них бытующих светских жанров, таких, как марши, менуэты, канты. Его музыка переставала быть «заоблачной» и академичной. Сам того не подозревая, композитор, в жилах которого текла кровь выходца из украинской казацкой семьи, разбавил ее живым током ту чересчур «голубую кровь», которой, казалось, подпитывалась светская придворная музыкальная среда, и тем самым сделал удобопонятными и привлекательными в самых широких кругах свои нехитрые мелодичные творения. Он становился массово чтимым, он был, говоря языком нашего времени, демократичен в своем творчестве и потому пользовался успехом во всех слоях российского общества. Но карьера его, которая получит столь блистательный взлет в недалеком будущем, в это время еще не доставляла ему удовлетворения. Необходимость вращаться в высших сферах общества ставила перед ним дилемму: с одной стороны — он признанный корифей с багажом европейского успеха, а с другой — происхождением не вышел, к тому же все состояние его — лишь коллекция картин, подаренных в Италии авторами, в остальном же едва удается дотянуть от жалованья до жалованья. Как всякий музыкант, он частенько жил в долг. Вообще-то проблема заключалась не в материальной даже стороне дела, хотя она и оставалась более чем существенной: денежное вознаграждение, полученное по возвращении из Италии, разлетелось бесследно и быстро. Проблема тревожила все же другая: негде было приложить свои силы, основательно и глубоко, работать в больших жанрах, иметь постоянную возможность творческого выхода, воплощения задуманного. Ушли в небытие прежние высокопоставленные покровители. Когда еще вновь вернется внимание и благосклонность императрицы... Распорядок дня его, как и прежде, был насыщен. Светские визиты сменялись торжествами в аристократических домах. Композитор время от времени участвует в музыкальных постановках, поощряемый частными лицами. Так еще можно было существовать. В качестве капельмейстера или хормейстера его считают за честь в особо торжественных случаях пригласить знатные особы. К. Книппер, основавший свой камерный «Вольный театр», которым в те годы управлял И. Дмитриевский, приглашает Бортнянского для участия в оперных постановках. Целыми днями Бортнянский пропадал в театре. Музыкальной частью его ведал Василий Пашкевич — сам известный и одаренный композитор. Приятно было рука об руку работать с таким мастером. И все же монотонно, в каком-то замедленном ритме пролетали дни, годы... Что было бы дальше на пути Дмитрия Бортнянского, думалось Долгорукову. Подарила бы ему фортуна еще одну свою улыбку на этом поприще трудного общественного служения? Но судьба распорядилась опять-таки по-своему. Ему суждено было сыграть другую роль в жизни российского общества, более возвышенную и ответственную. Когда в один из декабрьских дней 1777 года над Санкт-Петербургом прогремела пушечная канонада — 101 залп, выпущенный из жерл салютоционных орудий, — Россия узнала счастливую весть: великая княгиня Мария Федоровна благополучно родила сына, которого тут же окрестили Александром. Около года прошло после замужества, и надежда русского трона — внук и сын, будущий наследник — прокричал в первый раз, требовательно и властно, в руках прослезившейся кормилицы. Радости императрицы не было конца. Уже тогда Екатерина поняла — будет кому оставить престол при любых обстоятельствах. Казалось, восторг пленил ее больше, чем самих счастливых родителей. Она, воспылав вдруг неслыханной щедростью, дарит Павлу огромный участок земли, расположенный по течению реки Славянки, что недалеко от Петербурга. Участок включал в себя более 360 десятин леса, несколько деревень вместе с крепостными крестьянами. Но само место — живописное, благоуханное, словно расчлененное каким-то невиданным ваятелем на покатые холмы, уютные овраги, обильные рощи — выбрано было на редкость удачно. Здесь по аналогии с недавно возникшим Селом Царским было создано новое и названо Селом Павловским. Уже на следующее лето младенца нужно было «вывозить на воздух». С весны 1778 года началось строительство Павловска. Две небольшие постройки украсили для начала село: «Паульлюст» и «Мариенталь». С лета 1779 года супруги практически каждый теплый сезон, не всегда полностью, но все же проводили в здешних домиках. Через год специально нанятый для создания парка и украшения пейзажей приступил к своей работе архитектор Чарлз Камерон. Еще через два года под его руководством был заложен первый камень в фундамент Большого дворца. Иван Михайлович, да и всякий, кто обитал здесь, ощущал, что жизнь и быт Павловска всегда отличала какая-то романтическая отрешенность от неожиданных поворотов людских судеб, свойственных «большому» двору, где, подобно метеорам, вспыхивали — порой на миг — и угасали имена тех, кто попадал в «случай». Эстетическая насыщенность повседневного бытия «малого» двора, эфемерность и недолговечность расписных декораций, наполнявших парк, восторженная пылкость отношений, свойственные здешним традициям, — все это вместе с тем переплеталось со взрывчатыми поступками наследника престола, цели и последствия которых никто не мог предугадать. Лишь музыка сглаживала все шероховатости быта. Она звучала в Павловске столь же беспрерывно, как и пение птиц. В опере в моменты эмоционального переживания самых великолепных вершин, которые только может достичь искусство, не существовало разделения на ранги, не было раздоров и непонимания, а было лишь обаяние проникновения в мир прекрасного. Мария Федоровна, умело обходившая все неурядицы, устраивала в Павловске все на свой лад и не преминула позаботиться о том, чтобы начать возведение театра для постановки музыкальных спектаклей. Рядом с молочным домиком и другими пасторальными затеями, типа Шале, Хижины угольщика или в кругу построек на античные мотивы — Храма дружбы, Колоннады Аполлона, Руин — должен был появиться и храм музыки, где можно было бы ставить французские оперы, внимание к которым Павел Петрович в это время охотно проявлял. Для начала сколотили «в английском саду у качелей» деревянный, крытый железом павильон. Снаружи его стены покрыли зеленой дранкой. Здесь-то и должен был разместиться первый Павловский театр. А пока же музыка звучала во всех концах парка. Пение или затейливые инструментальные мелодии сопровождали, например, работы на огороде при Старом Шале, отдых от которых возвещала ударами в колокол сама хозяйка Павловска, а также завтраки на верандах и в беседках, прогулки на воде. Ведь само понимание сада в ту предромантическую эпоху включало в себя как неизменную деталь — присутствие музыкального оформления, что способствовало установлению целостного эстетического восприятия «героев» пасторальной интермедии — также являющихся частицей этой не всегда естественной природной композиции. Моцарт, Гайдн, Плейель и другие композиторы были здесь любимцами. Но вот наконец (на последнем слове Иван Михайлович сделал ударение) настает увлечение оперой. Пока строился Павловск, музыкальная жизнь Петербурга продолжалась своим чередом и с каждым годом набирала все больше силы, словно бутоны свежих роз, поражая своим великолепием и особым неповторимым благоуханием. Столичные театралы обсуждали премьеры выдающихся оперных постановок своих известных соотечественников. Одна вослед за другой эти оперы собирали огромные залы народа, а затем оставались навеки в памяти, заслужив право занять свое почетное место в списке лучших творений русских композиторов. Театр Меддокса за год до уничтожившего его пожара представил 24 сентября 1779 года комическую оперу М. Соколовского на текст А. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват». В ноябре, а затем и в декабре того же, «плодовитого» на оперный жанр года, Вольный театр отдал свою сцену Василию Пашкевичу и Якову Княжнину, которые создали «Несчастье от кареты». Два года спустя уже московский зритель радушно встречал их новую оперу «Скупой». Вслед за этим дебютом неутомимый Пашкевич вступает в содружество с преподававшим в Смольном институте талантливым литератором М. Матинским и либреттистом-любителем князем Д. П. Горчаковым. С последним они создали комическую оперу «Калиф на час», представленную в Москве. А с Матинским — сперва покорившую все сердца оперу «Тунисский паша», а затем блистательный шедевр комического жанра — «Санктпетербургский гостиный двор», премьера которого состоялась 24 сентября 1783 года в Петровском театре. Музыка гремела повсеместно на балах и парадах, на двунадесятых праздниках и юбилеях, на торжествах по случаю приездов и отъездов именитых особ, на заключении союзных договоров и мирных трактатов. В 1782 году Сенатская площадь Петербурга, заполненная столичными жителями и собравшимся с окрестных сел людом, огласилась громом орудийного салюта и треском холостых ружейных залпов. В центре площади возвышалось непонятное сооружение из досок и огромных деревянных фанерных листов. В тот самый миг, когда прогремели залпы, одновременно, по отрепетированному заранее сценарию фанерные щиты развалились в разные стороны, словно лепестки гигантского цветка, и перед изумленной публикой предстал на гранитном монументе горделиво восседающий на коне, попирающем змия, основатель столицы на Неве. Так был открыт памятник Петру Великому. Одновременно с залпами грянула музыка. Военные оркестры играли марш... В столицах и по всей стране возникали новые театры. Только с 1779 по 1787 год открыли свои двери Вольный театр К. Книппера, дававший музыкальные спектакли в здании Деревянного театра на Царицыном лугу, новый театр Меддокса — Петровский театр в Москве, театры в Вологде, Тамбове, Рязани, Воронеже, Иркутске, московский Воксал на Рогожском поле, Большой или Каменный театр в Петербурге, театр при Московском воспитательном доме и, наконец, знаменитый петербургский Эрмитажный театр. Никогда доселе, да и позднее, в ближайшие годы, не бывало такого заметного расцвета оперного театра в России. Громадную роль в становлении отечественного музыкального театра сыграли и государственные мероприятия, учиненные Екатериной II, отсутствие музыкального слуха у которой отнюдь не мешало ей быть любительницей оперных либретто. 12 июля 1783 года она подписала в Царском Селе специальный указ об опере, который был тут же и обнародован. Среди документов подобного ранга и подобного рода указ 1783 года занимал из ряда вон выходящее место. Указ по-настоящему регламентировал еще и еще раз все действующие в столице труппы — по их направлению и по соответствующему денежному содержанию. Как всегда, но уже более отчетливо разделялись: «1. Певцы итальянские для концертов... 2. Театр российской. 3. Опера комическая итальянская. 4. Театр французской. 5. Театр немецкий. 6. Балеты. 7. Оркестр... 8. Все вообще для того потребные люди...». Соответственно тому упорядочивалась и концертная жизнь. Не как попало, лишь по особым случаям, а по определенному распорядку указывалось устраивать музыкальные вечера. «Комитет и директор (по театральным зрелищам. — К.К.) обязаны... 1. Всякую неделю однажды или дважды в назначенный день или когда приказано будет дать концерт во дворце. 2. В неделю однажды, или дважды дать спектакль какой и где приказано будет в городе или за городом. 3. Всякое воскресение, в которое не случится бал при дворе, дать инструментальную и вокальную музыку... 4. И в торжественные дни когда повелено будет в городе или за городом дать... так же инструментальную и вокальную музыку. 5. После четырех праздников наших токоже в новый год и в карнавал на масленой дать по одному спектаклю большому без платежа на большом городском театре...» Получал в указе конкретные наставления и музыкант-сочинитель: «Капельмейстер обязан стараться, чтобы к тем дням изготовлены были пристойные зрелища; полагая по крайней мере на всякой год по одной или по две оперы новых сериозных; и по две новыя оперы комическия с балетами». Особенностью нового указа, его отличительной чертой, придавшей ему значение эпохальное для судеб отечественной музыки, можно назвать и еще один его пункт. На него не могли не обратить свое внимание и Иван Михайлович Долгорукий и, конечно, Дмитрий Степанович Бортнянский. В указе было особенно выделено то, что воспитанию подрастающей музыкальной смены из российских, отечественных талантов отдается ныне предпочтение. В первую очередь подтверждалось оправдавшее себя направление подготовки оперных солистов из придворных певчих. «Нужно, чтоб те из певчих, — гласил текст, — кои отменную способность, охоту и прилежание окажут к музыке, так оной обучаемы были, чтоб в случае надобности можно было их употребить в операх, особливо же когда российские умножатся». Подтверждалась также целесообразность того, что делали и прежде: «Для приобретения лутчих успехов в театре и музыке позволяется актеров, музыкантов и танцовщиков российских посылать в чужия края, определяя им деньги на проезд и содержание...». Так ведь поступили еще два десятилетия назад и с покойным Березовским, и с самим Дмитрием Степановичем. Но два других обстоятельства можно считать вполне новыми. Первое — то, что наконец в государственном масштабе, императорским указом, был дан приоритет, открыта широкая улица для становления русской оперы. «Российский театр, — читаем мы в указе, подписанном Екатериной, — нужно чтоб был не для одних комедий и трагедий, но и для опер». Для того же, чтобы подкрепить такую возможность материально, поспособствовать росту и успеху отечественных актеров музыкального театра, производилась и реформа в пенсионном обеспечении, притом впервые — не в пользу заезжих иностранных маэстро! Пенсия певцам назначалась за 10 лет беспорочной службы — при сотрудничестве «прилежном и без отлучном в совершенной исправности послушании». И самое главное — «природные российские долженствуют пользоваться в том преимущественном пред иностранными... Пенсии таковые могут определяемы быть начиная с самого меньшаго числа даже до половины оклада для российских и до третьей части онаго для иностранных...». Это была существенная перемена. Для Бортнянского, вплотную подступившего к порогу музыкального театра, она стала соответствующим стимулом активной деятельности. Именно с этого времени расцветает его оперное творчество. Джованни Паизиелло все еще блистал звездой первой величины на музыкальном небосводе российского двора. Еще в апреле 1781 года Екатерина II подписала указ о продлении контракта с ним на весьма лестных условиях сроком еще на четыре года. Пухлое личико композитора, томные, красивые глаза с долгими ресницами, спрятанные под правильными полумесяцами бровей, завитушки его ухоженных волос, не знавших парика, способствовали его популярности и славе среди придворных дам, а значит и их мужей, не меньше, пожалуй, чем написанная им музыка. Оперы маэстро ставились в лучших российских театрах, в Петровском и Каменном, в Царском Селе и Смольном институте. Тут звучали и «Дмитрий», и «Ворчливый муж», и «Мнимые философы», и «Служанка-госпожа», и «Севильский цирюльник». Но войдя, можно сказать, в зенит своей славы, Паизиелло вдруг попросил у императрицы отставки, чем немало всех удивил. Правда, уже несколько дней спустя весь Петербург шумел, из уст в уста передавались подробности скандальной истории, случившейся с маэстро. Оказывается, он решил таким образом выразить свое недовольство условиями контракта, который он сам же и подписал с придворной театральной конторой, при том зная, что договор с ним значительно отличался в лучшую сторону от подобных контрактов, заключаемых, скажем, с отечественными музыкантами. Видимо, новый указ императрицы затронул и его личные интересы. Паизиелло написал в контору письмо, где изложил свои требования, и был вызван театральной администрацией на прием, куда незамедлительно направился. — Велено подождать, — лакей в прихожей указал ему на стул у самых дверей, рядом с каким-то кучером. — Мне?! Подождать?! Здесь?! — маэстро начал распаляться со свойственной южанам экспансивностью. Это его и погубило. В кабинете театрального вельможи он уже не говорил, а возмущенно фыркал. Правда, кричать побоялся. В конце концов Паизиелло разразился бранью и выбежал вон, хлопнув дверью. — Вернитесь! — услышал он вдогонку. Но куда уж там... Вечером того же дня по выходе из Эрмитажного театра он увидел, что его карета окружена солдатами. — Это что, почетный эскорт? — спросил он у офицера. — Никак нет. Велено вас взять под стражу и препроводить в контору. То был последний удар. Тщеславный композитор не выдержал такого унижения. Но дать себя арестовать — это же безумие! — Господин офицер, позвольте мне вернуться, я, кажется, забыл шляпу, — мгновенно оценив ситуацию, попросил Паизиелло. — Конечно, сударь. Он вбежал в подъезд и что есть мочи бросился по лестнице к черному ходу... Ночевать пришлось у знакомого итальянца Анджолини, в Шляхетском корпусе. Потому что дом, отведенный композитору, тоже окружили солдаты. Этой же ночью Паизиелло написал письмо императрице с просьбой отпустить его в Италию в связи с нездоровьем жены. Закончился курьез просто. Наутро композитора все-таки заставили явиться в театральную контору и извиниться. Разрешение об отпуске было выдано тотчас. Паизиелло, толком даже не уложившись, выехал в закрытом экипаже по варшавской дороге. Контракт, оговаривавший условия отпуска, лежал у него в кармане. Композитор обязался вернуться в Петербург через год — к 1 января 1785 года... Неожиданно для многих на период отъезда Паизиелло капельмейстером и клависинистом «малого» двора назначают Дмитрия Степановича Бортнянского. Впрочем, — и Иван Михайлович это хорошо знал — неожиданного в буквальном смысле слова в таком назначении было не так уж много. Бортнянский и прежде пребывал в окружении великокняжеской четы, его музыку хорошо знала и всегда восхищалась ею Мария Федоровна. Еще одним основанием для такого сближения стала небезызвестная поездка владетелей Павловска по европейским странам под именем графа и графини Дю Нор (Северных). Соблюдая инкогнито, которое, впрочем, было всем известно, «граф и графиня» посетили Италию, побывали в тех же городах, в которых приходилось жить или бывать и Бортнянскому. Здешний успех композитора, который еще не успел забыться за два с небольшим года после отъезда его на родину, конечно же, стал известен наследнику русского престола и тем более его жене, которая не могла провести и вечера, чтобы не посетить оперу. Так или иначе, Иван Михайлович застает Бортнянского за тем занятием, которому со всей своей обаятельной изысканностью предавался его дипломированный предшественник из Италии. Он начинает писать инструментальную музыку для всевозможных нужд «малого» двора, а также дает уроки Марии Федоровне. Нельзя сомневаться в том, что выбор великокняжеской четы был верен. Мягкость, утонченность, свободный, но вместе с тем сдержанный стиль в обхождении, аристократизм и грациозность в общении, необходимые для круга знатных вельмож, — все это было свойственно Бортнянскому. Но главным его достоинством был талант и огромный творческий потенциал. И то и другое Долгорукий испытал и хорошо знал, он мог поручиться за одаренного музыканта. Правда, перед Бортнянским простирался не вполне ясный горизонт, ведь вся его деятельность должна была состоять из исполнения капризов и желаний великого князя. Но кто мог удержать композитора от того, чтобы не вложить в заказ высокий смысл и настоящее вдохновение?! Время летит быстро. Настает 1 января 1785 года. Паизиелло, ссылаясь на всякие неопределенные обстоятельства, в Россию не возвращается. Дмитрий Бортнянский остается при «малом» дворе. Теперь он весь и навсегда во власти новых хозяев. И это ему пришлось ощутить в первые же дни по вступлении в должность. Мария Федоровна любила систематичность в своих музыкальных занятиях, на которые уходило иногда по нескольку часов в день. После одного из них она попросила композитора задержаться. Достав из секретера пачку писем, исписанных мелким и нервным почерком, она разложила их на столе. — Вот, извольте ознакомиться, Дмитрий Степанович, как держат слово ваши итальянские коллеги. Паизиелло наделал реверансов, надавал уйму обещаний, но теперь его и след простыл. А ведь у нас был уговор — на занятиях разучивать только новые сонаты. Только новые! Разве не могу я, — тут она сделала выразительную паузу, — позволить себе столь маленькую слабость: играть лишь свежие сочинения. — Но неужели Паизиелло не выполнил своих обещаний? Ведь он намеревался присылать вам из Италии новые сонаты. — Конечно же, нет! Напротив, он еще ставит свои условия. Вот, полюбуйтесь, — княгиня протянула Дмитрию Степановичу одно из писем. — Он, видите ли, ждет обещанного ему пенсиона. А как же я буду платить за еще не сделанную работу? А? У меня на родине, в Германии, говорят: «Сначала работа — потом деньги!» Нет, эти итальянцы просто возмутительны! Дмитрий Степанович промолчал, хорошо зная характер хозяйки «малого» двора. С немецкой педантичностью она всю свою жизнь вела денежные дела и расчеты, собственноручно, каждый день заполняла реестр трат и расходов, не упуская из виду ни одной мелочи, учитывая все, вплоть до последней копейки. — Будут сонаты — отошлем деньги, — сердито заключила княгиня, закусив губу. — Думаю написать ему строгое письмо. Надо осадить нахала. — Осмелюсь предложить Вашему Высочеству сперва отправить вежливый ответ, в коем лишь намекнуть на отказ. Итальянцы обидчивы, слух о неуплате обещанных денег разнесется быстро. Вам будет трудно впоследствии найти себе новых тамошних музыкантов. — Нужды нет. Ваше имя заменит нам итальянцев. Бортнянский склонил голову, выражая благодарность за лестную похвалу. — Значит, денег не отсылаем... Да, но сонаты! Мне же нужны новые сонаты для моих занятий! Придется вам, Дмитрий Степанович, потрудиться... Последняя фраза стала окончательным приговором для Бортнянского-педагога. Он должен не просто заменить Паизиелло, не так давно посвятившего великой княгине свой труд «Правила хорошего аккомпанемента на клавесине», но и заполнить пробел в нотном материале для уроков музыки. И он с честью выходит из положения, подготавливает для Марии Федоровны целый альбом пьес, предназначенных к исполнению на фортепиано, клавесине и клавикорде1. Композитор долго трудился над оформлением альбома. Заказал роскошный переплет, на атласной нотной бумаге каллиграфическим почерком выписал личное посвящение великой княгине, а затем долго переписывал от руки все пьесы. Подарок имел громадный успех. Ответный шаг со стороны супругов был по-своему щедр. После весенних пасхальных торжеств 30 апреля 1785 года Дмитрию Степановичу был пожалован первый в его жизни, пока что не высокий, но все-таки чин — коллежского асессора, по армейскому счету равнозначный майорскому. Что это означало для него? Ничего особенного. Перемен не намечалось, если не считать приятной и к тому же столь необходимой прибавки к жалованью. Но самое главное — пристрастие Марии Федоровны к сонатам было удовлетворено, в итальянцах более не нуждались, и занятия возобновились с удвоенной энергией. Открывался альбом восемью произведениями сонатного жанра для клавесина. Не выделяясь замысловатостью формы, сонаты привлекали своей мелодичностью, даже напевностью, особенно в тех местах, где среди музыкальных построений типично итальянского характера вдруг появлялись обрывки фраз, намечались мелодии или целые обороты из известных плясовых песен — русских или украинских... И в дальнейшем жизнь при «малом» дворе обещала быть полной событий и надежд. Но изредка — и Ивану Михайловичу не хотелось об этом вспоминать — могла омрачаться всяческими непредвиденными обстоятельствами, обусловленными разными личными антипатиями. Всем известны были отношения державной императрицы и ее строптивого сына. Стремление Екатерины II оставить престол внуку Александру, в обход его отца, ставило «малый» двор в неопределенное положение. Веськружок друзей Павла, сложившийся в 80-х годах XVIII столетия, не мог рассчитывать на благоприятные изменения в будущем. Более того, опальное положение царственного сына ставило также и их в двусмысленное положение. Впрочем, делом Бортнянского, как и Долгорукова, была музыка, искусство, достойное только упорных и одаренных мастеров. И Бортнянский отдается ей в самой полной мере. Театр ворвался в жизнь Павловска и другой резиденции «малого» двора — Гатчины — в середине 1780-х годов. Для того чтобы собрать настоящую труппу актеров, не требовалось особых усилий. Среди придворных были и одаренные артисты, и именитые литераторы. Дмитрий Степанович Бортнянский преуспел в преподавании музыки воспитанницам Смольного института благородных девиц, которые становились затем, как правило, фрейлинами. Кавалеры же были в основном выходцами из сухопутного Шляхетского корпуса, где уроки давал все тот же Бортнянский. Современник писал: «Не знаю, по чьему желанию и повелению вздумали усовершенствовать кадетский хор и пригласили знаменитого Бортнянского выбрать голоса и обучать певчих... Однажды кадетский хор пел концерт, сочинения Бортнянского, под его личным регентством». Оба учебных заведения имели большие традиции в области драматического искусства. Все это и способствовало тому, что музыкальный театр в Павловске был одним из ведущих в России того времени. Среди прочих блистали на его сцене такие одаренные любители, как Екатерина Ивановна Нелидова, «ближайший», или, как в иных случаях писали, «интимный», друг Павла Петровича, — та самая, которая с лукавой усмешкой смотрит на зрителей с известного портрета художника Д. Г. Левицкого. На павловской сцене играли и другие прелестные «смолянки» — Г. И. Алымова (Ржевская), Н. С. Борщова (Мусина-Пушкина), а также В. Н. Аксакова и возлюбленная князя Долгорукова Е.С. Смирная. Мужские партии с успехом исполняли князья П. М. Волконский и Н. А. Голицын, те самые, которые через два десятилетия займут высокие посты в Российском государстве, а также князь Ф. Н. Голицын, С. И. Плещеев, Г. Г. Кушелев, графА. А. Мусин-Пушкин и, конечно же, тот самый князь И. М. Долгорукий, чьи воспоминания дают так много ценных сведений о Бортнянском. Часто ведущие арии пел камергер Павла Петровича Ф. Ф. Вадковский. Интересно и то, что литературную и драматическую часть в операх обычно готовили в Павловске своими силами. Отличный импровизатор на клавесине, широко образованный человек, графГ. И. Чернышев сочинял разнообразные комедии и водевили, пародии и пантомимы, иногда совместно с А. А. Мусиным-Пушкиным. Эти пасторальные интермедии как бы имитировали «естественный» быт хозяев Павловска, выказывали всевозможные достоинства и добродетели великокняжеской четы, изображавшей ведущую скромный сельский образ жизни семью поселян. Таковой, например, была интермедия «On у dit се qu’on у pense» («Там говорят, что думают»), поставленная в 1785 году. Не менее деятельное участие принимали в создании текстов опер секретарь и библиотекарь Марии Федоровны А. Ф. Виолье и родившийся в Швейцарии француз Ф. Г. Лафермьер. Будучи сначала преподавателем, а затем чтецом при дворе Павла Петровича, Лафермьер стал любимцем и неотъемлемой частью этого общества. Без него не обходилось ни одно представление, ни один праздник. Везде он был главнейшим участником или организатором. Именно его тексты использовал для своих сочинений Бортнянский. В ходу здесь были французские комические оперы, такие, как «Роза и Кола» и «Дезертир» Монсиньи, «Избранница из Саланси» Гретри, «Нина, или Безумная от любви» Далейрака. «Французскими» считались и оперы Бортнянского. Павел Петрович слыл большим их знатоком. Еще в юности, как замечали современники, он говорил, что он «столько их наслышался, что и во сне ему снятся и не дают покоя»... «Великой княгине захотелось дать супругу своему сюрприз и нечаянно представить ему в Гатчине театральное зрелище. Камергер граф Чернышев заправлял этим делом и составлял труппу. Нетрудно было набрать ее из фрейлин, при дворе тут живущих, и из придворных. Всякий за честь ставил попасть в список»... Иван Михайлович хотел было расписать во всех подробностях то, как готовились ко дню тезоименитства Павла Петровича, должного состояться в последних числах июня. Сюрприз готовили давно, и порученная Дмитрию Степановичу опера была как бы главным подарком. Именинник знал, что подготавливается новая постановка, но делал вид, будто ничего не ведает. Решено было взять за сюжет идиллическую встречу в небольшой деревне прибывающего сюда владельца — сеньора, что соответствовало бы встрече на именинах самого Павла Петровича. Иван Михайлович еще раз пролистал подаренную ему партитуру оперы, на титульном листе которой каллиграфическим пером было выведено: «La Fete du Seigneur. Comе|die, mе|lе|e d’airies et des balets», что в полном объеме означало — «Празднество сеньора, комедия с ариями и балетом. Представлена в присутствии Их Императорских Высочеств русских великого князя и великой княгини на театре их дворца в Павловске. Год 1786. Музыка Д. Бортнянского». Но стоило ли все это расписывать так подробно, и князь вывел наспех: «При драме... готовили оперу небольшую с ариями и куплетами в честь героя торжества... Опера кончалась балетом»... Уже много-много лет спустя, когда он готовил к публикации свои «записки», которые увидели свет лишь после его кончины, Ивану Михайловичу представился случай ознакомиться с бумагами супруги Павла Петровича, не имевшими особенных литературных достоинств, но для задуманной князем летописи Павловского театра оказавшимися необычайно ценными. Вот что удалось Долгорукову узнать, например, из писем Марии Федоровны к коменданту села Павловского Карлу Ивановичу Кюхельбекеру (отметим — отцу будущего декабриста), связанных с подготовкой к постановке оперы Дмитрия Бортнянского «Празднество сеньора» в июле 1786 года: «Петергоф, 2 июля: По получении сего письма вы немедленно отправитесь в Царское Село и уговоритесь, чтобы попросить часть зеленых фонарей у Бецкаго, другую у Стрекалова, третью у Чернышева...» «Гатчина, 6-го июля: Настоятельно необходимо переговорить с вами о тысяче вещей для праздника, особенно об убранстве итальянской залы, так как мне кажется, вы не хорошо меня поняли...» «Гатчина, 8-го июля: Продолжайте приготовления для театра, потом мы будем делать репетиции и до тех пор, пока не достигнем совершенства. Необходимо во что бы то ни стало поставить в оркестр клавикорды: взять их из Шарбоньера...» «Гатчина, 8-го июля: Я приказала привезти из города цветочныя гирлянды, которыми как-то раз был убран большой зал на Каменном острове еще до нас, и думаю, что эти же самыя гирлянды могут послужить для украшения театральной залы. Можно их приподнять красивыми бантами из цветной бумаги. Я думаю, что нам удастся украсить эти залы, почти ничего на них не потратив...» Получилось, что не столько театр давал представления для павловских зрителей, сколько все окружение наследника играло в театр. Каждый новый спектакль был событием, менявшим привычный уклад жизни. В этом смысле Бортнянский превращался на время в дирижера павловского быта. Под его музыку, или, по пословице, под его дудку, в прямом смысле слова, «плясали» придворные, невзирая на чины, положения и звания. Все основные артистические силы двора участвовали и в «Празднестве сеньора». Каждый играл как бы самого себя. Ивану Михайловичу досталась роль де ля Жаннотьера, депутата, выбранного деревней для встречи господина. Ну и посмешил же князь именитую публику, особенно в том месте, когда его герой разучивал менуэт, но никак не мог толком сделать реверанс и одновременно снять шляпу и поклониться. И все это было проделано Иваном Михайловичем с особой изящной неуклюжестью и ловкостью, так, что сам сеньор — великий князь смеялся до слез. Князь Голицын ловко спародировал павловского садовника Григория Ломакина — всегда пьяного и надоедливого в многочисленных и постоянных рассказах о своих давнишних боевых заслугах. «Отставной солдат Грегуар», спевший гимн своей шпаге, стал поистине любимцем публики. Непринужденно была разыграна вся комедия. По сюжету Бабетта любит Люка, Аннета — Любена. Все преграды рушатся на пути к их счастью, которое сливается в общий праздник, связанный с приездом сеньора. Сам же «господин» не появлялся на сцене, ведь он сидел в зале в первом ряду, бок о бок с Марией Федоровной, и благосклонно внимал своим приближенным. Все задуманное удалось на славу: и песенка Перетты с поздравлениями великому князю, и угловатые реверансы де ля Жаннотьера, и советы для новобрачных Перлажуа, поставившего в пример всем семейное благополучие самого «сеньора», и грубоватая песнь Грегуара. А танцы в конце — разве не вызвали они всеобщего восторга и не заставили именинника вновь смеяться от души. Воистину вечер был прекрасен... «Сверх роли в драме мне дали и в опере и в балете работу. Во всех искусствах заставили дебютировать: в опере я играл потешного приказчика, а в балете буффу»... — записал Иван Михайлович и, перечитав, удивился скупости своего пера. И впрямь выписать увиденное и пережитое стоило немалых мук. Лето 1786 года выдалось дождливым. Пришлось уменьшить количество забав и театральных представлений в Павловском парке. Но успех «Празднества сеньора», умелая игра актеров, а главное — дивная музыка вызвали желание испробовать силы участников представления в новой опере, более объемной и сложной. Мария Федоровна обратилась к Лафермьеру с просьбой написать либретто. Уже в июле оно было готово. Тут же была и написана музыка — Бортнянский не заставил долго себя ждать. Оперу назвали «Le Faucon» — «Сокол». Композитору пригодились кое-где мотивы итальянской оперы «Алкид», поставленной прежде в Модене. В августе дожди не переставали вовсе. В один из таких серых, похожих один на другой дней Мария Федоровна предложила супругу развеять придворную публику чтением новой комедии. Иван Михайлович еще раз уточнил — то было в августе. Павел Петрович, уже тогда не всегда ладивший с женой, на этот раз любезно согласился. После обеда собрались в кабинете великого князя. Задерживались лишь Лафермьер и граф Чернышев. Наконец они появились оба. Граф, как всегда, элегантный, подтянутый. Тонкие, женственные черты его лица, румянец щек, грива темных волос, светлые глаза выдавали хрупкую, одаренную натуру. Вослед за ним в кабинет вошел автор, в новом сюртуке, в галстуке, завязанном на французский манер. Мария Федоровна указала место графу подле себя, а Лафермьера попросила сесть за пульпет у клавесина, что он тут же и исполнил. Собравшиеся с любопытством поглядывали друг на друга в предвкушении новой постановки. Павел Петрович сидел в кресле, чуть нахмурившись, и никто не проронил ни слова, зная, что может вызвать его жесткую реплику. Но вот Мария Федоровна сделала знак рукой Лафермьеру, тот не спеша поправил свои пепельные кудри, развернул листы бумаги и приготовился читать. — Ну что же, господа, — прервала молчание великая княгиня, —по всеобщей просьбе и к нашему удовольствию собрались мы здесь нынче для того, чтобы ознакомиться с новою комедией, имеющей быть поставленной в нашем театре. Господин Лафермьер старанье приложил и написал либретто, а господин Бортнянский уже и музыку приготовил. Не так ли, Дмитрий Степанович? — Да, Ваше Высочество. Уговор у нас с Францем Германовичем, что я в конце чтения проиграю несколько арий. — Так тому и быть. Ну и начнем, если на то против нет никаких мнений. При этих словах все посмотрели в сторону Павла Петровича. Тот, ничего не сказав, лишь кивнул головой. Лафермьер начал. В свое время еще М. Седен написал либретто на подобный сюжет для оперы П. Монсиньи. Лафермьер и взял его за основу новой комедии. Сюжет был прост и известен. В одной из глав «Декамерона» в свое время шел рассказ о соколе — любимой птице некоего Федериго дельи Альбериги. Этот же герой, в данном случае — Федерик, попал на страницы либретто павловской оперы. Несчастный юноша воспылал сильной страстью к молодой вдовушке — Эльвире. А его слуга Педро к тому же влюбился с первого взгляда в служанку Эльвиры — Марину. Федерик тратит все свои средства, чтобы обратить на себя внимание Эльвиры. Но та после смерти мужа решает отдать свою жизнь лишь единственной цели — воспитанию сына. Она любит его больше всего на свете: «Я берегу свое состояние только для сына. Я люблю только сына. Он для меня все!» — говорит она. Огорченный неудачами Федерик думает бросить свою затею и уехать в деревню, где проводить горестные дни в охоте за дичью. Педро тоже уговаривает его забыть «об этих бабенках»: Нас ждет приют беспечный, Нас ждет приют беспечный, К нему без лишних слов. И в глубине кувшина, И в глубине кувшина Утопим мы любовь... Незаменимым помощником друзьям в деревенской жизни становится прирученный к охоте сокол. Любимец Федерика, он каждый день доставляет ему радость прекрасной куропаткой к обеденному столу. Но вот Эльвира, удрученная болезнью сына, который привык к Федерику и тоскует без него, особенно без его сокола, предполагает поехать к своему поклоннику в деревню. На этот шаг ее постепенно толкает Марина. Отрицая скучную судьбу вдовы, она произносит панегирик женитьбе: Кто брак зовет несчастьем, Тот враг нам, а не друг, — патетически восклицает юная служанка... В этом месте Лафермьер на мгновение остановил чтение и взглянул на Марию Федоровну. Та улыбнулась, не скрывая своего удовлетворения. Либреттист знал, о чем пишет. Будучи поверенным тайн великой княгини, он был посвящен в интимные стороны ее жизни, знал о ее размолвках с мужем... Кто брак зовет несчастьем, Тот враг нам, а не друг, — повторил чуть громче Лафермьер. Кроме того, он ловко вплел в сюжет намек на необходимость более «теплого» отношения матери-вдовы (сиречь — «державной императрицы») к сыну (сиречь — Павлу). Обоим супругам угодил... Федерик, узнав о намерении Эльвиры, обещает ей роскошный обед. Но, как назло, в день приезда дамы ему не удалось добыть никакой дичи. Обед, да и честь самого Федерика попали под угрозу. Единственной мыслью, которая приходит ему в голову в тот момент, была мысль сделать жаркое из любимого сокола. Федерик мечется, мучается перед выбором, но наконец решается. Сокола зажаривают. Эльвира, отведав кушанье, восторженно хвалит его, но когда узнает о том, что, вернее, кто был ей подан на обед, восхищается преданностью Федерика и отвечает на его любовь взаимностью. Тут же соединяют свои сердца Педро и Марина. Кроме двух влюбленных пар, в комедии появляется ряд второстепенных персонажей и среди них, конечно же, так полюбившийся всем солдат Грегуар — садовник, списанный еще графом Чернышевым с натуры для «Празднества сеньора». — Не правда ли, забавная комедия? — заключила чтение Мария Федоровна. Она заранее знала сюжет и теперь ждала откликов, и в первую очередь — мужа. Никто не проронил ни слова, все смотрели в сторону кресла, где как бы дремал Павел Петрович. Тот не издал ни звука. Молчание затягивалось. В памяти присутствующих еще были живы картины тягостных для постороннего взгляда сцен, возникавших между властительными супругами, порой по совершенно неожиданным и самым ничтожным поводам. Павел Петрович будто вздрогнул или очнулся от какого-то забытья. Его состояние мгновенно передалось другим. Лафермьер, побледнев, провел рукой по лицу. — Не хватит ли опер, дорогая? — медленно произнес Павел. Пришел черед побледнеть Марии Федоровне. Каждый раз, начиная новую постановку, она боялась подобных вопросов. Все ее старания утихомирить мужа, привлечь его невинными забавами к домашнему уюту, хоть как-то отвлечь от все более поглощавших его время занятий военной муштрой в последние месяцы, казалось, сводились на нет. Что-то происходило в их отношениях. Но что? Женским чутьем княгиня предполагала незримое присутствие между ними другой женщины. Тогда кто же она? Нелидова? Дурнушка, с которой потерявший рассудок наследник проводит вечера в философских и эстетических беседах? Неужели она? Или же иная, имени которой Мария Федоровна не может угадать? — Все эти спектакли, сударыня, лишь отнимают внимание от более важных дел. Не так ли? — последний вопрос Павел бросил в сторону присутствующих. Никто не посмел нарушить молчания. Но тут князь слегка улыбнулся и поднялся с кресла. — Впрочем, идея «Сокола» не дурна, — обронил он и вышел из кабинета. Напряжение, царившее все это время, сразу же спало. Мария Федоровна, выдохнув воздух, истерически рассмеялась. Но, овладев собой, пригласила к клавесину Дмитрия Степановича. Тот сыграл арию Федерика из первой части, комический соль-минорный романс Жанетты — дочери Грегуара — «Le beau Tirsis», и заключительный хор, долженствующий быть лейтмотивом ко всей опере. Все были в восторге. Евгения Сергеевна Смирная, не выдержав, расцеловала смущенного композитора под всеобщий смех, невзирая на шутливо грозящий пальчик Ивана Михайловича. Решено было поставить спектакль незамедлительно. Тут же и распределили роли. Премьера «Сокола» состоялась вскоре — 11 октября 1786 года. Декорации, как и музыка, имели успех. По совету автора «воспользоваться видом Шале» — в них воспроизводился один из уголков Павловского парка. На первый взгляд легкая опера-буффа сродни появившейся спустя полвека оперетке, обрамленная изящной мелодичной оправой, придававшей ей аромат изысканного, но дорогого антиквариата. Постановка показала предельно виртуозное мастерство русского маэстро, выписавшего отдельные арии и балетные вставки утонченно, скрупулезно и профессионально. Теплота музыки, ее непринужденность, раскованность и даже игривость были легки для восприятия, обладали естественной эмоциональной выразительностью, а законченность формы сделала «Сокола» произведением поистине хрестоматийным. Из Гатчинского театра опера перешла на сцену Павловского. А оттуда — на подмостки многих усадебных театров того времени. Спектакль играли у Апраксиных, Орловых-Давыдовых, Шуваловых. В многочисленных списках расходилась партитура оперы, и стало даже модным держать в томе тисненный золотом и обтянутый кожей нотный альбом с автографом «Сокола»... «Le Faucon» понравилась их высочествам, — записывал Иван Михайлович, — и действительно была затейлива, вся в тогдашнем вкусе, то есть очень романтическая, довольно велика и состояла из трех действий. Музыку для нее сочинил г. Бортнянский превосходную. Итак, вытвердили мы оперу; зрелище было прекраснейшее, я сам имел ролю не важную; первые играли Смирная и Вадковский, камергер... Представление удалось, и несколько раз было повторено с большим удовольствием...» Именно в те дни восхищенный Иван Михайлович сделал предложение актрисе Смирной и, о счастье! получил согласие. Ах, что за дни! Князь взглянул на два портрета, висевшие перед его столом. На одном был изображен он сам, юный, а рядом — княгиня Долгорукая, тогда еще тоже молодая, семнадцатилетняя, блистательная актриса. «Смирная была понятна и училась хорошо; войдя в возраст, в ней открылись дарования превосходные: она прекрасно пела, танцевала, играла на арфе и к театральному выражению, то есть к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна. В этой опере Смирная отличалась чрезвычайно, она выказала мастерское знание театрального искусства, и голос ее нежностью своей производил чудеса...» Ивану Михайловичу снова пригрезилось, как зимою, в метель мчались они в свадебной карете, как вдвоем выступали они в петербургских театрах, и перо само собой застрочило далее. «В эту зиму я очень развлечен был. Кроме театра придворного, я продолжал играть... Вдобавок я собрался сам сочинить маленькую оперу, которую разыграли в доме гр. Пушкина1... Сочинение неважное, но для безделки искусства большого не надобно, и я с изрядным успехом выплелся из дерзкого предприятия быть сочинителем. Тут играли трое нас Долгоруковых...» Иван Михайлович даже и не заметил, как наряду со своей меньшой сестрой и Смирную уже назвал своей фамилией... Ровно через год после «Сокола» — 11 октября 1787 года — в стенах увенчанного на крыше голубкой Павловского театра прозвучала новая и последняя из «французских» опер Дмитрия Степановича Бортнянского «Le Fils-rival, ou la Moderne Stratonicе» («Сын-соперник, или Новая Стратоника»). Это была, может быть, единственная в своем роде опера-сериа, написанная русским композитором, где одновременно заметны и многие элементы оперы-буффа. Главным героем ее стал прототип небезызвестного дона Карлоса, испанского принца, влюбленного в свою мачеху. По поводу постановки этой оперы Иван Михайлович Долгорукий записал в своем дневнике так: «Испанская наша опера готовилась с большим великолепием. Музыка сочинена Бортнянским еще трогательнее и лучше, нежели для прежней... Опера Дон Карлос произвела на театре особенное действие и не могла не понравиться всем: великолепие декораций, богатство костюмов, превосходная музыка, заманчивый склад интриги в опере — все пленяло и взор, и слух, и чувство зрителя...» «Сын-соперник» ставился чрезвычайно пышно. Декорации выписывались долго и тщательно. Дона Карлоса пел Ф. Вадковский, Элеонору — В. Аксакова, как всегда, блистала Е. Нелидова. Не остались без дела и Чернышев, и Голицын, и Виолье. Что же касается костюмов, то навряд ли можно найти случай в музыкальной истории России, когда они были бы столь ошеломительно роскошны. Мария Федоровна собственноручно, с согласия мужа, распорядилась выдать актерам все великокняжеские фамильные сокровища. И если первое действие исполнители пели в суконных платьях с золотыми галунами, то во втором они переоделись в шелковые костюмы, усыпанные драгоценными каменьями. Подлинные бриллианты, изумруды, аметисты, бирюза, жемчуг — все блистало со сцены разноцветными лучами и чрезвычайно украшало обстановку спектакля. Очарование вечера достигло предела в тот момент, когда Иван Михайлович Долгорукий, игравший отца дона Карлоса — дона Педро, появился на сцене весь обшитый алмазами, снятыми с парадного золотого кафтана Павла Петровича, который тот носил в особых случаях на торжественных придворных выходах. Наряд князя стоил фантастическую сумму — почти 300 тысяч рублей. Не обошлось и без курьеза. Иван Михайлович так вошел в роль и расчувствовался, что в момент, когда он в одиночестве пел на сцене арию, сделал резкое движение рукой. Мария Федоровна, сидевшая по правую руку от Павла Петровича, изредка поглядывала на реакцию супруга. Тот был изрядно доволен. Но тут вдруг случилось недоразумение. «В самое жаркое время моей игры, когда я один на сцене вел очень чувствительную арию, нечаянно порвалась нитка в погоне на плече, и посыпались с меня крупные жемчуги как град. Я весь был в роле, и конечно бы этого не заметил, но великая княгиня, не снимавшая глаз с своих вещей, тотчас увидела урон их и не могла воздержаться, чтоб не вскрикнуть — „Ах!“ — привставши с своего места. Это меня привело в смущение, и я с трудом мог опять войти в свой театральный характер». Оркестр затих. Зал затаил дыхание. Павел Петрович вцепился в ручки кресла. Но тут же махнул рукой в знак того, чтобы спектакль продолжали. Ступая по драгоценностям, актеры доиграли третий акт. «Слава Богу, однако, ничего не пропало; после спектакля велено было подмести театр со всякой осторожностью, и на завтра великая княгиня изволила сама рассказывать с удовольствием, изображающимся в каждой черте ее лица, что в пыли найдено всяких вещиц ценою на четыре тысячи», — заключил в своих записках Иван Михайлович Долгорукий. «Сын-соперник» стал триумфом Бортнянского. Восторг превзошел все ожидания. Но это была и лебединая песнь композитора в оперном жанре. Больше Дмитрию Степановичу опер сочинять не пришлось... Начиная с 1787 года среди просвещенных европейских читателей стал популярен наполненный любовными похождениями и интригами роман Бернардена де Сен-Пьеpa «Поль и Виргиния». Иван Михайлович зачитывался им. Припомнил он, что попала книга в руки и Дмитрия Степановича. Идея написать музыку на этот сюжет к композитору пришла как-то сразу, он уже не помнил, кто первый об этом заговорил. Осуществить намерение не представлялось возможным. Служба опять таки заставляла отвлекаться на всякие мелочи. Для неожиданных случаев исполнения музыки на воздухе во время прогулок Дмитрию Степановичу пришлось специально переложить отдельные номера из оперы «Сокол», которые должен был теперь исполнять духовой секстет. Он заканчивал знаменитый в будущем Квинтет, концерт для чембало с оркестром, трехчастную Концертную симфонию. Застолья и другие развлечения сопровождались его мелодиями. Летом 1787 года очередное традиционное празднование именин Павла снова напрочь перечеркнуло все его планы. Иван Михайлович Долгорукий сохранял у себя копию одной бумаги, оставшейся от тех незабвенных дней. Проект театрального празднества, составленный Марией Федоровной для того же коменданта села Павловского Карла Ивановича Кюхельбекера в июле 1787 года, гласил: «Фейерверк будет спущен за колонною; у колонны будут две палатки для зрителей... Главная аллея ко дворцу будет иллюминирована сводами из одноцветных белых огней... На озере будет хорошенькая лодка с навесом из дранок, вся покрытая разноцветною иллюминациею; в ней поместятся музыканты. Эта лодка будет тихо плавать взад и вперед, чтобы придать красивый вид от дворца; это непременно произведет отличный эффект, вследствие отражения каждаго предмета в воде, которое, удваивая иллюминацию, придаст блеск и живописность рисунку...» На сопровождение музыкой действ вроде той самой «плавающей взад и вперед хорошенькой лодки» и уходили все силы даровитого композитора. И все же, оставляя на время все свои заботы, Бортнянский бросается писать новую оперу. Сюжет «Поля и Виргинии» манит его, но он чувствует, что не успеет и не сумеет закончить ее. В конце концов пришлось ограничиться лишь рядом романсов на французские тексты. В самом деле, друзья уже давно просили его написать цикл песен для домашнего музицирования. Сама прелестная княгиня Елизавета Алексеевна, невестка Павла, будущая императрица, как-то обратилась к нему с таким предложением. Всем известен был ее талант, ее сильный и чистый голос. Специально для юной певицы и подготовил сборник французских романсов Дмитрий Степанович. Книгоиздатель Брейткопф охотно взялся отпечатать ноты. В 1793 году «Сборник романсов и песен» увидел свет. Текст к музыке написал Лафермьер, но из-за все нарастающей немилости к нему великого князя он просил не ставить на титульном листе своего имени... Романсы Бортнянского становятся как бы его новой визитной карточкой для входа в лучшие дома и салоны Петербурга. Продолжая исполнять обязанности придворного капельмейстера, он теперь большую часть времени проводит вне двора. Тонкий вкус, знания настоящего коллекционера живописи, приобретенные им еще в Италии, сближают его с покровителем российских дарований, образованнейшим человеком своего времени графом Александром Сергеевичем Строгановым. Впрочем, знакомы были они и прежде. Еще в 1789 году труппа из Павловска выступала на сцене театра Строганова с комической оперой «Нина, или Безумная от любви». Не преминул и Иван Михайлович отметить этот факт в своей летописи: «Летние увеселения на даче вскружили голову любезному старичку графу Строганову, и ему захотелось поставить у себя в комнатах маленький театр, на котором первыми действующими лицами были, разумеется, жена и я... Нашли жену мою способной играть Нину. Она взяла ролю1, выучила, выработала и в течение двух недель явилась в ней перед публикой довольно многолюдной, а наипаче отборной. Все бояра, иностранные дипломаты были на этом спектакле... Все ей рукоплескали, — восторг был общий,.. все признали, что никто в России не мог бы так очаровательно блеснуть в этой роли, как жена моя. Все в Евгении соответствовало принятому ее характеру, речь утомленная, голос нежной, выговор приятной, походка медленная, взор меланхолический, наряд простинькой, игра без всякого жеманства, все, все было в ней совершенно». Иван Михайлович остановился и подумал: не переборщил ли он в похвалах? Нет, нет, то был действительно триумф его жены. Да, ну конечно же, и дирижера! «Оркестром правил Бортнянский, хоры были из придворных певчих. Весь спектакль произвел действие прекраснейшее». Дмитрий Степанович Бортнянский по совету же А. С. Строганова в свое время вступил в Музыкальный клуб. Клуб этот открыт был в знаменательный 1783 год. Знаменательный потому, что именно тогда был обнародован вышеупомянутый указ Екатерины II о театре и об опере. Музыкальный клуб открывался в России впервые. Общественная организация, объединяющая лучшие силы страны, прообраз подобных общественных объединений XIX столетия, из недр которых вышли талантливые и выдающиеся музыканты и композиторы, способствовала становлению отечественной композиторской школы. «Музыка составляет главный предмет общества нашего, — гласил устав клуба. — Большая зала назначена для оной. Концерт будут играть два раза в неделю, то есть по средам и по субботам... К сему случаю позволяется каждому члену приводить раз в неделю одну даму из фамилии своей». Таким образом, наряду с профессионализацией музыкального дела возрастали и общественные силы, способные привить любовь к искусству, развить настоящие вкусы и способности. Состоять членом такого клуба для Бортнянского было столь же почетно, как и ответственно. Ведь устав гласил также: «Твердость учреждаемого общества не отменно требует того, чтоб при выборе членов, долженствующих оное составлять, иметь главным предметом, удалять елико возможно неравенство состояний и разнообразие мыслей, для предупреждения всем могущим от того возродиться неустройствам. И так, основываясь на сем правиле, первый при выборе сочленов наших предмет да будет тот, чтоб не принимать таковых, которых поведение и образ жизни могли бы быть предосудительны обществу нашему...» В Музыкальном клубе Дмитрий Степанович познакомился с Д. И. Фонвизиным и ветераном русской сцены И. А. Дмитриевским, которого знал шапочно еще по книпперовскому театру. С автором «Недоросля» композитора сближало сходство во взглядах на то, какое место должен занимать Гражданин в своем Отечестве. Образ Стародума, поборника неуклонной справедливости, преданного общественным идеалам, видящего в службе Служение им, надолго западет в душу Бортнянского. И уже в иные времена, когда «стародумство» расценивалось наравне с «чудачеством», он не раз вспомнит о фонвизинском герое. Однажды, когда Дмитрий Степанович был у Строганова на приеме, к нему подошел высокий, статный, с тронутыми сединой волосами человек. — Вы и есть тот самый павловский Орфей? — начал он без представления и безо всяких предисловий. — Я — Державин. С того момента и началась их дружба. Принимать гостей у себя Бортнянский мог лишь изредка. Для того нужны были средства, которыми композитор не располагал. Но в доме у Державина он был завсегдатаем. Не чин, не случай и не знатность — На русский мой простой обед Я звал одну благоприятность; А тот, кто делает мне вред, Пирушки сей не будет зритель. Ты, ангел мой, благотворитель! Приди — и насладися благ; А вражий дух да отженется, Моих порогов не коснется Ничей недоброхотный шаг! После того как бывали съедены «шекснинска стерлядь золотая, каймак и борщ», выпиты «в крафинах вина, пунш», друзья садились в кабинете и допоздна спорили. О чем же? Да все о том, что Гаврила Романович очень любил оперу. Но бывал резок и неожидан в своих суждениях. Таков уж характер. — Опера представляется мне собственным миром. Она перечень или сокращение всего зримого мира. Скажу более, она есть живое царство поэзии. Она образчик или тень того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слышится, ни в сердце не восходит, по крайней мере, простолюдину. — А мне думается, что опера у нас еще не показала своих собственных достоинств. Фомин с его «Ямщиками на подставе» лишь предположил такую возможность. Да так предположил, что простолюдину, как вы выражаетесь, его музыка вполне близка и понятна, — отвечал Дмитрий Степанович. — Эка, хватил. Я о другом хотел сказать. Знаемо, даже великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах или крестьяне на сходках. Славный должен знать о своей славе. Слава есть страсть душ благородных, и она на подвиг подвизает. Вот ее-то и должно искусством возвышать. Опера, думаю, этому способствует. Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладком упоении, как бы после приятного сна, забываешь всякую неприятность в жизни. Державин достал из резной шкатулочки витую трубку, не спеша набил табаком, раскурил. — Но вот-таки у нас важных опер, сколько я знаю из прежних, только две, сочиненные еще Сумароковым. Его «Цефал и Прокрис» создал наш музыкальный театр. Есть переведенные из Метастазия и других иностранных авторов, но они играны на тех языках, а не на русском... — Сумароков писал тексты. А что главнее — музыка или слова? — нетерпеливо перебивал его Бортнянский. — Мы-то все считаем, будто только слова. От этого все наши композиторы в тени по сию пору. А опера без музыки, что поэт без лиры. Теперь мы только Сумарокова и вспоминаем, а про музыку «Цефала» кто вспомнит? У кого еще в памяти многие наши мелодии? Канули в небытие... Эх, да что там... — Со слов все начинается, — Державин отбросил нераскуривавшуюся трубку. — Самой первой степени поэт, ежели он в слоге своем нечист, тяжел, единообразен, единозвучен, не умеет изгибаться по страстям и облекать их в сердечные чувствования, —к сочинению оперы не годится. Не позаимствуют от него выразительности и приятности ни лицедей, ни уставщик музыки... Хочу я об этом написать, да все времени не хватает... — А как же, к примеру, Пашкевич? Арии его напевают и по сей день, а кто похвалит слова? Думаю, опера наша переживает момент перерождения. Ждет российская музыка еще своего гения. — Ну если ты так завернул, то скажу прямо — тебя, Дмитрий Степанович, я считаю первым у нас оперным композитором. Да и концерты твои хороши. У меня дома им специальный реестр составлен для нотной библиотеки. Берут все в округе. Поют славно... — Ой ли, — улыбнулся Бортнянский, — наверное, теперь уж мне не до оперного жанру. Видно, судьба моя писать всю жизнь хоровые концерты. На них-то хоть прокормиться можно... Опера, как музыкальный и вместе драматический жанр, вызвала в эти годы большую полемику на страницах российской печати. Известный русский драматург и актер Петр Алексеевич Плавильщиков высказывал в этом споре крайне резкие суждения. Не отрицая оперы в принципе, Плавильщиков, однако же, был ее явным противником. «Многократно я также обманывался и в комедиях, а в операх никогда, — писал он. — Впрочем, хотя бы и совсем не было дурных опер; но музыка всегда отвлекает зрителя от привязанности к завязке зрелища; да и самое изображение страсти тогда получает свою душу, когда естественный тон его оживотворяет; а в музыке, как бы она близко ни подходила к смыслу речей, всегда более видно искусство сочинителя и игрока, нежели естественное выражение какого-нибудь чувствования». Русская опера утверждалась. Отечественные композиторы набирались опыта и сил. В пылу возникавшей полемики такие гневные высказывания Плавильщикова, как его рассуждения об итальянском влиянии на музыку России, были вполне естественной реакцией на засилье приезжих маэстро в музыкальном театре. В статье о театре Плавильщиков сформулировал свои мысли так: «Мы имеем свою собственную музыку; а музыка и словесность суть две сестры родные; то почему же одна ходит в своем наряде, а другая должна быть в чужом? Неужели мы не умеем выдумать для себя забавы и увеселений? И неужели мы должны спрашиваться у других, что нам должно быть приятно и что противно? Неужели для всех народов на свете природа — мать, а для нас одних мачеха, которая не дала нам никакой собственности? Нет: сие предубеждение происходит от собственной нашей неосмотрительности и какого-то вредного влияния ненавидеть свое собственное. Имея наиприятнейшую свою музыку, многие дамы большого света повыписывали к себе итальянцев, из коих иные, ходя по Италии, с трудом выпевали себе на башмаки в неделю, а здесь, разъезжая в каретах с гордым и презрительным видом к своим легковерным благотворителям, делаются судьями российским талантам; и от их-то пристрастного решения зависит ободрение русскому...» На статью «Театр» был написан отклик. Автор отклика не поставил своего имени в конце. Решил остаться анонимом. Высказывая, на первый взгляд, противоположную точку зрения на оперу и итальянскую музыку, автор отклика на самом деле — тоже горячий поклонник отечественного искусства. Он ратует за развитие национального музыкального театра. Он не отрицает достижений русских музыкантов. Высказывая свою, в общем-то иную, но не противоположную по сути Плавильщикову точку зрения, он пишет: «Вы хотите непременно Россию записать в музыканты и руки, собирающие лавры, украсить балалайкою. На что ей такой шутовской наряд?.. Итальянцы говорят, что в русской музыке нет ничего привлекательного. Вот это уже непростительно! Какое жестокое ухо, слыша каждый день по улицам песни извозчиков, не может приучить себя к согласию здешнего напева, — иному бы это всю душу расщекотало... Приторная сладость, которую вы упрекаете итальянской музыке, не есть порок ее существенный, но дурных музыкантов, так точно, как дурные стихотворцы не означают недостаток языка, но бедность умов. В устах этих переторговщиков все высокое делается надутым, забавное низким, сладкое приторным». Плавильщиков не оставил анонимный отзыв на свою статью без отклика. Продолжая тему, он писал ответчику: «Российский народ, благодаря Всевышнему, во основании души своей имеет ко всему непостижимую способность... это ему написано в книге судеб. Рассмотрите сами себя прилежнее, вы увидите, что я говорю правду... Наша музыка имеет свою унылость и свою веселость... Извольте купить собрание русских песен и попросите кого-нибудь, чтобы вам их спели, и вы уверитесь, несомненно, что наша музыка по различию обстоятельств имеет различную и верную свойственность... Если же позволено выводить следствия из несомненных начал, то я осмеливаюсь угадывать, что из припасов русской музыки искусный сочинитель, хотя бы он и у итальянцев научился правилам согласия, без всякого чуда может создать язык сердца». Свое мнение об опере высказывал и баснописец И. А. Крылов, перу которого принадлежали многочисленные оперные либретто, в том числе и знаменитые «Американцы», положенные на музыку Евстигнеем Фоминым. «Я отваживался бы выслушать приговор просвещенной публики, — писал Крылов, — которой одной автор оставляет назначить истинную цену сочинения, я выбрал театр своим судилищем, публику — судьею... Конечно, в публике могут быть зрители, которым всякое действие кажется на выворот, но таким ничем уже угодить не можно, и лучше стараться угождать прямым знатокам, нежели людям, которые для того только почитают себя знатоками, что ездят всякий день в театр раскланиваться со своими знакомыми...» В одном из писем он советовал обладавшей прекрасным голосом В. А. Олениной — внучке М. Ф. Полторацкого, той самой Олениной, которой Дмитрий Степанович преподнес свой «Сборник романсов и песен» с дарственной надписью «Offert par Bortniansky am-lle Barbe d’Olеnine»1: «Вы можете петь очень приятно, лишь бы не погнались за большими крикливыми ариями, где часто больше шуму, нежели чувства, и видна одна претензия на превосходство, которая всегда вооружает слушателя на певца, если это не первейший талант». Некий неизвестный в «Сатирическом вестнике» за 1790 год обрушился с критикой на распространяемые повсеместно частные оперные театры, видя в этом одни лишь убытки. «Склонность к театру и представлениям весьма возросла в здешних жителях. Некоторый род особенного честолюбия, или лучше сказать особенной склонности промотаться, заставляет людей чиновных и богатых объявлять себя открытыми врагами публичного театра... Многие, потратя деньги на заведение всех принадлежностей к театру, тогда, когда еще нашлись только в состоянии забавлять в доме своем жителей операми, услышали уже вопль разоряемых крестьян... Некоторые слабоумные сельские дворяне, заслыша издалека о гремящей славе театра какого-нибудь знатного человека, приезжают также сюда принимать уроки расточения. Сии дворяне не только проживают на сие все доселе скопленные ими деньги, но и много накапливают на себя долгов...» Ему вторил анонимный же баснописец в журнале «Утра, еженедельное издание...», который с иронией восклицал: Имение свое ты гнусно промотал, Ты Музыкантом стал, О стыд для дворянина! И далее советовал: Ему пят сот душ я дарю, Но с тем, чтоб более он глупостей не делал, На скрипке б никого обедать он не звал, Из Музыканта бы опять Балбес он стал... Много и постоянно писал и думал об опере Гаврила Романович Державин. Он глубоко и аргументированно выступил в защиту оперы как жанра, способного поднять русский театр на новые высоты. В одном из своих писем, найденных нами в архивах, он полемизировал с немецкими эстетиками, неодобрительно отзывающимися о европейской опере. «Господа эстетики, к удивлению моему, при свойственной им глубокой ко всяким мелочам учености, слушали итальянскую большую оперу и шутливую французскую большую и малую вместе; шутливая или лутше сказать шутовская опера итальянцев, за исключением малого числа сочинений... ни на что не походит; красота музыки постороннее, но единственное ее достоинство. Не различать сей оперы от большой тоже, что почитать сказку за историю. Большая французская опера родится в чудесный век Лудовика 14-аго. Сама исполнилась чудесностей и заимствовала содержание свое из мифологии и поетических сказок. Но итальянской чудесности сей не одобряют и в своих операх не терпят. Они утверждают про свою оперу, что она возобновленная и усовершенствованная трагедией греков, ссылаясь на прекрасные лирико-драматические сочинения знаменитых Зения (Апостоло Дзено. — К.К.) и Метастазия, в которых строго соблюдены все правила древних... Итальянцы ограничивают единство сцены пространством, подлежащим взору зрителей, так чтобы новые сцены являлись их взору единым образом, преграждающим зрение предметами, и утверждают, что ограниченные таким образом перемены сцены менее оскорбляют истину... Итальянцы еще успешнее защищают введенную ими перемену в размещении хоров. Но как сие более относится к успехам музыки, нежели поезии, то я оправданий их здесь не помещаю. В заключение скажу, что немецкие эстетики никогда видно со вниманием Метастазиевых опер не читали. Иначе не могли бы так нелепо о италианской опере судить. Часто, конечно, очень часто в Италии в театре зевают, говорят, едят мороженое и пьют лимонад, но многие на то есть и достаточные причины. Возьмем в пример одну из лутчих опер Метастазия. Будь и музыка соответствующая, выйди на сцену Фемистокл или Ораций. Победитель персов, спасая римлян, запоет бабьим голоском, и все вероподобие представления... исчезло. Вторыя лица обыкновенно действуются такими же кастратами. Их неподвижность, неловкость, огромные туши действительно отвратительны. Прибавьте, что вообще все оперные актеры учились только музыке, а действовать на театре вовсе не умеют. Прибавьте, что голосом и знанием музыки первые только три лица — Soprano, Prima donna, Tenor — отличаются, а все протчия лицы самыя плохия. Прибавьте, что в Италии одну оперу играют тридцать раз кряду, и вы согласитесь, что как бы она ни была хороша, при таком представлении позволительно вздремнуть, а при долгом не грех и без просыпу спать...» Державин не только защищал, но и разумно критиковал западноевропейский музыкальный театр. Тонко анализируя оперу в целом и, в частности, отечественную оперу, он позднее придет к знаменательному выводу. Он напишет: «Ничем так не поражается ум народа и не направляется к одной мете правительства своего, как таковыми приманчивыми зрелищами. Вот тонкость политики ареопага (правительства. — К.К.) и истинное поприще оперы. Нигде не можно лучше и пристойнее воспевать высокие сильные оды препровожденные арфою, в бессмертную память героев отечества... как в опере на театре». И, словно подытоживая тернистый путь российской оперы в XVIII столетии, Державин подчеркнет: «Долгое время опера была забавою только дворов, и то единственно при торжественных случаях, но как бы то ни было, ныне уже стала народною». Диспуты Державина и Бортнянского, не всегда сходившихся во мнениях, наконец вылились в их творческое единство. Они выступили с совместным произведением, где и слова, и музыка обладали достоинствами, не позволявшими умалить друг друга. Как-то в Строгановском дворце, что стоял на Невском проспекте у Мойки, случился грандиозный пожар. Вечера у мецената на время отложились. Пока восстанавливали здание, Гаврила Романович предложил Бортнянскому написать поздравительную кантату в честь их общего друга и в честь обновленного дворца искусств. Через две недели текст ее был готов, а чуть позднее Дмитрий Степанович принес поэту готовые ноты. Когда в 1791 году в перестроенном по проекту А. Н. Воронихина здании собрались именитые российские музыканты, художники и писатели, чтобы отметить юбилей хозяина, их встретили звуки оркестра. Так была впервые исполнена «Песнь дому любящего науки и художества». Ныне Дмитрий Степанович чувствовал, что находит вкус в сочинении музыки на известные поэтические тексты. Песни и гимны сыплются из-под его пера как из рога изобилия. Он сближается с именитыми российскими поэтами — М. М. Херасковым и князем Ю. А. Нелединским-Мелецким. Такое содружество обещало рождение ряда интереснейших произведений. Бортнянский пишет их, вот-вот закончит. Но события, последовавшие затем, вновь резко меняют его жизнь... Ссоры Павла Петровича с супругой, сначала едва заметные, а затем все более явные и продолжительные, стали основной причиной распада собранного ею артистического кружка. Тем, кто был удостоен милости великой княгини, вскоре пришлось покинуть двор наследника. В их числе был и Лафермьер. Бортнянский, который всегда стоял как бы в стороне от интриг, связанных с семейными размолвками наследника престола, избежал его гнева (и даже позднее — когда пытался вступиться за опального Суворова, что могло грозить крушением всей карьеры). Но течение музыкальной жизни в Павловске было нарушено. Уже никто не заказывал композитору опер. Павел, вконец ушедший в военное дело, и думать не хотел о казавшейся ему в то время невыносимой слащавости музыкальных спектаклей в узком «семейном» кругу. Но и тут сыграла свою роль музыка Бортнянского. Одним из популярнейших военных маршей того времени, под который вышагивали павловские гренадеры, стал так называемый «Гатчинский», написанный Дмитрием Степановичем по заказу Павла... Мария Федоровна, оказавшись в некоторой изоляции, пребывала в крайнем огорчении, оттого что ее музыкальный наставник редко стал бывать в Павловске. Натянутые отношения с супругом не мешали ей время от времени устраивать для себя в летнюю пору музыкальные вечера. Чтобы как-то вынудить композитора почаще бывать в резиденции, она придумывает для него сюрприз-ловушку, в конечном счете связавшую его по рукам и ногам. Во время очередного приема при «малом» дворе секретарь Марии Федоровны Г. И. Вилламов передал Бортнянскому свернутый в трубочку, перевязанный лентой с печатью на конце документ. Дмитрий Степанович был крайне взволнован, Иван Михайлович Долгорукий, бывший тут по случаю, даже подошел к нему и взял его под руку. Естественно, ведь таким образом обычно запечатывались отнюдь не частные записки или письма, а указы или постановления великокняжеской семьи. Дмитрий Степанович ничего не знал о бумаге, неожиданность его и смутила. — Что сие означает? — удивленно спросил он. Вилламов лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. — Указы Их Высочества, как вам ведомо, я вручаю лично в руки. Соблаговолите прочесть. — Что-нибудь произошло? — Бортнянский хорошо знал переменчивые нравы двора. — Прочтите скорее, для вас новости приятные. — Вилламов дружески потрепал композитора за локоть и откланялся. Иван Михайлович помог Бортнянскому развернуть свиток, в котором, кроме всего прочего, они прочли: «Жалованная грамота на участок земли в Павловске... Объявляем всем и каждому, что в Павловске нашем жалуем сим нашему Дмитрию Бортнянскому место,.. как ему, так и наследникам его в вечное и потомственное владение без платежа за сие подати, поборов или откупу. Дозволяем ему поступать с оным по своей воле: продавать, дарить и закладывать кому заблагорассудит; предоставляя мы себе только, в сем случае, право покупки или выкупа онаго, так как и всего на оном месте построеннаго предпочтительно перед всеми, на тех же самых условиях, на каковых оное сим Бортнянским другому кому уступаемо будет и сие право, при всякой перемене владельца, существовать имеет. А для сего всякой владелец, в случае продажи и уступки оной, повинен дать нам о сем наперед знать. В чем же полагая ему в пользовании сим имением никакой иной обязанности, как поступать во всем по государственным узаконениям и ничего такого не предпринимать и не дозволять другому делать, чтобы доброму порядку и благочинию противно или бы соседям предосудительно было...» Так на высоком берегу речки Славянки, прямо напротив павловской крепости Бип, Дмитрий Степанович получил участок земли с домом, где он мог отныне жить постоянно или хотя бы летом. Никогда не имевший в собственности каких-либо поместий, всегда в официальных анкетах на вопрос «сколько имеете во владении мужескаго душ людей крестьян» отвечавший «не имею» композитор превратился в хозяина «дачи». Его новый приятель, граф Д. И. Хвостов, не преминул воспеть событие в своих стихах — «Д. С. Бортнянскому, на прекрасный его домик в Павловске»: Ты, Орфей реки Невы! Посреди людской молвы, При обители фортуны, Взяв священной арфы струны, Весел в садике своем. О Суворове хлопочешь И душой усердной хочешь, Чтоб он буйства сверг ярем. Событие, конечно, было знаменательным, но у порога стояли уже более серьезные перемены. Несмотря на возраст — он только что отметил свое сорокапятилетие, — композитор полон юношеской энергии. В его густой, эффектно откинутой назад шевелюре все более приметны седые пряди, придающие лицу чуть бледноватый, но благородный и утонченный оттенок... К осени 1796 года мытарства Бортнянского по службе возросли еще более. Казалось, что никогда уже не будет конца беготне и постоянной суете, которая окружала его со всех сторон. Тем паче не хватало времени для творческой работы. Одолевали заботы по петербургским делам, по благоустройству павловской дачи. Они отнимали и время, и средства. Денег недоставало, чтобы содержать возросшее хозяйство, они словно испарялись сразу же после получения жалованья придворного капельмейстера. Кроме всего прочего, он явно ощущал некий творческий застой. Как-то ничего не писалось, а вместе с прочими обстоятельствами и делами это угнетало все сильней. Ведь прошло почти двадцать лет после возвращения из Италии. А с тех пор он так и остался в низшей музыкальной должности при «малом» дворе. Чтобы продвигаться по службе, нужно было бы на долгое время оставить музыку совсем, ибо придворные заботы и хлопоты занимали все внимание и время. Но Бортнянский не умел так жить. И от перипетий придворной жизни он также давно отошел. Притом опасны были светские «игры» в это время. Во всем проявлялось предчувствие скорых перемен. В октябре из Петербурга в Гатчину пришла неожиданная весть: императрица Екатерина тяжело больна. «Большой» и «малый» двор затаились. В первых числах ноября срочная депеша была доставлена прямо в личные покои Павла Петровича. В ней сообщалось, что государыня лежит при смерти и уже несколько дней не приходит в сознание. Прочитав письмо, наследник впал в странное состояние. Еще никто не видел его таким — бледным, резким и неразговорчивым. В тот же день вместе с Марией Федоровной он выехал в Петербург. 6 ноября 1796 года императрица скончалась в присутствии наследной четы. Весь этот день Павел никого не принимал и ни с кем не разговаривал. Как замечали те, кто знал его близко (заметил это и Иван Михайлович), со следующего утра что-то произошло в его поведении и психике. Его дела и поступки обрели черты той решительности и вспыльчивости, того безоговорочного упорства, которые четыре года спустя его погубили. В последующие — не годы, а дни — многие бывшие друзья и приближенные нового российского императора неожиданно получили важные государственные должности, а также крупные вознаграждения. Среди них были бездарные проходимцы. Но были и талантливые люди, вошедшие в анналы русской истории. 8 ноября вызванный через графа Безбородко в царские покои статский советник Николай Александрович Львов (тот самый Львов, который издал «Полное собрание Русских песен с их голосами», гармонизированные в опере «Ямщики на подставе» Евстигнеем Фоминым) получил важное, строго секретное поручение — отправиться в Москву, в Успенский собор Кремля, и вывезти оттуда все необходимые регалии для обряда венчания на царство. По сию пору ничего подобного не бывало. Регалии всегда хранились в Успенском соборе. Да и обряд венчания на царство производился только там, за стенами священного Кремля, в древней русской столице. У Павла имелся на этот счет свой замысел, в который были посвящены лишь избранные. Он собирался совершить обряд возложения императорской короны на... останки убиенного три с лишним десятилетия назад и не успевшего короноваться отца, мужа Екатерины — Петра III. Как бы восстанавливая попранную справедливость, Павел вместе с тем демонстрировал свою волю: больше не должно быть в России бунтовщиков-самозванцев наподобие Емельяна Пугачева. Обряд — священное дело. Он должен производиться по установленным обычаям и правилам. Значит, должна была состояться церковная служба — естественно, с пением. Задуманное действо должно было потрясти всех. Павел тотчас вспомнил о Придворной певческой капелле. Песнопения при возложении царских регалий должен исполнять лучший в империи хор. Наследник потребовал к себе директора капеллы. Но такового не оказалось. Доложили, что после смерти Марка Федоровича Полторацкого вот уже полтора года на этой должности никого нет. Покойная императрица не успела решить: поставить ли управлять капеллой итальянца или же выбрать кого-либо из отечественных музыкантов? Павел разрешил дело, как говорится, в один присест. На пятый день своего правления он подписывает «Указ нашей придворной конторе». Текст указа был лаконичен: «Коллежскому советнику1Дмитрию Бортнянскому, поручив в управление хор придворных наших певчих, повелеваем производить ему из придворной конторы жалованье и все то содержание, какое имел предместник его действительный статский советник Марко Полторацкий». В указе Бортнянский был уже назван коллежским советником, а не асессором, так как в этот же день, 11 ноября, он получил и новый чин. Через неделю по прибытии Львова из Москвы на кладбище Александро-Невской лавры была раскрыта могила, из которой извлекли останки императора Петра III. Еще неделю спустя —25 ноября — приведенные в мало-мальски приличный вид, уложенные в гроб, они были поставлены в монастырском соборе. В торжественной обстановке, в присутствии не слишком широкого круга лиц совершился необычный церемониал возложения императорской короны на череп мертвеца. И наконец еще через неделю теперь уже гроб с венчанным императором был перевезен в Зимний дворец и поставлен бок о бок с гробом, где уже почти месяц лежало тело Екатерины. Так вновь «встретились» бывшие муж и жена, император и императрица, жертва и убийца. Декабря 5-го дня состоялось отпевание покойных. Хор Придворной певческой капеллы пел «Панихиду», сочиненную к сему случаю Дмитрием Степановичем Бортнянским. Это стало первым «экзаменом» композитора на новом посту... С этих пор пути Бортнянского и Ивана Михайловича Долгорукого понемногу разошлись. Иван Михайлович был облагодетельствован немного ранее. Получив должность вице-губернатора в Пензе, а затем — губернатора во Владимире, он ушел в иные хлопоты и не всегда уже мог заниматься своими литературными упражнениями постоянно. Когда же он возвращался к ведению записей, имя композитора, сыгравшего такую важную роль в судьбе князя, уже было для него где-то в далеких закоулках памяти, в полузабытой, но счастливой и исполненной радужных надежд юношеской поре... К счастью, его память хранила множество подробностей, которые и позволяют проследить как бы страницу за страницей немаловажной главы в истории жизни Дмитрия Степановича Бортнянского. Глава 5. Директор Придворной певческой капеллы Да поют и наши хоры Радостных отца сынов Славу, счастье и любовь! В ноябре 1796 года, едва узнав о новом назначении, Бортнянский тот же час поспешил собраться и начал постепенно перевозить все необходимое из Павловска в Санкт-Петербург. Многое уже было подготовлено заранее. Обитатели загородной резиденции нового императора бодрствовали и ждали вестей. А потому как бы сидели на упакованном багаже. Перемены в государственной жизни влекли и перемены в жизни придворной. Все это знали. Простенький экипаж, запряженный двойкой вороных, не был особенно перегружен поклажей. Дмитрий Степанович взял лишь самое необходимое: новый, еще ни разу не надеванный мундир, сшитый на скорую руку павловским портным, и, конечно, аккуратно перевязанные стопки нотных листов, разложенных в легко обозреваемой последовательности. Петербург внешне ничуть не переменился. На Сенной площади бойко торговали сеном, своры бродячих собак пробегали в поисках какой-нибудь добычи. На набережных жгли костры, возле которых отогревался работный люд, разгружавший вновь прибывшие корабли. Первый ноябрьский морозец уже давал о себе знать. Тут же, на набережной, оглашая все вокруг равномерными ударами, штробили громадные глыбы привезенного известняка и мрамора белокаменщики. Из-под зубил мастеров выходили контуры капителей, колонн, резных каменных порталов и анфилад. Петербург строился, как и прежде. Нева текла в своих берегах, и серо-голубое северное небо, как и многие годы назад, отражалось в ее холодной зеркальной поверхности. Ничто еще не показывало, не предвещало, не давало понять, что десятилетиями устоявшееся и укрепившееся правление Екатерины закончилось. Но здесь же, рядом, глядел на набережную через венецианские стекла окон Зимнего дворца новый император — Павел I. Придворная певческая капелла словно не изменилась. Гигантский певческий организм, подчиненный одной цели — сопровождать хоровой музыкой придворные светские и духовные церемонии, продолжал жить своей, устоявшейся жизнью. Марк Федорович Полторацкий за полвека своего директорства успел заложить крепкие устои. Его усилиями в состав капеллы вошло немало одаренных исполнителей, так что и без него все продолжало идти своим чередом. Более сотни отменных голосов, как и прежде, насчитывал хор, тщательно подобран был состав юных солистов, показавших свои способности. И остановить жизнь капеллы нельзя было. Что ни день — то служба при дворцовой церкви или на стороне, что ни неделя — то новая опера. Бортнянский вернулся в капеллу словно в дом родной. Вот они, знакомые и памятные комнаты, где размещались певчие. Вешалка для повседневных парадных сюртуков и мундиров, костюмерная. А вот и место на клиросе, где приходилось стоять ему в юные годы... Все это снилось, и не раз, по ночам. Здесь его истоки, начало его жизни в музыке. И сюда же, после длительного отсутствия, словно после путешествия по дальним градам и весям, вновь суждено ему вернуться, чтобы уже не только способствовать своим наставникам, славе русской музыки, но и самому вершить великое дело, быть ответственным за настоящее и будущее главного хора страны, за судьбы его лучших птенцов. Уходил он из этих стен почти тридцать лет назад начинающим музыкантом, а вернулся — кем?! — управляющим, — вместо кого?! — вместо Марка Федоровича Полторацкого, того самого Марка Федоровича, о котором даже подумать просто, без содрогания нельзя было — настолько велик, непререкаем и божественно недосягаем был его авторитет. Казалось, будто директор занимался такими сложными делами, о которых невозможно даже помыслить. Его густой, сочный, басистый голос приводил в трепет иных именитых придворных. Ужели теперь, когда Полторацкого нет в живых, ему, Дмитрию Бортнянскому, возможно будет достичь такого же авторитета? Хватит ли сил, выдержки? Хватит ли сноровки устроить жизнь такого большого числа людей, каждый из которых хоть и не велик званием и положением, но все-таки индивидуальность творческая. У каждого свой характер, свой особый талант, тембр голоса. Как встретят они его, многие бывшие друзья, теперь уже солидные и опытные не менее его самого музыканты? Однако и он далеко ушел от своих прежних пристрастий. И ему есть что сказать и что передать им. Перво-наперво необходимо встретиться с Яковом Андреевичем Тимченко. Давненько не видались они, хоть и жили бок о бок. Яков Андреевич ежечасно находился при «большом» дворе. Ежечасно и неотлучно. А ныне вот их пути вновь перекрестились. Яков Андреевич уже в летах. Но голос его — отменный бас — не ослаб и по сию пору. Правда, певал он не столь часто, как другие хористы, а выступал лишь по особо торжественным случаям. При Марке Федоровиче Полторацком Тимченко дослужился до должности уставщика правого клироса капеллы. То есть управлял правым крылом хора, когда тот делили на равные части во время праздничных придворных служб. Один из старейших солистов капеллы, он пользовался всеобщим уважением и любовью. Ценитель острот и шуток, в меру кутила, веселого нрава и большой любитель всевозможных забавных историй и анекдотов, он был душою общества музыкантов, а при дворе имел прозвище «патриарха басов». Стены помещений с трудом выносили его неимоверно низкий и громоподобный глас, перекрывавший своей силой весь хор капеллы, и сотрясались, к великому изумлению присутствующих. Вся жизнь Якова Андреевича прошла в капелле. Знал он всех и каждого. И после кончины Полторацкого временно был поставлен исполнять обязанности своего покойного учителя, правда, без объявления его должности и без получения за труды соответствующего вознаграждения. Полтора года продолжалось «директорство» уставщика правого клироса. И вот ныне на должность эту вступает Бортнянский, тот самый Дмитрий Бортнянский, которого Тимченко помнил испуганным мальчуганом, впервые попавшим в раззолоченный зал церкви Зимнего дворца, а позже — задумчивым и серьезным юношей, облаченным в только что сшитый приличный его званию «пенсионера» кафтан в день проводов перед отъездом его в Венецию. Яков Андреевич не держал в сердце обиды на своего преемника. Да и не мог держать. Понимал он, старый, опытный музыкант, что его собственные дни давно уже клонятся к закату. Да и много ли он может сделать ныне для капеллы, когда и силы не те, когда и прежних друзей уже нет в живых, и самой матушки Екатерины Алексеевны — Екатерины Великой, которая, улыбаясь, покачивала головой в знак одобрения, как только выводил он, так что дрожали оконные стекла, начало Великой Ектеньи, ныне не стало. Дмитрий Степанович поспособнее, да и при новом императоре, поди, легче сможет распорядиться. К тому же заслуги «баса Якова Тимченко» не оставлены без внимания. Одновременно с назначением Бортнянского он получил чин камер-фурьера шестого класса и тем самым из прежних простых певчих попал прямиком в придворные, правда, самого низшего ранга. Из добрых рук была принята Придворная капелла новым управляющим. Первая же встреча с хором была на редкость теплой. Певчие, выстроившись в два ряда, поставив впереди малолетних учеников, молча ожидали появившегося в зале маэстро. Глаза их с восхищением смотрели на именитого композитора. Его слава и опыт были известны всем. Среди стоящих Дмитрий Степанович узнал и Василия Пашкевича, и Федора Макарова, и Петра Турчанинова. Казалось, весь цвет российской музыки собрался здесь. С такими талантами многое можно сделать. Оглядев всех присутствующих, он поднял вверх правую руку. Все поняли знак без промедления, словно и ждали его. — А ну-ка, давайте нашу «Херувимскую», киевского распева, — проговорил негромко Бортнянский. Легкий взмах руки пробудил в воздухе едва слышимое дыхание. Ровное, гармоничное многоголосие заполнило зал... Нетрудно понять то волнение, которое охватило Дмитрия Степановича при первой встрече с хором Придворной певческой капеллы. На его плечи ложилась колоссальная ответственность, усугубленная сознанием важности порученного ему дела. Нельзя было начинать свою деятельность, лишь подражая предшественникам и подчиняясь одним заведенным исстари порядкам. Но в то же время не следовало и очертя голову приниматься за какие-либо существенные перемены. Нужно было еще раз все крепко обдумать, посоветоваться с прежними сотоварищами, поразмыслить. А призадуматься было над чем... Хоровое искусство, искусство пения вообще, быть может, самая древняя форма искусства. «Пение родилось вместе с человеком. Прежде, нежели лепетал, подавал он гласы», — писал в «Рассуждении о лирической поэзии» Г.Р. Державин. Звукоподражание и пение для человечества всегда выполняло немаловажную функцию во время общения. Еще до появления древнейших инструментов типа обыкновенной дудочки или свирели воспроизведенные голосом звуки ветра или морского прибоя уже сами по себе представляли своеобразную музыку. Совместное же пение всегда обладало особым свойством возвышать людские души, способствовало установлению незримого взаимодействия, контакта между людьми, эмоционального сопереживания, для осознания которого вовсе не нужны были иные понятийные знаки, а порою даже и слова. Это особое состояние, возвышенное мироощущение порождало многочисленные коллективные действия, а удивительная сила совместного пения расценивалась людьми порой как магическая сила. Вспомним, древнерусское «хоровод» происходит от слова «хор». Б. В. Асафьев, выдающийся знаток и исследователь русского музыкального искусства, отмечал «великое значение хорового начала в эволюции музыки и общую историко-социальную роль хоровых организаций». На Руси, начиная с древнейших времен, хоровое пение играло одну из определяющих ролей в культурной и бытовой жизни. В живой повседневности наши далекие предки не мыслили себя без песен. В социальном отношении важнейшим моментом следует считать духовные песнопения, вошедшие в употребление после принятия Русским государством христианства. Развитие древнерусского языка и мелодии всегда происходило одновременно, параллельно. Многочисленные песнопения, родившиеся в первые столетия становления государства, строились на богатой и живой основе, которая заключалась в самом древнерусском языке. Мелодия и текст воспринимались неразрывно. И люди Древней Руси не могли даже представить, чтобы музыка оказалась оторванной от слова. В этой взаимосвязи и проявлялась истинная сущность и своеобразие древнерусской музыкальной традиции. Песнопения, посвященные тем или иным праздникам, наиболее почитаемым святым, предназначались для общего понимания и исполнения, для совместного воспроизведения и переживания. И поэтому хор был основой подобного переживания, а хоровое пение — централизующей силой музыкально-эстетического, а также этического существования. Основы духовного хорового пения были заложены на Руси выходцами из Византии. «Степенная книга» в 1563 году поведала об этом следующее: «...Приидоша от Царяграда... трие певьцы гречестии с роды своими. От них же начат быти в Рустей земли ангелоподобное пение... в сладкодушьное утешение и укрошение на пользу слышащим, во умиление душевное и во умягьчение сердечьное...». Когда послы киевского князя Владимира впервые попали в Софийский храм в Константинополе, то, уже обладая прочной и многогранной народно-песенной и обрядовой хоровой культурой, были откровенно поражены мелодикой греческой службы. Они почувствовали внутреннюю силу и глубокую связь древнерусской и византийской традиций и поспешили освоить ее, а затем принесли свой опыт обратно на родину. По словам академика Д.С. Лихачева, именно это эстетическое впечатление и явилось стимулом для принятия решения Владимиром о крещении Руси. Быстрому освоению новой хоровой культуры в Древней Руси способствовало и то, что песенный инстинкт сам по себе уже был присущ русскому человеку. Песнопение, как форма жизненного самовыражения, постигалось с детства. На нем строился воспитательный процесс в семье, в быту, в общине, и не только на селе, но и в городах. Достижения древнерусской песенности входили в сознание человека не через рассудочные построения, а естественно и легко, словно привычные навыки к труду, к почитанию старших, к продолжению рода через взращивание детей. Древнерусский человек был настоящим хранителем всего песенного богатства народа, соучастником традиционного хорового искусства, носителем вековой песенной информации. Участие в хоровом песнопении способствовало росту сознания и самосознания, составляло неотъемлемую часть образования, прививало навыки культуры. Слово и мелодия рождались у исполнителя словно бы изнутри, переживались им, и это было наивысшим проявлением музыкальности, потому что музыкальность эта не приходила извне. Полное осознание и чувствование распеваемого материала, постоянное проявление и развитие хорового чутья проходило через всю жизнь, а не было только лишь особым времяпрепровождением. Хор, как большой организм, состоявший из близких по духу и крови людей, способствовал осознанию каждым себя как частицы единого целого, выражающего единую волю, воспламененного единой ритмичной, радостной работой, оформленной в древнейшую мифологическую форму. В русском хоре воспитывалось взаимопонимание, чувство друг друга, уважение, свободное сотворчество и импровизационность, общая спаянность. В народном хоре не было разделений на старых и малых, мужчин и женщин, своих и чужих. Общее пение создавало представление о гармонии жизни и преемственности культурных ассоциаций. Единство, пронизанное многовековым опытом, — вот то определенное достоинство, которое всегда отличало русскую песенную хоровую культуру и выделяло ее средидругих народов. Традиционное единство и исконная напевность — таковы основные столпы, на которых зиждилось искусство песнопения в Древней Руси. Однако византийская традиция вносила свои коррективы в устоявшиеся нормы. Новая организация хорового пения требовала, во-первых, особых правил. К ним относилась, например, необходимость исполнения основных духовных песнопений исключительно мужчинами. Во-вторых, требовались уже и некоторая особая подготовленность, знание новых законов пения и ритмических навыков. Для этого на Русь прибывали из Византии специальные певчие, которые на первых порах управляли хорами. Их называли доместиками. Они обладали знаниями, способностью управлять коллективом певчих, а потому и ставились во главе лучших хоров в Древнем Киеве. Таких управляющих называли по-гречески канонархами, что означало буквально «старший над хором». По душе пришлись князю Владимиру Красное Солнышко такие новшества. И задумал он не только привозить с Царьграда певчих-доместиков, но и своих тут же, в Киеве, взращивать. Поддержал начинание отца князь Ярослав Мудрый. Появились в древней столице первые певческие школы. А за ними и монастыри да княжеские дворы старались не отставать. Взяло силу, развилось на Руси хоровое дело. Чтобы петь в организованном церковном хоре Древней Руси, мало было знать, что и как поется. Требовалось еще и иметь навык двухорного пения. Так уж повелось с самого начала, что весь хор при праздничной службе делился на две равные части, словно бы на два крыла — левое и правое. Два эти хора так и назывались — крылосы. Двухорность придавала особую торжественность песнопению. Человек, слышащий такой хор, воспринимал его силу и звучание особо, говоря современным языком, подобное восприятие можно было бы назвать стереофоническим. Однако в старину двухорное пение строилось на ином законе — антифонии, то есть последовательном наложении одной и той же мелодии в процессе разновременного вступления хора то правого, то левого крылосов. Управлять столь сложным пением было вовсе не просто. А потому уже в каждом крылосе появился свой наиболее одаренный и образованный певчий, позднее его стали называть уставщик. Как обойтись без хорошего хора, если большой праздник?! А если свадьба да венчание? Или похороны? Везде нужда в достойных певчих. Ибо сама обрядность тогдашнего быта без глубокого, внутренне сосредоточенного песнопения была попросту немыслима. Хотя мелодия, то есть музыка, сама по себе все еще считалась лишь вспомогательным дополнением к тексту. Да и смысл того, о чем поют, следует «воспевать не голосом, а сердцем». Но куда же без мелодии, без настоящего умения! Коллективность древнерусского церковного пения подразумевала и другое поразительное явление — анонимность поющего и пишущего. В летописях можно встретить множество упоминаний о хорах, крылосах тех или иных храмов или монастырей, в городах и дворах, но долгое время не упоминалось в них ни единого имени выдающихся исполнителей или наставников, в то время как имена авторов, творивших в Византии, были известны. На Руси всякий крестьянин знал замечательных греческих гимнографов Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста. А вот свои собственные авторы и уставщики пения словно бы и не существовали. Не принято было восхвалять то, что являлось внутренним побуждением и воспринималось скромным и должным приношением в общее духовное богатство народа. Так же, как и в древнерусской литературе, музыкальные жанры остались в истории творением безымянных создателей. Смирение и сдержанная строгость определяли отношение творца к самому себе и народа — к творцу. И это отражало истинный образ русского народа — создателя своего особого распевного хорового языка. В 1015 году, ослепленный яростью междоусобной борьбы за княжеское наследство, князь Святополк отдает приказ умертвить своих братьев — князей Бориса и Глеба. Не остался этот поступок безнаказанным в памяти народной. Святополк на веки вечные получил прозвище окаянного. А убиенные братья стали первыми канонизированными на Руси святыми. В их честь писались многочисленные иконы, сочинялись новые стихиры. Тексты же стихир сразу же перекладывались на древнюю нотную грамоту. Так появлялись новые древнерусские песнопения. Кто автор их? Вернее, кто их авторы? Ведь почти все древнейшие сборники стихир содержат творения, посвященные убиенным князьям. А где и как отыскать авторов стихир в память преподобного Феодосия Печерского — одного из основателей первого на Руси Киевского Печерского монастыря? Их тоже бесчисленное множество. Да нужно ли искать то, что само по себе не имеет и не имело значения для русского человека? Анонимность выступала как критерий подлинности, всеобщность и народность служили основой истинности. Однако, если творец мелодии скрывал свое имя по собственному внутреннему побуждению, а летописец по тому же побуждению не открывал его для современников и потомков, то наиболее яркие мастера распева, выдающиеся исполнители и знатоки хорового пения нет-нет да и улавливаются в строках древних источников. После Киева переметнулось искусство песнопений во все концы Русской земли. И в Новгород, и в Галич, и во Владимир. Князь Андрей Боголюбский посвятил изрядное время развитию хорового дела в своем Владимирском княжестве. А при себе он содержал наиболее справных «крылошан». Ипатьевская летопись явилась первым источником, из которого мы узнаем имя одного из лучших руководителей Владимирского хора. За 1170 год есть в ее тексте отметка о том, что выезжают из Владимира игумен Федул, а с ним его «крылошаны», и уточняется — «с Лукиной чадью». Та же «Луцина чадь» — то есть хор под управлением певчего Луки — упоминается вновь и в Лаврентьевской летописи, когда в 1175 году происходили похороны самого князя Андрея Боголюбского. Прославленный хор, вскормленный и выпестованный князем, провожал его самого в последний путь скорбной, сдержанной мелодией. Здесь же, во Владимире, случилось и еще одно знаменательное событие для русской истории. В 1274 году на происшедшем тут Соборе был со всей основательностью рассмотрен вопрос о необходимости внести точные коррективы в порядок и строй хорового образования и исполнительства. Уровень мастерства певчих стал уже настолько высок, а потребность в искусном воспроизведении бесценного наследия столь настоятельна, что все присутствующие на Соборе единодушно пришли к выводу: необходимо на крылосы допускать не всех, не кого попало, а наиболее сведущих, одаренных и обученных певчих. Только таким «профессионалам» — пусть простит читатель это много веков спустя придуманное слово —можно доверить высокую честь представлять древние церковные напевы в наиболее торжественных случаях. В летописях мы встретим и другие имена доместиков — руководителей хоров, живших в XII—XIII столетиях на Руси. Это и перемышльский певчий Митуса, о котором писал Н. М. Карамзин, и новгородец Кирик. Само попадание их имен в древнерусские летописи говорит о славе, заслугах и о значении для тогдашней жизни их нелегкого труда. Итак, мы можем убедиться в том, что певческое искусство было предметом особого внимания носителей верховной власти с самых ранних времен истории Руси. И как только столица и духовный центр страны переместились с юга на северо-восток, во Владимиро-Суздальскую землю, а затем — в Москву, вслед за этим перемещением перешли по наследству традиционные навыки хорового пения, без которого — и это теперь уже становится предельно ясным — нельзя себе представить быт центра русской государственной жизни. Москва в XIV столетии, распростирая свои привычные к сошникам, но вместе с тем в дни ненастий суровые руки, крепко сжимавшие яростный, бичующий врагов меч, возродила и стала новой и отныне постоянной отчиной песнотворчества и песноделания. Нет сомнений в том, что в эпоху Куликовской битвы, в княжение великого князя Дмитрия Ивановича Донского и его наследников, в то время, когда творил великий Андрей Рублев, а из-за стен Троицкого монастыря озирал внутренним оком неоглядные просторы земель и времен русского народа преподобный Сергий Радонежский, нет сомнений, что в Москве было немало исправных и знаменитых хоровых наставников, славных отцов и учителей, носителей древнего искусства. Но имен их мы также не знаем. Однако крылосы московские упоминаются уже в 1382 году в «Повести о прохождении Тохтамыша царя». А значит, что за два года до этого звучал в торжественные дни победы над мамаевыми ордами тысячеустый хор в московских храмах. И ему же было суждено печаловаться нехитрой проникновенной мелодией о памяти погибших друзей и родичей, отдавших жизни свои в страшной, но знаменательной сече у слияния Непрядвы и Дона. Здесь же, в Москве, через столетие, изгнав за пределы родной земли последние ханские полчища, станет строить и возрождать жизнь на Руси князь Иван III. Он начнет наново строить Кремль — сердцевину Русского государства. Он возведет полные «велелепия» храмы, невиданные царские терема. Он же определит и основу первого постоянного придворного хора — «клыроса» (незаметно древнерусский «крылос» превратился в «клырос», а затем в «клирос») государевых певчих дьяков. К 1479 году была завершена постройка Успенского собора в Москве. Тогда же и огласил пространные своды громадного храма своим отменным сладкогласием новый государев хор — далекий прообраз будущей Придворной певческой капеллы. Вновь созданный клырос заботился уже не только о праздничных песнопениях. Государевы потребности в хоровом деле стали разнообразнее и шире. Куда бы ни отправлялся князь, всюду теперь сопровождали его отборные певчие. На выездах и приемах — поют; на охоте или отдыхе в поле — они тут как тут; чуть какое веселье — и снова кличут хор. Государевы певчие не только твердо знают свое дело, но теперь становятся авторитетом для иных хоров. Столица задает отныне свой, особый тон. Нет-нет да и сам государь со своими приближенными боярами встанет в ряд с певчими и споет полюбившееся песнопение. А то и сам дерзнет: почнет сочинять «произвол» — перекладывать старинную мелодию на свой манер. Царь Иван Васильевич Грозный был этому делу голова. Не только сам пел и несказанно потрясал «красным пением с своею станицею» весь двор и гостей, но и иных к сему принуждал. А особо искусных распевщиков привечал и одаривал. Многих при себе держал и содержал. Потому многие и прославились. О чем исчерпывающе повествует уникальный письменный памятник 1666 года — «Предисловие откуду и от коего времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное пение...», — содержащий в себе многочисленные сведения по истории музыкального искусства в Древней Руси. Вот что можно прочесть в этой книге: «...Из Киева прежде все благочестие... в Великий Новград, и потом от Великого Нова-града, иде само в царствующий град Москву благочестие и во всю Русскую землю... Но едва начаша друг от друга учитися, тогда начат и пение множитися... И мы... в возраст начахом приходити, и сами учитися, и слухи своими от некоих слышахом про старых мастеров, глаголю же про Феодора попа, прозвище Християнин, что был зде в Царьствующем граде Москве славен и пети горазд знаменному пению и мнози от него научишася и знамя его и доднесь славно. И от его ученик слыхали котории с нами знахуся, что-де он Християнин сказывал своим учеником, что в Велицем Нове-граде были старые мастеры: Савва Рогов, да брат его Василий, во иноцех Варлам, родом кореляне, и после де того тот Варлаам митрополитом во граде Ростове был, муж благоговеин и мудр, зело пети был горазд знаменному и троестрочному и демественному пению был роспевщик и творец. И у того у брата его Саввы были ученики, вышереченный поп Християнин, да Иван Нос, да Стефан — слыл Голыш. И тот Иван Нос да Християнин были во царство благочестивого царя и великого князя Иванна Васильевича всеа Русии. И были у него с ним в любимом его селе, в слободе Александрове, а Стефан Голыш тут не был, ходил по градом и учил Усольскую страну и у Строгановых учил Ивана по прозвищу Лукошко, а во иноцех был Исаия, и мастер его Стефан Голыш много знаменного пения роспел. А после его ученик его Исаия тот вельми знаменного пения распространил и наполнил. И от тех же Християновых учеников слышахом, что-де он им сказывал; некто де во Твери диякон зело был мудр и благоговеин, то-де распел стихиры евангельския; а Псалтырь роспета в Великом Нове-граде, некто был инок именит Маркел; слыл Безбородой, он-де ея роспел. Да он же сложил канон Никите архиепископу Новгородскому, вельми изящен. А Триоди роспел и изъяснил Иван Нос, будучи в слободе у царя Иванна Васильевича, и... стихеры и славники роспел он же». После многих веков почти молчания читатели-потомки вдруг получили как неописуемой щедрости подарок, целый список имен замечательных распевщиков — древнерусских композиторов. Среди них старейшие — Савва и брат его Василий Роговы. Автор «Предисловия...» рассказывает нам, что учениками Саввы Рогова были Федор Христианин (ныне его порой называют еще и Федором Крестьянином), Иван Нос да Стефан Голыш. У последнего был еще свой ученик — Иван Лукошко. А сам по себе, в том же Новгороде, откуда вышли родом Роговы, еще и работал «инок именит» Маркел Безбородый. Одна страничка текста позволяет проследить то, как распространялось в пределах крепнущего Московского государства хоровое церковное пение. Для начала представим себе цепочку преемственности среди учителей и их учеников, а также попробуем определить степень и широту распространения в Московском государстве искусства известных певчих. 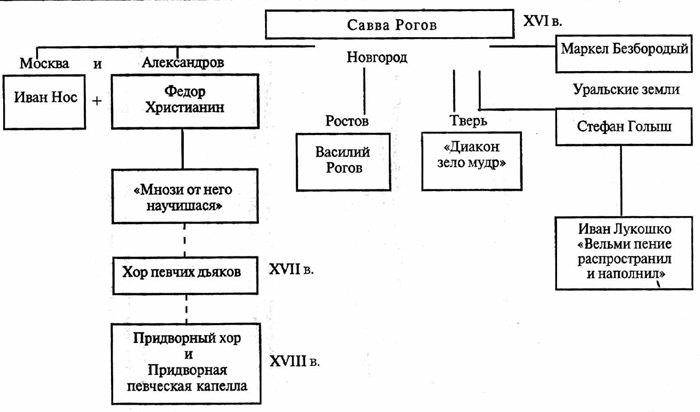 География развития музыкального дела только учениками Саввы Рогова говорит сама за себя. Но появление такой значительной фигуры, как Федор Христианин, — заслуга не только Саввы Рогова. Его выдвинула сама история, многовековой народный труд по развитию и совершенствованию хоровой культуры. «Переводы» и «переложения» Федора Христианина сохранились до наших дней. Некоторые из них распространялись в многочисленных списках. Каждая находка нового списка — громадное событие. Отчего же русские распевщики получили такую известность именно в это время? Ответ на вопрос можно найти в том же тексте упомянутого «Предисловия...». Ведь здесь не раз встречается имя «благочестивого царя и великого князя всея Русии» Ивана Васильевича, прозванного Грозным. И встречается не случайно. То есть не для того только поспешил сказать о нем автор текста, чтобы отметить, в какую эпоху жили московские и новгородские уставщики. Он стремился показать ту особую заботу, с которой именно в это время относились к труду мастеров хорового дела. А Иван Грозный вошел в российскую историю еще и как отменный знаток певческого искусства. Сам музыку определял и тексты писал. Духовная поэзия Грозного позднее прочно вошла в обиход пения. Часто встречаются его известные стихиры, то подписанные «Творение царя Иоанна деспота1российского», то более лаконично — «Творение царево». Долгое время существовала и еще одна стихира, авторство которой приписывалось неведомому песнотворцу, скрывшемуся под псевдонимом Парфений Уродивый. Мы могли бы внести это странное прозвище в составленную нами схему и тем самым увеличить ряд известных композиторских имен. Но на самом деле «Канон Ангелу Грозному воеводе» — так называлось его сочинение — принадлежал все тому же Ивану Васильевичу. Парфений Уродивый — один из его литературных псевдонимов. К этому же времени появляются в духовном пении на Руси первые зачатки многоголосия. О том, как это происходило, речь дальше. Но весь XVII век прошел в эмоциональных и воинственных диспутах: как, зачем и нужно ли подражать западному хоровому многоголосию или же следует хранить свято доставшееся в наследство строгое единогласие. Однако жизнь оказывала свое ничем не остановимое воздействие. Так или иначе уже к началу XVII столетия хоровое исполнительство на несколько голосов прочно вошло в обиход не только народного, бытового, но и духовного пения. Один лишь существенный, а быть может, и определяющий фактор достался в наследие новому многоголосию от Древней Руси. То было величайшее достижение всего многовекового русского хорового искусства, его отличительная черта в сравнении с мировой хоровой культурой. Национальной особенностью певческого искусства российских мастеров было, по словам Б. Асафьева, «великое, всецело русское древнее звукоискусство роспевания». Внутреннее стержневое единство мелодики, сочетаемое с естественными возможностями варьирования и превращений внутри самого напева, наподобие возможного варьирования и превращений в обыкновенных народных песнях, при сохранении основного мотива — вот в чем была особенность этого звукоискусства. Словом, при существовании определенного напевного стержня исполнителю всегда предоставлялась возможность воспроизвести его с новыми оттенками, с новой интонацией, живо, искусно, выразить свое переживание, отношение к нему. Это по-своему строгое, сдержанное, но богатое по внутреннему сосредоточенному состоянию искусство вариантности роспевания было тем неисчерпаемым и важнейшим наследием, которое получили творцы новой, многоголосной музыки в послепетровскую эпоху. Интонационное мышление, сложившееся за века русской музыкальной культуры, стало не только надежным багажом и путеводной нитью для роспевщиков, но и было неизбежной составной частью их собственного мышления. Мелодическое чувствование, чутье, чуткость в сочетании с глубочайшим и сокровенным смыслом заложенного в роспеве понимания бытия человека в мире, его происхождения, жизни на земле, онтологической природы и исторической роли отвечали самым наивысшим состояниям человеческой души в их эмоциональном и моральном проявлении, отражали человеческие помыслы о счастье и покое, о прошлом, настоящем и будущем, о смысле жизни, об истине и лжи, о надежде, любви, о добре и зле. Недаром мелодическое наследие Древней Руси называлось особо — роспевом, а не музыкой, не искусством мелодики, не хоровым мастерством, ни тем более достижением игры на инструментах. В послепетровское время многое исчезло из древнерусской музыки — ее строй, ее лад, ее нотная система, ее внутреннее аскетически суровое единогласие. Но не исчезло главное — роспев, то сокровище эпического, мифологического действа, подобное искусству вязания, если его можно представить перенесенным на музыкальную почву. Распевность не исчезла, она лишь «переоделась» в иные одежды, свойственные иной эпохе. Но то была музыка прежняя, русская, живущая и выживающая в веках, как и русское слово, русский язык, русское чувство истории, русская идея, русский народ и русская земля. Появилось на Руси новое веяние — партесное пение, то есть пение на голоса, по партиям — и снова слышатся в нем древние интонации. Пришло с Украины и Белоруссии искусство канта, хоровой хвалебной песни, и вновь мы узнаем среди нагромождений разнородных напевов чисто русский стиль и характер распевности. Попытались проникнуть (и безуспешно!) в быт такие песнопения, как псальмы, особый жанр домашних духовных песен, привнесенный не без влияния католицизма через Польшу и Малороссию, — и вновь столкнулись с крепкой и устоявшейся традицией, пососедствовали с ней, позаимствовали все той же распевности и отошли в сторону, как приятный, но забывший меру гость, который не сразу, но понимает в конце концов, что пора и честь знать. Петр I привез в новую столицу — Санкт-Петербург — и свой собственный хор, насчитывавший три десятка певчих. А в 1713 году хор государевых певчих дьяков был окончательно переименован в придворный хор. Так появилась — пока еще в своем зачатке — будущая Придворная певческая капелла. И уже короткое время спустя обрела черты крупнейшего и лучшего во всей огромной державе хора. Вот какое сокровище духовной жизни народа получил на свое попечение Дмитрий Степанович Бортнянский. Вглядываясь в глубь веков, нелегко было определить — куда и как развивать хоровое дело? Что внести нового, осторожно и бережно развить? Что, быть может, и сохранить в прежнем виде, а чему и вернуть древнее, подлинное лицо? Вопросов было немало. И кому же их решать, как не ему, новому управляющему главным хором Российского государства?! Едва отпели покойную Екатерину, едва отгремели торжества по случаю восшествия на престол императора Павла I, а Дмитрий Степанович исполнил на празднике свой новый четырехголосный концерт «Господи, силою Твоею возвеселится царь», сопровождавшийся игрой сразу двух оркестров — симфонического и рогового, едва только успел потерять свежесть анекдот о том, как главнокомандующий московским гарнизоном М. М. Измайлов, узнав от посыльного о новом императоре, поднял заздравный кубок и прокричал хору певчих: «Славься сим Екатерина!» — старый гимн времен покойной императрицы, после чего чуть было не получил сердечный удар от предощущения возможных неприятных для него последствий, едва прошли первые дни нового правления, как в музыкальной жизни России стали происходить неожиданные резкие перемены. Отразились они и на Придворной певческой капелле. Как и некоторые иные указы нового императора, впрочем, не все — и эти внедряемые новшества начались с почти невинного происшествия. Не процарствовав и двух недель (описываемое событие произошло 20 ноября 1796 года), однажды поутру Павел вышел по обыкновению своему на плац и с присущим ему пристальным вниманием, порождавшим в сердцах подданных трепет, стал вглядываться в порядок построения одного из своих лучших полков — Преображенского. Командир полка Татищев уже по одному выражению лица императора понял: быть беде. Ожидать можно было чего угодно. Поняли это и все присутствовавшие. Особенно когда Павел, нарочито жестко чеканя шаг и всматриваясь в окаменевшие лица выстроенных по фрунту солдат, двинулся вдоль строя. Павел шел молча. Вот уже и фланг скоро. Неужели все сойдет? Неужели обойдется без взбучки? — А это что за войско? — вдруг сухо спросил император, указывая на выстроенных во фланге музыкантов. — Как-с?! — переспросил Татищев. — Я у вас спрашиваю, — повторил Павел, обращаясь к ротному командиру, стоявшему в строю, — что сие за воинство? — Сие есть музыканты, Ваше Импрскье Величство! — выговорил побелевший как мел ротный. — Неужели все это музыканты? — округлив глаза, повернулся Павел к Татищеву. — Да тут их превеликая толпа! Э-э! — и он покачал головой. Музыкантов и в самом деле оказалось много. Во времена Екатерины в иных полках случалось, что и чересчур. Да и что тут, казалось бы, плохого, когда в хорошем полку и музыка хорошая, тем более ежели полк столичный, гвардейский, парадный, такой, как Преображенский! Но по штату положено было иметь на каждый полк не более чем по два трубача и по стольку же валторнистов, гобоистов и фаготистов. На деле же все выглядело иначе. Полковые командиры щеголяли друг перед другом своими музыкантами. Создавали целые оркестры — духовые, роговые, выписывали инструменты, одевали исполнителей, и все за счет казны. То же перекинулось и на инфантерию, и на кавалерию, и на артиллерию, и на егерей, коим и вовсе никакой музыки, кроме трубача, положено не было. А по словам современника, «во многих полках не позабыто было и о певческих хорах». К ним же еще содержались капельмейстеры и учителя. Расход, что и говорить, в самом деле немалый. Далее события разворачивались молниеносно. Судьбы полковой музыки российского войска решились в пять минут. Павел не подошел, а прямо-таки подбежал к строю музыкантов и вскричал: — Лучшие два валторниста, выходи сюда!!! Ротный быстро указал двум валторнистам выйти из строя. — Лучшие два кларнетиста, выступайте вперед! — неистовствовал император. Вышли кларнетисты. — Лучший самый фаготист, выходи вон! Пятеро вызванных из строя музыкантов выстроились на плацу перед полком. — Вот! — понизив голос, глядя в глаза Татищеву, произнес Павел и указал на пятерых солдат. — Вот сих и довольно будет. Пусть они остаются музыкантами, а прочих — поместить в роты, и пусть несут службу, как обычные солдаты. Татищев понял вдруг, что в одну минуту лишается всего, что собиралось, обучалось, готовилось многие годы. Но перечить Павлу — мыслимо ли! Однако же и пожертвовать всем никак нельзя. А что, если... — Ваше Величество, дозвольте доложить... — Что? — Что... в числе сих музыкантов многие еще состоят и певчими. — Певчими?! Зачем это? — Чтобы петь в нашей Преображенской церкви, которую Ваше Величество соизволили переименовать на днях в гвардейский собор. — Гм. Да там, кажется, есть штатные дьячки и пономари. Татищеву стало ясно, что император от своего не отступится, и он уже пожалел, что вступил с ним в пререкания. — Слушаюсь, Ваше Величество, — покорно ответил он. — Ну так этого штата я не уничтожаю, а солдатам там нечего делать. Пускай они свое ружье узнают да послужат. А ну-ка, — обратился Павел к адъютанту, — пиши царский указ. И тут же он продиктовал приказ о новом штате музыкантов для всех полков без изъятия — по пять человек. Пока полковые музыканты перешивали свои расшитые галунами мундиры на обычный солдатский покрой, Павел занялся преобразованием и других сторон придворной музыкальной жизни. Месяц спустя после реорганизации полковой музыки он приступил к «упорядочению» придворных театральных дел. Действительный тайный советник князь Юсупов получил 22 декабря «Именной высочайший указ», где, в частности, отмечалось: «...Музыке при дворе нашем повелеваем быть в ведении вашем с тем, чтобы вы управляли сего честию... Всех принадлежащих к... музыке придворных людей иметь всем в точной дирекции нашей; иностранцев выписывать, заключая с ними договоры, и своих собственных актеров, танцовщиков и музыкантов заводить... Стараться составить наилучшим образом оперу Итальянскую так, чтоб актеров хороших в ней было достаточно, не только для комической части, но в случае надобности и для серьезной, следовательно, были бы певцы и певицы для стола и концертов, тоже балеты и, наконец, театр российский...» Создавалось впечатление, что множества вполне упорядоченных и точно регламентирующих музыкальный и театральный быт указов Екатерины словно бы и не существовало. Павел словно все начинал сначала, будто вся история России, а музыкальная жизнь в частности, только и началась с того момента, как он встал у кормила власти. На Придворную капеллу обрушился соответствующий приказ — штат сократить вчетверо! Припомнили и елизаветинские времена, когда в капелле состояло на постоянном содержании 24 певчих. Бортнянский еще не успел толком войти в финансовые и организационные дела капеллы — а это было теперь его прямой обязанностью, — как его вызвал президент придворной конторы граф Н.П. Шереметев, которому было поручено «разобраться» с придворными музыкантами. — Ничего не поделаешь, Дмитрий Степанович, — встретил Шереметев Бортнянского, — имею твердые указания передать вам настоятельную просьбу о сокращении вашего штата. — Но как же сокращать, Ваше Сиятельство, ведь у нас же столько всевозможных обязанностей? С нас же потом и спросят за невыполнение. — Ведаю об этом. Но ничего поделать не могу. — Да немыслимо, Ваше Сиятельство, сокращать нынче штат. Я могу доподлинно обосновать это свое утверждение. — Вот и обоснуйте. Только в письменной форме. На мое имя. А я уж как-нибудь сумею поднести Его Величеству... Обосновать невозможность выполнения приказа Павла, да еще и в письменной форме! По тому времени это могло бы прозвучать как подписание приговора о собственном разжаловании, если не о чем-нибудь еще худшем. И все же Дмитрий Степанович не задумываясь взялся за перо: «Сиятельнейший граф, Милостивый государь! По объявлении мне от Вашего Сиятельства высочайше конфирмованного штата выбрал я из числа ныне состоящего девяносто трех придворного хора певчих, предписанное число двадцать четыре отличного достоинства, о которых при сем прилагаю реэстр с показанием остальных. А как Вашему Сиятельству угодно было при том требовать моего мнения, может ли быть достаточно сего числа в пении церковного обряду, то должен дать на то некоторое объяснение. Когда сей хор по церковному чиноположению разделится на два клироса, то несомненно окажется недостаточен, а нарочито в торжественные дни. При том Вашему Сиятельству небезызвестно, что некоторое число певчих отделяется обыкновенно к службе в малую церковь, может впредь во время походов должно будет делать еще большие отделения для высочайшей императорской фамилии, следственно в присутствии Его Императорского Величества. По мнению моему, понадобится положить число певчих по двадцать четыре на каждый клирос, а двадцать четыре для отделения в малую церковь, для иных непредвиденных случаев, так и в дополнение тех оной из числа двух хоров по причине болезни могут не в состоянии исправлять их должность. Сии три хора составят семидесяти двух человек, к которым за необходимо нужно почитаю прибавить для учения малолетних, так как и ныне находящихся в должности учителей пения, Василия Пашкевича и Федора Макарова. В прочем все состоит в высочайшей воле Его Императорского Величества, и не инако представляю сие мое мнение, как примерное начертание, в таком только случае, когда бы по ответу оказалось положенное по штату число недостаточным! Правящий хором придворных певчих коллежский советник Дмитрий Бортнянский». Результат был ошеломляющ. Павел, видимо, не мог отказать прославленному композитору. Состав Придворной певческой капеллы остался таким, каким его представил Бортнянский. Певчему Придворной капеллы жилось не сладко. Положение, казалось бы, и завидное: служба при дворе, более или менее твердое жалованье. Но служба до необычайности зависимая и нелегкая. Службы, как известно, почти каждый день. А к ним еще добавляются театральные спектакли. Если в поход отправляться с императорским двором, то хуже дела и представить нельзя. Содержание почти солдатское. Обмундирования, нужного для похода, нет. Да к тому же, пока певчий в походе, кормится он за счет того, что ему в походе и выдадут. Жалованья же в это время придворного не полагается. А жилье? Хоть и жили когда-то в покоях старого Зимнего дворца, да все едино словно в казармах. Пропитание тоже казарменное. У малолетних певчих и того хуже. По новому указу князя Юсупова стали их обучать читать и писать по-русски и по-французски, началам арифметики, танцам и пению. А содержание осталось прежним. Плата мизерная. Казенный кошт подразумевал минимум обмундирования. Малолетнему певчему полагалось в год на четыре рубахи по шесть аршин холста, да на три полотенца по два аршина. К тому же еще несколько пар обуви, из них две пары «носильных» заказной работы, и три аршина сукна на камзол и штаны. Вот и вся казенная плата... Когда певчие хора капеллы надевали парадные кафтаны, выстраивались на праздничной службе на обоих клиросах и запевали сильными, яркими голосами, казалось, что нет жизни краше, чем у хориста. Знай себе пой и не ведай нужды. Все есть у тебя, и жизнь твоя интересна и красива. Однако жизнь их напоминала жизнь солдатскую. Службы много, службы беспросветной. И заступиться за певчих вроде бы и некому. Служащие капеллы впервые осмелились направить на высочайшее имя прошение о материальной помощи. «Все служащие при высочайшем дворе, — писали певчие, —пользуются... милостями получением между прочим и денежной порции. Мы же и прошедшаго года бывши везде по походам безотлучно на собственном иждивении в пропитании себе в походах, а жене и детей своих на месте в Санкт-Петербурге при одном жаловании пришли в крепчайшее разорение... Нужно тут одно только ваше человеколюбие...» «Человеколюбие» позднее будет проявлено. Хлопоты Бортнянского не окажутся напрасными. Но не только материальная сторона дела беспокоила нового управляющего. Требовалось многое изменить в распорядке деятельности капеллы, в самом ее нутре, в ее сердцевине. Еще с детства помнил Дмитрий Степанович сетования Марка Федоровича Полторацкого на то, как трудно певчим, привыкшим к благообразию церковных песнопений, тут же, порой в течение одного дня, по нескольку раз переключаться на театральные оперные действа, исполнять популярные итальянские или французские арии. Нельзя так измываться над хором. Следует раз и навсегда отделить привычный состав капеллы, поющий без сопровождения инструментов — а капелла, — от состава, участвующего в оперных спектаклях. Это и стало главнойзаботой на первых порах его управления. Он самолично прослушал всех певчих. Нашел негодными почти половину из них. Кто-то уже по старости не соответствовал тем требованиям, которые хотел предъявить он. А кое-кто и по своим голосовым данным не смог бы воплотить то, что он намеревался сделать. Сделать же нужно было многое. И Бортнянский стал подбирать новый состав певчих. Помогали старые знатоки хорового дела — Макаров и Пашкевич. Но прослушивал всех до единого кандидатов в капеллу он сам. Как и прежде, привозили много певчих из Малороссии. Но и в Москве, и в самом Санкт-Петербурге подыскивали малолетних. Таковых, выказавших свои таланты, оказалось немало. Около сотни душ, и к каждому нужно найти свой ключик, свое отношение. Ибо не будет единым хор, если в нем не будет у каждого и некоего отличия. И в то же время все эти отличия должны сливаться в одно целое, подобно тому, как драгоценное ожерелье состоит само по себе из отдельных сияющих в своей красоте драгоценных камней, но вместе составляет настоящее произведение искусства, поражающее своим великолепием. Нужно превратить капеллу в лучшую школу хорового мастерства. Нужно дать певчим крепкое, цельное образование. Бортнянский, разговаривая с отроками, проверял в первую очередь голоса, а затем внимательно изучал способности к иным наукам. Испытывал, задавая всяческие головоломки и задачи на смышленость. Немаловажную роль играло и наружное обличье будущего певчего. Вот статс-секретарь Марии Федоровны Григорий Иванович Вилламов отправляет к нему трех мальчиков и сопровождает сие своей запиской, где просит «благоволить принять на себя труд испытать присланных с Александровской мануфактуры в больницу бедных трех воспитанников в том, могут ли они употреблены быть в певчие...». Бортнянский с усердием принимается за выполнение просьбы. Но... «трех мальчиков прослушал... и нашел их совсем не способными к пению... понеже они неграмотны и по наружному их расположению и впредь ничего не обещают». Отобранные певчие пользовались не только благоволением, но и полным покровительством нового управляющего. Как это ни банально звучит, но хор для Бортнянского был одной большой семьей. Он сам возрос в этой семье. И теперь создавал все условия для нормального быта и жизни своих подопечных. Ведь в самом деле — почти все они были полностью и в большинстве своем на всю жизнь оторваны от родных и близких, оставшихся где-то далеко, на родине — в Черниговщине или на Полтавщине, в Глухове или в Харькове. Судьбы малолетних певчих целиком зависели от их учителей, от наставников. Необходимо было дать им то, чего они заслуживают, что им более способно. Поэтому и образовывать можно и нужно было их по интересам, преподавать не просто набор разных наук, но главным образом те, которые ближе каждому по его индивидуальным склонностям. И все же главное — это было хоровое образование. Развитие и становление голоса, вокальная школа. В этом отношении традиций у капеллы было больше чем достаточно. Но Бортнянский уже теперь задумывал создать свой, особый хор. Он должен быть един и монолитен, он должен быть одним поющим организмом, в котором сливаются дисканты, тенора и басы, он должен суметь выразить то, что уже было им задумано. В первые же месяцы капелла под управлением Бортнянского поет в Эрмитажном театре хоровые концерты, российские песни. Ее выступления сопровождают и инструментальные ансамбли. Наконец Дмитрий Степанович добивается главного — отделения основного хора от хора, предназначенного для театральных действий. Более чем полувековая зависимость придворной капеллы от оперных постановок прекратилась. Но оставалась иная зависимость — от непредсказуемых прихотей императора. В марте 1797 года Павел I отправился в Москву. То был первый его въезд в древнюю столицу после кончины Екатерины. Жители первопрестольной, паче же и цвет здешнего дворянства приготовились к встрече августейшего гостя. Коронация императора, назначенная на 5 апреля, должна была произойти в обычном порядке, в Успенском соборе. На торжественном приеме по случаю коронации огромный хор в три голоса распевал «Песнословие». Восторгов сих желанных воспой счастливый жребий свой... Павел удовлетворенно улыбался. Не менее удовлетворенно улыбался и Бортнянский — автор «Песнословия», дирижировавший хором. Капелле теперь вряд ли угрожали какие-либо неприятности... Бортнянский взял со стола небольшого формата издание, только что принесенное из книжной лавки. Перелистал. «Карманная книжка для любителей музыки на 1796 год», изданная с дозволения Управы Благочиния в Санкт-Петербурге И. Д. Герстенбергом, открывалась пространными сведениями о похождениях «великих и славных музыкантов». Тут был чрезмерно пламенный рассказ об урожденной в Германии Елизавете Шмелинг, позднее известной по фамилии мужа, как Мара. «Неохотно пускаюсь я, — писал о певице биограф, и слова эти красноречивее многих предисловий, — на объявление тех дел женского пола, о которых знатоки света, знатоки вежливости говорить запрещают; но я истинне противною повестию нарушил бы первый долг писателя». Биографию Мары сменяла краткая повесть о скрипаче-виртуозе Антонио Лолли, талантливом импровизаторе, не способном порой сыграть по нотам известные сочинения. — Я родился в Бергаме, — говаривал Лолли, о чем автор не преминул напомнить, — там же все с природы дураки, а я один из первейших между ними. Но ведь служил же много лет в придворном оркестре в России. Пользовался покровительством Паизиелло и князя Потемкина. Вслед за ним петербургскому читателю предлагалось повествование об аббате и первом капеллане при дворе Майнцкого курфюста Стеркеле. Причем в области игры на клавесине автор текста считал его не более и не менее, как могущим «заменить потерю Моцарта». Также в разряде значительных предлагался последующий рассказ о богемце Леопольде Коцелухе, который якобы в Германии и Англии «любим более прочих ныне существующих сочинителей». Завершалась биографическая часть «Карманной книжки» сведениями из жизни Кристофа Глюка. Еще когда Бортнянскому пришлось быть в Италии, знаменитый немец отправился в Париж и покорил сердца слушателей французской столицы, затмив своим мастерством даже Люлли и Рамо. Поразительно, но в книжице не было ни единого упоминания хотя бы об одном отечественном музыканте или исполнителе! Словно это был путеводитель по зарубежным европейским концертным залам. Бортнянский зевнул и перевернул еще ряд страниц. Бросилось в глаза некое краткое «показание» для игры на клавикордах. «Ну-ну, — подумалось Дмитрию Степановичу, — что сей наставник заморский нам присоветует в этом деле?» А заморский наставник советовал иметь для занятий сразу два инструмента — и клавесин, и клавикорды. «Не могущий иметь обоих вместе пусть лучше изберет клавикорды», — констатировал автор. «Для кого же школа сия предназначена?» — вновь подумал Бортнянский. «Ужели для нашего среднего певчего или, может быть, для мещанина среднего достатка?! Вряд ли. У самого Павла в бытность его наследником во дворце всего-навсего и было, что два клавесина и одни клавикорды. Куда уж иметь столько же простому смертному!» Но ведь пишет же этот самообольщенный своими познаниями маэстро: «На хороших клавикордах будет учащийся играть гораздо с большею охотою и научится большей приятности, нежели от брянчания по лубочному ящику». Опять, ежели что и не чересчур знатно и модно, так значит и можно «лубочным» назвать. Слово «лубочный» ругательством будто звучит, неприязненно и скверно. Однако хоть и способно к занятиям это наставление, да читать тошно. Не лучше ли заглянуть в «Анекдоты»? Что ж, вот высмеивается некоторая отрешенность от реальности, свойственная музыкантам. Любопытно. Анекдот гласил: «Великие музыканты странностями своими подобны великим глубокомысленным философам. Как о последних рассказывается много смешных приключений, происходящих от чрезмерного преследования какой-нибудь мысли: как и об одном говорят, что он пальцем дамы хотел набить трубку табаком; другой, взявши вместо шляпы под мышку исподнее платье, пошел со двора: так и об великих музыкантах есть довольно примеров, что они от чрезмерного прилепления к какой-либо мысли самые странные обнаруживали поступки. Не говоря о многих других, скажем только о случившемся в самом С.-Петербурге. В то время, пока парикмахер причесывал великому музыканту Z-x волосы, сей, искав перебора от одного пассажа к другому, забывает, наконец, обо всем, что с ним и около него делалось. Механически выходит он в переднюю комнату и закрывает себе руками лицо, пока парикмахер его пудрит. Будучи слишком занят своим перебором, не заметил он и учтивого поклона парикмахера. Сей, пошедши от него в отдаленнейшую часть города, чтоб претворить одного из своих знакомцев в Адониса, приметил лишь при начатии своей работы, что он пудреницу свою оставил у музыканта. Он, кончив, однако ж, дело свое, потом уже возвращается к художнику; и что ж! Сочинитель стоит в том же самом положении, на том же месте и в том виде, в каком он его оставил. Парикмахер сквозь зубы приносит ему извинение, и тогда лишь почувствовал он его присутствие, спросив его, все ли готово? Парикмахер объявляет о причине своего вторичного прихода, и сочинитель принужден был над собою засмеяться». А небось и его, Бортнянского, многие почитают за некоего отрешенного от мира сего философа музыки. Ужели и он способен навести такую скуку на окружающих?! Однако, видимо, со стороны кажется некоторым, будто придворный музыкант целыми днями посиживает в зимнем саду и время от времени пописывает свои сочиненьица. И в голову иному не придет, что капельмейстер, да тем более управляющий капеллой, — это едва ли не подневольный служитель, пунктуальный исполнитель всевозможных придворных церемониальных поручений, да к тому же еще эконом и маркитант для музыки, бумажных и канцелярских дел — одним словом, чиновник. И чин у него служебный, как и у других. После коронации Павла получил он повышение — 28 апреля 1797 года стал статским советником1. На каждого певчего капеллы приходилось вести письменные дела. Выдавать всякого рода аттестации, характеристики и свидетельства. А сколько нужно решать дел по различным ходатайствам, прошениям! Если бы кто смог представить... К примеру, жилье. Тех, кому нету места в дворцовых покоях, приходится размещать у себя. Дом управляющего капеллой —словно постоялый двор. Летом же, когда император с окружением переезжает в Павловск, певчих приходится селить на своей даче. А иные всяческие нужды и дела! Положим, у кого-то из певчих свадьба. Нужно ведь помочь. Пособия всевозможные выспросить. Угощение для гостей велеть сготовить да за него заплатить, казенными да и своими деньгами. Все это в его ведении. А самое главное — еще и дать, словно родительское благословение, свое согласие на брак. Бывало, в прежние времена, когда еще покойный Максим Созонтович Березовский задумал жениться на танцевальной девице Франциске Ибершер, так для этого потребовался не более и не менее как именной указ самой императрицы Екатерины Алексеевны. Потому как девица была католического вероисповедания. Ныне времена другие, но подобного рода дела не совершаются в капелле без его ведома. Приходится выдавать свидетельства о том, что такой-то «желание имеет совокупиться законным браком с девицей такой-то... и в сем его желании от меня ему позволяется, и что действительно он еще холост, в том сим за подписем моим с приложением герба моего печати и свидетельствую...» Надо помочь с жильем молодоженам — опять к нему идут, детей крестить — снова Дмитрий Степанович выручай. Вот истинный анекдот, а не тот, что музыканта за философа неземного представляет. В условиях таких нужно еще и музыку писать, и службу главную выполнять — руководить певческим делом. А паче всего — думать о будущем российского духовного хорового концерта. Писать хоровые концерты Бортнянскому приходилось давно. Еще в юности, когда Бальдассаре Галуппи выдвинулся на этом поприще в России, юного Деметрио заинтересовал такой жанр, близкий по духу, привычный по ежедневному труду в капелле. В Италии Бортнянский лишь пробовал свои силы в различных песнопениях, зачастую на латинские и немецкие тексты. Но, вернувшись в Россию, принялся за создание концертов с большой охотой и немалой энергией. Хоровой концерт слыл привычным жанром для последней четверти екатерининского века. Исполнялся он в первую очередь в кульминационные, главные моменты церковных служб. Но мог петься и на большом придворном торжестве, во время важной церемонии. В памяти многих еще жили изумительные, полные торжественной скорби и проникновенной эмоциональной силы мелодии концерта Максима Березовского: «Не отвержи мене во время старости». Писали концерты и Джузеппе Сарти, и Артемий Ведель, и Петр Скоков, и Степан Дегтярев, и Петр Турчанинов. Строй хорового концерта отличался особой строгостью. То было большое, величественное песнопение, звучащее торжественно или скорбно, возвышенно или лирично. Текст концертов составляли строфы из Псалмов, но порой они переделывались по усмотрению самого композитора. Для проявления индивидуальности автора музыки в хоровом концерте открывалось немало возможностей. Концерты могли быть одночастными, двух-, трех— или четырехчастными. Начальные такты музыки так же, как и первые слова концерта, всегда играли решающую роль в его эмоционально-душевном воздействии на слушателя. С первых же тактов многие русские духовные хоровые концерты XVIII столетия поражают своей огромной лирической силой, вызывают трудно с чем сравнимое потрясение, которое продолжает воздействовать на души слушателей до самых последних звуков произведения. Бортнянский глубоко понимал внутреннюю мощь и действующую на слушателей силу хорового многоголосного концерта. В этом жанре он выражал многие свои сокровенные чаяния полностью, с наибольшей отдачей. Возможность проявления своих способностей в этой форме привлекала его, как, впрочем, и многих других музыкантов. Ведь хоровые концерты писали в то время в России почти все композиторы. Влияние итальянской традиции в хоровом творчестве Бортнянского весьма ощутимо. Да он и сам это хорошо знал. Ведь пережил же десятилетия «итальянщины» в России. Сказывалась школа, преподанная заморскими учителями. Но кого из современников можно было бы выделить, как не пишущего на итальянский манер? Каждый отечественный композитор по-своему пытался привнести в инородный музыкальный строй свои находки, свои возможные формы национального русского мелоса. Эти поиски хоть и были упорны, но не стали еще особо плодотворными. Внедрение русской песни на театральную оперную сцену также еще не стало определяющей тенденцией. Требовались иные музыкальные формы. И конечно, сплав формы с содержанием, сплав органичный, целостный, доходчивый. Видимо, время для композитора, который бы нашел этот сплав, еще не пришло. Искать! Искать! Эта идея преследует Бортнянского постоянно. Один за другим он пишет свои концерты. Один за другим печатаются они лучшими издателями, исполняются лучшими хорами — в Смольном институте, в Шляхетском корпусе, в Воспитательном доме — Придворной певческой капеллой, многими усадебными ансамблями. Но настоящего, подлинного результата все будто и нет. Поначалу он решил постепенно внедрять в музыкальную структуру хоровых концертов мелодии народных песен. Еще с детства помнил он множество двух-, трехголосных протяжных украинских напевов. Украинские, да и некоторые русские песни как нельзя лучше ложились в общий строй концертов, потому что построены были на мелодичных аккордах, по законам гармонии, весьма близкой к итальянскому концертному стилю. Лирические интонации народной песенности, их порой стройная минорность, говоря строго специальным языком — восходящая тоническая квартсекстаккордовая минорность, помогали быстро отыскать тему, музыкальную канву для соответствующего текста. Бортнянскому близки были и весьма пригодились и древнерусские законы распевности, сочетания и повторения звуков. Все эти достижения он спешил облечь в профессиональную форму истового знатока первейших европейских новшеств. Так, невольно, он делал необычайные открытия, впервые намечал целые тенденции, которые будут свойственны творчеству великих композиторов последующего, XIX столетия, не только и не столько даже русских, но и европейских. Бортнянский искал и в лучших своих концертах находил синтез основных хоровых форм, основанных на передовых достижениях европейской культуры и базирующихся на величайших достижениях культуры российской. То была совершенно новая ступень в русской хоровой музыке. Композитор показал ту степень возможностей в использовании самых первоклассных форм в музыке России, которые позже смогут быть развиты М. И. Глинкой и его последователями. Национальные истоки в творчестве Бортнянского требуют еще широкого осмысления. Не так-то просто выявить их. Однако композитор предвосхитил тот вывод, который позднее сделает Глинка: «Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака». Бортнянский никогда не писал о своей напряженнейшей творческой работе, он никогда и не рассказывал о ней. Он просто работал. И это действительно была работа, которую он исполнял кропотливо, не требуя за нее наград и не выделяя из нее некоего возвышенного сладострастного состояния, которое иными биографами возводится в ранг «творческого переживания», «духовного взлета». Бортнянский жил тем, что он делал, выполнял свои обязанности и не спеша претворял свои замыслы. Сделано же им было немало. Более 50 духовных хоровых концертов говорят сами за себя. Писались они на протяжении трех десятилетий. Ни один из них не датирован. Они почти вовсе не сохранились в автографах. Нет ни намека в воспоминаниях современников или в письмах окружающих его о том, как он создавал их, что думал при этом, что пытался передать. Но остался как неоспоримый факт поразительный результат плодотворного труда. В каждой почти строке его концертов узнаются и поныне мелодии народных песен. Тут и известная «Вдоль по улице метелица метет», и легендарная в будущем «Камаринская», и украинские и русские песни, такие, как «Разве ты не знаешь, где моя хата», «Ехал казак за Дунай», «Ах ты, матушка, голова болит», «Взойду я на гору», и мелодии мазурок, и многое-многое другое. Результат такого синтеза был поразителен. Самые сведущие и изысканные знатоки европейской музыки, приезжие композиторы бывали потрясены услышанными хорами Бортнянского. Г. Берлиоз писал: «Эти произведения отмечены редким мастерством в обращении с хоровыми массами, дивным сочетанием оттенков, полнозвучностью гармоний и — что совершенно удивительно — необычайно свободным расположением голосов, великолепным презрением ко всем правилам, перед которыми преклонялись как предшественники, так и современники Бортнянского и в особенности итальянцы, чьим учеником он считался». Одновременно хоры Бортнянского были близки и доступны, понятны и душевно приемлемы для всех слоев населения. Их пели в деревнях и селах, в городах и в столицах. Однако при всей своей любви к народным мотивам Бортнянский сумел выказать главное свое достоинство, по словам современника, этим достоинством было его умение никогда не раздражать и не поражать слушающих, он никогда не ставил целью бездушное ублажение слуха без прямого воздействия на сердце. Бортнянского привлекали поначалу четырехголосные и двухорные концерты. Пробуя свои силы в этом жанре, он постепенно набирал мастерства, переходил от торжественно-патетических мелодий к более сокровенным, лиричным. Он еще не спешил оторваться от партесных концертов и кантов, от гимнов, маршей и менуэтов. Более поздние сочинения совершенны по форме и содержанию. Они мелодичны и распевны, они задушевны и лиричны. Их поразительное воздействие заключалось в проникновенном понимании композитором текста, в знании им неких законов эмоциональной психологической сосредоточенности человека. Бортнянский как бы управлял этими законами, словно хороший психолог, он умело затрагивал наиболее чувствительные струны души, создавал порой полную иллюзию упокоения, умиротворенности, а порой и ощущение возвышенности, радости. «Эмоциональность» концертов Бортнянского не была «специальным» бегством из области духовной в сферу душевных чувствований. Если учесть, что тенденция концертирования в духовной музыке, все большей светскости хоровых песнопений прогрессировала в России уже более чем столетие до его творчества, то уж никак нельзя обвинить композитора в намеренном опрощении материала, сознательном уходе от древних оригиналов. Скорее наоборот, используя сложившиеся формы музыкально-эстетического сознания, зная тенденции и направления развития хорового пения, Бортнянский спешит совершенствовать его внутренний смысл всеми доступными и понятными современникам средствами. «Душевность» сочиненных им концертов — его достоинство как композитора и отнюдь не недостаток, как пытались приписать его творчеству иные ревнители ушедшего из массового быта единогласия. Гораздо нелепее выглядели концерты иных, менее даровитых музыкантов, которые на низком уровне оперировали современными формами и пытались «присовокупить» к ним более древние, традиционные. Их сочинения не стали общепринятыми, не вошли в сокровищницу русского хоровогоискусства. Время, как всегда, выбирало свое. Видимо, Бортнянский шел на его гребне, он в хоровом творчестве выразил максимум того, на что был способен сам и на что могла подвигнуть его эпоха. В своих лучших, поздних концертах, а особенно в 32-м и 33-м, он в музыкальной форме высказал самые сокровенные свои творческие идеи, выразил богатство своей души. Один из них начинается словами: «Вскую прискорбна еси душе моя? Вскую смущаеши мя?» В хоровом многоголосии повторяются грустные слова, в протяжном, тихом разговоре переплетаются в незримую мелодичную ткань голоса басов, теноров и дискантов. И кажется, будто там, в глубинных пластах души, зарождается неосознанное, протяженное томление. А голоса все повторяются, все ткут художнически задуманное полотно. И, наконец, сливаются в единое, громкое, вопросительное: «вскую прискорбна еси...», — на мгновение замирают и, вздрогнув, ниспадают в испуганное, бессильное — «душе моя»... Другой концерт, названный «Скажи мне, Господи, кончину мою», — проникновенная песнь человека, осознающего глубокие тайны жизни и смерти. Это панихидное песнопение, названное позднее Петром Ильичем Чайковским «положительно прекрасным», многие десятилетия, вплоть до наших дней, будет поражать своим предельным совершенством. Воистину оно встанет в один ряд с шедеврами мировой культуры... «В этой гармонической ткани слышались такие переплетения голосов, которые представлялись чем-то невероятным; слышались вздохи и какие-то неопределенные нежные звуки, подобные звукам, которые могут пригрезиться; время от времени раздавались интонации, по своей напряженности напоминающие крик души, способный пронзить сердце и прервать спершееся дыхание в груди. А вслед за тем все замирало в беспредельно-воздушном небесном decrescendo1». Эти слова также принадлежат знаменитому Гектору Берлиозу, который записал их в своем дневнике после того, как прослушал в бытность свою в Санкт-Петербурге в 1847 году один из хоровых концертов Бортнянского. Плавность мелодического движения, волнообразность и соразмерность, и все та же распевность этих творений композитора были прямым продолжением и развитием русского певческого искусства. Постепенно, из года в год, Бортнянский добивался от хора капеллы того, чтобы он мог исполнять его концерты на том уровне исполнения, который лежал в основе их замысла. Для этого требовалась специальная подготовка. Передать оттенки настроений и чувств удается не всякому, даже профессиональному хору. А без этого напрасен весь труд. Хоровые партии делились на пять, шесть и даже девять голосов. С хором сочеталось и сольное пение. С мальчиками вновь и вновь занимались особо. Добивались развития всех вокальных возможностей. Но и не забывали о басах. Их диапазон должен был звучать более чем в двух октавах. Вводились новшества. Вырабатывалась агогика (замедление или ускорение темпа), динамика и артикуляция (выразительность и точность воспроизведения текста). Стали употреблять дополнительные темповые авторские обозначения. В разных частях одного и того же концерта в нотной партитуре давались письменные рекомендации типа: петь «медленно» или «оживленно», «довольно тихо» или «довольно скоро». Это придавало больше организованности хору, помогало управлять им в наиболее трудные моменты исполнения. Ведь темп новых хоровых сочинений менялся в процессе одного исполнения по нескольку раз. Для упорядочения динамики стали употреблять обозначения силы звука: «пиано» или «форте», то есть «тихо» или «громко». Таких обозначений было много, потому что следовало учитывать не просто громкость исполнения, но и отдельные нюансы громкости: уменьшение или увеличение звучности, расстановку акцентов. Именно достижения в этой области заставили Гектора Берлиоза отметить «небесное decrescendo» хора капеллы, столь поразившее его. Стали придавать значение и таким определениям пения, как «плавно и величественно», «важно и медленно», «покойно», «подвижно». То была настоящая наука хорового пения, которая уже обещала дать свои первые плоды. Наконец он мог считать, что победа достигнута: Бортнянскому казалось, что он добился своего. Не было такой репетиции, которая оставляла бы у маэстро чувство неудовлетворенности. Он ощущал свой хор, и хористы ощущали его волю, каждое движение его души. Теперь можно было не только дворцовые надобности удовлетворять, но и дерзнуть на более широком поприще. Посоветовавшись со своими соратниками — Федором Федоровичем Макаровым и Николаем Михайловичем Кудлаем, а затем получив «высочайшее» соизволение, Бортнянский решает расширить исполнительскую деятельность капеллы. Начались еженедельные открытые концерты капеллы — днем, по субботам — в петербургских театрах и в зале Лиона. Удобнее времени было не сыскать. Среди недели — множество служб и репетиций. Воскресный день — того более занят на службу. Да и в субботу вечером — та же служба... Концерты оказались на редкость удачным начинанием. С самого первого выступления капеллы зал бывал переполнен. Дмитрий Степанович неизменно дирижировал хором. И все же не всегда удавалось удовлетворить публику: придворная служба давала о себе знать. Продолжались частые переезды из Петербурга в Павловск, а оттуда в Гатчину и обратно. И там и тут снова концерты, снова пение на службах. И снова — причуды Павла. С каждым годом все более замысловатые и неожиданные. Сентябрьские концерты 1800 года в Гатчине были прерваны событиями, возбудившими негодование императора. Правда, случились они не по вине исполнителей. Причиной нового грозного указа стали слушатели. Они «начинали плескать руками, когда Его Величеству одобрения своего объявить было неугодно, и напротив того, воздерживались от плесканий, когда Е.В. своим примером показывали желание одобрить игру...» Оскорбило, хотя, быть может, и справедливо, императора и другое: «При дворе Е.В. женский пол не соблюдает того вида скромности и благопристойности, приличного женскому полу и званию и состоянию...» Как и прежде, в один день был заготовлен указ, по которому предписывалось «всему двору... и гарнизону города Гатчины отказать вход в театр и в церковь, кроме малого числа имеющих вход на вечернии собрания...» Поведение публики в новом указе оговаривалось с предельной четкостью. Гости вечера обязаны были воздерживаться от всяческих неблагопристойностей — «как то: стучать тростьми, топать ногами, шикать, аплодировать одному, когда публика не аплодирует, также аплодировать во время пения или действия и тем самым отнимать удовольствие у публики безвременным шумом». Ослушивающихся было предписано предавать «яко ослушников, суду». Кто знает, ведь в российской истории этого периода трудно было что-либо загадывать наперед, но подобного рода указы могли как гром среди ясного неба обрушиться и на Придворную капеллу. Они не замедлили появиться. Одной из таких, с позволения сказать, «реформ» была неожиданная рекомендация в указной форме, данная Павлом по поводу всего духовного пения в России. Еще после коронационных торжеств в Москве он распорядился: «нашед в нынешнее мое путешествие, что в некоторых церквах... вместо концерта поют стихи, сочиненные по произволению, желаю... дабы никаких выдуманных стихов в церковном пении не употребляли, но вместо концерта пели бы приличный псалом или же обыкновенный каноник». Так труды Бортнянского по развитию духовныххоровых концертов вдруг столкнулись с их запрещением императорским указом. И все-таки он добился главного. Сумел добиться. Во-первых, полного освобождения певчих капеллы от участия в театральных представлениях, и в первую очередь в операх. И во-вторых, в 1800 году Придворная певческая капелла была признана самостоятельной и независимой от Дирекции театральных зрелищ и музыки, а значит, деятельность ее могла теперь быть полностью посвященной лишь не инструментальному, а хоровому исполнительству. Можно считать, что с этого момента длительный этап в музыкальной истории России, называемый «итальянщина», завершился. Придворный хор, со времен Франческо Арайи закабаленный оперной жизнью, вновь обрел свое истинное лицо, как когда-то государев хор певчих дьяков, а еще ранее — княжеские русские хоры. Капелла разрасталась, обретала мощь, получила известность. С нее стали брать пример. Ее стиль и опыт стал широко распространяться. Бортнянский как педагог и советчик был, что называется, нарасхват. Теперь всякое учебное заведение, всякая усадебная домашняя музыкальная служба предпочитали иметь свой хор, аналогичный хору капеллы. Ученики Бортнянского разъезжались по всей стране и привозили с собой не только традиции своего наставника, но и его сочинения, которые тут же входили в местный обиход. Многие вельможи даже посылали к нему в обучение своих капельмейстеров и хористов. Бортнянский сделался непререкаемым авторитетом. Его вкусу доверяли, его знания считались незыблемыми, его школа — первоклассной. Граф Андрей Кириллович Разумовский, знавший композитора с детства, по отцу, а позже и по заграничным делам, когда был послом в Вене, везде, где бы он ни бывал — в Европе или же у себя дома, в России, в Батурине, — возил хор певчих, большинство из которых учились у Бортнянского. «Подлинно я давно не слыхал такой сладкой гармонии, — писал современник о хоре Разумовского. — Какие нежные голоса! Какая музыка! Какое выражение в лице каждого из них! Всякий не ноту только берет и не голос возвышает: он в это время чувствует, восхищается, восторг одушевляет все его черты...» Создав изумительную хоровую организацию, написав ряд выдающихся сочинений, Дмитрий Степанович Бортнянский, уже убеленный сединами, уже потерявший многих друзей и соратников, но еще преисполненный творческих замыслов и сил, встречал новое, XIX столетие в зените своей славы. Он был одним из немногих, а в своем роде и единственным музыкантом, который шагнул прямиком из века екатерининского в александровскую эпоху, миновав благополучно все сумасбродства и причуды короткого, но запомнившегося для страны правления Павла I. Глава 6. Хранитель древних традиций Учись петь, и ты узришь сладость вещи. В торжественные, праздничные вечера весь Петербург был наполнен хоровым пением. Пели в больших и малых соборах, в домашних церквах, в усадебных храмах. Пели на Невском и на Мойке, на Литейном и на Фонтанке, пели на Марсовом поле и на Сенной, на Васильевском острове и в Петропавловской крепости. В такие вечера пение наполняло не только град Петров. Пели в Москве и Нижнем Новгороде, в Вологде и Пскове, в Великом Устюге и Романово-Борисоглебске, в Сергиевом Посаде и Оренбурге, пели в Сибири и Малороссии, пели в Финляндии и Крыму. Пение звучало во всей России. Оно сливалось в единый, бесконечный, протяжный хор голосов, в единый хор всех времен! Пение было и многоголосным — по самым отменным итальянским образцам, оно сотрясало своды дворцов и усадеб, сверкающих искусным и дорогим интерьером. Оно было и строгим и сдержанным — в монастырях и подворьях, в провинциальных городах, в отдаленных поселениях, деревнях, острогах. Оно было и суровым, аскетичным и единогласным, неизменным с летописной древности — в скрытых от посторонних глаз скитах и погостах. Вся Россия пела, выражая свою печаль и радость, горечь и надежду, боль и веру. В эти часы страна бывала исполнена единства и благолепия. В протяжном хоровом согласии были равны и едины цари и пахари, вельможи и простолюдины, служилые и странники. Россия была одним общим хором в эти часы, хором, устремлявшим свои голоса из прошлого в будущее. Достаточно ли глубоко и серьезно относился Дмитрий Бортнянский к древнерусской музыкальной певческой традиции? В какой степени он развил ее? Как повлияла она на его творчество? У этих вопросов нет однозначных ответов. Они еще требуют осмысления. Мнение же историков, исследователей, любителей и знатоков древнерусской музыки по этому поводу противоречивы и неоднозначны. Но для нынешнего современного сознания имя композитора уже прочно стоит в ряду тех, кто является сам составной и неизменной частью преемственной музыкальной истории России. Без такого звена, без имени «Бортнянский» сама история эта уже не история. Посмотрим же более внимательно, более пристально, что, собственно, сделал для развития древнерусской традиции этот выдающийся человек. Отметив все «плюсы» и «минусы», мы, быть может, тогда сумеем понять и почувствовать то, чем жил он в последнюю треть своей жизни. Как директор Придворной певческой капеллы (директором капеллы он стал именоваться в 1801 году) Бортнянский был обязан внимательно следить за всем порядком песнопений, исполняемых не только при дворе, но и во всей столице. Позднее ему будет указано сочинить единую для всего Российского государства Литургию. Подобного рода музыку писали после Бортнянского многие выдающиеся русские композиторы. Известны великолепные по гармонизации Литургии, части Литургий или служб М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, А. Д. Кастальского, Г. В. Свиридова и многих других. Но заказ, полученный Бортнянским, носил особый характер, ибо его сочинение диктовалось не прихотью, не стремлением к самовыражению и даже не личной верой и зовом души. Ему указано было создать общегосударственную Литургию. То есть ту, которая должна исполняться повсеместно. От него требовалось написать «простое пение... издревле по единому преданию употребляемое...» Ответственнейшая задача! Тем более, если учитывать, что под «простым пением» во все времена на Руси подразумевалось пение древнее, одноголосное. Казалось бы, не свойственное Бортнянскому дело, не привычное ему, последователю, как принято считать, итальянских учителей. Но ведь, как уже говорилось, Бортнянский не был прямым последователем итальянцев и не зависел всецело от их школы, а потому и его интерес к русской музыкальной старине, его стремление постигнуть ее, понять и изучить — реальный историко-культурный факт. Он создает «простое пение», почти не отходя от древних оригиналов. «Простое пение» печатают для подачи ко двору, для рассыла по российским городам. На титульном листе изданий имя композитора не указывается. Соблюдено все — и традиционность характера песнопений, и даже анонимность автора. В глубинной России и не ведали, что «простое пение», присланное из столицы в качестве образца для исполнения, написано придворным композитором Дмитрием Бортнянским. Знания и авторитет его в этой области, видимо, и определили содержание еще одного высочайшего «указа», подписанного императором Александром I 14 февраля 1816 года. «Все, что ни поется в церквах по нотам, — гласил текст указа, — должно быть печатанное и состоять или из собственных сочинений Директора придворного хора, действительного статского советника1Бортнянского, или других известных сочинителей, но сих последних сочинения непременно должны быть печатаны с одобрения г. Бортнянского...» Так началось цензорство композитора в области духовной музыки. Трудное, но ответственное поприще. Он спешит издать лучшие, по его мнению, песнопения а капелла. Просматривает их сам, а затем надписывает: «Печатать позволяется. Д. Бортнянский». Выходят в свет хоровые концерты его учителя Бальдассаре Галуппи. Затем, вслед за Галуппи, придет черед неутомимому Джузеппе Сарти. Удостоен этой чести и младший соратник композитора, помощник и сподвижник — Петр Турчанинов. А нужно было издать многое. И Березовского, и Пашкевича, и Дегтярева. Но дела, дела, дела... Нужно писать музыку самому. Нужно успевать выполнять заказы, «высочайшие соизволения». Всевозможные воспитательные дома, училища и военные корпуса обращаются с просьбами приготовить специально для них песнопения. Он пишет для воспитанников Александровской мануфактуры в Петербурге, для кадетских юнкеров, для благородных девиц в Смольном, для Московского училища ордена Святой Екатерины. Он пишет, пишет, пишет... Но он теперь еще и цензор. А значит, для иных — суровый и непререкаемый вершитель вкусов, а для иных — добрый советчик. Ему посылают на просмотр новые нотные издания, пособия, просят высказать свое мнение. Еще намного раньше, когда испанец Мартин-и-Солер спешил испросить у него разрешения на издание своего сочинения для работы с хором Смольного института, уже тогда именитый композитор, за большое вознаграждение приглашенный из-за границы в Россию, должен был не просто советоваться с российским маэстро, но и всецело подчиниться его авторитету. Для желаемого одобрения Мартин-и-Солеру пришлось дипломатически использовать придворные знакомства и влиятельных друзей. Он, Мартин-и-Солер, придворный капельмейстер, в опере которого «Дианино древо» еще в 1790 году потрясла публику и саму Екатерину начинающая Лизанька Уранова, а ныне выдающаяся и непревзойденная Елизавета Сандунова, этот самый Мартин-и-Солер вынужден был просить Марию Федоровну оказать содействие в том, чтобы Бортнянский рекомендовал печатать его новый опус. Поразительны перемены музыкальной жизни государства Российского!.. Однако выхода в свет своего сочинения Мартин-и-Солер не дождался. Уже после его кончины Мария Федоровна поручила его наследие в ведение своему статс-секретарю Вилламову. Тот направил ноты Бортнянскому. Дмитрий Степанович незамедлительно ответил: «Милостивый государь Григорий Иванович! Вследствие отношения Вашего ко мне по случаю присланного письма Ее Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны... позволить посвятить имени Ее в честь издаваемую на французском и российском языке книгу под заглавием „Легчайшие музыкальные правила“ сочинения покойного капельмейстера Мартына. Как в то время не имел я о сем издании никакого сведения, то и не мог подать на оное моего мнения. Теперь же получа от издателя один экземпляр, просмотрел оный, нашел его приличным для употребления начального учения...» С особым удовлетворением Бортнянский начертал в конце письма: «Музыка как на французском, так и на российском языке». Будут и далее подобного рода запросы сыпаться один за другим. И снова просмотры, консультации, советы. И снова «дипломатия». Мария Федоровна просит Вилламова, тот просит Дмитрия Степановича. И снова ответ: «Милостивый государь мой Григорий Иванович! Препровожденные при почтенном письме Вашем три русские песни я получил и пересмотрел. Что же касается до суждения об оных, то сей род сочинения, так как и протчия такового разбору, не предстоят строгому исследованию. К тому же сии три песни были петы удачно певицею, для которой были сделаны, и с общим одобрением публики, то сие и довольно и для певицы и для сочинения. Но признаюсь, что не могу не удивляться в нонешнее время таковые вещи посвящать и выставлять на заглавие имена той высочайшей особы и может быть не испрося предварительно на то их соизволения. Но сие будет сказано между Вами и мною как мнение Стародума, то есть меня, который, судя по старому обычаю своего века, часто удивляется, видя... столь смелыя предприятия». «Как мнение Стародума...» Бортнянский удивляется. Бортнянский отказывает. «Сделанные» для певицы русские песни ему не по нраву. Он «удивляется столь смелому предприятию». Вот ведь какой «Стародум»! А ведь было уж совсем прослыл «итальянцем»... Но «стародумство» его глубоко, оно имеет основательные корни. Цензор российских песнопений не мог не обратить своего внимания на глубинные корни отечественной музыки в ее неразрывной связи с историей народа. Он должен, обязан был понять то, на чем зиждется сущность древнерусской музыкальной традиции. И он работает. Много и долго... То, чем занимался в ту пору Бортнянский, ныне хорошо известно, — он стремился переложить древние песнопения на современную нотацию. Такой задачей он был увлечен с детства, с тех пор, когда еще учился в Глуховской школе певчих. Он был устремлен к этой идее и в то время, когда участвовал в почти ежедневных службах в составе капеллы под управлением Галуппи. Он начал серьезно трудиться над этим еще в Италии, когда проходил серьезную практику и писал первые мотеты и хоралы, включая в них, а то и просто составляя их из мелодий киевских и греческих роспевов. Не оставлял он своего неизменного стремления сохранить и упрочить духовное наследие страны и в период своего увлечения оперным творчеством, и тогда, когда сочинял клавесинные произведения по заказу Марии Федоровны, включая в некоторые из них мотивы древних песнопений. Все его хоровые концерты пронизаны русской национальной музыкальной традицией, истоки которой уходят в даль веков. И вот только теперь, когда пришло подходящее время, когда накоплен опыт, когда за плечами почти прожитая жизнь, когда, наконец, появилась реальная возможность повлиять на судьбы музыки России в масштабах всей страны, он начинает эту работу вновь, и уже основательно и весомо. Бортнянский переложил из древних знаменного киевского, греческого, болгарского роспевов большое количество церковных песнопений. Он, по сути, самостоятельно провел ту гигантскую работу, которую когда-то проделали именитые мастера XVI века — Федор Христианин, Стефан Голыш и другие. Сравнение это не случайно, потому что по аналогии с переложениями Христианина, которые в то время так и называли «перевод Христианинов», и работу директора Придворной капеллы можно определить как «перевод Бортнянского». Именно «перевод», ибо по аналогии с литературным процессом труды композитора можно сравнить с трудами переводчика текста, пытающегося донести суть, заложенную в незнакомом или малознакомом тексте, до современного читателя. Перед Бортнянским стояла задача не изменить, не переделать, не стилизовать, не просто выразить самого себя и в конечном итоге не исказить, а скорее с полным знанием законов современной ему гармонии подготовить древние песнопения к печати и к употреблению на местах, по всей России. Велика ли задача? Назревшую необходимость такой работы предрекал полтора столетия назад еще Иван Трофимович Коренев, автор предисловия к «Грамматике мусикийской» Николая Дилецкого. Коренев писал: «В России (ныне) не могут отличить злого голоса от благого, ибо не знают грамоты музыкальной. Потому во многих местах согласное звучание губят и не понимают; да как может разуметь его не знающий учения музыкального? Вот если бы был некто, хорошо владеющий грамматикой, и вместе с тем соединился воедино с музыкой и исправил бы голоса». Предвосхищая возможные возражения оппонентов о том, что всяческие переложения, даже «по музыкальной грамоте», повлекут потерю традиционности и духовной глубины песнопений, Коренев справедливо замечал, что эта работа все же необходима, что «люди... от пения многоголосного... в умиление приходят, а постепенно возвышаются и до совершенного пения, начинают воспевать сердцем и умом, научившись слухом. Так и детям малым, вместо хлеба невкусного и пищи взрослой, родители поначалу молоко дают, пока они, не достигнув совершенного возраста, не смогут вкушать пищу настоящую...» Переложения Бортнянского издаются целиком позднее, в 1822 году. Эти хоры и напевы известны и широко распространены будут в православной церкви все последующие десятилетия. Среди них — употребляемые и ранее, но гармонизированные композитором — «Слава и ныне», «Дева днесь», «Под твою милость», «Помощник и покровитель», «Приидите, ублажим», «Чертог твой», «Достойно есть», «Да исполнятся уста наша», «Ныне силы» и многие, многие другие. Некоторые из них имеют по нескольку вариантов переложений. На слуху у певчего начала XIX столетия уже прочно закрепилось не только многоголосие, но и его особое построение, его особая гармонизация. Сложилось уже и специфическое гармоническое мышление, которое в общем будет сохраняться и столетия спустя. Мажор и минор противоречили сути древнерусской музыки, построенной на иных, натуральных ладах. Ни минорных, ни мажорных интонаций в музыке на Руси не существовало. Они выражались другими средствами, другим мелодическим языком — общим настроем певчих, характером песнопения и его исполнения, силой звука, даже содержанием текста и т. д. Но минор и мажор уже вошли в обиход церковного пения почти два столетия назад. И теперь никакими реформами удалить их из нотных изданий, а тем более из сознания людей было невозможно. Необходимо было осмыслить этот процесс и придать ему вполне законченные формы. Упорядочить гармонический склад и язык песнопений. Найти определенный гармонический стиль, максимально соответствующий оригинальному. Такой стиль искали многие. Экспериментировали, пересочиняли, перелагали. Тот же Иван Коренев назидательно писал: «Если хорошо понимаешь его (многоголосное пение. — К. К.) — оно разум и учение; если же нет — то это лишь твои безумные выдумки и нет ничего доброго и злого в этих сочинениях». Но Бортнянский взялся за дело более основательно, чем его предшественники. Он нашел пути и приемы, позволившие ему создать тот самый «перевод» с древнего на современный музыкальный язык, который не был ущербен ни для своеобразия русской музыки, ни для сознания современного певчего. Бортнянский ввел ритм и четкий размер для более удобного понимания и прочтения нот и тем самым выступил в роли подлинного учителя, раскрывшего богатства музыкального языка российской древности. И все же это были пока еще поиски. В одиночку просто немыслимо создать идеальный вариант старинных церковных переложений. Для такого дела понадобятся усилия целых поколений русских композиторов. И они включатся в эту работу, привнесут в решение этой задачи свою благородную лепту. Бортнянский же был первым из них. Первым, потому что частичные переложения иных авторов, какими бы ни были они удачными, не вошли так прочно и основательно в обиход русского певческого искусства, в обиход церковного пения. Лишь только с Бортнянского в бытность его на посту директора капеллы можно начать исчисление ряда имен, создавших современную основу церковного певческого дела России. Особой любовью у композитора пользовалось одно песнопение, называемое «Херувимской песнью». «Херувимская» всегда пелась необычайно лирично, проникновенно, сердечно. И по мелодии, и по смыслу песнопение выражало стремление погрузиться в глубокое внутреннее созерцание, прийти в состояние душевного равновесия, оставить бытовые и житейские попечения и направить свои мысли для осознания предстоящей главной части службы — Литургии, приготовиться к истинному выражению, к достойному и собранному пропеванию песнопений и молитв. «Херувимская» играла роль своеобразной увертюры для последующих песнопений. Эта песнь была любима на Руси многие столетия и потому распевалась особо плавно, с большой любовью. Дмитрий Бортнянский создал почти десять «Херувимских». Все они прочно вошли в сокровищницу православного богослужебного пения. Особенно же известна его «Херувимская» № 7. Исполняемая и поныне, она всегда поражала слушателей своей мелодичностью, внесенным в нее мастерским пером композитора своеобразным хоровым дыханием, переходами от совершенно неслышного, едва различимого единогласия к оглушительному торжественному многоголосию. Короткое песнопение это получило такую известность и распространение, что его включали в свой репертуар многие русские хоры, когда выступали не в церкви, а на сцене. И повсюду, где только оно ни звучало, слушатели выходили из залов потрясенные творением гения Бортнянского. Руководитель Республиканской русской академической хоровой капеллы, ныне покойный А. А. Юрлов, писал, что во время зарубежных поездок он всегда ставил в программу выступления прославленного коллектива «Херувимскую». Нередко звучит она и в наши дни. И, думается, так будет всегда и в будущие годы и даже века. Впрочем, вернемся в начало «века минувшего»... Итак, Бортнянский взялся за переложение древних роспевов. А раз взялся, значит, и стал изучать. Для того требовались необходимые письменные источники. Изданных в Петербурге в 1772 году впервые «Печатных нотных книг» («Ирмолога», «Октоиха», «Праздников» и «Обихода») явно не хватало. В них содержалось многое, но далеко не все. Не так уж и мало помнили и знали на память сами певчие. С детства они вытверживали наизусть те или иные варианты роспевов. Такие знатоки, как Тимченко, Турчанинов, Грибович, помогали достойно. Но и такой помощи Бортнянскому не могло хватить. Требовалось погрузиться в глубину всего сохранившегося наследия, основательно вникнуть в структуру и систему древнего знаменного пения, древнерусского нотного письма. Результатом этого погружения явились не только созданные переложения. В итоге длительной работы Бортнянского на свет появился еще один документ, загадочность и идеи которого будоражат умы ученых и по сей день. Документ этот нередко именуется «Проектом Бортнянского». На последующих страницах читатель еще познакомится со сложной, противоречивой и до конца не разгаданной историей указанного документа. Название же «Проект Бортнянского» пусть прозвучит пока хотя бы для краткости изложения. Немало «белых пятен» в истории русской музыки. Еще больше — настоящих загадок, решение которых стало бы не просто значительным культурным явлением, но и поистине исследовательским подвигом. Одной из таких загадок уже на протяжении почти двух столетий считается документ, содержащий в себе мысли, связанные с судьбами древнейших музыкальных традиций, возникших и бытовавших на Руси, но затем, волею судеб, оставленных в забвении. Полное название этого документа таково: «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения». Над несколькими страницами текста, которые составляют «Проект», стоит внимательно задуматься: ведь за ними стоит громадная эпоха, глубочайшее направление в музыкальной истории России, значение которых трудно переоценить. Для того чтобы последовательно и скрупулезно разобраться во всей этой истории, состоявшей из цепи взаимообусловленных загадок, следует, пожалуй, начать издалека, с самого начала. Известный исследователь древнерусской музыки А.В. Преображенский в начале XX века глубокомысленно заметил, что всякий народ пишет свою автобиографию в трех книгах: книге дел — в своей истории, книге слов — в своей литературе, и в книге искусств. И эта последняя написана особым, символическим языком. Узнать характер народа, понять его быт, его историческое развитие, движение невозможно, не прочитав все эти книги. И мы бы считали себя крайне обделенными, если бы, скажем, знали литературу XIX века, но по какой-либо причине никогда не слышали современных ей великих творений М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского. И вот что удивительно — чем основательнее мы погружаемся в пучину веков, тем больше ощущаем различие в полноте содержания трех упомянутых книг. Летописи и документы хранят память о наиболее значительных событиях. История Руси в фактах всплывает с VIII столетия, а по данным археологических раскопок — с V—VI веков. Существуют и другие многообразные косвенные источники для реконструкции истории славянства. Находящаяся ныне в центре споров ученых так называемая «Влесова книга» еще более заостряет внимание к славянским древностям. Вторая книга — книга литературы — на своих страницах разворачивает грандиозную панораму жизни наших соотечественников, начиная с первых же лет существования Русского государства. Уже со «Слова о полку Игореве», 800-летие которогоотмечалось в 1985 году, можно говорить о вершинных достижениях творческого духа подвижников древнерусской литературы. Что касается книги третьей, то здесь дела обстоят несколько иначе. Сама эта книга распадается как бы на несколько частей. Это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, и, конечно же, — музыка. Многие материальные памятники, разрывая путы времени, продолжают жить и сегодня. Но музыка — памятник не материальный. Как справедливо замечал в своих неопубликованных записках Г.Р. Державин, «музыка представляет предметы невидимые... изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может». Способна ли музыка сохранить дух эпохи, донести до нас черты того далекого времени, когда зарождались первые традиции в истории искусств Древней Руси? Да, способна. Для этого существуют два пути. Путь первый — изучение устного народного творчества. Путь второй — прочтение нотных записей. Ученые уже давно скептически относятся к попыткам ретроспекций в древность с помощью устного музыкального фольклора. Ведь первые записи его образцов были произведены лишь в середине XVIII века! Могла ли мелодия, скажем, за семь столетий, передаваясь из уст в уста, дойти до слуха записчиков в первозданном виде, неискаженной? Вряд ли. Слова можно поменять местами, даже можно пересказать текст по-своему, но смысл этих слов останется верным. Мелодия же искажается сразу, как только в ней появляются малейшие неточности... Оставался и остается лишь один самый верный путь — второй — изучение древнерусской нотации. Но путь этот давно вывел исследователей на край громадной пропасти, мост через которую разрушен. Дело в том, что система древнерусской нотной записи почти не поддается расшифровке. Мы ныне можем воспроизвести мелодии по нотам лишь только с конца XV столетия. А что же ранее?! Разве ничего не было?! Было. И свидетельство тому — многочисленные рукописи и книги, испещренные сложными нотными построениями, своеобразной музыкальной грамотой, которую последующие поколения попросту забыли. Трудно представить себе, чего бы мы были лишены, если бы до нас так и не дошло, скажем, «Слово о полку Игореве» или же «Слово о законе и благодати» Илариона, относящиеся к эпохе XII века. Предположим далее, что, имея на руках эти замечательные создания русского гения, мы не смогли бы их прочитать... Между тем мы совершенно лишены громадного музыкального наследия именно этого периода нашей истории! Мы знаем, как действовали, что думали современники князя Игоря, но не знаем, как и что они пели, что слушали. Как, например, пел тот же Боян?! А ведь он именно пел свои творения — «Слово» не оставляет в том сомнения: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити...» — и так далее. Неужели мы этого никогда не услышим? Неужели мы будем держать в руках омертвевшие книги, в которых начертаны лишь таинственные знаки, но уже нет мелодии!.. С этим трудно смириться. Столетия исследователи всерьез были заняты проблемой спасения музыки Древней Руси из плена забвения. И если музыкознание уже обладает достаточным багажом для того, чтобы разгадать загадки нотного письма XI—XV веков, то каким же багажом мог обладать современник Д. С. Бортнянского, державший в руках ценнейшие источники, подавляющее большинство которых не сохранилось до наших дней! В том и заключается необычайная важность стоящего в центре нашего внимания «Проекта», что он появился в момент, когда раскрыть заветную шкатулку еще можно было без особого труда. Ведь еще были целы утерянные позже документы, еще живы были знатоки, способные указать ключ к расшифровке. Не случайно совпадение времени создания «Проекта» с такими событиями, как находка «Слова о полку Игореве», как обращение к истории Н. М. Карамзина, в великом произведении которого — «Истории государства Российского» — приводятся летописные сведения о гениальном древнерусском иконописце Андрее Рублеве. Как мы знаем, единственный рукописный список «Слова о полку Игореве» погиб при пожаре в Москве в 1812 году. Не сохранилась и летопись с единственным (!) достоверным упоминанием о деятельности Андрея Рублева. И если бы А.И. Мусин-Пушкин и А.Ф. Малиновский не издали текст «Слова», если бы Н.М. Карамзин не включил дословно тот самый отрывок из летописи в свою «Историю», мы бы могли остаться в неведении еще на долгие годы. К счастью, этого не произошло. «Проект», о котором пойдет речь, предполагал подобное же издание в области древнейшей музыки, но оно — увы! — не состоялось. Кто оценит невосполнимость этой потери?! В мире существует не так уж много музыкальных систем. Но не так уж и мало, если учесть, что музыкальная система, как и языковая, не может строиться произвольно, а зиждется на твердых законах, которые нельзя просто выдумать из головы или учредить неожиданным указом. Многие уже привыкли к нотной системе, где на пяти длинных, во всю страницу, линейках обычно наносятся круглые значки с вертикальными линиями. В зависимости от начертания этих круглых знаков и соединения вертикальных линий определяется длительность звука, его высота. Дополнительные значки на таком нотном стане определяют размер, в котором должна воспроизводиться мелодия, ее ритм, наконец, характер ее звучания: если грустно — то минор, если весело, задорно — то мажор. Для знания этого вовсе не нужно иметь специального музыкального образования. Но если вполне возможно понять смысл прочитанного древнерусского текста, скажем, XII—XVII столетий, потому что структура этого текста и многие слова остались неизменными и по сей день, то музыкальную нотацию этого же периода куда труднее понять, а то не понять и вовсе. Почему? Происходит это от того, что пятилинейная система записи нот утвердилась на Руси только к концу XVII столетия. До этого же в ходу была совсем иная нотная грамота. Никаких линеек не было и в помине. Для записи нот употреблялись специальные знаки. Их так и называли — «знамена». А так как музыка в Древней Руси была нераздельно связана с текстом и не могло быть и речи о том, чтобы она существовала сама по себе, отдельно, без слов, то и систему нотного обозначения целиком именовали так: «знаменное пение». Знаменное пение, как мы уже знаем, было органичной частью миросозерцания древнерусского человека. Оно существовало параллельно с народной музыкой — песней, танцами. К великому сожалению, песни не записывались на ноты, они передавались из поколения в поколение изустно, на память. Знаменное пение требовало большей строгости и правильности в исполнении, потому что было связано с духовной жизнью людей, происходило из недр православной церкви. Поэтому-то его тщательно записывали, дабы не было ошибок и разногласий. Если взять в руки старинную нотную книгу, то первоначально может показаться, что перед нами обычный древнерусский текст. В самом деле, начинается страница такой книги с витиевато выписанной заглавной буквицы. Затем идут обычные слова, предложения — словом, никакого намека на ноты. Но если внимательно присмотреться, то нетрудно заметить, как над каждой строкой текста терпеливая рука писца нанесла еще один ряд замысловатых значков, похожих на малопонятную грамоту. Это и есть древняя нотная запись. Такие ноты называли еще и «крюками». Крюки эти, непонятные для нас, прекрасно разбирал и по ним воспроизводил мелодию любой образованный россиянин. Знаменная (или крюковая) нотация появилась на Руси после принятия христианства, в конце XI — начале XII столетия, под влиянием подобной же византийской традиции. О появлении на Руси первых нотных певческих рукописей повествовала все та же Степенная книга, написанная во второй половине XVI века. Существуют нотные рукописи и еще более раннего времени. Такие ноты вообще невозможно воспроизвести, если, правда, не считать, что по ним пели точно так же, как и по другим — «знаменным». В тексте книги нет никаких обозначений, кроме регулярно проставленных специальных точек, которые явно указывают на конец некой мелодической строки, а также упоминания в самом начале — к какому «гласу» относится песнопение. Видимо, переписчик такой книги прекрасно знал, что тот, кто будет ею пользоваться, разбирается в нотной грамоте не хуже его. А так как книги были редки и одной рукописью пользовались многие певчие, даже разных поколений, то можно сделать вывод, что музыкальное образование не было уделом узкого круга людей. Мелодии легко заучивались на память, передавались на слух. Певческая традиция была быстро усвоена русскими умельцами. Прошло немного времени, и началась ее активная переработка. В результате чего на Руси и появилась совершенно новая крюковая музыкальная письменность, не встречаемая нигде более, даже среди славянских народов. Известный музыковед Ю. В. Келдыш, анализируя причины ее появления, пришел к следующему выводу: «Эта письменность сложилась не стихийно, не в результате отдельных случайных отклонений от византийской нотации, а явилась плодом сознательных и целенаправленных усилий». С этого самого момента мы можем проследить удивительную закономерность и взаимозависимость в том, как «писались» упомянутые нами три книги жизни народа: история, литература и искусство. В периоды, когда происходили решительные изменения в государственной или политической жизни Русского государства, всегда возникали тенденции к изменению в области языка, а следовательно, и в музыке. Становилось на ноги крепкое христианское Русское государство, и тому способствовала новая славянская азбука, созданная Кириллом и Мефодием, и литература, базирующаяся на азбуке, а одновременно расцветала по форме и содержанию новая музыкальная грамота, свойственная переживаемому периоду. Если теперь вновь сделать скачок через время — в век XVIII, в самый его конец, когда создавался «Проект» Бортнянского, то заметим, что и тот век также подвержен указанной закономерности. Бурные изменения в государственной сфере, наполнявшие Россию с петровских времен, породили и культуру XIX века с ее литературным языком, пушкинской традицией в поэзии и прозе. В этот момент что-то должно было решиться окончательно и в музыкальном мире. Вопрос стоял остро: будет ли развиваться музыкальная нотная система исключительно по западному образцу, или же примет свои формы, естественно связанные с традициями древности, уходя корнями в глубокую структуру крюкового пения. Вот в чем также была величайшая суть «Проекта об отпечатании древнего российского крюкового пения», пытавшегося отразить важность этого перехода и внести в него необходимые коррективы. Но не стоит отвлекаться. Посмотрим, что же представляла собою и чем была интересна древняя крюковая система, которую столь активно отстаивал автор «Проекта». Знаменная нотация имеет громадное количество знаков — их счет в различных комбинациях можно довести до ста. Названия этих «знамен» имеют как греческие, так и (в подавляющем большинстве) чисто русские наименования. Среди них мы встречаем такие: «стопица», «голубчик», «статья», «стрела», «тряска», «запятая» и т. д. Начертание знаков было предельно простым. Заучить их не составляло труда всякому, кто сталкивался с этой системой. Названия же знаков соответственно были очень близки к начертанию и зачастую брались по аналогии с предметами быта или окружающего мира. Вот, например, какие бытовали «естественные» начертания и названия крюков:  — крюк, 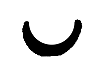 — чашка,  — подчашие,  — змейца,  — голубчик (голубь),  — палка,  — облачко,  — скамейца,  — мечик,  — рожек,  — стрела,  — сорочья нога. Иногда в крюках или в их сочетаниях можно заметить своеобразную картинку, начертанную схематично и отражающую какое-то действие, событие:  — стрела с облачком. Мы в самом деле видим изображение знака, будто стрела с оперением в ее хвостовой части летит по небу, «под облачком». Другой пример: 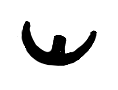 — чашка полная. Или еще:  — два в челну. Здесь явно нарисованы две фигуры в лодке. И так далее... Каждому знаку, конечно же, соответствовал определенный звук или даже сочетание звуков. Кроме того, в некоторых из них были «запрограммированы» длительность звука, его высота и характер воспроизведения. Последний мог быть четырех видов: «простой», «мрачный», «светлый» и «тресветлый». Звуковой диапазон, заложенный в крюках, отражал возможности тембра обычного человеческого голоса и поэтому соответствовал, скажем, звуковому диапазону настроя современной скрипки: от «соль» малой октавы до «ми» второй октавы. Каждый знак мог исполняться как «просто», так и «мрачно», «светло» и «тресветло». Наставления по певческому делу в доступных пределах разъясняли характер воспроизводимой мелодии, пользуясь приведенной выше терминологией: «Крюк простой возгласить мало выше строки. Мрачный — мало просто выше возгласить. Светлый — мрачного выше возгласить. Стрелу светлую — подержав, подернути вверх дважды. Громосветлую — из низу подернути кверху. Голубчик малой — гаркнуть из гортани. Запятую изнизка взять». На Руси последовательность церковного пения в зависимости от календарных недель, праздников регулировалась в рамках «осьмогласия». Попеременно, каждую неделю, песнопения исполнялись в одном из восьми гласов, по традиции, идущей еще из Византии и которую разработал еще в начале VIII столетия выдающийся песнотворец Иоанн Дамаскин. Запомнить все гласы, с учетом комбинаций крюков, было непросто. Для этого и вырабатывались «памятогласия», своеобычные стихи для запоминания осьмогласной последовательности. «Памятогласия» бывали простые и краткие, шуточные и серьезные. Порою их распевали перед началом занятий в певческих школах. Одна из таких «семинарских» попевок звучала так: «У нас в Москве, на Варварской горе, услыши ны, Господи». Здесь каждое слово соответствовало определенному гласу, как если бы мы привели аналогичную «считалочку», по которой дети запоминают цвета радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», — где первые буквы слова соответствуют первым буквам названий цветов радуги. Существовали и более подробные «памятогласия»: 1-й глас: «Пошел чернец из монастыря» 2-й: «Встретил его вторый чернец» 3-й: «Издалеча ли, брате, грядеши?» 4-й: «Из Константине града» 5-й: «Сядем себе, брате, побеседуем» 6-й: «Жива ли, брате, мати моя?» 7-й: «Мати твоя умерла» 8-й: «Увы мне, увы мне, мати моя» Заучивание крюков не было простой схемой. В их начертание и значение вкладывался определенный нравственный смысл. Поэтому, когда составляли крюковые азбуковники и расписывали чрезвычайно усложненные и развернутые «памятогласия» (тоже с учетом первых букв и т.п.), всем нотным знакам присваивали некоторое философское значение. В одном из пособий XVII века мы находим весьма полезные и важные пословицы-наставления: Крюк простой — крепкое ума блюдение от зол. Мрачной — крепкое целомудрие нам и надежа... Стопица — смиренномудрие в премудрости... С сорочьей ногой — серебролюбия истинная ненависть. Голубчик — гордости всякия ненависть... Змейца — земныя суетныя славы отбег, Скамейца — срамословия и суесловия... Мечик — милосердие к нищим и милость... Фита — философия истины всегдашное любление. Трудно представить себе, какой глубокий и многогранный смысл видел певчий в начертанной крюками знаменной рукописи. Приходилось не только понимать комбинации знаков, уметь их воспроизводить, но и должным образом осмыслить, а осмыслив, соответствующим образом доносить до слушателя. Незримыми нитями были связаны и начертания крюков, и их звуковая гамма, и наставления к ним. Разве неудивительно, например, вот такое их взаимодействие, сочетание: «Змейца», по аналогии с ее первоначальным прототипом — византийским апострофом, рисовалась, как мы уже знаем, следующим образом:  Пелась же она достаточно быстро в виде короткой мелодии, уходящей сначала вверх, а потом сразу же — вниз. Комментировалась «змейца» соответственно: «суетныя славы отбег»... Рисунок «скамейцы» —  — символизировал обычную скамейку (не правда ли, похоже, что изображена скамейка на ножках). Этот знак называли иногда «беседкой», а беседка — это ведь место, где можно посидеть, неторопливо поговорить, — побеседовать. Поется «скамейца» как один низкий («простой») длительный звук (или два звука). В этой протяжности, успокоенности как бы скрыт смысл знака — «срамословия и суесловия отбег»... Конечно же, за столетия крюковая нотация претерпела множество изменений. Появлялись новые ответвления, постепенно уходили в небытие старые. Самая древняя безлинейная нотация — «кондакарная» — быстро исчезала. Знаменная же система записи нот сохранилась в веках. Известны были такие ее разновидности, как «столповое знамя», «демественное знамя» или «демественный роспев» (возник на рубеже XVI—XVII веков), «путевое знамя» или «путь» (созданный в эпоху Ивана Грозного), «казанское знамя» (изобретено в честь взятия Казани войсками Ивана Грозного). В разные времена возникали попытки создания и иных, как бы экспериментальных систем, но они кончались плачевно. Никто не проникался новыми веяниями, и эти системы оставались известны лишь самим их создателям или узкому кругу лиц. Отчего же столь широко распространенная и в то же время глубоко укоренившаяся музыкальная азбука Древней Руси все-таки перестала существовать, в чем причина столь необычного явления? Ответ на этот вопрос нелегок, но если не уяснить себе хотя бы общие его положения, то выявить суть замысла загадочного «Проекта» Бортнянского окажется невозможно. «Сему же знаменному нашему пению и в нем развращению, речеи начало никто же никако же нигде же может обрести», — восклицал, скорбя душою и сердцем, замечательный знаток древнерусской музыки середины XVII столетия инок Евфросин. В своем «Сказании» он даже попытался эмоционально выразить причину такого упадка: «Мнози бо от сих учителей славнии во дни наша на кабаках валяющаяся померли странными смертьми и память их погибла с шумом». В самом деле, именно эти времена по сей день являются рубежом, отделявшим от нас древние крюковые роспевы. Именно в XVII столетии произошел, как определял крупнейший современный исследователь Н.Д. Успенский, кризис певческого искусства. Тому было множество причин. Одна из них — так называемая «хомония»... Словечко это не сходило с уст многих распевщиков и музыкальных деятелей на протяжении нескольких столетий. Произнесенное вслух, по-московски, с выговором на «а», оно звучало как «хамония», будто производное от корня «хам». И это не просто каламбур. Реальное действие хомонии в области знаменного пения можно сравнить лишь с «хамскими» действиями какого-нибудь переписчика, вносящего отсебятину во многовековой труд поколений летописцев. Хомония не просто внедрялась в музыку, но и систематически, исподтишка, незаметно разрушала ее. Врагом крюковой системы оказалась сама ее сердцевинная суть — неразрывная связь мелодии и текста, ее певческая основа. С течением времени русская речь меняла свои формы. Многие глухие звуки, как, например, «ъ» и «ь», перестали произноситься, хотя ранее в слогах имели явственное полугласное произношение. И устная речь и письменность переживала это явление степенно и с достоинством, отдавая дань времени и историческому развитию народной языковой культуры. Но музыка столкнулась с непреодолимыми противоречиями. Если гласные звуки в произношении пропадали, то во время исполнения песнопений, когда мелодия оставалась прежней, их нужно было продолжать петь. Если же не учитывать «старый» текст, где гласные еще употреблялись, то необходимо было заполнять пробелы, как-то их пропевать. Иначе говоря, например, древнерусское слово «днесь» (означающее — «сегодня») ранее писалось «дънесь» и, соответственно, читалось примерно как «денесе». То есть из трех прежних слогов в новом слове остался один. Но мелодия напева написана была в древности с учетом трехсложного произношения! Значит, необходимо было что-то изменить. На выбор следовало предпринять один из двух возможных шагов. Как писал автор трудов о древнерусской музыке А.В. Преображенский, можно было сделать так: «все три знака (крюка. — К.К.) распеваются на один слог «днесь», и тогда была бы целиком сохранена принадлежащая ему мелодия, напев, или эти три знака заменяются одним, двумя — и тогда предстояло какое-то изменение напева. Русские певцы не пошли ни по тому, ни по другому пути: они нашли третий, когда в угоду напеву и старому произношению стали распевать это слово трехсложно как «дэнэсэ». Что же получилось в результате? А вот что. Множество давно забытых гласных заполнило тексты песнопений. Певцы порой даже сами не понимали того, о чем поют. Не говоря уже о тех, кто слушал. Наименование «хомового» пение и получило от того, что типичные окончания слов «хъ», «мъ», «въ» пелись как «хо», «мо», «во». Но и это еще полбеды, если бы к этим «хо», «мо», «во» не прибавлялись еще более непонятные слова, известные в истории русской музыки как «аненайки» и «хабувы». Смысл этих длинных бессвязных вставок в песнопениях никто не мог объяснить уже в XVII столетии. Ясно было одно, что достались они в наследство от Византии и постепенно обрели какое-то абсолютно невразумительное содержание. Вот как пелась строка демественного роспева XVII века «в память вечную будет праведник»: «во памя ахабува ахате, хе хе бувее вечную охо бу бува, ебудете праведе енихи ко хо бу бу ва». Получалась не просто бессмыслица, а чудовищный текст, с какими-то «ахами», «ехами» и даже насмешливыми, ехидными «хе-хе». И это-то в серьезных по содержанию песнопениях! То были «хабувы». «Аненайки» же звучали и вовсе беспардонно. Пожелание «Многолетия», к примеру, пелось так: «много ле-ле-та — инаниениноейнетеинеинеенаиненаинаааааини...» — строчку эту мы обрываем, хотя можно ее долго продолжать. Возмущению, которое вызывали «аненайки» и «хабувы» у многих современников, не было предела. Иван Трофимович Коренев, автор знаменитого предисловия к «Грамматике мусикийской» Николая Дилецкого, изданной в 1677 году, был настроен наиболее воинственно: «Нам подобает не смеяться, а плакать, — писал он, — ибо они, омрачившись и простотой и тьмой невежества... слова превратили в беспорядочные слова, а великую силу — в беспомощные ворожбы и бессловесные блеяния козлов... Нет на земле такого человека и не будет, который так бы говорил... О тьма невежества! О бессмыслие мрака!.. Никак иначе не следует петь, как только умом и сердцем и вещать разумными устами». Столкновение двух лагерей — сторонников и противников «хомонии» — было долгим и принципиальным. Защитники «аненаек» пытались выдвинуть свои аргументы. И весьма убедительные. Во-первых, говорили они, подобные припевки вроде «эх, ах, ай, ой, ой-ли, ой-да, ай-но» встречаются широко и в народных песнях, где явно имеют свое место в мелодическом и ритмическом построении куплетов. Приводился даже пример такой песни: «Ой-да, уж вы горы, ай-но, а-ах, ой-да, почему же ой-да вы, горы, ничего вы не спородили, ой-да, не спородили, ай-но». Во-вторых, относительно хомового пения, иначе его еще называли пением на «он» («онным»), в качестве довода ссылались на праславянские языковые корни. Ссылались справедливо. Крюковое хомовое пение во многом действительно сохраняло фонетические, звуковые достоинства древнерусского языка. В этом можно было углядеть некоторый консерватизм, но одновременно проследить и глубокую традицию. Беда же подстерегала любителей хомонии в другом. Многочисленные ошибки, описки, начертания понаслышке за долгие столетия привели и к искажению древнего произношения. «Молодые отрочата, учившиеся пети у подобных себе, а иные писати, списывают друг у друга, и перевод с перевода, и тетрадки с тетрадок, не зная добре ни силу речи, ни разум стиха, ни буквы ведая, и в той переписке от ненаучения, или от недосмотра описываются», — замечал современник. Никакие спасительные меры по сохранению отдельных эталонов-образцов нотных рукописей для переписывания, как, например, запись на титульном листе одного сборника — «не отдати никакоже, держати его книгохранителю в казне на свидетельство» — не помогали. Это и дало повод упомянутому выше иноку Евфросину сделать горький вывод: «Много убо и безчислена опись злая в знаменных книгах. Редко такой стих обрящется, который был бы не попорчен...» Уже тогда, в середине XVII века, в пору наступившего кризиса крюковой нотной системы, лучшие умы понимали, что необходимо принять важные меры по упорядочению древнерусской музыкальной грамоты, привести ее к единству сообразно времени, для большего удобства и распространения. Именно тогда, в годы расцвета книгопечатания, возникли первые идеи внесения коррективов в знаменное пение. Именно тогда впервые по-настоящему зародилась идея, подобная высказанной в «Проекте», —отпечатать все нотные книги. Ныне мы можем слышать подлинную музыку, воспроизведенную по крюковой записи, благодаря многочисленным подвижникам. Но только ту, которая родилась в основном не раньше середины XVI столетия. Потому что как раз в это время были изобретены новые, добавочные знаки для нотной грамоты — так называемые «пометы». Первенство в создании «пометного знамени» принадлежит новгородскому распевщику Ивану Акимовичу Шайдурову. Основной труд его до нас не дошел. Но многочисленные ссылки на него и переписанные отрывки встречаются в самых разных музыкальных сборниках. Иван Шайдуров решил сделать крюковую грамоту более понятной. Для этого он разработал специальные указательные знаки, которые писались рядом с прежними нотами, но другой краской — красной. В древности красная краска называлась киноварью. Поэтому и пометы Шайдурова окрестили «киноварными». Подробности задуманного автор изложил, в частности, в своем «Сказании о помете красной, получающейся во всем пении столповом»... Дополнительными знаками служили те же буквы. Теперь певчий имел перед глазами совершенно конкретные указания — как и когда петь. Окончилась эпоха исполнения «понаслышке». «Аще стоит знамя У, то ударить гласом» — указывает «помета» Шайдурова. «А где Б, тамо пой борзо», «аще К на верху знамени, там гакни». Осмыслив совокупность древнерусской музыки, Иван Шайдуров в некоторой степени упорядочил всю ее в систему, которая, в отличие от систем многих других именитых теоретиков, безуспешно пытавшихся создать свое «пометное знамя», была принята сразу же и широко по всей России. Но создание Шайдуровым «помет» лишь подготовило появление на свет еще одного труда, мимо которого ныне не может пройти ни один человек, пытающийся разобраться в истории русской музыки... В критические моменты истории отечественной культуры деятельность отдельных выдающихся личностей решает многое. Одним из таких достойных лучшей памяти мужей необходимо назвать старца Звенигородского Савво-Сторожевского монастыря Александра Мезенца. Он был известен как блестящий знаток музыки. Именно поэтому его пригласили в 1660-е годы в Москву и не просто поручили ответственное дело, но и поставили во главе специальной государственной комиссии по подготовке к печати русского знаменного пения. Выдающийся ученый М. В. Бражников так писал о нем: «Оценивая многочисленные древнерусские музыкально-теоретические руководства... „Извещение о согласнейших пометах“, или, как его теперь кратко называют, „Азбуку“ Александра Мезенца, придется поставить на совершенно особое место. Это единственный теоретический труд по знаменному пению, который представляет огромный интерес для исследователя знаменного роспева, знаменной нотации и их истории, сохраняя при этом и в настоящее время значение современного учебника знаменного пения, несмотря на свой трехсотлетний возраст (выделено мной. — К.К.)». Поражает воображение факт актуальности и поныне труда Мезенца и его комиссии. Подробнейшей «Азбуки» крюков не было и нет и по сей день! Московский печатный двор середины XVII века славился качеством издаваемых в нем книг. Печатники — последователи традиций Ивана Федорова, — среди которых особой известностью пользовался «друкарь» Василий Бурцов, владели в совершенстве всеми современными формами труднейшего ремесла. Уже были изданы, причем во многих вариантах оформления, основные книги, необходимые в обиходе культурной и церковной жизни Российского государства: «Азбуки», учебники, жития, служебники и т. д. Оставался опять-таки последний шаг — отпечатать ноты. Для того и была назначена комиссия. Происхождение Мезенца известно по единственной рукописи, подаренной им самим, видимо, одному из его сподвижников: Труждающийся в сем деле монах Александр В праворечном же пении издатель властен. Руководительством Черкас иноземец: Клиросским прозванием случайный Мезенец. Отца имуща Иоанна малоросца. Северских же стран прежде бывша Новгородца. «Издатель властен» свел воедино основные источники знаменного пения, обобщил их и, что самое главное, снабдил собственными комментариями. Проделан был титанический труд, по своему масштабу едва ли сравнимый с какими-либо подобными отечественными музыкально-теоретическими начинаниями. На Руси всяческие отступления от традиций крюковой нотной грамоты, если они влекли за собой заметные изменения в ее последовательности, традиции и структуре, называли, как мы помним, коротко и недвусмысленно — «произвол». Мезенцу удалось избежать не только «произвола», но и еще более упорядочить вступившую в полосу кризиса традицию. Достоинства его (выражаясь нынешним языком) как специалиста можно отметить еще и в том, что он детально изучил активно распространявшуюся в это время новейшую пятилинейную нотацию. Эта новая нотная система проникла в Московию с запада, через Украину, где была известна значительно ранее. Мезенец же «отца имуща Иоанна малоросца», то есть выходца с Украины, был знаком с ней с самого детства. Пятилинейные ноты той эпохи очень похожи на наши современные, с тем лишь отличием, которое сразу бросается в глаза, что значки, расположенные на нотном стане, не круглые, а вырисованы в виде ромбиков. Отсюда и бытовавшее название системы — «квадратная нота». Вторжение последней в музыкальную жизнь Руси тогда еще не было угрожающим. Обе традиции существовали бок о бок. Удобство или неудобство той и другой определялось «на вкус». Но Александр Мезенец был, видимо, последним из наиболее серьезных противников взаимопересечения. Он последовательно защищал интересы древнерусского крюкового письма. В предисловии к «Азбуке» Мезенец писал: «В старых наших пергаменных рукописных книгах раздельно-речного знаменного славяно-российского пения есть знамя, и в нем многочисленные различные и тайные изображения и попевки. И не понимающим смысла в этих таинственных изображениях знамени и силы в пении они кажутся нелепыми, и ненужными, и невнятными. И это их мнение о сложном и сокрытом в себе знамени и изображениях бывает от незнания, то есть от неучености и крайнего невежества». Мезенец, убедительно, а иногда и довольно эмоционально доказывая преимущества крюковых нот, ни в коей мере не был воинствующим фанатиком, отрицающим «квадратную» систему. Напротив, он считал, что она может и должна развиваться своим чередом. Но никак не в ущерб отечественной. «Нам же, великороссиянам, непосредственно знающим тайноводительствуемого сего знамени гласы, и в нем множество начертаний, и разводов меру, и силу, и всякую дробь, и тонкость никая же належит о сем нотном знамени нужда...» — подводил он итог своим рассуждениям. Идеи Мезенца нашли отклик у «власть предержащих», и в скором времени комиссия закончила свою работу, подготовив «Извещение о согласнейших пометах, во кратце изложенных со изящным намерением требующим учитися пения», а также новый вариант печатного нотного шрифта. И тут произошло досадное событие, причины и характер которого установить нелегко. Московский печатный двор первоначально не смог помочь Мезенцу. Тому можно найти объяснение. Ведь кроме буквенного текста и крюков (их печатали черной краской) в строку нужно было впечатывать красные, «киноварные» пометы. Иначе говоря, требовалось освоить чрезвычайно трудоемкую технику двухцветной печати. Тогда подобное предприятие было почти неосуществимо. Мезенец сокрушенно констатировал: «Ныне в нашем старороссийском знамени сим согласованным пометам сими известительными литерами в печатном тиснении быти невместо». Но отчаиваться еще не было причин. Упорный старец в невероятно короткие сроки подготовил выдающееся изобретение. Он заменил красные шайдуровские пометы новыми значками, которые можно было печатать обычной черной краской. Мезенец назвал их «призна|ками». То было воистину высочайшее достижение теоретического музыковедческого гения российского мыслителя. Не изменив ничего в системе Шайдурова, издатель упростил ее. Просматривая работу, проделанную Мезенцем, воистину убеждаешься в том, что нет более сложного дела, чем создать принципиально новое в области искусства, в области его формы, не разрушив ничего прежнего, устоявшегося, традиционного. Александр Мезенец, не разрушая, достиг совершенства в простоте. Его труд выражал истинные черты национального, патриотического духа своего создателя. Комиссия тотчас же утвердила «признаки» мастера. Они быстро вошли в обиход и употребляются и поныне наряду с шайдуровскими. Однако оставалось осуществить главное — положить начало отечественному нотопечатанию. А именно этого как раз и не произошло... Московский печатный двор в 1678 году изготовил набор знаков, выработанных Александром Мезенцем. Шрифт этот так и остался в наборных кассах. Не известно ни одного печатного экземпляра «Азбуки» XVII века, как, впрочем, и подлинника, принадлежащего руке автора. Находка отпечатанной рукописи Мезенца стала бы заметным событием в нашей культурной жизни, отодвинула бы историю русского нотопечатания на многие годы в глубь веков. Но именно «Проект» Бортнянского, через полтора (!) столетия нацеленный на то, чтобы возвратить отечественную мысль к неосуществленной идее, еще раз подсказывает, что нет нужды разыскивать печатный экземпляр «Азбуки» выдающегося издателя. Если бы она была известна, то и «Проект» потерял бы свой смысл. Александр Мезенец, выполнив ответственное государственное поручение, стал одним из тех, благодаря кому мы можем сегодня воспользоваться крюковой грамотой, высвободить заключенную в ней мелодику из небытия. «Пометы» и «признаки» облегчают задачу расшифровки крюков. Беспометные же рукописи пока мертвы. Но как все-таки удалось прочитать «пометное знамя»? Благодаря чему автор нашего «Проекта» мог легко сравнивать современную ему западную и российскую музыкальные системы? Этому помогли необычные нотные рукописи, рассказ о которых уже вплотную подводит нас к тексту самого «Проекта». «Двоезнаменники» — это русские нотные книги конца XVII — начала XVIII века, в которых заботливая рука переписчика начертала два ряда нотных обозначений: старый — знаменный, и более новый, западный — пятилинейный. «Квадратная нота» легка для восприятия.Следуя по руслу ее мелодии, можно было прочитать и параллельно выписанные крюки. Вот первый лист «Книги разумения» Тихона Макарьевского — пособия для изучения «квадратной ноты», обнаруженного и исследованного М. В. Бражниковым. Эта рукописная книга конца XVII столетия уже не просто объясняла структуру новых пятилинейных нот, она их пропагандировала и защищала. Пособие Тихона Макарьевского — одна из азбук-«двоезнаменников». К тому же не совсем обычная. Пытаясь доказать правомерность и удобство новых нот, автор постарался как можно более наглядно изобразить свои мысли. Поэтому он нарисовал во всю площадь листа настоящий витиевато оформленный ключ от обычного замка. Для пущей убедительности он снабдил рисунок стихотворным эпиграфом: Ключ сей, разумно пения: Отъемлет дверь затмения, Отверзает смысл ищущим, Утверждает ум пишущим: Явне творит закрытая... По мнению толкователя музыкальной грамоты, именно этот ключ «отверзает смысл ищущим». То есть читатель, который разберется в помещенной здесь азбуке, сможет перевести одну нотацию в другую. Заботы Тихона Макарьевского оказались не напрасны. Смысл древнего нотописания «отверзается» перед потомками благодаря таким вот «переводам», каким явился его «ключ». Бесценным подарком могла бы оказаться находка такого «двоезнаменника», где наряду с известной нотацией было бы указано и древнее «беспометное знамя»... К сожалению, однако, находки такой не последовало. Не случайно Макарьевский акцентирует наше внимание и на том, что составленный им «ключ» «отъемлет дверь затмения» и «явне творит закрытая». Еще Александр Мезенец называл старый знаменный роспев «тайносокровенным». Сие не означало, что он был секретным или малодоступным. Просто именно к этому времени его начали постепенно забывать. Тихон Макарьевский, выдвигая на первый план «квадратную» пятилинейную нотацию, не праздно думал, что она станет в скором времени более доступной и широко распространенной. Он оказался прав. В самом деле, вместе с новыми веяниями в архитектуре, живописи, литературе с самого начала XVIII столетия в России окончательно утверждается и музыкальное многоголосие. Теперь хоры поют не в унисон, как семь столетий до этого. Теперь «нововнесеся в Россию пение новокиевское и партесное многоусугубленное (многоголосное. — К.К.), еже со движениями всея плоти, с покиванием главы и с помаванием рук совершается». А пение на несколько голосов гораздо легче записать на пяти линейках нового нотного стана. Ведь если бы пришлось переносить эту запись на крюки, то получилась бы совершенно невнятная картина: над строкою текста располагалась бы сложная строка знамен с «пометами», обозначавшими один голос. А над этой строкой — еще одна строка крюковых нот, содержащая в себе напев другого голоса. И так далее — сколько голосов, столько и строк. Чтобы, например, записать двенадцатиголосный концерт в знаменной нотации, потребовалось бы для одной лишь строчки занять целую страницу такой крюковой лестницы, в которой вряд ли бы сразу разобрался даже хорошо подготовленный певчий. Многослойный «пирог» из крюков, перемешанных с красными «пометами» или черными «признаками», рябил бы в глазах. Правда, должно заметить, что само подобное представление о такой многоголосной крюковой записи было немыслимо. Крюки стояли твердо на двух основных неколебимых столпах: единогласии, то есть пении в один голос, и неотделимости мелодии от текста. Когда поколебались оба этих столпа — появилось многоголосие и инструментальная музыка, исполняемая сама по себе, без голоса, — крюковая система должна была уступить место другой. Компромисса быть не могло. Ибо знаменное пение зиждилось на вековых традициях, поступиться которыми не посмел бы даже ни один из самых ярых ее противников. «Квадратная нота» — другое дело. Тут уж, пожалуйста, — самый широкий простор для музыкальных упражнений. Принятие Русью пятилинейной нотации не было трудным. Само знание более сложной и насыщенной крюковой системы предопределило этот переход. Иначе говоря, происходил переход от трудного к более легкому, а не наоборот. Воспользуемся определением этого момента, данным Н. Д. Успенским: «Никакие „варяги“ не могли бы обеспечить того расцвета русской музыкальной культуры, который наступил в XVIII и последующих столетиях, если бы почва для этого не была возделана многовековым развитием певческого искусства Древней Руси». Послепетровская Россия с легкостью впитала еще более совершенную, окончательно разработанную европейскую нотацию, употребляемую и поныне, ту самую, с которой мы начали наше повествование и которая со школьной скамьи известна в той или иной мере любому современному человеку. Тогда в России ее называли «круглой» или «италианской» нотой. В переходную эпоху, когда готовился необыкновенный взлет музыкального искусства в России XIX столетия, когда вот-вот должен был проявиться гений М.И. Глинки, вопрос о судьбе древней отечественной нотации не мог возникнуть случайно. Очевидной была возможность (быть может, одна из последних) как-то сохранить, переосмыслить оставшееся наследие, заинтересовать им современных композиторов. Вот в этот ответственный момент и родился «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения». Вглядимся внимательно в текст документа. Написанный языком конца XVIII столетия, он все же прекрасно читается и абсолютно понятен. Приводить его целиком не имеет смысла, и все же для осознания важности заключенных в нем идей мы должны будем повторить ряд основных его положений. Автор «Проекта», во-первых, осознавал всю полноту ответственности, которая лежала на нем, — каждое десятилетие могло стать последним для существования целых ветвей или направлений в древнерусской музыкальной знаменной системе. Подходить голословно, бездоказательно к высказыванию своих мыслей ему было попросту нельзя. Он должен был опираться на глубочайшее знание как крюкового пения, так и наиновейших музыкальных европейских течений. «Проект» предназначался для подачи «наверх». В какие инстанции? Можно предположить, что вплоть до самых высших — Дирекции придворных театров, ведавших музыкой, Синода, а быть может, и самого императора. Естественно, что оперировать терминологией требовалось свободно, мысли выражать предельно точно и кратко. «Проект», видимо, предполагался как обычная докладная записка. Чем длиннее и многословней такой документ, тем меньше надежд на то, что он будет прочитан «важными особами» до конца и с полным вниманием. Краткость «Проекта» заметна во всем. Он занимает всего несколько страниц печатного текста. Но в столь малом объеме сконцентрированы драгоценные положения, каждое из которых — сгусток миросозерцания высокообразованного деятеля своей эпохи. Прежде всего в тексте продуманно констатировалось: «Существование пения сего не уничтожено еще ходом несчастных времен, но изменено уже очень много, и красоты мелодии обезображены кажутся вкусом только тех певцов, которые, продолжая пение сие несколько веков, соединяли с тем неудовлетворительные предания». «Не уничтожено еще»! Столь обнадеживающе начало, хотя в гармонию текста уже вкрались горькие ноты диссонанса: «но изменено уже очень много...» Автор вновь вкратце повторяет основные положения и структуру крюковой нотации, а затем переходит к сравнению ее с итальянской: «В новонотном пении принято не более 5 нотных фигур; в древнем же пении считается более 1000» — так он пытается защитить достоинства знаменного пения, находя их в свойственной этому пению якобы особой сложности. Именно эта сложность, по его мнению, стала в некотором роде одной из причин гибели крюков, «ибо чрезвычайная для изучения крюкового оного пения требуется память; если ученик при изучении оного хотя на минуту развлечен будет, то лучше он должен оставить труд и не заниматься тем, что он никогда не выучит». Впрочем, аргумент автора «Проекта» звучит не вполне убедительно. Особой сложности в крюковой системе нет. Просто такой поворот изложения «Проекта» необходим для доказательства не меньшей значительности крюков в сравнении с пятилинейными нотами. Как и его предшественники, вносившие свою лепту в дело продления жизнеспособности знаменной нотации, автор «Проекта» не был ортодоксом, не отрицал голословно все западное, но мудро и терпеливо разъяснял драгоценность уходящей в забвение традиции. «Две системы новонотного... и древнего крюкового пения параллельно противоположные, не доказывают того, будто бы я говорил преимущественнее, в пользу последней. По моему мнению, всякая система нот достойна внимания и одобрения... Конечно, в нынешнем веке не уважается всякая иероглифическая система, но сие неуважение есть только следствие того, что все для нас глупо, что не понимаем (здесь и далее выделено мной. — К.К.)». Зная и перечисляя все преимущества пятилинейной записи нот, автор все-таки, опираясь на древность преданий в области крюков, «почитает оную за оригинал». И пока еще не погиб окончательно этот «оригинал», он риторически восклицает: «Способ же, который примечается во всей оной системе, достоин того, чтобы об нем была извещена и публика, и в особенности весь ученый свет!..» Крюковая нотная система, продолжал автор, «лучше означает характер древнего славяно-российского народа, а потому стоит того, чтобы передать потомству понятие об оном, так как и изложить для него подобную систему всего древнего славяно-российского крюкового пения. Для сего нет других лучших и надежнейших средств, как собрать все древнейшие сего рода рукописи и отпечатать все крюковое пение». Автор вновь и вновь напоминает о том, что крайне необходимо отпечатать, да и не просто отпечатать, а, тщательно собрав и обработав, подготовить и издать ноты древнерусского крюкового письма. Осуществление такого предприятия, которого чаяли передовые мыслители уже несколько столетий, повлекло бы, по мнению автора, величайшие изменения в музыкальной сфере. Во-первых, можно было бы составить наиболее полную и подробную азбуку крюковой системы (наподобие «Азбуки» Мезенца), что исключило бы в дальнейшем ошибки в издании церковных песнопений, а также способствовало дальнейшему развитию исконных традиций в музыкальном творчестве русских композиторов. Во-вторых, конечно, это упорядочило бы общий характер духовного пения по всей России, что для того времени было немаловажно. И наконец, главное — издание способствовало бы созданию полного (а может быть, и своего, особого) отечественного контрапункта, то есть в данном смысле — всей совокупности музыкальной культуры, начиная от нотной системы записи и кончая самой мелодикой. «Можно по следам его (крюкового пения. — К.К.) идти и начать великое поприще, на котором прославились итальянцы. Я утвердительно сказать могу, что быстрые итальянской музыки успехи начались с контрапункта, следовательно, и российский контрапункт может произвести подобные или еще и лучшие успехи...» Автор «Проекта» искренне волновался о судьбах знаменного пения. Ему казалось, что гибель его и окончательное забвение уже близки. «Наша древнейшая система нот всей остальной Европе неизвестна. Но она известна в отечестве нашем более 7 столетий. И седмь веков была почтена и удобопонятна, за древность свою заслуживает ли презрения и забвения, которые приближают ее к падению, и может быть, через полстолетия должна уничтожением своим постыдить наши отечественные исторические памятники», — пишет он. Но срок, отведенный им на гибель крюковой системы, был, скорее, применим к его собственному «Проекту», который как раз через «полстолетия» чуть было не исчез вовсе. Наиболее значительной выглядит в «Проекте» параллель между историей русского языка и музыки. Автор, несомненно, понимал неизбежность и неразрывность единства этих «двух книг» жизни народа, о которых шла речь в начале нашего повествования. «И древний славяно-российский язык столь же неудобопонятен, как и крюковое пение, но он породил собственную поэзию, он породил и язык философический, а пение отечественное, оставленное под завесою восточного вкуса, должно сносить противную участь и уступить место искусственной инописьменной изящности, которая оную завесу закрывает дымом, а себя одевает в непроницаемый туман...» Вспомним еще раз, как современник автора «Проекта», известный театральный деятель России П. А. Плавильщиков написал: «Мы имеем свою собственную музыку; а музыка и словесность суть две сестры родные, то почему же одна ходит в своем наряде, а другая должна быть в чужом?» Речь шла, конечно же, не только о музыкальной форме и мелодике, но и о характере записи нот. Именно нотная система и есть «наряд» музыки... «Музыка и словесность суть две сестры родные...» Но еще более века тому назад прозвучало: «Как говорю речь, так ея и пою», — читаем мы в «Житии» протопопа Аввакума. В Древней Руси музыка и слово были нераздельны. Но если все-таки разделение произошло, то почему же одна из «сестер», одна из книг народного бытия должна погибнуть? Русский язык достиг совершенства в XIX столетии. Сопровождавшая его семь столетий музыка исчезла. Вот против какой исторической несправедливости выступал «Проект». Его автор всеми силами души своей желал, чтобы соотечественники услышали его голос, его призыв. Ибо, как писал он, «все отечественное в отечестве своем только и образуется...» Говоря об авторе «Проекта», мы перестали упоминать имя Бортнянского. И не случайно. Вопрос об авторстве вызывал многочисленные споры. У ответа на него довольно обширная предыстория. Почти все, кто сталкивался с «Проектом» или с изучением древнерусской музыки, пытались его разрешить. И понятно — почему. Ведь утверждение авторства Д. С. Бортнянского или выдвижение нового имени сразу же повлияют на датировку документа, а также окрасят его подтекстовый фон в новые цветовые гаммы. Теперь мы должны подробнее рассказать историю появления самого документа на свет. На годовом собрании членов Общества любителей древней письменности 25 апреля 1878 года председательствовал известный историк, археолог Павел Иванович Савваитов. Во вступительном слове он отметил важность изучения памятников старины. Заслушали отчет за минувший год. Помянули ушедшего из жизни активнейшего соратника, одного из учредителей общества — Юрия Васильевича Толстого, не успевшего закончить громадную работу по переписыванию рукописи «Цифирной счетной мудрости». Наконец вспомнили о последних изданиях общества, среди которых была и «Мудрость четвертая Мусика» — старинный рукописный трактат по музыке. Затем собравшиеся обсудили издательские планы общества и решили приступить к публикации «более капитальных памятников». Слово было передано князю Павлу Петровичу Вяземскому —основателю общества, сыну замечательного российского писателя, автору многочисленных трудов о русской культуре, древнем искусстве и литературе. Павел Петрович, кроме всего прочего, зачитал почтенной публике докладную записку «О русских рукописях по древней музыке», а в качестве «изюминки» представил на всеобщий суд попавший в его руки документ. Это и был «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения». Он назвал его «запиской, которая приписывается знаменитому Бортнянскому». В ней, как кратко разъяснил Вяземский, поставлен определенно и обоснованно вопрос о том, что необходимо приступить к изданию древнерусской крюковой нотной системы. Павел Петрович отметил, что документ принадлежал ученику Дмитрия Степановича Бортнянского — солисту штурманского корпуса «г. Каченовскому». Последний как раз и утверждал, что написан «Проект» самим знаменитым композитором. Заслушав исследователя, собрание одобрило его разыскания, а относительно «записки Бортнянского» было решено: «Ввиду глубокой проницательности высказанного в ней взгляда» на вопросы развития музыкальной культуры ее «напечатать вместе с протоколом заседания и докладом князя П. П. Вяземского». В том же, 1878 году издание увидело свет. Так вошел в научный оборот документ, затронувший впоследствии умы и души многих мыслителей. Создание Общества любителей древней письменности не было случайным явлением. Известно, что сама идея такого объединения бродила в умах «любителей наук и отечества» еще за полвека до описываемых нами событий. Суть и смысл общества были изложены в первом параграфе его устава: «Общество Любителей Древней Письменности имеет целью издавать славяно-русские рукописи, замечательные в литературном, научном, художественном или бытовом отношении, и перепечатывать книги, сделавшиеся библиографической редкостью, без исправлений». Параграф второй, впрочем, чуть-чуть уточнял очертания интересующих общество тем и вопросов: «В круг деятельности Общества не входит обнародование таких письменных памятников, изданием которых занимаются правительственные учреждения и ученыя общества». До создания сей организации в России издавали древние исторические и литературные памятники. Уже много лет готовила к печати и выпускала в свет летописи и государственные акты Археологическая комиссия, активно действовало и печатало различные документы по истории России, начиная со времен Петра I, Русское историческое общество. Но именно для того, чтобы определить свою позицию по отношению ко всем подобным учреждениям, и был принят этот второй параграф нового общества. Мы задерживаем наше внимание на этом моменте для того, чтобы определить степень серьезности и компетентности общества в подборе документов и в их издании. А важно это потому, что позднее некоторые исследователи брали под сомнение само существование интересующего нас «Проекта». Как же собиралось издавать это добровольное объединение на свои немалые средства памятники старины? Вот именно этот момент отличал общество от других, подобных ему организаций. «Общество, — как писалось в записке о нем, — несомненно, озаботится на первых же порах сохранить подобные (исторические. — К.К.) тексты для потомства...» Отличительной чертой издаваемых памятников должна была быть та, что они бы печатались, «строго держась текста рукописи или старопечатной книги, без исправлений», при «безусловном соблюдении неприкосновенности оригинала», более того, без каких бы то ни было комментариев или специальных исследовательских приложений. То есть документы должны были достигать читателя в своем первозданном виде. Никаких вставок, никаких исправлений, никакого вмешательства со стороны ученых мужей в оригинальный текст! И даже более: «Общество берет на свою ответственность неизбежные промахи и дает простор самым разнообразным воззрениям...» Таким образом, точность, доходящая до педантизма, стала девизом и флагом нового дела. И все потому, что «точность есть единственный способ соблюсти однообразную систему при изданиях и сберечь драгоценное время, которое понапрасну тратится при обсуждении системы издания каждого отдельного памятника». «Проект» — из числа «продукции общества». Значит, можно быть отчасти уверенным в том, что его текст — максимально соответствует оригиналу. К сожалению, П.П. Вяземский о происхождении документа почти ничего не сказал. Его почему-то интересовала суть вопросов, поднятых «Проектом», а не он сам. А между тем и то и другое находится в определенной взаимосвязи. При детальном изучении его истории выясняется, что первое упоминание о существовании документа встречается еще в знаменитом труде И.П. Сахарова, посвященном древнерусской музыке и опубликованном в ряде выпусков Журнала министерства народного просвещения за 1849 год, то есть почти на 30 лет раньше «докладной записки» Павла Петровича. Иван Петрович Сахаров называл документ «Сочинение о крюковом пении, приписываемое знаменитому Бортнянскому» и далее давал его полное заглавие, точно такое же, как у Вяземского. Совпадают, практически дословно, цитаты из обоих документов. Да и суть, пересказываемая Сахаровым, та же — «Сочинитель в своем Проекте предлагает издавать в печати крюковые книги нотного пения и укоряет новейших переписчиков в искажении крюков». Правда, на этом Иван Петрович останавливается, упомянув вскользь, что «в изложении много помещено замечательных известий». Бесспорно, речь шла о том самом «Проекте», о котором уже столько сказано в этой главе. Здесь уместно предположить, что он написан приблизительно тогда же, когда Сахаров писал свой труд. Но это не совсем так. Публикаторы считали, что документ принадлежал перу Дмитрия Степановича Бортнянского. Именно с того момента, как он стал управляющим Придворной певческой капеллой, в его прямую обязанность вошли хлопоты по переложению древнерусских песнопений на современную нотацию. Ему не сразу, правда, но приходится работать со старинными текстами, вплотную изучать их и даже искать способы для умелой их аранжировки. Вот тогда-то и мог возникнуть замысел подобного «Проекта». Значит, документ был написан не ранее 1796 и не позднее 1825 года. Не очень точный ответ. Но все же есть одна деталь, которая, по-видимому, позволяет уточнить даты. Воспользуемся текстом «Проекта». Дважды в нем упоминаются имена Карамзина и Жуковского как выдающихся деятелей словесности, воспевается их «гармоносная лирическая поэзия». Зная о том, что слава В.А. Жуковского по-настоящему прогремела лишь после 1803 года, когда в карамзинском «Вестнике Европы» увидел свет его перевод элегии «Сельское кладбище» английского поэта Т. Грея, можно принять как отправную точку отсчета этот год. Значит: 1803—1825. Предпринимались попытки более точной датировки. Например, один из трех известных списков «Проекта» находился позднее в руках известного музыкального критика В.В. Стасова, посвятившего истории документа специальную статью. Свой список он собственноручно передал в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга (ныне Российская национальная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина). А в статье, оценивая важность «Проекта», Стасов почему-то написал следующее: «Но такая ценная мысль, такая справедливая высокая и истинно национальная забота могла иметь в первые девятилетия нашего века мало надежды на осуществление». Эта статья была опубликована в «Русской музыкальной газете» в 47-м номере за 1901 год. Материалов, на которые критик опирался, не осталось. В рукописи статьи, сохранившейся в архиве, безо всяких отсылок к источнику написано загадочное — «в первые девятилетия». Почему В.В. Стасов так написал — непонятно. Во-первых, неясно множественное число определения — «первые», а не «первое». Во-вторых, логичнее было бы написать «первые десятилетия», но не «девятилетия». Что это — описка, предположение или же все-таки точное указание? Во всяком случае, едва ли плодотворно следовать по пути некоторых исследователей, которые приняли слова Стасова за намек на конкретную дату. Предполагаемый 1809 год — отмеченный как год написания «Проекта» — все еще иллюзорен. А факт того, что в нем вовсе не упоминается о событиях Отечественной войны 1812 года (это также приводилось как аргумент, подтверждающий более раннее написание), еще ничего не говорит, ведь суть «Проекта» ограничивается лишь решением музыкальных и издательских проблем, конечно же, рассматриваемых в историческом аспекте, но без указаний или ссылок на конкретные исторические события. Впрочем, трудно избежать и некоторых других сомнений. Вышеупомянутые имена Карамзина и Жуковского возникают в тексте, как уже говорилось, дважды: один раз в сноске, другой — практически в последних строчках «Проекта». Трудно отделаться от ощущения — не являются ли они поздней припиской, некой вставкой, использованной для того, чтобы несколько «осовременить» более старый замысел. Получается, что «Проект» был создан за семь десятилетий до его опубликования, а быть может, и еще ранее. До этого времени был малоизвестен и вообще сохранялся в тайне. Почему? После публикации о нем опять на время забыли, и лишь В. В. Стасов вновь вывел его на всеобщее обозрение читателей. Споры о нем возникли намного позднее. Так отчего же в свое время «Проект» не был осуществлен или хотя бы просто обнародован? В чем причина столь трудной и поистине драматичной судьбы документа? Но еще более сложна проблема выявления и утверждения авторства Дмитрия Степановича Бортнянского. Казалось бы, не все ли равно кто. Важна суть. Так почему-то считал П.П. Вяземский, который и объявил об этом на том самом заседании Общества любителей древней письменности 25 апреля 1878 года. «Действительно ли эта записка составлена нашим гениальным композитором или только имя его послужило прикрытием и риторским маневром, вкладывающим в уста нововводителя защиту древних начал, это для существа дела не имеет значения». Этой своей неуверенностью он и положил начало разногласиям. Документальных данных для точного утверждения пока нет. Во многом потому, что все архивы и дела Придворной певческой капеллы, ставшей наверняка питательной средой «Проекта», сгорели дотла при пожаре 1827 года. Остается лишь судить по самому тексту. «Проект» Бортнянского так или иначе попадал в разное время в руки к крупнейшим знатокам древнерусской музыки, и каждый из них высказывал свое компетентное мнение. Противоречивость и отсутствие достоверных данных порождали приятие и отрицание, согласие и споры. На протяжении полутора столетий этот затянувшийся разговор превратился в настоящую дискуссию. Исследователи порой с излишней эмоциональностью старались ниспровергнуть друг друга, нащупать одну-единственную истину, скрытую за тайной завесой времени. Первым, естественно, начал диспут П. П. Вяземский, ссылавшийся в своем мнении на И. П. Сахарова. В предисловии к публикации «Проекта» он написал: «Наконец, что статья эта действительно принадлежит Бортнянскому и, по-видимому, та же, что и упоминаемая Сахаровым... доказывается, между прочим, и тем, что копия, с которой она напечатана, принадлежала ученику Бортнянского, регенту штурманского корпуса г. Каченовскому и признавалась им за докладную записку знаменитого композитора». Вяземский же, оценивая достоинства автора, несколько неопределенно, но все-таки настаивал: «Едва ли кто другой, кроме Бортнянского, мог говорить с таким авторитетом и ясным пониманием дела». Через десять лет его поддержал выдающийся исследователь древнерусской музыки, первый публикатор «Азбуки» Александра Мезенца (она увидела свет чрезвычайно малым тиражом в Казани в 1888 году) С.В. Смоленский. «Д.С. Бортнянский, — писал Смоленский, — еще более полвека назад предлагал сделать печатное крюковыми нотами издание древнерусского пения, доказывая необходимость такого издания... внутренними достоинствами этого пения. Превосходный проект Бортнянского, снабженный многими глубокими мыслями и научными соображениями, указывает... благие ожидания...» С горечью замечал ученый, что «этот проект не получил в свое время ни малейшего движения и был совсем забыт, несмотря на большую известность и влиятельность автора...». И самое главное — С.В. Смоленский, всей глубиной сердца проникшись идеями «Проекта», отдавал должное высокой компетентности Бортнянского в рассматриваемом вопросе. «Очевидно, что автор глубоко ценил и понимал древнее пение, теоретические его основания и знаменитую нотацию... Столь глубокие мысли и провидение, да еще более полвека тому назад, конечно, могли явиться только у человека весьма просвещенного». С. В. Смоленскому вторил А.В. Преображенский, выступивший в 1900 году со статьей в «Русской музыкальной газете». Еще один прекрасный знаток древнерусской музыкальной культуры, он убедительно подтверждал: «Биография Бортнянского дает положительное, хотя косвенное доказательство, по которому можно делать очень вероятные предположения о направлении симпатий Бортнянского в сторону древнего российского крюкового пения. Оно служит предметом особого труда Бортнянского — „Проекта“... Принадлежность „Проекта“ Бортнянскому несомненна». Уже тогда появились мнения, что «Проект» был написан не Бортнянским, а кем-то другим, быть может, кем-то из его окружения. Преображенский, опережая возможные возражения, замечал: «Приписывание „Проекта“ другим авторам, например,.. Алякрицкому — учителю капеллы — произошло от того, что Алякрицкий по поручению Бортнянского редактировал лишь литературное изложение „Проекта“. Фамилия Алякрицкого возникла абсолютно случайно. Первый ввел ее в оборот В.В. Стасов. А в 1901 году он уже выступил со специальной статьей в той же «Русской музыкальной газете», где опровергал полностью авторство Бортнянского. Аргументации у Стасова не было никакой. Однако он ссылался на мнение известного русского композитора, скрипача, автора трактата о древнерусской музыке «О свободном или несимметричном ритме» (Спб., 1858) А. Ф. Львова. Тот якобы считал этот документ, то есть «Проект», совершенно фальшивым и подложным. Понять это утверждение, которое так огульно было приписано Львову, непросто. Что значит «подложный»? Что значит «фальшивый»? Не значит ли это, что он написан Сахаровым, упомянувшим о нем впервые, или же Вяземским, впервые его опубликовавшим? Но почему вдруг возникла идея о «подложности»? Ответа на эти вопросы нет. Стасов был столь же недоказателен, сколь и безапелляционен. Так же неопределенно и бездоказательно он отвергал авторство Бортнянского. «Я считаю нужным высказать то, — писал Стасов в своей статье, — что мне известно о „Проекте“. Сведения мои двух сортов: одни касаются внешней истории и происхождения этой рукописи и сообщены мне почти 40 лет тому назад (?! — К.К.) двумя разными личностями, другие получены мною при рассмотрении рукописи. И то и другое доказывает, по моему мнению (?! — К.К.), что этот проект не был и не мог быть сочинен Бортнянским...» Так, через столетие после создания появились мысли о «неподлинности» и «Проекта», и его автора... Стасов восклицал в пылу им же созданной полемики: «На чем основана „несомненность“ принадлежности этого сочинения Бортнянскому?» И сам себе же с той же неопределенной «несомненностью» отвечал: проект «сочинял Алякрицкий — певчий Придворной капеллы, по словам А. Ф. Львова, старообрядцами приписывается Бортнянскому». Таким образом, Стасов ввел в дискуссию еще и старообрядцев, о которых до него и речи не было. Теперь, когда авторство Бортнянского стало сомнительным, когда в «бочку меда» была брошена «ложка дегтя», некоторые исследователи также стали искать возможные варианты авторства. В 1906 году увидела свет книга С.С. Волковой «О древнерусских церковных напевах», в которой автор сделала фантастическое заявление: «Можно предположить, что автором „Проекта“ является композитор М. С. Березовский». Идея о Березовском была отвергнута сразу. Об этом утвердительно писал музыковед, автор трудов по истории музыки в России XVIII—XIX веков А.В. Финагин в своей статье, напечатанной в 1927 году в сборнике «Музыка и музыкальный быт старой России». «Опираясь на конкретное указание автором проекта на уже признанную всеми поэзию Карамзина и Жуковского, мы вправе... совершенно не касаться предположения, что автором проекта мог быть М.С. Березовский. Последний всецело принадлежит по годам своей жизни (1745—1777) к XVIII веку и умер за 6 лет до рождения Жуковского». Одновременно А.В. Финагин совершенно неожиданно выдвинул еще ряд «исторических обвинений» против авторства Бортнянского. «Мысли, высказываемые автором „Проекта“, не могут при объективно-историческом отношении быть приписываемыми Д.С. Бортнянскому», — писал он. И затем убеждал читателей, что необходимо «попытаться опровергнуть обычное мнение большинства об авторстве Бортнянского в данном случае и этим направить все внимание историков... на поиски неизвестной личности, поднявшей на заре XIX века знамя древнерусского искусства...» На этом Финагин не остановился. Он еще раз подтвердил парадоксальное мнение Стасова о «старообрядческом» влиянии: «Автор „Проекта“, — по его также бездоказательному утверждению... — представляется человеком, довольно близким к старообрядческим кругам». А затем он выдвинул и новые тезисы. Во-первых, Финагин отказал автору «Проекта» в его, утверждаемой Смоленским, «просвещенности». Он утверждал: «Автор „Проекта“... должен быть признан, без сомнения, отсталым и не получившим специального образования». Так, одним махом перечеркивались все благие помыслы, заложенные в документе. Но, кроме того, чтобы обосновать «неавторство» Бортнянского, Финагин, неизвестно откуда взяв сведения, высказался: «Г. Каченовский не был вовсе учеником Бортнянского, а просто состоял в хоре певческой капеллы...» Ложность такого утверждения состояла еще и в том, что надо было хотя бы мало-мальски знать жизнь певчих Придворной певческой капеллы в период, когда ею управлял Бортнянский, чтобы понять, что любой хорист, даже «просто состоявший» в капелле, был, естественно, и учеником композитора. Более осторожно к разрешению вопроса об авторстве документа подходят современные исследователи. И это понятно — аргументов и доказательств не только не прибавилось, а напротив, добавилось больше путаницы. Исследователь творчества Бортнянского М.Г. Рыцарева высказалась осторожно: «Основные мысли „Проекта“ вполне могут принадлежать Бортнянскому... Более вероятно, что Бортнянский высказывал их устно... В этом случае автором „Проекта“ мог быть кто-нибудь из окружения Бортнянского». Вновь малоубедительные доводы. К ним М. Г. Рыцарева прибавляет еще и предположение об авторстве: «Одним из возможных авторов „Проекта“ представляется П.И. Турчанинов. Он был близок к Бортнянскому и увлекался переложением старинных напевов, всегда подчеркивая свою искреннюю любовь к ним...» Но ведь увлекался переложением и любил их и Бортнянский! И следующая мысль — «уровень мышления и стиль высказываний Турчанинова также напоминают автора „Проекта“ — не убедительна. „Уровень мышления“ Турчанинова определить весьма трудно. Стиль же его высказываний отнюдь не похож на стиль „Проекта“. Да и в своих записках, опубликованных в „Домашней беседе“ в 1863 году, Турчанинов нигде ни разу не дает даже намека на возможную работу в этом направлении. Итак, вопрос об авторстве, хотим мы этого или не хотим, упирается в тупик. И все же... Представления об авторстве «Проекта» противоположны, гипотезы, высказываемые участниками спора, не подкреплены реальными доказательствами. Видимо, автор «Проекта» не будет известен до тех пор, пока не обнаружится подлинный документ или хотя бы его список с подписью, а может быть, даже и какое-нибудь письменное свидетельство современника. Некоторые исследователи считали, что автором не мог быть Дмитрий Степанович Бортнянский потому, что прекрасный знаток «итальянской» школы, человек, разбирающийся во всех тонкостях современных музыкальных течений, он действительно не мог быть столь неубедительным и неточным в терминологии, которая используется в «Проекте». Автор документа нигде не высказывает своего явного незнания, но он одновременно никогда и никоим образом не выдает себя блестящим теоретиком и композитором. Его знания кажутся не столь обширными, как кругозор, которым обладал Бортнянский. Но что, если некоторая неосведомленность в тексте «Проекта» — заведомая маскировка? Что, если Бортнянский, составляя «Проект», пытался скрыть свое авторство, а поэтому и избрал стиль некоего «доморощенного» мыслителя? Возникает и встречный вопрос: зачем? Если он чего-то боялся, то чего или кого? Последние 30 лет своей жизни композитор отдал делу переложения древних церковных песнопений и сочинению знаменитых хоровых концертов. Особенно напряженно он работал в 1780-е годы и затем — перед самой кончиной — в 1820-е. На Бортнян-ском лежала ответственнейшая задача создать циклы песнопений, наиболее понятные для современного исполнителя и слушателя, но сохраняющие в себе здоровое зерно прежних традиций. На первых порах «итальянский уклон» был неизбежен. Другого попросту и не могло быть в творчестве музыканта, воспитанного и образованного у лучших европейских учителей. Но постоянное и длительное соприкосновение с источниками — крюковыми нотными книгами, которые тщательно собирались в Придворной певческой капелле, — не могло не отразиться на творчестве, как не могло и не заинтересовать всерьез глубокого мыслителя. Быть может, кто-то убедил Бортнянского в важности изучения древнего наследия. Быть может, кто-то указал ему на гибнущее отечественное достояние и подвигнул его на идею подготовки такого «Проекта». Предположим, что это было именно так. Бортнянский убедился в необычайной широте, глубине и значительности знаменного пения. Он решил сесть за составление документа, предназначенного для, как мы уже говорили, «подачи наверх». Но не подписал его. Снова — почему? Представим себе аналогичную ситуацию, скажем, в области литературы. Допустим, что любой из значительных поэтов XVIII века, будь то Г.Р. Державин или М.М. Херасков, вдруг совершенно неожиданно изменил своим литературным пристрастиям, той традиции, которой он всецело принадлежал. То есть, пользуясь языковыми принципами XVIII — начала XIX века, создавая свои основные произведения в современных ему традициях, поэт самым неожиданным образом стал бы пропагандировать для употребления... древнерусский язык, язык эпохи «Слова о полку Игореве». И не только пропагандировать, но и обращаться в высшие государственные инстанции с целью доказать правомерность такого умозаключения. Если бы поэт, как передовой человек своей эпохи, хотел акцентировать внимание общественности на важности изучения языка давно ушедшего времени, то он мог попросту издать древнерусские тексты, прокомментировать их, выступить со статьей, наконец, отразить свои устремления в своем литературном творчестве, в языке своих сочинений. Так и поступали современники, издав то же «Слово о полку Игореве», работая над его переводами и толкованиями. Но поэт не взялся бы составлять проект реорганизации языка в общегосударственном масштабе. Это было бы просто нелепо! Для примера можно обратиться к архитектуре. Зодчий-классицист, ученик ведущих мастеров Европы, вряд ли стал бы добиваться того, чтобы перейти к повсеместному строительству... деревянных изб. Во всей этой простой логике есть один изъян. Настоящий патриот не поступил бы так, как мы говорили, если бы проблемы, взволновавшие его, не были чрезвычайно важными и экстренными для судеб российской культуры. А проблема сохранения музыкального наследия России была именно такова! Передовой мыслитель, даже работавший в русле новейших музыкальных форм, мог, понимая всю нелепость своих высказываний, выступить с таким призывом. Несоответствие же его личного авторитета, его собственного положения и привычного для современников творческого облика тому, что он выдвигал, и могло заставить его выступить анонимно. Бортнянский занимал один из главных государственных постов в музыкальном мире России. Традиции Придворной певческой капеллы были крепки и столь устоялись, что показалось бы более чем странным, если бы руководитель ее вдруг стал опровергать сам себя. Видимо, для этого потребовался более осторожный ход, более гибкая тактика. В таких условиях и мог зародиться «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения»... Вспомним, как в аналогичных случаях поступали современники Бортнянского, пытаясь защитить свои идеи. Многие литераторы в различных журналах печатали свои статьи, подписываясь выдуманными именами, а иногда и вовсе не подписываясь. Не ставил своего имени на «Сборнике народных русских песен» и Н. А. Львов. Под инициалами «С. П.» скрылся автор трактата «Письмо о производимом действии музыкою в сердце человеческом», напечатанном в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих» в 1756 году. Исследователи считают, что им был литератор С. А. Порошин, по какой-то причине не посмевший открыто обнародовать свои воспитательные идеи. Дмитрий Степанович Бортнянский зачастую выступал анонимно и в своих музыкальных сочинениях. Особенно когда они носили, так сказать, «универсальный» характер и указание на авторство оказывалось не совсем уместно. Так, к примеру, как мы уже знаем, без указания на автора введена была в оборот «общегосударственная Литургия» Бортнянского, упоминаемая, кстати, и в тексте «Проекта». Точно так же композитор никогда не указывал своего авторства в текстах своих концертов... Можно, конечно, с полной очевидностью вернуться и к заключению, что автором «Проекта» был не Бортнянский. Ведь идея возникла именно в недрах капеллы, документ сохранялся до поры до времени в ее стенах, из нее он попал в руки позднейших исследователей. Так или иначе, все «закручивается» вокруг Бортнянского. Он действительно мог попросить кого-нибудь из своего окружения подготовить для него докладную записку о крюковом пении. Ее мог написать и кто-то другой, а затем подать Бортнянскому, как директору капеллы, на рассмотрение. Очевидно, что композитор хранил у себя этот «Проект», быть может, с целью переработать и «двинуть» дальше. Он мог советоваться со знающими людьми, не спеша сразу же пустить бумагу в дело. Наконец, он мог просто не успеть закончить его подготовку. И, видимо, после него не осталось ни одного занимавшего достаточно крупное положение человека, способного оказать «Проекту» реальную поддержку. Не взялись за это ни А. Ф. Львов, руководивший капеллой через 12 лет после кончины Бортнянского, и, по утверждению В. В. Стасова, будто бы считавший «Проект» «фальшивым и подложным», ни И. П. Сахаров, впервые описавший его всего-навсего через два десятилетия по смерти его составителя, когда актуальность документа еще была вполне очевидна. Лишь П. П. Вяземский и его общество частично начали эту работу. Но полноты в издании и комментировании древнерусского музыкального наследия, к чему призывал «Проект», не мог добиться никто... Поэтому-то, споря или не споря о том — писал ли «Проект» своею рукой Бортнянский или нет, предполагая или отвергая существование некоего другого лица — действительного автора, следует остановиться на одном существенном, по нашему мнению, выводе: «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения» должно называть так, как он вошел не только в научный оборот, но и в наше культурное наследие, в нашу память — «Проект Бортнянского». Наименование это по достоинству отражает многосложный период в музыкальной истории России, отдает дань памяти замечательному композитору. Столь длительные разговоры о необходимости издания крюковых нот не были вызваны лишь одним праздным желанием их участников доказать свою истинную преданность древней традиции. Мало того, что нужно было выработать единые принципы подобного издания, его трудно было осуществить чисто технически. Сложности заключались в создании единого шрифта наподобие того, что был когда-то отлит мастерами Московского печатного двора. К этому шрифту нужны были соответствующие добавления — «пометы», сама же печать должна была быть двухцветной. Вся эта работа выполнялась вручную. Точно так же, вручную, готовились в XVIII—XIX столетиях к изданию почти все ноты. Пять линеек с круглыми значками, расположенными на них в самом непредсказуемом «беспорядке», плюс к ним — изображения ключей, басового и скрипичного, лиг, обозначений диезов и бемолей, соединительных линий, размеров и т. п. и т. п. — все это невозможно было «набрать» из обычной наборной шрифтовой кассы. Изобретение нотных фотонаборных машин относится ко второй половине XX столетия. А в те времена мастер-каллиграф рисовал ноты на медной доске и затем вырезал их. Каждую страницу в отдельности! Сколько было страниц нот, столько и медных досок. Замечательным мастерством прославился в начале XIX столетия мастер-гравер Василий Петрович Пядышев, готовивший к изданию большинство переложений церковных песнопений, принадлежащих перу Д. С. Бортнянского. Российское нотопечатание началось в середине XVII столетия выпуском нескольких нотных листов в нотации, отдаленно напоминающей пятилинейную. Важнейшим шагом в деле издания нот был выход в свет в 1772 году цикла книг, соблюдающих традиции «квадратной ноты». Среди них особое место занимала «Азбука простого нотного пения», предназначавшаяся для обучения учащихся. То был первый печатный учебник по музыке в России. В отношении к знаменному пению заметна была определенная сложность — для печатного издания требовалась предельная точность и действительное знание предмета. Между тем можно с полной ответственностью сказать, что со времени появления «Проекта» наступила новая эпоха в истории крюковых нот. Применение и использование их уже окончательно отошли на второй план. К знаменной нотации стали относиться скорее как к реликтовому наследию, как к достоянию, которое нужно спасать. С этого момента крюковое пение стало предметом изучения. «Проект» явился первым в истории России исследованием древнерусской музыкальной культуры. В нем рассматривалась не только система крюковой нотации и ее история, но и давалась ее оценка в сравнении с современной, разбирались возможные тенденции в перспективах развития отечественной музыки. Одновременно это был последний «Проект» в сфере древнего нотопечатания. В последующем мы встречаем в российской печати уже лишь сугубо научные трактаты, посвященные разбору знаменного пения, а среди очередных «проектов» лишь неожиданные нововведения типа цифровой нотной системы, рассмотренной в конце XIX столетия С.В. Смоленским. И все-таки «Проект» сделал свое дело. Хотя и запоздало, но он возбудил интерес широкой общественности к музыкальному наследию прошлого. Первые издания крюковых нот были уже не за горами. Автор его верил в лучший исход, в завершение своего труда. Он писал, что мы «уважим святилища отечественной древности и почтим памятники песнопения, в них хранящиеся, — памятники для нас и для потомства нашего соблюденные — памятники драгоценные». Хранитель древних музыкальных традиций — Бортнянский внес особый, непревзойденный по-своему вклад в развитие русского музыкального искусства. Само нотопечатание в России пополнилось благодаря ему новыми изданиями. Искусство нотопечатания всегда имело большое значение в культуре Российского государства. Нотные издания редки по количеству экземпляров и по характеру вложенного в них труда. Поэтому каждое издание нот не только редкость, но и большая ценность. Сохранность древнерусских певческих рукописей и русских нотных изданий XVIII—XIX столетий — важнейшая задача ревнителей отечественной истории. Для решения этой задачи Дмитрий Степанович Бортнянский, как мы убедились, сделал в своей жизни немало благородных дел. Глава 7. «Певец во стане русских воинов» Ты, лира, прежде воспевала Любовь, беспечность и покой, В уединеньи утешала И к миру дух склоняла мой, Другим днесь звуком наполняйся!.. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года произошло событие, изменившее ход истории в государстве Российском. В Михайловском замке, в самом сердце Петербурга, не спасенный ни решеткой ограды, ни толстыми метровыми стенами, ни ближними слугами и камер-лакеями, ни святостью, которой окружена коронованная особа, был убит император Павел I, разделивший судьбу своего невинного отца. Как и все дела подобного рода, убийство происходило прозаично и в достаточной степени жестоко, в отличие от обряда коронования, проводящегося, так сказать, «под звуки фанфар». Заговорщики — ближайшие друзья и соратники самого же Павла — проникли во дворец, надев парадные мундиры и обвешавшись орденами и лентами. Такая «торжественность» обеспечивала им почти беспрепятственный проход в спальню императора мимо постов совершенно изумленных и ничего не понимающих солдат охраны. Граф Пален и подчиненные ему гренадеры окружили здание. Группа офицеров во главе с хитроумным Беннигсеном и фаворитом (!) императора Николаем Зубовым — родным братом последнего любимца Екатерины II — спешила к покоям обреченного. Шум, поднятый во дворце, сильно испугал трусоватого Зубова, он предложил повернуть назад и скрыться, пока не поздно. Многие заговорщики заколебались. Но вмешался более решительный Беннигсен: — Как! Вы сами привели нас сюда и теперь хотите отступать? Это невозможно, мы слишком далеко зашли, чтобы слушаться ваших советов, которые ведут нас к гибели. — Но-о... — промямлил Зубов. Губы его дрожали. — Жребий брошен, надо действовать. Вперед! Наконец офицеры ворвались в спальню. Все были сильно возбуждены. Зубов подбежал к постели, но она... оказалась пуста. — Он убежал! — вскричал Зубов, словно его ужалила змея. Заговорщики стали рыскать по комнате. И тут вдруг кто-то заметил несчастного императора, спрятавшегося за ширмой. Так или иначе, через несколько минут все было кончено. На полу лежало бездыханное тело ненавистного многим Павла I. Наступило время царствования нового императора — Александра I. Несколько часов спустя после убийства, когда из своей спальни вышла, шатаясь, пораженная случившимся императрица Мария Федоровна, тот же Беннигсен как ни в чем не бывало подал ей руку, помог спуститься с лестницы и посадил в карету. Ненавидевшая его императрица была в тяжелом состоянии, потому и приняла предложенную ей руку, быть может, даже и не поняв, кто идет с ней рядом. Когда происходило это событие, двор и Петербург, ничего не подозревая, мирно спали. Мирно спал и Дмитрий Степанович Бортнянский в доме капеллы, на берегу еще не освободившейся от серого грязного льда извилистой Мойки. Однако с этой ночи наступил настоящий конец XVIII столетия в истории России. Утро 12 марта 1801 года становилось, по сути, первым утром грядущего во всей своей силе, противоречивости и великолепии века XIX. Вдовствующая императрица-мать Мария Федоровна действительно глубоко и трагично переживала насильственную смерть мужа. Правда, он и ей порядком досаждал. А в последние годы так и вовсе забыл о своих семейных обязанностях. Много она натерпелась. Мучила ее неопределенность положения. Какую роль ей избрать теперь в свете? Выказывать свою радость об избавлении от мужа? Или, наоборот, нарочно носить траур? Впрочем, в конце концов, она была рада тому, что на престол взошел ее сын. Ведь она оставалась все еще «императрицей». Могла и имела право влиять на юного государя. Вершить дела. Но все-таки ей было тяжело и скорбно. Совесть мучила, словно это по ее указке скрутили шарф на горле покойного безжалостные стальные руки. С этого времени Мария Федоровна увлеклась благотворительностью. Выступала в защиту сирот, строила на свои средства воспитательные и инвалидные дома, больницы. Это, казалось ей, смягчит нрав сына и принесет упокоение праху мужа, да и ей самой. Придворная капелла попала под влияние Марии Федоровны также не случайно. Благотворительные службы и концерты всегда сопровождались ее певчими. Старый музыкальный наставник и в какой-то мере друг, ныне руководивший капеллой, Дмитрий Степанович Бортнянский пользовался, как и прежде, полным покровительством и попечительством императрицы. Для нее музыка композитора была словно память о лучших днях ее молодости, благополучия в семейной жизни, о днях, проведенных в концертных залах Павловска и Гатчины. За эту память, разрушенную безжалостной поступью времени, она готова была отдать многое... Статс-секретарь Марии Федоровны Григорий Иванович Вилламов в жизни Бортнянского играл роль придворного ангела-хранителя. Зная о расположении императрицы к композитору, Вилламов предельно внимательно относился к его запросам, старался быть добрым и распорядительным. Именно он доставлял Дмитрию Степановичу хорошие вести о том, например, что императрица соблаговолила решить выделить средства на строительство новых жилых корпусов для певчих капеллы или же что ею поручено передать управляющему капеллы тысячу рублей ассигнациями для раздачи служащим. — С вами, Дмитрий Степанович, — говаривала Мария Федоровна, — я всегда советовалась и буду советоваться впредь по вопросам музыки и живописи. Кто еще, кроме вас, знает и помнит вкусы нашего прежнего, павловского двора? Кто еще так понимает мои пристрастия? Не оставляйте меня. Вы должны помочь стареющей матери, убитой горем и никогда не знавшей личного счастья, дожить последние годы в покое. Никто, кроме вас, не сможет украсить мои домашние торжества. Бортнянский выполнит эту просьбу, посвятит немало своих сочинений и будет постоянным неофициальным советчиком и помощником Марии Федоровны, пережившей его на три года и скончавшейся в 1828 году. В XIX столетие российская музыка вступила с большим творческим багажом. Но — увы! — и с немалыми потерями. Словно по некоему зову, ушли один за другим из жизни многие известные композиторы. 1796 год. В начале августа Г. Р. Державин писал своему другу, поэту И. И. Дмитриеву: «Третьего дня Федор Михайлович Дубянский, переезжая с дачи своей через Неву, с компанией потонул...» Так трагически, по нелепой случайности погиб замечательный композитор, романсовый лирик, названный тем же Дмитриевым «нежным учеником Орфея». Державин, пораженный случившимся, написал стихотворение «Потопление», которое заканчивалось словами: Но челнок вдруг погрузился, Путник мрачну пьет волну; Сколь ни силился, ни бился, Камнем вниз пошел ко дну. Се вид жизни скоротечной! Сколь надежда нам ни льсти, Все потонем в бездне вечной, Дружба и любовь, прости! Эти строки уже перекликались с его предсмертной «грифельной одой», которую он начертает через два десятилетия за несколько дней до кончины. Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей, А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, — То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы! ...1797 год. 9 марта скоропостижно скончался Василий Алексеевич Пашкевич, автор многочисленных опер, знаменитых «Санктпетербургского гостиного двора» и «Несчастья от кареты». Скончался, за два месяца до этого отстраненный от службы при дворе. Еще в январе Бортнянский просил за него, обращаясь с письмом к Н. П. Шереметьеву. Но «сокращение штатов», — да простят читатели сей анахронизм, предпринятое Павлом I, было исправно проведено в жизнь... ...1800 год. В апреле, находясь в забвении и бедности, умирает Евстигней Ипатьевич Фомин, создатель «Ямщиков на подставе», «Орфея» и «Американцев». Умирает, не успев увидеть постановку двух своих последних опер «Клоринда и Милон» и «Золотое яблоко»... ...1803 год. Смертельно больной, не добравшись до своего имения в Никольском под Тверью, в ночь с 21 на 22 декабря скончался в Москве составитель «Собрания Русских песен с их голосами», душа и глава литературно-музыкального кружка, автор многочисленных оперных либретто — тех же «Ямщиков на подставе» — Николай Александрович Львов. Еще одного близкого по убеждениям и по Музе друга потерял Г. Р. Державин. Но кто ж моей гитары струны На нежный будет тон спущать, Фивейски молньи и перуны Росой тиисской упоять?.. Уж нет тебя! уж нет! — Придите Сюда вы, дружба и любовь! Печаль и вздохи съедините, Где скрыт под пеленою Львов... — так напишет поэт в память о друге... Наконец, 1804 год. Марта 18-го дня, придя в кабинет за только что назначенным ему пенсионом, внезапно, от паралича сердца упал бездыханно основатель русской скрипичной школы, замечательный импровизатор и композитор Иван Евстафьевич Хандошкин. Его почитатель и приятель, поэт Д.И. Хвостов скажет в своей эпитафии: Прохожий! Здесь лежит Хандошкин — наш Орфей, Дивиться нечему — у смерти нет ушей... И в самом деле, если бы «смерть имела уши», она бы не распорядилась так безжалостно для судеб русской музыки. Изо всей замечательной плеяды российских композиторов екатерининского времени лишь Дмитрий Степанович Бортнянский ступил твердо и неколебимо в новую эпоху. Он оставался единственной живой «связью» между веком «нынешним» и веком «минувшим»... Но, повторим, в XIX столетие сама российская музыка вступила мощно и с широким размахом. Документы отражают музыкальную жизнь того времени весьма широко. Начиналась не только новая страница русской истории, но и новая страница русской культуры. Уже родился Александр Пушкин — будущий светоч и гений русской литературы. Уже на отдаленных горизонтах русской музыки прояснялся силуэт Глинки. В 1802 году в северной столице Российского государства произошло немаловажное событие для дальнейших судеб музыкальной жизни страны. По инициативе наиболее передовых любителей музыки было основано Петербургское филармоническое общество. Теперь в Петербурге существовал определенный центр музыкальной жизни, куда вбирались лучшие силы, лучшие таланты со всей державы. Общество было прообразом тех великих объединений российских музыкантов, которые появятся в XIX столетии, из недр которых выйдут такие гиганты отечественной музыки, как Бородин, Балакирев, Кюи, Римский-Корсаков. Главной целью общества стало проведение постоянных концертов, в которых должны были участвовать лучшие силы, лучшие исполнители. Открытие же его, начало, которое положил организованный обществом первый концерт, должно было потрясти всех. Для исполнения выбрали величественную по масштабам ораторию И. Гайдна «Сотворение мира». Для такого дела следовало пригласить лучший хор. И им в то время без всяких сомнений был хор Придворной певческой капеллы. Учредители общества и приглашенный для дирижирования первым концертом руководитель французской труппы, композитор Гийом Алексис Парис обратились с просьбой к Дмитрию Степановичу Бортнянскому участвовать в церемонии открытия. Директор Придворной певческой капеллы, только что добившись полной ее независимости и самостоятельности, на этот раз нисколько не сомневался в успехе и необходимости проведения таких концертов. Оратории крупных композиторов — это не итальянские оперы времен Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны. Участие капеллы в исполнении выдающихся мировых музыкальных произведений для хора не принижало и не умаляло значения и достоинств придворных певчих. Напротив, знание языков, преподаваемых в капелле, общая музыкальная образованность, выработанный тонкий и изящный вкус исполнительства — все это могло послужить прекрасным основанием для показа своих настоящих возможностей, для упрочения авторитета хора. Само же учреждение Петербургского филармонического общества — веяние хоть и новое, но чрезвычайно важное и перспективное. Ведь концерты его позволили бы ознакомить российского слушателя со многими еще неизвестными или малоизвестными сочинениями европейских музыкантов, которые Бортнянскому приходилось слышать в бытность его за границей. С другой же стороны, многие приезжие в Россию иностранцы с искренним интересом смогли бы ознакомиться с лучшими творениями отечественных талантов. Бортнянский охотно дал согласие на участие хора капеллы в первом же концерте общества. Оратория «Сотворение мира» Гайдна была принята, как говорится, «на ура» и потрясла публику подлинным мастерством и профессиональной подготовкой хористов. С 1802 года Придворная певческая капелла — постоянный участник концертов Петербургского филармонического общества. С ее помощью, собственно говоря, оно образовалось, окрепло, а затем и стало процветать. Здесь впервые в России прозвучат многие западноевропейские оратории и кантаты, слушатели станут свидетелями грандиозного исполнения «Времен года» И. Гайдна, «Реквиемов» Моцарта и Керубини, оратории «Мессия» Генделя, хоровых сочинений Баха, позднее «Торжественной мессы» Бетховена. Бортнянский становится подвижником хорового исполнительства, пропагандистом музыкальной культуры. Его творческие пристрастия, их диапазон вновь поражают современников. Человек энциклопедического ума и всестороннего образования, он интересуется не только музыкой. Среди передовых деятелей российской культуры он уже тогда прослыл знатоком самых разнообразных сфер искусства. Как и всякий передовой человек той эпохи, Бортнянский был на редкость разносторонне образованным. Музыка — одно из главных дел его жизни, дел, которые должны быть у всякого и которые до|лжно делать в меру своих способностей хорошо, — не была единственной его отрадой, не занимала все часы его досуга. Да и по службе ему приходилось заниматься не только ею. Энциклопедизм деятелей екатерининской эпохи — явление примечательное и весьма не простое для полного осознания потомками. Он выражался прежде всего в применении их способностей на самых разнообразных поприщах. Так, Г. Р. Державин назвал себя: «мазилка, скоморох, солдат, писец, толмач». Он не только писал стихи, но и был оперным либреттистом, писал трактаты по музыкальной эстетике, а также был «охотник до живописи». Н. А. Львов прославился и как выдающийся архитектор, и как изобретатель, и как геолог, и как переводчик, и, наконец, как поэт. Д. И. Фонвизин слыл не столько талантливым драматургом, сколько разносторонним публицистом, просветителем, издателем. И. А. Крылов, особенно поначалу, баснями занимался вперемежку со многим другим. Однако именно басни принесли ему бессмертие. Ему же принадлежат либретто многих популярнейших опер, которые шли на российской сцене в конце XVIII столетия. Примеры эти можно приводить без конца, вспомнить хотя бы Ломоносова и Сумарокова. Энциклопедизм того же рода был присущ и Бортнянскому. Создавая музыку, он порой писал для своих концертов и тексты. Уже хрестоматийными стали строки из одного концерта: И стали живы сонм великий! И трепет в грудь мою проник, И жизни радостные крики Воскресший возгласил язык... Основательное знание нескольких языков в свое время определило его судьбу в период пребывания за границей, когда неожиданно для себя самого он на время стал дипломатом и проводил переговоры с союзниками или с враждующими сторонами. Но в не меньшей степени Дмитрий Степанович был и слыл знатоком живописи и изящных искусств. Не случайно в свое время пересеклись пути его и А. С. Строганова. Не случайно и то, что многие его друзья были прославленными художниками, как, например, скульптор И. П. Мартос, и запечатлевали самого композитора на многочисленных рисунках, гравюрах, полотнах и даже в скульптуре. Серьезно увлекся живописью, точнее, собиранием живописных полотен Бортнянский еще в Италии. Там он начал изучать историю европейских искусств, там он положил начало и своей коллекции картин, о которой неоднократно высоко отзывались современники. Собранные им полотна Дмитрий Степанович привез в Россию. Тем, кому доводилось бывать у него в гостях, он показывал свои сокровища. Видимо, они служили образцом и для многих учеников и преподавателей Петербургской Академии художеств. В этом именитом учебном заведении начинали свой путь и известные музыканты. Преподавал музыку в академии Иван Евстафьевич Хандошкин. Учился в ней Евстигней Ипатьевич Фомин. Многие юные солисты Придворной певческой капеллы после того, как у них ломался или пропадал голос и по этой причине они уже не могли петь в хоре, переходили в стены все той же академии. В стенах академии постоянно и многократно исполнялись хоровые сочинения Бортнянского. Если ко всему этому еще прибавить, что покровитель Бортнянского граф А. С. Строганов был президентом Академии художеств, а близкий друг композитора скульптор И. П. Мартос — ее директором, то это позволит поставить последний штрих в обрисованном здесь полотне давнишней и тесной дружбы Бортнянского с важнейшим художественным центром России. Живописная коллекция композитора, «не весьма богата числом, но драгоценна работами известных мастеров», отражала его вкусы и пристрастия. Он становится знатоком, который не только судит о живописи, но к мнению которого охотно прислушиваются, его ценят художники-профессионалы. Ценят и друзья-знатоки, и высокопоставленные меценаты. Еще когда впервые в России была объявлена подписка на выпуск в свет в переводе на русский язык специального пособия по изучению истории искусств — труда Роже де Пиля «Понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев и Примечание к ним», — Бортнянский активно участвует в ней. Музыканту, казалось бы, это издание ни к чему. Потому-то Бортнянский оказался в списке подписчиков единственным из композиторов. Но сама по себе книга являлась важным путеводителем, справочником по тем или иным вопросам истории живописи. А это значит, что для Бортнянского она являлась книгой настольной, постоянным рабочим пособием. Вольно или невольно Дмитрию Степановичу в свое время приходилось принимать участие в работах по оформлению дворцов в Павловске и Гатчине. Хозяева архитектурных ансамблей обладали особыми взглядами на устройство уюта и быта. Интерьеры и мебель, посуда и витражи, пол и стены — все интересовало их, и ко всему они проявляли особое любопытство. Результатом такого постоянного и активного «вмешательства» Павла и Марии Федоровны в работу художников-оформителей явилось создание того особого стиля в декоративно-прикладном искусстве, который позднее стало принято считать «павловским». Отличительного в этом стиле было немного: не совсем обычные изгибы и линии мебели, особое стекло, характер оформления комнат. Но тем не менее поразителен факт, что ни один из российских императоров, тем более если учесть короткое время царствования Павла Петровича, не успел создать собственного стиля в декоративно-прикладном искусстве. Не вошел в историю как бесспорная веха ни «елизаветинский», ни даже «екатерининский» стили, не пользуются признанием понятия «александровский» или «николаевский» стили. Но есть и занял свое прочное место в истории искусств России стиль «павловский». Не приложил ли руку к созданию этого стиля и творческий гений Дмитрия Бортнянского? Ведь создал же он великолепную павловскую музыку, оставив на века над парковыми дворцовыми павильонами тот очаровательный ореол, который ощутим и до нынешних дней и который невозможно спутать ни с какими иными прекрасными историческими уголками нашей страны! Будучи постоянным консультантом в области живописи и архитектуры, Бортнянский внес, видимо, и свою лепту в оформление замечательных дворцов. Мария Федоровна многократно и постоянно обращается к нему с просьбами о покупке картин (какое доверие вкусу!), а также об их оценке, о том, как и где разместить их в Павловском дворце. Бортнянский, как заправский знаток и тонкий ценитель, ведет по ее просьбе расчеты с художниками, копиистами, изготовителями рам. Выбор рамы для того или иного полотна — нелегкая задача. Это, быть может, даже еще сложнее, чем разместить картину на стене в уже спроектированном интерьере. Особенно же, когда полотно принадлежит кисти известного мастера. Вот, например, поступает в коллекцию Павловска работа Гвидо Рени, и Бортнянский, на которого полагаются полностью, спешит дать задание мастеру, какую изготовить раму. Требуется перестройка в отдельных залах дворца после пожара, и Дмитрий Степанович вместе с архитектором А.Н. Воронихиным спешит за город указать, где, что и как необходимо переделать, где и как после ремонта «распорядить помещение картин в комнатах государя императора так, как оные ряды были». Стиль должен быть соблюден! Стиль Павловска и Гатчины, стиль «века минувшего». Кто, как не «Стародум» Бортнянский, лучше всего знает, помнит и хранит в себе этот стиль?! Он хранит в себе и стиль тогдашних взаимоотношений между людьми, не переставая, как мы помним, удивляться обыкновениям «века нынешнего». Григорий Иванович Вилламов вновь просит его оценить работу по копированию художником Я. Меттенлейтером находящегося в Павловске оригинала картины. Дмитрий Степанович, будучи в Петербурге, по памяти, не видя оригинала, отвечает: «Милостивый государь Григорий Иванович! В исполнение воли Ее Императорского Величества, видел я копию с Менесовой св. фамилии, писанную Меттенлейтером, но как не можно в точности делать сравнение, не имея перед глазами оригинала, который ныне в Павловске, то и суждение мое было бы не основательно. Однако по первому взгляду, во многих местах видно более собственной манеры Меттенлейтера, нежели подражания самому оригиналу. Касательно же до оценки сие еще более затруднительно, понеже художник сам положил за нее цену...» «Стародум» Бортнянский и здесь не преминул упомянуть о прежних временах, когда, по его мнению, еще невозможно было фонвизинское: И всяк, чтобы набить потуже свой карман, За благо рассудил приняться за обман... Он, говоря о Меттенлейтере, заканчивает свое письмо Вилламову словами: «И в его лета нелегко уверить его в том, что другой бы, может, и с большим гораздо успехом был бы доволен за труды свои и положенною ценою...» Сам Бортнянский в «свои лета» поступал иначе. Например, внося свою лепту в украшение интерьеров, он преподнес в дар Марии Федоровне картину из собственной коллекции. О том, что этот поступок не был лишь актом верноподданнического усердия, напоминают нам все те же его слова о своем «стародумстве». Ведь надо в таких случаях было заручиться «высоким снисхождением» и, преподнося дар на имя высочайшей особы, «испросить предварительно на то их соизволения». Именно отсутствие такого этикета в наступившие времена искренне удивляло композитора. Итак, Бортнянский преподнес картину, и картина была достаточно дорога. Для иного начинающего музыканта — целое состояние. Для самого композитора — больше, чем годовой его оклад. Полотно оценивалось в три тысячи рублей. «И в его лета... был бы доволен за труды свои и положенною ценою...» Бортнянский получил компенсацию за подарок — ее половинную стоимость... Но, строитель и устроитель, Бортнянский не ограничивается Павловском. Пришло время, есть средства, — можно и самому обосноваться в Петербурге. Директор Придворной певческой капеллы может иметь и свой собственный дом в столице, неподалеку от службы. Академия художеств рекомендует для перестройки ранее купленного жилища архитекторов Паульсена и Захарова. И едва они приступили к работе, как в жизни композитора произошло еще одно немаловажное событие. Летом 1804 года он получил от Строганова извещение о том, что его, старейшего друга и помощника, известного музыканта и достойного ценителя изобразительных искусств, решено на ближайшем собрании принять в почетные члены Академии художеств. Чрезвычайное собрание совета академии состоялось 1 сентября 1804 года. В почетные академики, кроме него, принимались в тот раз давнишний приятель Бортнянского А. Н. Оленин, дочери которого еще десять лет назад композитор собственноручно подписал выпущенные в свет свои французские романсы, а также П. Л. Вельяминов и принц Вольцген. Мнение о кандидатуре Дмитрия Степановича было единодушным. Друзья с радостью поздравили с высоким отличием истинного и искреннего любителя живописи. Он же поспешил откликнуться на оказанную честь: подарил академии две картины, одна из которых была ценной копией с полотна Рафаэля. А позднее завещал славному центру живописи всю свою коллекцию. Музыкальную жизнь Санкт-Петербурга 1800-х годов можно охарактеризовать как «бурное затишье» накануне «тихой бури». Все также в театрах идут оперы — французские, итальянские, немецкие, русские. На смену одному театру приходят другие. Пожар уничтожил популярный театр Меддокса, но тут же неподалеку открылись новые. Процветает домашнее музицирование. Приезжие и отечественные исполнители потрясают публику игрой на струнных инструментах и фортепиано. Еще не успели выйти из моды роговые оркестры. Завоевывает себе место привезенная с Запада гитара, добавив на русской почве к обычным шести еще и седьмую струну. По-прежнему собирают массы слушателей мастера вокала —исполнители-вокалисты. В их репертуаре романсы и арии из опер, с успехом исполняют они и русские народные песни. Как и в прежние, «екатерининские» времена, в усадьбах и городах воспевают многоголосные многолетия хоры певчих. Культурная жизнь продолжалась, как и прежде. Но уже и не совсем так. Внимание двора не столь сильно привлечено музыкой. Специальная музыкальная образованность, умение понимать и ценить музыку уже не создают заметного престижа в высшем свете, и новый император не считает своей добровольной обязанностью участвовать в сочинении либретто для опер или устраивать специальные пышные празднества, сопровождающиеся грандиозными феерическими ораториями. Прошло время вмешательства «сильных мира сего» в музыкальную жизнь, время указов об организации театров и постановок опер с четкой регламентацией, вплоть до того, что и как носить солистам-актерам и как им друг с другом разговаривать. Настала эпоха осмысления пройденного, поисков новых путей. И в литературе, и в живописи, и в музыке. Настало время иной политики, напряженного вслушивания в барабанную дробь и посвист полковых флейт, доносившихся через многие версты из наполеоновской Франции. И хотя, по словам Н. Греча, «вся Россия была в поэтическом упоении», лучшие российские умы обращались к философскому осмыслению места своего государства в мировой истории и в истории мировой культуры. В литературной и музыкальной среде заметно было всеобщее стремление познать истоки, желание постичь глубинные национальные пласты языка и музыки. У того же Н. Греча читаем далее: «Появлялись журналы, альманахи, критики и полемика...», «дремавшие дотоле юношеские силы пришли в брожение...» Н. М. Карамзин погружается в русскую историю. А. И. Мусин-Пушкин печатает текст «Слова о полку Игореве». И. П. Мартос создает памятник Минину и Пожарскому, который воздвигается на Красной площади в Москве. Композитор Осип Козловский, автор величественного гимна «Гром победы раздавайся» на слова Державина, в новых операх разрабатывает темы русской былинной героики. Данила Кашин создает одну из первых историко-бытовых опер на карамзинский текст — «Наталью, боярскую дочь», а также незабываемую «Ольгу Прекрасную». Историк А. Ф. Малиновский пишет либретто о боярской жизни XVII века, назвав оперу «Старинные святки». Опера-сказка рождается и завоевывает свое неколебимое право существовать на российской сцене. «Илья-Богатырь» К. Кавоса, «Русалка», дописанная С. Давыдовым, и многие-многие другие подобные постановки прочно утверждаются на театральных подмостках. Словно предчувствуя грядущие испытания, которые выпадут на долю Отечества, в 1811 году создает свою величественную ораторию «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» крепостной графа Шереметева, композитор Степан Дегтярев1. Пророчески звучали слова, вложенные в уста многочисленного хора: «Беда, беда постигнет нас, еще ли будем медлить мы?.. Пойдем отечество спасать, мечи, знамена есть у нас!» На заре века передовые мыслители России объединяются в музыкальные и литературные кружки, общества. Для того чтобы выработать новую русскую идею, необходимо было ее осмыслить, проверить, проговорить. «Стародум» Бортнянский, хорошо известный всем поколениям музыкантов, литераторов и художников, был, естественно, участником многих обществ и объединений. Но участие это было необычным. Мы не встретим седовласого уже тогда маэстро в рядах тех или иных организаций, кружков. Однако доподлинно известно, что он присутствовал на их заседаниях, был в тесной дружбе с теми или иными их членами, руководителями. «Птенец» екатерининской эпохи, вскормленный в обстановке нервозности, недостроенности, царившей в гнезде времени павловского, он уже сам по себе представлял целое направление. Он руководил капеллой — делом, которое, можно смело сказать, становилось само по себе своеобразным музыкальным центром в столице, вокруг которого лепились одаренные музыканты, из недр которого вылетали новые «птенцы», впоследствии вошедшие в историю отечественной культуры. Бортнянский жил в современной ему культурной среде своей особенной, несколько обособленной жизнью. Его знали и почитали. Приглашали на вечера и заседания как заслуженного мэтра, как почетного члена. Его мнение ценили и принимали как практическое руководство. Но он никогда не сходился близко с основоположниками или вождями тех или иных течений. Он считал, что главное его дело — капелла. И что это дело скажет о нем само за себя, без всяких дополнительных объяснений и эстетических обобщений, понятных современникам и потомкам. Он спешил создавать, но не спорить, хотел успеть сделать начатое, но не старался преподнести это в качестве определенного достижения... Итак, никакие общественные веяния не проходили мимо него и без него. Обратиться к композитору за участием или помощью, особенно в деле сочинения какой-либо музыки, считалось немаловажным и почетным. А он и не отказывал, спешил выполнить обещанное. Он продолжал щедро расточать свой талант, как и прежде, неутомимо проявлял свою творческую многоплановость. Понемногу устроилась и его личная жизнь. Повстречалась ему в одном из петербургских домов девица хорошего происхождения, и вскоре сыграли они свадебку. Анна Ивановна была намного младше своего супруга, приятной наружности и неплохо разбиралась в музыке. На рубеже столетия осчастливила она Дмитрия Степановича сыном, которого окрестили Сашенькой, в честь императора. Адмирал Александр Семенович Шишков только что закончил свой многолетний труд «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Он так же, как многие его современники, обратился к русским древностям. В многовековых спорах о судьбах русского литературного языка всегда существовали противоположные стороны. Одна из них, зачастую называвшая себя «передовой», «прогрессивной», отстаивала мнение о том, что печатный язык российский требует более раскованного обращения и нисколько не пострадает от внедрения в него всяческих новшеств, надуманных построений, ловких вывертов, иностранных заимствований. Этому мнению всегда противопоставлялось другое, более сдержанное, более строгое, порой даже именовавшееся противниками «консервативным», а то и «реакционным». Сторонники этого чуждого реформаторству отношения к отечественной словесности обращались к корневым истокам русского языка, к его древней структуре и смыслу. Споры эти на заре нового столетия вспыхнули с еще большей силой. В пылу борьбы рождалась литература XIX века. В муках и с болью появлялись на свет творения русских писателей. Нельзя не сказать, что подобного рода тенденция не существовала и в музыке. Ведь еще литератор XVIII века П. А. Плавильщиков, как мы помним, справедливо настаивал на том, что «музыка и словесность суть две сестры родные». Ему через столетие, словно эхо, вторил поэт А. А. Фет, который утверждал: «Поэзия и музыка не только родственны, но и нераздельны». Национальные истоки — глубинная тема, которой были заняты деятели культуры. От того, как будет развита эта тема, как будет решаться проблема творчества в ближайшие годы, зависели судьбы культуры. Понимали важность сего и литераторы, и музыканты. Адмирал А. С. Шишков выступал против реформ в области языка, он был против вольнодумства, «безверия» и «якобинческого яда». По-своему он тоже «стародумствовал», опираясь, по словам Белинского, «на предания старины и на авторитеты писателей... старинных и заплесневелых». Но среди «заплесневелых» оказывались выдающиеся и весьма яркие и талантливые литераторы, ценители и знатоки искусств. Например, баснописец И. А. Крылов, граф А. К. Разумовский, поэт Г. Р. Державин. Входивший позднее в противоположный литературный кружок А. С. Пушкин, невзирая на мнения своих товарищей, порой в угоду объективности высказывался более точно. «Отчего у нас нет гениев и мало талантов? — риторически вопрошал поэт в письме к другу. — Во-первых, у нас Державин и Крылов; во-вторых, где же бывает много талантов». ...2 февраля 1807 года в невысоком двухэтажном доме на Фурштадтской улице, принадлежавшем А. С. Шишкову, собрались литераторы, которые решили всерьез разрабатывать и пропагандировать идеи о сохранении богатств древнерусского языка. Дмитрий Степанович Бортнянский примыкал к этому кругу по самым разнообразным причинам. И потому, что знал всех лично собравшихся, а со многими дружил. И потому, что сам горячо интересовался древнерусским языком и даже, как известно, писал тексты для своих хоровых концертов. Да и вообще «Cтародуму» Бортнянскому небезынтересны были судьбы отечественной словесности и музыкальной культуры. До создания «Беседы любителей русского слова» было уже недолго. К первому заседанию нового общества, которое должно было состояться 14 марта 1811 года, готовились обстоятельно. Гаврила Романович Державин предоставил для знаменательного события залу в своем доме на набережной реки Фонтанки. А. С. Шишков, убедив учредителей общества в его необходимости, готовил первое заседание и даже добился того, чтобы на него был приглашен сам император Александр I. По этому случаю Державин вновь обратился к Бортнянскому с предложением написать поздравительную кантату. Это масштабное сочинение, названное «Сретение Орфеем солнца», было создано быстро. В назначенный день и час в зале державинского дома собрались гости. Посреди залы стоял длинный стол, который накрыли плотным зеленым сукном. Расставленные вокруг стола стулья с подлокотниками предназначались для членов вновь создаваемой «Беседы». Среди изъявивших желание вступить в общество называли имена поэта Д. И. Хвостова, князей-литераторов С. А. Ширинского-Шихматова, А. А. Шаховского и многих других людей, в российской словесности не последних. Для тех, кто еще не вступил в ряды общества, предлагались специальные билеты на посещение вечера. Гостей рассаживали позади стола, где расставлены были кресла. Александр I на первое заседание «Беседы любителей русского слова» не пришел. Но кантата «Сретение Орфеем солнца» исполнялась по намеченной программе в присутствии почти двухсот человек. Бортнянский для такого концерта, по-видимому, пригласил певчих из Придворной капеллы. В столь торжественной обстановке прошло первое, а затем проходили и многие другие заседания общества. Одним из первых в России Бортнянский стал писать кантаты. Этот особый музыкальный жанр нелегко давался композиторам. И в первую очередь потому, что тексты кантат под силу только по-настоящему крупным поэтам. Но редко российские поэты пробовали свои силы в новом деле. Больше всего самых разнообразных кантат по различным поводам написал Гаврила Романович Державин. Он же впервые сформулировал сущность жанра и предложил его к употреблению на российской почве. «Кантата, — писал Державин, — небольшое лирическое музыкальное сочинение, получившее происхождение свое в Италии... В Италии известные, на музыку полагаемые стихи вошли в большое употребление не токмо в их отечестве, но и по всей Европе... У нас же кантата известна как под собственным ее именем, так под названием концерта и простой канты. Концерты поются в церквах одною голосовою хоральной музыкою, а канты — в семинариях и мирских беседах певались в старину с гуслями и другими инструментами, как и духовныя песни, более же одними голосами; ныне же редко. Церковныя концерты обыкновенно составляются из псалмов и других священных песнопений. А кантаты из разных житейских произшествий, мифологических, исторических, пастушьих и любовных, а особливо в случаях важных, торжественных. Например... на приезд из чужих краев великой княгини Марии Павловны.., которую на музыку положил... г-н Бортнянский. Кантата... не требует высокаго парения и сильных выражений приличных оде или гимну и должна изображать просто, ясно, легко всякие умиленныя, благочестивыя, торжественныя, любовныя и нежныя чувствования, в которых видно бы было более чистосердечия и страсти, нежели умствования и затей. Поэт не должен в ней выпускать из виду своего предмета, и представлять его естественно, более в чувствах сердца, нежели в действии. Для сего самого кантата разделяется на две части: на речитативы и песни. Речитатив ничто иное есть как музыкальный рассказ или разпевное чтение с музыкою, предварительно изображающие положение духа, и служит вступлением в начале песни. Песни представляют самыя чувства или страсти сердца, приводящие душу в движение. Речитатив должен быть тише и простче, а песни живее и пламеннее, а особливо хоры. Кантата может быть сочинена стихами разных родов и мер... однако всегда плавным, гладким слогом, потому что длинностишныя и шароховатыя не так удобно полагаются на музыку. Кантату... разделяют на два рода: на большую или важную, на меньшую или увеселительную. Первая для народных собраний, вторая для комнаты». Бортнянский, словно внимая советам друга, имея за плечами багаж знаний музыкальных жанров еще со времен учения в Италии, применил свои способности во всех видах кантат. Он сочинял и пышные кантаты на приезд или отъезд тех или иных коронованных особ, как, например, упомянутую Державиным кантату на приезд в Павловск Марии Павловны или «Гряди, гряди, благословенный» на встречу Александра I. Он писал кантаты для торжественного исполнения в важнейшие моменты общественной жизни России, как, например, «Любителю художеств» для А. С. Строганова или «Сретение Орфеем солнца» для «Беседы любителей русской словесности». Кантаты эти, по словам Державина, можно отнести к разряду «для комнаты». И наконец, он писал также и важнейшие «общественно-политические» кантаты, первой из которых являлась для него «Страны российски, ободряйтесь», созданная в момент, когда русские войска вели свои боевые действия на берегах Дуная, и кантата-хор «Возведи окрест взор, Россия». Почти все эти кантаты написаны им на слова самого Державина. Так оба художника стали основоположниками и наиболее яркими подвижниками развития нового музыкально-поэтического жанра в России. Дружба Бортнянского с литераторами, переходившая зачастую в творческое сотрудничество, крепла год от года. Наряду с кантатами композитор прославился своими гимнами. К тому времени этот особый жанр песенного творчества получил довольно широкое распространение. Связано это было, в частности, с деятельностью масонских обществ, на рубеже XVIII и XIX столетий упрочивших свое положение в России, невзирая даже на гонения, которым подвергла масонов Екатерина II, угадавшая в них угрозу государству, его суверенитету и самобытности. Большинство наиболее многочисленных и важных масонских лож просто ушло после этого в подполье, сохраняя прежнюю идеологию и организационную структуру. Некоторые государственные деятели России, представители науки и искусств вступали порой в ложи для установления деловых связей, а то и просто с чисто карьерными целями. В деятельности масонских лож немаловажное значение имели ритуалы и символика. Ведь недаром некоторые лидеры масонства провозглашали его как «новую религию». У «новой религии» должны были существовать и «новые обряды». Ритуалам придавался строгий и торжественный вид, они производились в определенное время — при посвящении новых «братьев», при общих собраниях и т. д. Особое распространение получил гимн — как застольное песнопение, исполняемое при каком-нибудь случае, на вечере, службе. Гимн должен был символизировать общность единомышленников, показывать их принадлежность, приверженность одной организации. Подобного рода гимны могли исполняться и не только на закрытых собраниях, но в присутствии «профанов» — тех, кто не был посвящен в тайные дела масонства или даже не знал о его существовании. Гимны такого сорта получили распространение в России с конца XVIII века. Уже тогда мастера именитых масонских лож считали необходимым привлекать если не в свои ряды, то, по крайней мере, в число сочувствующих лучших представителей культуры. Поэтому если в списках российских масонских лож не встретишь имя того или иного государственного деятеля, ученого, художника, литератора или музыканта, то заметить их в ближайшем окружении лидеров масонства в качестве сподвижников, сотрудников, вольных или невольных соавторов — обычное дело. Престижным считалось привлечь для своих целей наиболее известного и одаренного художника, дабы тем самым упрочить авторитет ложи, показать свою состоятельность и многозначительность. Немудрено, что при создании своих гимнов масонские лидеры искали известных и талантливых авторов. При подготовке же «духовных» гимнов к кому еще можно было обратиться в первую очередь, как не к Дмитрию Степановичу Бортнянскому, тогда уже — лучшему и известнейшему композитору России. Европейские музыканты охотно вступали в масонские организации. Это сулило славу и порой немалую выгоду. Наиболее яркой иллюстрацией такой деятельности была жизнь Моцарта. Известны его портреты в полном одеянии кавалера масонского Мальтийского ордена при всех регалиях и орденах. Правда, участие в масонстве не спасло гениального композитора от лишений и беспросветной нужды. Что же касается России, то в музыкальной сфере членство в масонских ложах — событие не просто редкое, но исключительное. Пожалуй, нельзя привести даже и единого примера такого членства. Бортнянский не состоял в списках ни одной из современных ему масонских лож. Однако его знаменитые гимны, такие, как «Предвечный и необходимый» на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого, «Гимн Спасителю» на слова Д. И. Хвостова, а также ставший затем наиболее популярным в общегосударственном масштабе гимн «Коль славен наш Господь», написанный на слова М. М. Хераскова, считались масонскими. Последний гимн знаменовал собой целую эпоху. Одним из символов истории Российского государства рубежа XVIII и XIX веков стала именно эта мелодия, сочиненная выдающимся композитором. Гимн «Коль славен», по мнению исследователей, имеет явную масонскую направленность. И действительно, среди русских масонских организаций он был чрезвычайно популярен. «Виной» тому не столько его словесное содержание, сколько прекрасная распевная мелодия, принадлежащая Бортнянскому. Эти качества определили его своеобразную всенародность, и на некоторое время за гимном «Коль славен» закрепилась репутация общегосударственного, российского. Известно, что официальным государственным гимном России впервые был объявлен «Боже, царя храни», сочиненный гораздо позднее А. Ф. Львовым — одним из преемников Бортнянского по руководству Придворной певческой капеллой. Однако известность сочинения Дмитрия Степановича позволяла гимну «Коль славен» многие десятилетия спустя существовать наряду с официальным... Неучастие Бортнянского в масонском движении доказывает и его непосредственная близость к императрице Марии Федоровне и ее окружению. Вдовствующая императрица никогда не разделяла юношеских увлечений своего покойного супруга, а по поводу предлагаемой ей для чтения масонской литературы не раз высказывалась весьма однозначно. «Чтение мистических книг, — писала она С.И. Плещееву, — я, в сущности, нахожу опасным, так как идеи их способны кружить головы. Я пробежала некоторые из этих книг и клянусь вам, что их идеи туманны и могут только внести в умы смятение... Впрочем, друг мой, несомненно, есть много прекрасных моральных книг, чтение которых доставляет мне большое удовольствие; но я люблю их простоту и признаюсь, что я чувствую панический страх к мистическим книгам...» Продолжая заниматься руководством Придворной капеллы, стареющий маэстро спешил передать свой опыт своим ученикам. Он понимал, что настает эпоха новая в музыкальной жизни, что приходят новые веяния, что «век минувший» вот-вот станет как бы антикварной редкостью со всем своим музыкальным наследием, поисками, спорами и достижениями. Бортнянский постоянно искал среди певчих капеллы наиболее одаренных. Искал так же, как искал в свое время Марк Федорович Полторацкий, и в результате нашел его самого, семилетнего. Бортнянский всматривался, вслушивался. Стремился понять и отметить. Всех вновь принятых проверял самолично. В феврале 1811 года в Петербург прибыли новички — малолетние певчие. Среди них москвич родом, девятилетний Саша Варламов. Вскоре среди вновь зачисленных в списке значилась и его фамилия. Варламов в первые же месяцы пребывания в капелле стал особо популярен среди своих сверстников. Еще в детстве он самоучкой выучился играть на скрипке и, не зная даже нот, наигрывал весьма ловко народные мелодии, особенно ему понравившиеся. Уже много лет спустя известный композитор Александр Егорович Варламов вспоминал, как певчие усаживались вокруг и просили его показать свое умение. — Какие балаганные шутки ты наигрываешь! — говорил один. — Уж не играл ли ты в самом деле под качелями? — спрашивал другой, намекая на то, как играют в дни народных гуляний балаганные музыканты на ярмарке. Такая удивительная способность не могла быть не отмеченной руководителем капеллы. Вскоре и произошла встреча, ставшая определяющей в судьбе Варламова. Вот как описали этот случай современники: «Однажды, когда он, по обыкновению, играл одну из известных ему песен, а товарищи осыпали его остротами, вдруг заметил он, что его гонители присмирели и кто-то подошел к нему тихонько. Он обернулся — то был директор капеллы, знаменитый Бортнянский... — Играй, играй, друг мой... я тебя послушаю. — Недурно, — прибавил он, выслушав игранную песню. — У кого ты учился? Варламов, поглядывая на улыбающихся товарищей, ответил: — Я играю самоучкою, по слуху. — Похвально, душенька, только учись по нотам: будешь играть и петь лучше». С того дня маститый композитор и педагог приглядывал за юным дарованием особо. Варламов старался петь как можно лучше. Его стремление помогало добиться немалых результатов. Позже он вспомнит: «Я плакал украдкою от всех... что не имел дивного голоса моего товарища, Уманца. Это была не зависть, нет; я чувствовал, что и как можно было бы спеть с таким голосом; пусть бы не я, а кто-нибудь другой, пусть бы сам Уманец спел, что мне хотелось слышать, и я был бы счастлив. А он не заботился посвятить себя искусству...» Старания певчего не проходили даром. Он же вспомнит через многие годы такой эпизод о Бортнянском: «Случалось... он подойдет ко мне на репетиции, остановит и скажет: „Вот лучше так спой, душенька!“ И вдруг 70-летний старичок возьмет фальцетом, и так нежно, с такой душою, что остановишься от удивления». Варламов, случалось, выступал солистом. Быстро овладел игрой на различных инструментах: гитаре, виолончели, фортепьяно. Когда Александру Варламову исполнилось шестнадцать лет, его перевели из детского состава хора во взрослый. Бортнянский стремился помочь дарованию музыканта во всех отношениях. Он понимал, что, быть может, после его кончины, которую он уже тогда предощущал, как близкую, никто не сможет заняться Варламовым, его судьбой, его положением, наконец. Шестнадцатилетие певчего ознаменовано было событием для него приятным и весьма важным. Ему был пожалован чин по службе — четырнадцатого класса, самый низший, но по «табели» все-таки чин, который так останется у него затем до конца жизни! Впрочем, здесь Бортнянский — покровитель с высоты своего положения и поста. А как музыкальный наставник? Об этом говорил много и сам Варламов и его друзья и современники. Когда восемнадцати лет он был послан за границу — в Брюссель, где он «нарочито учился теории музыки», каждый свой успех, каждый свой помысел он излагал во всех подробностях во многочисленных письмах Дмитрию Степановичу. Тот незамедлительно отвечал ученику, давал советы и наставления. До конца своей жизни сохранял Варламов письма Бортнянского, сделав даже у себя дома нечто наподобие выставки и показывая эти собственноручные записки великого маэстро друзьям под стеклянным колпаком, который поставлен был рядом с бюстом Бортнянского. Где эти письма?.. Они исчезли, как и многое другое из материалов, связанных с жизнью и деятельностью Бортнянского. Вернулся в Россию Варламов в 1823 году, застав еще в живых своего благодетеля. В дальнейшем судьба композитора складывалась трудно, но успешно. Он вошел в историю русской музыки как автор великолепных песен и романсов, хоров, балетов и ряда сочинений для театра. Год 1812 наступил, поначалу ничем не примечательный. Однако в июне известие о том, что армия Наполеона переправилась через Неман и двинулась на восток, распространилось при дворе с быстротою грома, потрясающего слух вослед сверканию молнии. Императора Александра Павловича в ту пору в столице не было. Он проводил дни в Вильне. Первые же данные с фронта боевых действий были неутешительны. Разъединенные на отдельные армии русские войска отступали. Между 1-й и 2-й армиями по специальному распоряжению императора французов вклинивался корпус под командованием маршала Даву. Соединение русских армий грозило неудачей для Наполеона на первом же этапе войны. Придворная жизнь в первые недели после начала военных действий внешне почти не изменилась. По крайней мере, для Придворной певческой капеллы, которая продолжала выполнять свои многотрудные обязанности. Переход же светских особ на язык русский и отказ от употребления в постоянном обиходе языка французского, как неприятельского, никак не повлиял на традиции, укоренившиеся в именитом хоре, ибо здесь всегда употреблялся наряду с современным русским лишь церковнославянский язык. Внимательно следили при дворе за тем, что происходило на полях сражений. Вот пришло известие о битве у деревни Салтановки, где, командуя малочисленным отрядом, генерал Раев-ский с сыновьями вышел впереди атакующих со штыками наперевес солдат и повел их в последнюю, решающую битву. Наконец узнали о благополучном соединении русских армий под Смоленском, а затем и об обороне древнего русского города, длившейся несколько дней. Неприятно было, что русская армия вынужденаотступить. Еще одно известие проникло в сознание, словно укол иглы: Наполеон приближается к Москве. В эти дни главнокомандующим русскими войсками становится Михаил Илларионович Кутузов. Разговоры в столицах делаются все тревожнее, предположения — все фантастичнее. Но наряду с этим в душе и сознании патриотически настроенных передовых русских людей вырастает ощущение правильности выбранной тактики в войне с Наполеоном, уверенности в предстоящей победе. Не только воины вставали на защиту Отечества. Вместе с ними спешили отдать свои умения, силы и талант на пользу дела российские художники, литераторы, музыканты. Бортнянский уже имел опыт сочинения военной музыки. Служба при дворе Павла Петровича приучила его к военным ритмам и мелодиям. Но сейчас, в эти особо тревожные и важные для судеб страны дни, требовалось иное музыкальное мышление, какой-то новый музыкальный язык. Не только понятный всем, но и такой, который был бы принят всеми, способствовал воодушевлению, патриотическому подъему, укреплению духа. Бортнянский не может остаться в стороне. Он думает и ищет. Вернее, он прислушивается к тому, что само по себе вырастает в его душе, к тому, что еще никогда не приходилось ему высказывать в музыкальных образах, но к чему он был словно сызмальства готов. Наконец в разгар событий Отечественной войны он создает то, что трудно поставить рядом со всем, созданным им в предыдущие годы. То была новая музыка, не похожая на привычную традиционную музыку века XVIII. То был новый Бортнянский, обновленный, тот Бортнянский, который словно бы и не ведал прежнего успеха и не чувствовал надвигающейся старости. Первоначально композитор пишет «Песнь ратников». Песню эту отнести можно к разряду тех гимнов, которые ему уже приходилось писать. «Песнь ратников» и есть попытка создать военно-патриотический гимн, предназначенный для всеобщего исполнения. В центре внимания здесь стоит образ российского воина, выступающего на защиту Родины. Но когда Наполеон уже близится к Москве, когда до Бородинского сражения остаются считанные дни, по всей России звучит клич о создании народного ополчения, о подъеме на борьбу с захватчиками всего населения. Клич этот услышан и композитором. Это уже другая тема, иной мотив! Ведь не только воин-освободитель, но и весь народ встает с оружием в руках бить врага! Бортнянский пишет новое произведение — «Марш всеобщего ополчения». Однако то, что выходит из-под его пера, требует исполнения в особых условиях, нужен концертный зал, требуется хотя бы группа инструментов, если не целый оркестр, и, конечно, хор. Но нужно и нечто иное — такое произведение, которое можно было бы исполнять везде, даже в походных условиях. Бортнянский думает, ищет. И время само подсказывает ему ответ... В августе 1812 года в один из ополченских московских полков записался молодой известный поэт Василий Жуковский. На Бородинском поле в составе этого полка он принимал участие в знаменитом сражении 26 августа. Еще некоторое время спустя Жуковский оказывается при штабе главнокомандующего, в походной типографии. Сюда он был переведен, как писалось, «для лучшего употребления таланта поэта в канцелярии, нежели во фрунтовой службе». Именно эта типография и печатала многие патриотические стихотворения поэта, расходившиеся сразу же среди офицеров и солдат, то есть становившиеся тут же, на фронте, поистине всенародными. Чуть ранее Жуковский начал писать большое поэтическое произведение — известное в будущем как «Певец во стане русских воинов». Первые наброски в стихах относятся, по словам поэта, ко времени «после отдачи Москвы, перед сражением при Тарутине». Походная типография отпечатала стихотворение-поэму, истихи, как в напечатанном виде, так и в многочисленных списках, быстро распространились в войсках и в столицах. Его знали наизусть, отдельные части стали крылатыми выражениями. Хвала вам, чада прежних лет. Хвала вам, чада славы! Дружиной смелой вам вослед Бежим на пир кровавый; Да мчится ваш победный строй Пред нашими орлами; Да сеет, нам предтеча в бой, Погибель над врагами; Наполним кубок! меч во длань! Внимай нам, вечный мститель! За гибель — гибель, брань — за брань, И казнь тебе, губитель! Обращение к воинам — братьям по оружию, гимн героям Отечества с исторических времен, неподдельный пафос и настоящее поэтическое вдохновение — эти качества отличали творение выдающегося поэта. Российская музыка, как известно, никогда не отставала в трудные для Российского государства минуты от своей сестры — поэзии. Текст Жуковского подхватили многие музыканты. На отдельные строфы писались мелодии. Более полное произведение позже напишет композитор Верстовский. Однако окончательно и по праву в историю русской культуры, в летопись русского музыкального искусства вошло сочинение Дмитрия Степановича Бортнянского, названное точно так же: «Певец во стане русских воинов». Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные, Родного неба милый свет, Знакомые потоки, Златые игры первых лет И первых лет уроки, Что вашу прелесть заменит? О Родина святая, Какое сердце не дрожит, Тебя благословляя? Бортнянский, уже опытный в жанре гимна, здесь превзошел самого себя. Он создал хоровую застольную песню. Исполнять ее можно было и вместе, и врозь. Хоровой общий припев придавал произведению мощную, разительную силу. Сопровождать пение солиста и хора должен был по замыслу симфонический оркестр. Но «Певца» исполняли и вовсе без оркестра, наподобие застольных гусарских песен. Главное, что отличает песню Бортнянского, точно как и стихотворение Жуковского, — историзм. Недаром композитор выбрал наиболее характерные, «исторические» строфы сочинения. Одной из них — Вам слава, наши деды! — Бортнянский-Стародум словно бы вновь напомнил современникам о славной эпохе «дедов», о веке минувшем, о екатерининской эпохе, столь близкой ему самому и вскормившей великих птенцов ратного дела, победителей многих войн, в одной из которых ему самому пришлось принимать непосредственное участие. То были великие «деды» — Орлов, Спиридов, Грейг, Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков. Седовласый маэстро выполнил свой долг перед родной землей. Известно, какую роль в подъеме национально-патриотического духа сыграло его произведение. «Певец во стане русских воинов» — одно из завещаний Бортнянского. Ноты «Певца», который позднее иногда назывался еще и «Певец в Кремле», были отпечатаны большим по тому времени тиражом лишь в 1813 году. В это же время единомышленник и неразлучный друг Бортнянского, автор «Минина и Пожарского» — Иван Мартос приступил к работе над группами евангелистов для Казанского собора в Петербурге. Замысел его возник одновременно с замыслом Жуковского и Бортнянского, еще в дни Отечественной войны. Мысли свои Мартос изложил письменно, и они как нельзя лучше иллюстрируют и разъясняют замыслы его великих соотечественников. Мартос писал: «Под видом трудных изгибов главных частей человеческого тела можно подразумевать бывшее в настоящую войну трудное положение возлюбленного отечества, под видом замысловатых оборотов, являющихся на фигурах, можно подразумевать искусство и напряженное действие наших воинств... наконец, в общем и гармоническом составе моих групп со стороны всякого ревнительного россиянина может быть с особенным удовольствием подразумеваемо знаменование решительного союза государственных сословий, оказавших непоколебимую твердость, неподражаемые примеры любви к отечеству и взаимного согласия». Бортнянский был одним из «ревнительных россиян», умевших подразумевать в искусстве соотечественников то подлинное зерно народности, которое свойственно всегда настоящему художнику, выдвинутому из народной среды. Последние годы жизни композитора связаны были, как и прежде, с Придворной капеллой. Со все большей тщательностью и педантичностью работает он со своими подопечными, развивает их навыки пения, учит их тому, чему был обучен сам семь десятилетий назад. Дни его протекали в постоянных службах. К вечеру, уставший, он выходил из здания капеллы, не спеша шел вдоль набережной Мойки, вглядываясь в отражение набережных на ее воде, по мостику переходил на другую сторону. Перед ним открывалась панорама Сенатской площади, по которой гарцевали на лошадях горделивые кавалеристы. Бортнянский шел вдоль площади по направлению к дворцу. На углу Большой Миллионной улицы поворачивал направо. У Зимней канавки задерживался на миг. Наблюдал, как в промежутке двух дворцовых зданий едва заметно пересекал пространство корабль, плывущий по Неве. Затем также медленно шел дальше. Подходил к двухэтажному дому с тяжелой резной дубовой дверью. Бортнянский входил в парадную дверь своего дома, тяжело поднимался по ступенькам на второй этаж. Налево проходил через большой белый парадный зал, освещенный свечами. Открывал золоченую дверь и попадал в другой зал — там обычно горел камин. А затем входил в столовую, где на печи красовались статуэтки из мрамора. За столовой располагался кабинет. Уютно расположившись в нем, он отдыхал. Лежал долго, с открытыми глазами. Никто из домашних не мог понять — спит ли он или же просто в задумчивости... Вместе с женой его — Анной Ивановной — в доме жил и сын, Александр, служивший в гвардии в чине поручика. Окружали маэстро внуки — Марья и Дмитрий, названный в честь деда. Дмитрий пошел в своего выдающегося родственника не только именем, но и голосом. Дед зачислил его, еще малолетнего, певчим в капеллу. Кроме нескольких малоимущих певчих, нашедших в доме директора гостеприимный приют, в числе наиболее близких людей, даже можно сказать родственников, в доме проживала девица Александра Михайлова, бывшая 27 лет от роду. Никто, да, как позднее выяснилось, и она сама не знала, чья она дочь. Бортнянские приютили сироту и воспитывали ее с малолетства. Наутро — снова капелла. Снова репетиции. Снова служба. Старость давала о себе знать усталостью, заметной для окружающих. Но уважение и преклонение перед авторитетом и талантом великого маэстро способствовали тому, что всякое его слово, всякое замечание было для певчих законом, который выполнялся беспрекословно. Любовь и бережность, с которой относились к композитору в капелле, выразил один из современников такими словами: «Все, кто знал его, хвалят его душевные и человеческие качества. Он был веселый, разговорчивый, дотошный, любил спорить, больше всего умалял свое собственное искусство. Сам про себя говорил крайне мало и беспрестанно твердил, что он стоит на низшей ступени искусства и что его последователи еще многое могут сделать на этой ниве. Прекрасно разговаривая по-итальянски, он любил, чтобы приезжие итальянцы слушали его хор, и разъяснял им потом всю сложность российских духовных композиций, без темпа, без ритма, с неправильным наголосом часто на непонятных словах, несущих темноту исконных легенд...» Эта же любовь и бережность заставила сохранить в стенах капеллы замечательную легенду о кончине композитора, широко известную позже и постоянно пересказываемую биографами. Легенду?! Но почему легенду? Почему, когда речь идет о том, что так понятно, хотя рассказано и немного романтично, нужно принимать как легенду? Рассказывали так: болевший композитор, почувствовав свою кончину, призвал к себе лучших своих певчих и попросил спеть свой лучший концерт — «Вскую прискорбна еси душе моя». Певчие не могли отказать своему наставнику. Под звуки этого замечательного концерта Бортнянский и почил, сидя в кресле... Некоторые исследователи не без затаенной усмешки опровергают этот рассказ. Ссылаются на документы, которые, на их взгляд, выглядят прозаично. 28 сентября 1825 года князь А. Голицын докладывал императору о кончине композитора. В докладной записке, кроме всего прочего, говорилось: «Директор Придворной певческой капеллы действительный статский советник Бортнянский 27-го числа... сентября умер внезапно от апоплексического удара». «Умер внезапно...» Действительно, многие современники восприняли кончину Бортнянского как неожиданность. Один из его друзей писал: «Старик был здоровый, свежий, казалось, долго будет жить...» Разве этот «сухой» документ опровергает «легенду»? Ведь апоплексический удар мог произойти и во время исполнения вышеупомянутого концерта... Итак, Дмитрия Степановича Бортнянского не стало 27 сентября 1825 года. Он не дожил до известных декабрьских событий двух месяцев с лишком. Похоронили его на петербургском Смоленском кладбище возле дверей церкви Иоанна Богослова. Императорская служба во дворце в Гатчине была остановлена. Императрица распорядилась прислать придворных певчих для отпевания их бывшего директора. 1 октября над Смоленским кладбищем прогремели звуки многоголосных панихидных концертов Бортнянского, неоднократно звучавших при отпевании великих российских исторических деятелей замечательной эпохи, концертов, с которыми теперь провожали в последний путь их великого творца... Глава 8. По следам Бортнянского Есть странное недоразумение, которое... смущает правильное понимание публикой совершающихся в области русской музыки явлений... и, в конце концов, компрометирует нас, музыкантов, в глазах грядущих поколений. Будущий историк русской музыки посмеется над нами, как мы теперь смеемся над зоилами, смущавшими спокойствие Сумарокова и Тредьяковского. Если читатель решил, что на этом повествование о жизни Дмитрия Степановича Бортнянского закончилось, то он глубоко ошибается, ибо жизнь композитора, столь многоразличная в своих перипетиях и в то же время столь же постоянная в трудолюбивом осуществлении своих замыслов, словно бы продолжалась после его кончины. Она долго, в течение многих десятилетий, находилась в центре внимания и споров среди представителей русской музыкально-эстетической мысли. Ведь на самом деле, когда он жил и творил — критика особо не привечала его. Здесь нельзя найти злого умысла. Тогда попросту еще не существовало постоянной, злободневной музыкальной критики. Да и само творчество композитора не было предназначено для широких дискуссий. Инструментальные концерты, оперы и сонаты создавались не для того, чтобы их обсуждать, а духовные хоровые концерты вообще не принято было оценивать публично. Вот почему громко о Дмитрии Степановиче Бортнянском заговорили только после его кончины. Видно, сыграл роль в этом и его авторитет. Слишком уж он был высок, чтобы можно было осмелиться на него посягнуть при жизни. Но вот минули лишь месяцы со дня, когда Придворная певческая капелла исполнила панихиду на похоронах композитора, на страницах журналов и газет начался робкий, а затем все более разрастающийся разговор о том, что же, собственно, представляет собою наследие, оставленное Бортнянским, и какую роль сыграл он в становлении русской национальной композиторской школы. Время проходило, мнения менялись, но споры не стихали. Это была словно вторая жизнь Бортнянского, о которой нельзя не рассказать. Что такое национальная композиторская школа? Почему мы начинаем говорить о ее становлении только с XVIII столетия, ведь творцы древнерусских мелодий прославили отечественную музыку за многие столетия до этого. Однако с петровских времен мы начинаем отсчет становлению нового периода в русской музыке, который постепенно подводил к тому, что русская музыкальная традиция могла называться классической. Вырабатывался новый стиль, новые формы, новые жанры. Но этот период не возник ни с того ни с сего, он основывался на глубочайшей традиции древней. Заимствовав все наиболее жизненное и удобопонятное современникам, композиторы XVIII века создали свое миропонимание в музыке, образовали направление, которое успешно развивалось и впредь, дало возможность проявиться русским музыкальным гениям в XIX столетии. Благодаря им смог проявиться талант Глинки и его последователей. Итак, мы говорим о создании национальных начал в музыке нового времени. Но мы говорим также и о школе. В это время мировая музыка тоже переживает период становления, период создания новых школ. Российская музыка не отставала. Если складывались определенные закономерности в восприятии музыки и в развитии музыкальных талантов и традиций в Италии, во Франции, в Австрии, то в России, которая как бы заимствовала многое у этих стран в области формы, также происходило осмысление истоков, также вырабатывалась своя концепция музыкального развития. И основания для этого были более чем грандиозные. Народные песенные струи питали музыкальную традицию, возможно даже стало говорить о том, что это влияние по сравнению с подобным же фольклорным влиянием на музыку других европейских стран было наиболее сильным. В этом смысле Россия имела некоторое «преимущество» перед своими европейскими современницами. Народная музыка решительно врывалась в новые музыкальные рамки и тем самым создала непреодолимую преграду для возможного «размывания» древнерусской традиции в условиях эпохи Просвещения. На основе же новой формы и древней, традиционной содержательности и выработалась та школа, в которой выросли необыкновенные таланты, целая плеяда замечательных музыкантов: М. Березовский, А. Ведель, П. Турчанинов, Е. Фомин, В. Пашкевич, И. Хандошкин, С. Давыдов, С. Дегтярев, Ф. Дубянский и многие другие. Имена этих людей вписаны золотыми буквами в книгу нашей истории. Бортнянский был не только в числе вышеупомянутых композиторов. Он стоял у начала этого ряда. Он был поистине Предшественником, ибо если в русском языке уже проявлялся талант Пушкина, то в русской музыке уже был заметен силуэт Глинки. Итак, кончина Бортнянского повлекла за собой, как мы уже говорили, начало его новой жизни — в сознании современников и потомков. Уже через месяц П. Турчанинов объявлял на страницах многих изданий о продаже изданий нот Бортнянского в переложении для фортепиано, еще продолжали устраиваться концерты его произведений, словно бы автор не ушел из жизни. Но затем вдруг события стали разворачиваться так, будто неблагоприятность подстерегала память о композиторе издавна. Трагические обстоятельства были связаны с рукописным наследием композитора. Вдова, Анна Ивановна Бортнянская, получила по смерти мужа солидное жалованье-пенсию: почти полный оклад, который получал при дворе Дмитрий Степанович. Но этого было ей, видимо, мало, и она, во-первых, продает дом в Павловске, распродает картинную галерею, собранную композитором и частично не переданную еще в Академию художеств, а затем продает и дом на Большой Миллионной улице. Причины такой распродажи имущества композитора установить ныне, наверное, едва ли возможно. Что это было? Нужда? Долги? Последнее сомнительно, ибо о долгах Бортнянского нигде и никогда ничего не говорится. Скорее, он сам благотворительствовал, нежели просил помощи. Быть может, вдова решила уехать из Петербурга, но позднее это решение переменилось, и хотя об Анне Ивановне мы позднее уже ничего не знаем, дата ее кончины известна — она пережила мужа на 32 года. Продав почти все имущество, Анна Ивановна на этом не остановилась, ибо оставались еще рукописи и ноты Бортнянского, которые, конечно же, имели немалую ценность. Еще при жизни композитор вложил много средств (быть может, именно это предприятие и заставило вдову продавать имущество) в подготовку к изданию Полного собрания своих концертов. Для этого он заказал на собственные средства гравировку всех нот. Подобная работа была очень трудоемка и дорога. Ведь для каждой страницы нотного издания готовилась отдельная медная доска, которая гравировалась вручную. Качество гравировки зависело от мастерства гравера, и следовало найти наиболее умелого каллиграфа. Таковым в Петербурге был Василий Петрович Пядышев. К нему-то и обратился Бортнянский за помощью. Несколько лет продолжалась подготовка медных досок, но композитору так и не довелось увидеть своих концертов изданными. В итоге Анна Ивановна осталась с большим количеством готовых печатных плат, за которые были уплачены огромные деньги. Но дело не было доведено до конца. Еще требовалось подготовить много других страниц. Видимо, средств на это недоставало. Можно предположить, что первоначально Анна Ивановна решила завершить предприятие мужа и именно для этого сперва продавала дом и коллекцию. Почувствовав же, что и это не позволит рассчитаться с возможными долгами, она решилась на ответственный шаг — привлечь к изданию наследия мужа общественность и государственные учреждения. В феврале 1826 года, через четыре месяца после кончины мужа, Анна Ивановна написала письмо императору Николаю I. Существует, правда, предание, что жена Бортнянского не знала грамоты, а следовательно, не могла писать. Но утверждение это основывается на одном, быть может, неверно понятом указании, которое едва ли стоит брать в расчет. В письме к монарху Анна Ивановна рассказала о своем бедственном положении и о расходах, которые претерпел ее муж при подготовке медных досок. Эта сумма составляла цифру огромную — 25 тысяч рублей — в среднем годовое жалованье композитора за десять лет! Анна Ивановна не знала, как продолжить дело мужа, и не знала, что делать с досками. Поэтому она обращалась к императору с просьбой взять ответственность за выполнение печатания нот на себя. Для этого она приложила к отправляемому письму все отгравированные печатные формы. Этот своеобразный «подарок» был вручен императору. На раздумья ему понадобился ровно год. 29 апреля 1827 года он указал «купить у наследников действительного статского советника Бортнянского нотные доски и разные сочинения его в рукописях за пять тысяч рублей за счет Придворной певческой капеллы». Указ, пусть даже и императорский, бюрократической машиной выполнялся не весьма поспешно. Тогда делом о выдаче пенсиона вдове Бортнянского занялся директор Придворной певческой капеллы Ф. П. Львов. Уже 11 мая 1827 года он сообщил вдове об исполнении ее просьбы, а 17 мая деньги были наконец выданы. Так рукописи и печатные доски нот композитора оказались в хранилище капеллы. Казалось бы, счастливая судьба. Ведь они были «по реестру приняты и в доме певчих положены в приготовленное для оных место под наблюдением инспектора Придворной певческой капеллы». Однако все обернулось иначе. В том же 1827 году в здании капеллы разразился пожар. Многое из наследия Бортнянского погибло в огне. А медные доски вскоре были из капеллы изъяты. Местонахождение их, если, конечно, они сохранились, неизвестно... Неизвестно и то, где находится рукописный архив Бортнянского: письма, записки, оставшиеся рукописи — то есть все, что осталось дома, у вдовы Анны Ивановны. Кое-что из этих материалов перешло в руки внука композитора Дмитрия Долгова и послужило основой написанного им о деде биографического очерка. Но и архива Долгова нигде нет. Судьба рукописного наследия Бортнянского на редкость несчастлива. Даже письма, которые он писал своему любимому ученику А. Варламову и которые тот хранил многие годы у себя дома как святыню — даже эти тщательно охраняемые письма ныне бесследно утеряны. Разговор о рукописном наследии Бортнянского — в какой-то мере отступление от основной темы восприятия творчества композитора современниками и последователями. Однако именно это скорое исчезновение многих документов и достоверных сведений не раз порождало множество разногласий и толков, а порой и вымыслов. Бортнянский скоро стал своего рода антиквариатом, представителем «века минувшего». Поразительно, что А. С. Пушкин, который был хотя и младшим, но все-таки современником Д. С. Бортнянского, почти никогда ничего не говорил о творчестве композитора. Лишь однажды в разговоре он произнес известные слова о том, что он предполагал, будто многие духовные произведения являются или сочинениями Бортнянского, или «древними напевами», отнюдь не произведениями иных авторов. А Пушкин ведь не просто знал о Бортнянском, он прекрасно знал и его музыку. Не понаслышке — наизусть! Лицейский хор постоянно исполнял облегченные переложения хоров Дмитрия Степановича под руководством Теппера де Фергюсона — учителя музыки и пения. Так или иначе, композитор, не выдвинувший никаких специальных музыкальных теорий и не обосновавший словесно свое музыкальное «кредо», оставил громадное музыкальное наследие и заложил могущественные традиции хорового певческого искусства. Именно это его наследие и стало предметом противоречивых высказываний. Бортнянского хвалили и долгое время ставили в пример или почитали за образец. Например, необходимо было дать оценку тому или иному сочинению, и говаривали: «Не хуже, чем у Бортнянского». Так поступал композитор А. Н. Верстовский, сочинивший несколько хоровых концертов, не отличавшихся какими-либо особыми достоинствами, но являющихся примерной страницей в истории русской музыки. Один из этих его концертов был написан на текст, близкий к тексту концерта Бортнянского, и начинался также: «Скажи мне, Господи». Именно о нем Верстовский часто говаривал, что он «не уступит за лучший Бортнянского». Но вот наступает иная эпоха, входит в жизнь иное поколение. Появляются новые веяния, новые взгляды, новые оценки. Как всякое новое поколение, поколение пушкинской эпохи спешит утвердить свои эстетические принципы, порой даже в ущерб объективности и исторической справедливости. Впрочем, такой удел постигал многие поколения. Лишь по прошествии времени, когда эпоха предстает как бы в некотором отдалении, возможны более объективные суждения. Но тогда время этому еще не пришло... Михаил Иванович Глинка был иногда резок и несправедлив в своих оценках. Дружба с Нестором Кукольником отчасти помогала ему более пристально и внимательно вглядываться в прошлое, в глубь русской истории и не спешить с выводами. Кукольник, будучи глубоко образованным и разносторонним человеком, интересовался судьбами русских музыкантов XVIII века. Об этом свидетельствует его повесть «Максим Березовский», посвященная безвременно погибшему композитору. Повесть Кукольника по своей манере весьма романтична. Правдоподобия в ней немного, ибо и о Березовском сведений никаких не осталось. Заслуга Кукольника в том, что он еще раз привлек внимание своих современников к целому пласту русской музыкальной культуры, пласту, который тогда незаслуженно недооценивался и даже отвергался. В этой недооценке сыграл свою не весьма удачную роль и Глинка. Однажды ему было предложено преподавать в Придворной певческой капелле. Долго решая, мучаясь, Глинка наконец дал положительный ответ. Его привлекло, в частности, солидное жалованье, но крайне стесняла несвобода. Таким образом, Михаил Иванович стал прямым последователем и преемником Дмитрия Степановича Бортнянского. Он получил в наследство то, что когда-то также получил в наследство от Марка Федоровича Полторацкого Бортнянский, то дело, которое продолжали поколения русских музыкантов, начиная еще с незапамятных времен — от Федора Христианина и придворного хора певчих дьяков. Перед Глинкой возникла дилемма: нужно было либо продолжить заложенное Бортнянским и вычленить основные, уже тогда сложившиеся традиции хорового пения, либо — начать совершенно новую страницу в певческом искусстве. Глинка столкнулся с тем, с чем ему еще никогда не приходилось иметь дела, ведь духовной музыкой он не занимался, да и не собирался заниматься всерьез. Тот стиль, то направление, в котором он работал до этого, говоря объективно, были далеки от насущных проблем русского церковного пения. В январе 1837 года — печальном январе кончины А.С. Пушкина — Михаил Иванович принимает пост в бывшей капелле Бортнянского. За это время изменилось многое. По словам того же Глинки, который «взялся учить их (певчих. — К.К.) музыке, то есть чтению нот, и исправить интонацию, по-русски — выверить голоса», можно определить, что исполнительский уровень упал. Даже в исполнении сочинений своего главного наставника — Бортнянского — хористы допускали послабления, о чем сокрушенно говорил еще Львов: «В 7-м № „Херувимской песни“ Бортнянского было замечено: промежутки в голосах, то есть одновременный вдох, это непростительно...» Глинка пытается что-то сделать для капеллы. Пишет «Упражнения для уравнения и совершенствования гибкости голоса», ездит на Украину, как когда-то, еще век назад, ездили его предшественники с целью найти новых одаренных певчих. Но неизвестно, какое влияние оказалось в конечном итоге сильнее: Глинки на капеллу или ее на великого композитора. Все его попытки, правда, не оформленные в целостную систему, привести хор под своим руководством к некоему только самому Глинке понятному результату, успеха не имели. Глинка стремился к работе над оперной музыкой. Он сам говорил об этом неоднократно. Писал о том же и в своей докладной записке в дирекцию придворных театров, от которой просил «почетного звания, которое бы служило ему к тому способом». Звание, то есть первоначально должность — капельмейстера капеллы, — было получено. Но обязанности быть все время при дворе, участвовать в церемониях и службах, обязанности, с которыми так просто и постоянно, невзирая на занятость сочинением собственных произведений, справлялся Бортнянский, эти обязанности для Глинки были не под силу. «Через две недели, — писал он матери, — мне следует чин коллежского асессора за выслугу лет. Вскоре по получении его я непременно подам в отставку и уверен, что получу ее...» Глинка, видимо, всегда чувствовал, что попал, говоря языком нашего времени, не «в свою тарелку». Придворная певческая капелла мешала его творческим планам. К тому же ощущалась и недостаточная его подготовленность не столько по части мастерства хорового искусства, сколько к глубине восприятия русской духовной музыкальной традиции. Именно это и не позволило Глинке вписать в историю русской духовной музыки свою оригинальную страницу. Композитор должен был сделать выбор, и он сделал его. Не отслужив в капелле и трех лет, он подал в отставку. Так достаточно плачевно закончилось его «капельмейстерство» и одновременно попытки развить многовековую традицию. Но Глинка на этом не завершил своих взаимоотношений с духовной музыкой. И тогда и позднее он неоднократно высказывается по поводу состояния дел в русском церковном пении. Высказывания эти были не всегда последовательными и даже не вполне профессиональными. Их отличала зачастую скорее эмоциональность, нежели выверенность суждений. Глинка многое воспринимал сквозь призму современного ему музыкального мышления, более «профессионального» с точки зрения дальнейшего развития и становления светской музыки, но в то же время более отдаленного от реальных корневых проблем российского единогласия и духовного многоголосия. Именно Глинке принадлежат вполне уничижительные и надолго запомнившиеся слова о Бортнянском: «Сахар Медович Патокин». Он употребит их в одном из своих писем к приятелю, который выразил свой восторг услышанными произведениями Бортнянского. Глинка отвечал ему в шутливой форме, удивляясь, что тот, обладая «тонким слухом и изящным пупком для вбирания... в себя всего прекрасного», пишет о Бортнянском. «Что такое Бортнянский?» — риторически и полушутя восклицает Глинка. И сам себе отвечает: «Сахар Медович Патокин — довольно!!» Оценка, казалось бы, требует разъяснения. Но разъяснения нет. Правда, тут же Глинка дает совет: «В наказание тебе посылаю следующий рецепт». И далее высказывает ряд более чем спорных, а скорее сверхсубъективных суждений: «Для драматической музыки: Глюк, первый и последний, безбожно обкраденный Моцартом, Бетховеном... Для церковной... Бах... Для концертной: Гендель, Гендель и Гендель...» Глинка! Композитор, ратующий за очищение русской церковной музыки, вдруг советует... Баха!.. Скорее всего письмо это было написано в минутном настроении, не более. А формальная «красивость» и распевность итальянизированных (до известной степени) концертов Бортнянского была здесь оценена Глинкой несколько прямолинейно и по-прежнему лишь эмоционально, не более. И в это время, и позже Глинка так и не даст дальнейшей точной и обоснованной оценки творчества своего предшественника. Однако он успел дать «кличку», повторявшуюся затем долгое время... Будучи представителем поколения, вырвавшегося тогда окончательно из-под итальянского влияния в области музыки, и, в частности, в области оперной и хоровой музыки, Глинка зачислил в безоговорочных эпигонов итальянской манеры и Бортнянского, возводя отдельные его недочеты в ранг общей неудачи. В этом смысле Глинка шел на поводу у В.Ф. Одоевского, который громогласно объявил о начале русской музыки и ее нового этапа в 30-е годы XIX столетия. Призыв Одоевского и его патриотический пафос был очень важен и нужен современникам. Но по прошествии десятилетий и столетий нельзя согласиться с музыкальным критиком, невольно зачеркнувшим целую эпоху, предглинковскую, как это принято говорить. В сознании Одоевского «Сахар Медович Патокин» уже не просто отслужил свое, но и вообще был «мастодонтом», вымершим, не оставив потомства и прямых последователей. Наивность и голословность некоторых утверждений Одоевского очевидна. Даже под конец своей жизни, в 1864 году, когда он написал важнейшее свое сочинение «К вопросу о древнерусском песнопении», его преследовали прежние, еще юношеские взгляды — взгляды романтика и светского человека, пытающегося разобраться в проблемах духовной музыки как бы извне, со стороны. Отделяя неотделимое — музыку и текст, Одоевский отмечал, что «музыка сама по себе есть искусство безотчетное, искусство выражать невыразимое». В этом смысле достижения «чистых» музыкантов в сфере развития народного мотива в музыке — Глинки, Даргомыжского и других — для Одоевского были более ценны, нежели громадная поисковая подготовительная работа лучше разбирающихся в традициях певческого искусства их предшественников — Бортнянского или его ученика Варламова. Потому, по Одоевскому, «в итальянской канцонетте Глинки» или же «во французском романсе Даргомыжского» больше «русского настроения», нежели, например, «в русской песне Варламова». И это утверждение было лишь эмоциональным выпадом, ибо Варламов, создав, в частности, «Полную школу пения» — первое настоящее методическое пособие по хоровому пению, — развивал мысль о необходимости обучать пению всех людей, даже с ограниченными от природы музыкальными данными. Варламов сформулировал в пособии те принципы хорового искусства, некоторые из которых продолжают существовать и использоваться по сей день. Причем во вступлении Варламов писал, что «при составлении ее („Школы“. — К.К.) я руководствовался как работой с певчими, так и, в особенности, вдохновенными произведениями знаменитого моего учителя Д. С. Бортнянского». Таким образом, намекая на некоторую «нерусскость» Варламова, Одоевский разом нападал и на его наставника. Однако, имея отрицательное мнение о музыке композиторов предшествующего поколения, Одоевский всегда отдавал большую дань уважения тем достижениям, которые были сделаны Дмитрием Степановичем в области практического развития хорового дела. После Бортнянского уровень хорового пения в капелле стал заметно снижаться. Это беспокоило современников. Хотя процесс этот объективно продолжался еще долго, через столетие уже никто никогда не мог себе даже представить, как звучала музыка в исполнении капеллы при Бортнянском, можно было говоритьлишь о том, что это было прекрасно и неповторимо. Одоевский застал при А.Ф. Львове и упадок исполнения, и упадок в уровне образования. «Вы сами признаете нерешительность, с которой хористы атакуют ноту», — писал он Львову. Вспоминая чисто голосовое многолетнее старание при подготовке голосов в прежней капелле, он также добавит: «Настоящая метода та, где не употребляется никакого другого инструмента, кроме камертона, от которого ученики должны брать какой угодно интервал». Как эти высказывания не соответствуют тому, что Одоевский скажет ранее, услышав одно из выступлений Придворной певческой капеллы, когда исполнялась оратория Гайдна «Сотворение мира»: «Нигде хоры Гайдна и вообще хоры не могут быть исполнены с тою точностию и энергией, коими отличаются наши придворные певчие... Хоры наших певчих производят впечатление, доходящее до физического потрясения; они своею силою соответствуют великим идеям сочинителей!..» Говорится, что взгляд со стороны иногда более точен и правилен, нежели из глубины. Говорят и иначе — нет пророка в своем отечестве. Последнее утверждение относительно Бортнянского было бы, конечно, преувеличением. Его всегда помнили и знали. Но вот наиболее емкую, выразительную характеристику его творениям дал одним из первых... Гектор Берлиоз. Посетив Россию в 1840-х годах, он много встречался с музыкантами, слушал различные сочинения. Почти постоянно он вел записи, писал письма. И в одном из них мы встречаем ныне уже достаточно хорошо известную запись: «Однажды, когда Ее Императорское Высочество великая княгиня Лейхтенбергская оказала мне честь, пригласив прослушать в Санкт-Петербургской дворцовой церкви обедню, исполнявшуюся для меня, я имел возможность судить о той изумительной уверенности, с какою эти предоставленные самим себе певчие модулировали из одной тональности в другую; переходили от медленных темпов к быстрым; неукоснительно соблюдался ансамбль даже при исполнении ритмически свободных речитативов и псалмодий. Восемьдесят певчих, облаченных в нарядные костюмы, располагались по обе стороны алтаря двумя равными по составу хорами, лицом друг к другу. Задние ряды занимали басы, перед ними находились тенора, а впереди теноров дети — альты и сопрано. Все они стояли неподвижно, с опущенными глазами, ожидая в полной тишине момента, когда им надлежит начать. По совершенно незаметному для присутствующих знаку, без сомнения, поданному кем-то из запевал, но без указания тона и темпа, они начали петь один из обширнейших восьмиголосных концертов Бортнянского. В этой гармонической ткани слышались такие переплетения голосов, которые представлялись чем-то невероятным: слышались вздохи и какие-то неопределенные нежные звуки, подобные звукам, которые могут пригрезиться; время от времени раздавались интонации, по своей напряженности напоминающие крик души, способный пронзить сердце и прервать спершееся дыхание в груди. А вслед за тем все замирало в беспредельно-воздушном небесном decrescendo; казалось, это хор ангелов, возносящихся от земли к небесам и исчезающих постепенно в воздушных эмпиреях. К счастью, великая княгиня не расспрашивала меня в этот день ни о чем, так как иначе я, по всей вероятности, показался бы ей смешным, находясь в том состоянии, в которое я впал к концу богослужения...» Гектор Берлиоз, как это ни странно, первым, вернее, одним из первых отметил отличие «итальянца» Бортнянского от доподлинных итальянцев в музыке. В тех же записках он скажет: «Эти произведения отмечены редким мастерством в обращении с хоровыми массами, дивным сочетанием оттенков, полнозвучностью гармоний и, что совершенно удивительно, необычайно свободным расположением голосов, великолепным презрением ко всем правилам, перед которыми преклонялись... современники Бортнянского и в особенности итальянцы, чьим учеником он считался». Казалось бы, куда уж лучше сказано. Но Берлиоза мало кто услышал, а его слова стали достоянием ценителей русской музыки лишь в наши дни. Спор о Бортнянском-итальянце будет продолжаться еще столетие. Присоединился, и небезуспешно, к нему В.В. Стасов. В разное время этот музыкальный критик высказывал самые разные, порой противоположные мнения по поводу музыки в России XVIII века. Мнения и мысли эти были весьма обрывочны. Как известно, Стасову были свойственны полемичность, горячность, непоследовательность, а также неожиданные крайности в суждениях. Однажды он даже задумал написать книгу «Разгром» и посвятить ее проблемам русской культуры, ее истории. В одном из писем он изложил свой идейный план: «Это будет нескончаемый ряд нападений на все, что признается хорошим и почетным. Это будет огромный штурм с бомбами, мортирами, штыками и саблями, с ненавистью ко всему, что миллионы дураков, дур и подлецов считают священным или высоким, разбивание тысячей всяких ложных пьедесталов». Вооружившись подобным методом изучения старины, Стасов, конечно же, не смог глубоко проникнуть и постичь законы развития русской музыки предглинковской эпохи. Все его рассуждения относительно этого периода развития русской музыкальной культуры не выдерживают критики. Но не любя и не оценивая по достоинству творчество, скажем, Дмитрия Степановича Бортнянского, Стасов не менее резко высказывался порой и о тех, кто, казалось бы, для него был предметом серьезного и обширного изучения. Доставалось от него и Глинке, причем в связи с самыми главными, программными его сочинениями. «Никто, — писал Стасов Балакиреву, — быть может, не сделал такого бесчестия нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки, на вечные времена русским героем подлого холопа Сусанина, верного как собака, ограниченного как сова или глухой тетерев, и жертвующего собою для спасения мальчишки, которого не за что любить, которого спасать вовсе не следовало... А ведь будет время, когда вся Россия... отшатнется от произведения, во время создания которого в талантливую натуру друзья и советчики-негодяи николаевского времени прилили свой подлый яд». Но Россия не «отшатнулась» от глинковского сочинения. А Стасов не менее эмоционально обрушился и на Бортнянского. По поводу «Проекта об отпечатании древнерусского крюкового пения» высказывания Стасова уже приводились. Считая его, якобы по словам А. Ф. Львова, «фальшивым и подложным» и напрочь отрицая авторство Бортнянского, Стасов словно бы перечеркивал целую страницу не только в биографии славного музыканта, но и в истории русской музыкально-эстетической мысли. Не было-де этого. Не могло быть! В рукописном подлиннике его статьи о «Проекте» Бортнянского отдельные места писаны и переписаны по нескольку раз для того, чтобы найти более емкие, более «обидные» выражения относительно историко-культурной никчемности объекта исследования. Стасов никогда серьезно не занимался вопросами русской музыки XVIII века. Никогда он не разбирал и не осмыслял в печати специально произведений Бортнянского. Но полемические выкрики и оценки его творчества встречаются у Стасова и тут и там. В конце 1870-х годов состоялась всемирная выставка в Париже. Кроме многого, чем удивила тогда Россия западноевропейский мир, на выставке можно было услышать грандиозные выступления русских музыкантов. Был устроен специальный концерт русской музыки. То было не первое, но одно из первых грандиозных концертных выступлений с репертуаром, знакомящим с наиболее яркими и сценически заметными произведениями русских композиторов. Подбор произведений отличался строгостью. Но хронологически и музыкально концерт начинался и обрамлялся хоровыми сочинениями Дмитрия Степановича Бортнянского. Читателю уже известно, что столетие спустя руководитель Русской академической хоровой капеллы А. А. Юрлов в своих записках скажет о том, что, объезжая весь мир со своим хором, он непременно на концертах ставил в начале или в конце произведения Бортнянского, в частности его «Херувимскую № 7». Тем самым он добивался того, что слушатели испытывали колоссальное потрясение. Концерты всегда оканчивались триумфом. Тогда, в середине XIX столетия, и в период Парижской выставки только начиналась еще одна немаловажная страница в истории русского исполнительского мастерства — постоянные и обширные выступления русских хоров за рубежом. Именно тогда произведения Бортнянского получили еще одну жизнь, еще большую известность. Их узнал весь мир, и, как это ни странно, вряд ли найдется в то время в европейской печати отрицательный отклик на выступление хоров или на произведения Бортнянского. Но отклик таковой нашелся... в России. И принадлежал он В.В. Стасову. Не заметив в хорах Бортнянского ничего «позитивного», Стасов горячо убеждал читателей, что они есть не что иное, как ария из оперы. А раз так, то в них нет ничего русского, и, следовательно, ими нельзя представлять миру русскую музыку. Тут, в пылу полемики, Стасов припоминает даже Глинку, невзирая на то, что и его когда-то «высек» за «бесчестие нашему народу». Для того чтобы еще более «притушить» славу музыки Дмитрия Степановича, Стасов вновь обвиняет его в «медовости» и слащавости. Такая оценка творчества Бортнянского пришлась не по душе многим. За Бортнянского вступаются. И тут мы встречаем наконец в русской музыкальной критике стремление не только «развенчать» или определить раз и навсегда уготованное место Бортнянскому, но и желание воскресить, вновь ввести в оборот его музыкальное наследие и также стремление защитить довольно долго не замечаемые сочинения. В полемику со Стасовым вступил Ф. М. Толстой, в печати известный под псевдонимом Ростислав. На разгром Бортнянского Ростислав отвечает, едва сдерживаясь: «И это пишет русский человек! И это печатается в русской весьма распространенной газете! Да ведь это просто кощунство. Миллионы православных в течение сотни лет слушают это духовное песнопение, а тут вдруг... говорят, что это не что иное, как итальянская песенка, а много-много — оперная арийка. „Неужели тут есть что-нибудь русское?“ — восклицает г. В. С.! „Есть, и очень много! — отвечаем мы. — Песнопение это усвоено русским сердцем и наполняет души православных религиозным чувством и благоговением“. Ростислав первым же пресечет обиходное определение Глинки о «медовости» Бортнянского, заимствованное и Стасовым. «Г. В. С., — продолжит Ростислав, — сетует, что Бортнянский сопровождает повышение и понижение звука медовыми аккордами. А вам бы хотелось дегтярными, что ли?» Нельзя не сказать, что критические выступления Ростислава порой также не отличались последовательностью и объективностью. Но в отношении Бортнянского он сразу же избрал позицию определенную и всегда ей следовал, чего никак не могли сделать многие его современники. К оценке русских концертов за рубежом и исполнения в Европе сочинений Бортнянского, данной Ростиславом, словно бы присоединился А. И. Герцен. Прослушав один из них — в Лондоне, Герцен сразу же напишет знаменитую статью «Русская музыка в Лондоне», где есть строки, ставшие хрестоматийными: «Наша музыка не является скромно просить внимания своей оригинальности и сколько-нибудь гражданства, — она врывается, разом вооруженная Бортнянским и Глинкой, заявляет себя энергически и самоуверенно под партизанским начальством искусного вождя!» Здесь, снова впервые, Герцен поставит рядом два имени — Глинка и Бортнянский. Новое поколение, которое он представлял, уже не стремилось отрицать наследие XVIII века. Ведь прошло достаточно времени, чтобы оглянуться назад спокойно и оценить по достоинству. Не случайно, что именно в это время был открыт памятник «1000-летие России» в Новгороде, где более ста фигур символизировали собой историю Российского государства. На памятнике были изображены и государственные деятели, и духовные подвижники, и представители науки и искусства. Среди всех замечательных людей только два музыканта! Кто же они? Глинка и Бортнянский... Вот, оказывается, кто символизировал собой историю многовекового пути русского музыкального искусства. И их-то, оказывается, порой уличали в отсутствии «русского начала...» Герцен написал в статье, что «наша музыка... врывается, разом вооруженная Бортнянским и Глинкой... под партизанским начальством искусного вождя!» О ком вел он речь? Кого имел в виду под названием «вождь»? То был человек, который многое сделал для возрождения в сердцах любителей музыки творений Дмитрия Степановича Бортнянского, — знаменитый руководитель хоров и дирижер, князь Юрий Николаевич Голицын. Еще 19 июля 1858 года Голицын устроил в Дрездене концерт русской хоровой музыки. Причем пел в этом концерте хор, а аккомпанировал ему оркестр королевской оперы. В концерте прозвучали духовные концерты Бортнянского. Триумф был полным. Уже тогда стало ясно, что в России прекрасно знали хоровые сочинения композитора, почти совсем не зная его светских сочинений, а в Европе слышали о его итальянских операх, но вовсе не догадывались о его грандиозном духовном творчестве. Дрезденский критик по достоинству оценил начинание Голицына и знакомство с музыкой Бортнянского: «Выбор музыки свидетельствует о тонком вкусе и об артистической образованности просвещенного любителя... К этому присоединился интерес „новизны“ в отношении музыки русских сочинителей, почти вовсе неизвестных в Германии». В 1860-е годы Голицын развернул доселе небывалую по широте концертную деятельность за рубежом. Можно сказать, что именно благодаря ему русская хоровая музыка приобрела настолько большую популярность, что стала неотъемлемой частью музыкальной жизни Европы уже и в XX столетии. Только за два года голицынский хор дал 260 концертов в Англии, Ирландии и Шотландии. Тот самый концерт в Лондоне, о котором писал Герцен и который, по его мнению, имел «решительный, огромный успех», потряс и самими сочинениями Бортнянского, и характером их исполнения. Журнал «Всемирная иллюстрация» сообщал об исполнении концертов Бортнянского гигантским сводным хором, состав которого достигал 1800 человек! «Всемирный словарь современников», издаваемый во Франции, после концертов в Париже, где звучали и хоры Бортнянского, отметил подвижническую деятельность Голицына в знакомстве слушателей с русской музыкой. Князь Голицын просвещал ценителей хоровой музыки, и не только за границей. Известны его многочисленные выступления с хорами в России, по городам, ярмаркам. А однажды он сделал то, на что затем на протяжении почти ста лет не отваживались его соотечественники: в Большом театре в Москве он впервые на родине исполнил три хора из оперы Дмитрия Степановича Бортнянского «Алкид», написанной в Италии и никогда не шедшей в России. Позже, в 1870-е годы, голицынский хор стал постоянным участником знаменитого Павловского «воксала», где выступал из сезона в сезон и поражал публику концертами Бортнянского, написанными почти век назад здесь же, на берегу древней Славянки... Бортнянскому в его посмертной судьбе иногда действительно везло на тех, кто по-настоящему глубоко, а не вскользь, походя обращал внимание на наследие прошлого. Постепенно отходили в сторону как несостоятельные такие оценки его творчества, как, например, данные известным в XIX веке в России критиком Г. А. Ларошем, «причесавшим» одной гребенкой сразу и Бортнянского, и Березовского, и Турчанинова: «Мягкость и сладкозвучие чисто светское, без высокого полета, без религиозного одушевления, иногда же какая-то суетная торопливость, какие-то веселые и шутливые ритмы, вовсе не приличествующие храму, — вот самые выдающиеся черты в произведениях наших наиболее прославленных духовных композиторов». Один из преемников Бортнянского по руководству капеллой, Ф. П. Львов, утверждал обратное: «Бортнянский... нигде не отвлекает верующих чужими звуками и не выдает преимущества бездушному чувству слуха перед чувствованием сердца». Позднее один из защитников композитора критик Н. Компанейский в статье «Итальянец ли Бортнянский?» отметит с уверенностью «русскую душу и русскую мысль» его. Автор статьи о Бортнянском, Турчанинове и Львове В. Лебедев также отметит «российское чутье к обиходу (церковному. — К.К.) и светской песне» у Бортнянского. Он же выделит ряд народных мотивов в тех или иных сочинениях композитора, в частности украинских. Так год от года творчество Дмитрия Степановича осмысляется все шире. Все больше и больше находят у него народных песенных мотивов, раскрываются целые обороты из народных песен и мелодий в его хоровых и инструментальных сочинениях. «Итальянская» репутация его наконец пошатнулась. И действительно, ведь в России наряду с Бортнянским жили и творили его выдающиеся итальянские современники. Они также создавали целые циклы хоровых духовных произведений. Но, однако, ни один из них не вошел в народное сознание и в историю русской музыки в этом качестве. Их хоровые концерты — они и есть итальянские! В отличие от них Бортнянский создал не только свой стиль, но и целую эпоху в русской хоровой культуре. Справедливо писал по этому поводу один из музыковедов нашего времени — А. А. Гозенпуд: «Ведь если считать признаком национального стиля только использование русских народных песен, то тогда Каноббио или Мартин-и-Солер должны считаться русскими композиторами, а Бортнянского вообще должны изъять из истории русской музыки». Действительно, и Каноббио и Мартин-и-Солер работали при российском дворе и зачастую в своих музыкальных спектаклях использовали для аранжировки русские народные песни. И все-таки не вошли в музыкальную историю эпохи, не стали национальными композиторами. А Бортнянский не просто стал, но и определил самое начало, как мы уже говорили, становления национальной русской композиторской школы. Другой преемник Бортнянского, известный композитор и скрипач, автор государственного гимна России А. Ф. Львов, говорил о своем именитом современнике, как о человеке «глубоких знаний и высокого таланта». Один из поэтов-современников посвятил композитору такие строки: Не тем ли духом вдохновенный, Ты гимны дивные писал И, созерцая мир блаженный, Его нам в звуках начертал? Для полноты картины следует привести еще два свидетельства современников Бортнянского. Первое из них принадлежит перу писателя и историка, исследователя древнерусской культуры, автора известного словаря Е. Болховитинова. «Россия нашла себе, — писал он, — знаменитых учителей песнотворчества, среди которых наизнаменитейший доныне Дмитрий Бортнянский». Второе — написано рукою автора некролога, опубликованного в дни похорон композитора в 1825 году, где мы читаем, что он «получил бессмертную славу не только в России, но и во всей Европе». И в самом деле: весь XIX век можно встретить упоминания в западноевропейской и американской печати об исполнении сочинений Дмитрия Степановича Бортнянского, и всегда с неизменным успехом. Так, звучали они в Англии и Болгарии, Швейцарии и Франции, Сербии и Польше. Особо — в Соединенных Штатах Америки, где популярна была та самая «Херувимская» Бортнянского, о которой не раз уже шла речь. Ее пели не только в церквах, но и в домах, на улицах. Точно так же, как и в России, где она вошла в быт и в повседневный обиход. Еще одно свидетельство тому исходит из истории яснополянской школы Л. Н. Толстого: «Херувимскую» он ввел в качестве обязательного исполнения перед началом школьных занятий. Да и сам он любил время от времени петь ее на три голоса с Софьей Андреевной и ее сестрой. По воспоминаниям Толстой, он пел бас и страшно сердился, когда кто-либо из певших вместе с ним фальшивил или попадал не в такт. «Свежую кровь» для жизни хоровых сочинений Бортнянского влил обосновавшийся в России нотоиздатель П. Юргенсон. Поводом для этого стала длительная тяжба его и Придворной певческой капеллы, которая вплоть до 1870-х годов сохраняла полные права на любые издания духовных сочинений в области музыки. Предприимчивый нотоиздатель понимал, что на тиражировании многих нот хоровых произведений можно неплохо поправить свои дела. Он обратился в суд с тем, чтобы выяснить права капеллы и их юридическую основу. Выяснилось, что капелла хоть и издавала все эти годы церковные песнопения в гордом одиночестве, настоящих юридических прав на то не имела, вернее — не существовало для этого никакого специального либо императорского, либо синодального указа. Едва выиграв судебный процесс, Юргенсон затевает грандиозное издание. Он задумывает выпустить в свет 35 основных хоровых концертов Д.С. Бортнянского. В успехе он был уверен. Но ему хотелось придать делу еще и общественный резонанс, дабы в том не были видны лишь коммерческие интересы. Юргенсон предлагает отредактировать и подготовить к выпуску в свет сочинения Бортнянского своему давнишнему сотруднику и постоянному автору Петру Ильичу Чайковскому. Чайковский до сих пор не обращал сколько-нибудь пристального внимания на творчество Бортнянского. Да оно его специально не интересовало. Поэтому и откликнуться на просьбу Юргенсона не торопился. Долго, во многих письмах издатель уговаривает композитора, и тот наконец соглашается. Так началась эта грандиозная работа, увенчавшаяся в итоге триумфом: выпуском в больших тиражах, ныне хорошо известным. Чайковский не просто редактировал концерты. Он пытался даже кое-где поправить своего предшественника. Он стремился проникнуть в его эстетическую систему. Его интересовали корни популярности Бортнянского. Чем более он углублялся в изучение творчества Дмитрия Степановича, тем все больше приходилось ему разочаровываться в ней. Чайковскому не очень нравились те же самые, якобы «итальянские» обороты в мелодике и контрапункте концертов. И шире: ему нравились концерты, но не нравилась их музыкальная форма, их музыкальная «одежда». Увлекшись духовными песнопениями, Чайковский и сам стал подумывать о сочинении музыки для церкви. До тех пор он еще серьезно не вникал в эту музыкальную сферу. Вот почему можно утверждать, что и оценка Чайковским некоторых концертов Бортнянского была поспешна и еще не обоснована внутренне для самого их автора. Утверждение о том, что музыка Бортнянского «мало гармонирует со всем строем православной службы», одновременно и интересно, и неопределенно. Ибо так и хочется получить разъяснения, продолжение этой мысли. Почему? Чем? Но продолжения нет. Чайковский недоверчиво отметил «светскость» в духовных концертах Бортнянского, вполне естественную для деятеля эпохи конца XVIII — начала XIX столетия. Однако и самому гению русской музыки в своих духовных сочинениях не удалось преодолеть рамок все той же «светскости». Что же не понравилось Петру Ильичу? Думается, что композитор хотел большей простоты, большей ясности и мелодичности. Находя их у Бортнянского, он отмечал его мастерство. А по поводу одного из лучших концертов — 32-го, называемого «Скажи мне, Господи, кончину мою», — Чайковский не преминул выразить восторг и назвать его «положительно прекрасным». Однако избежал ли сам Чайковский влияния Бортнянского? Не было ли между ними, двумя столпами российской музыки, некоторой связи? С каждым годом все больше выясняется, что не избежали этого влияния, как бы этого они ни хотели, многие русские музыканты. Отмечено влияние традиций, идущих от Моцарта и Бортнянского, на творчество А. Алябьева, в частности в финале его оперы «Лунная ночь, или Домовые» (1822 г.). Вот что пишет уже упоминавшийся выше А.А. Гозенпуд в книге «Музыкальный театр в России»: «Бортнянский овладевает высотами мастерства в области лирической и комической оперы. Характерно, что, когда Чайковскому нужно было дать в „Пиковой даме“ претворение галантного XVIII века (пастораль „Искренность пастушки“), он, как правильно заметил Асафьев, использовал интонации, близкие Бортнянскому. Тот же исследователь говорит о нитях, протягивающихся от опер Бортнянского к Глинке (Фарлаф) и Даргомыжскому, а также к романсу начала XIX века. К этому можно прибавить, что и русский водевиль Алябьева и Верстовского в известной мере обязан воздействию Бортнянского». Упоминая Асафьева, Гозенпуд оставил вне поля зрения еще одно важнейшее наблюдение музыковеда, касающееся Михаила Ивановича Глинки, не избежавшего и прямого воздействия «Сахара Медовича Патокина». В статье о канте XVIII века Асафьев сказал об этом так: «В несправедливо забытом творчестве Бортнянского, выдающегося русского мастера, кант расцвел... В мелких культовых произведениях Бортнянского, в тех из них, где не требовалось почтительное благоговение, радостная поступь канта сказывалась в полной мере, становясь порой откровенным маршем, не теряя облика и интонационности песни, и именно хоровой песни. В этой музыке были налицо и свет, и тепло, и радость. Глинка, метя в своих врагов в придворной капелле и ненавидя их хоровой стиль, незаслуженно снизил значение Бортнянского. Сам же создал знаменитый финал «Ивана Сусанина» на основе формы канта: «Славься» — не что иное, как кант по всем стилистическим и смысловым интонационным признакам». И еще о влиянии Бортнянского. Его творчество оказало громадное воздействие на становление украинской музыки. Не впрямую, конечно, но само имя композитора, выходца из города Глухова, становилось как бы символом украинской музыкальной культуры. Уже в 20-е годы XIX века на Западной Украине распространяются сочинения Бортнянского. Они вдруг становятся не просто музыкальным феноменом, но и знаменем в борьбе с униатским влиянием и значительным напором польско-католической культуры. Некоторое время произведения Бортнянского на Западной Украине было запрещено исполнять. Церковные власти преследовали последователей музыканта. Вот почему слова одного из первых на Украине композиторов-профессионалов, М. Вербицкого, о том, что для украинцев Бортнянский стал тем же, что Моцарт или Гайдн для Западной Европы, вполне справедливы. Личность композитора, его авторитет и европейское признание стали поводом к тому, чтобы поставить его имя первым в ряду деятелей украинской музыкальной культуры. Год от года крепнет и растет авторитет личности Бортнянского, все более серьезными становятся оценки его творчества. Когда впервые в России вводятся в оборот граммофоны и граммофонные пластинки, то одним из первых авторов, записанных на них, был наш Дмитрий Степанович. Наибольшую популярность имели его духовные песнопения в исполнении хора Архангельского в Чудовом монастыре Московского Кремля. В середине XIX столетия была изобретена в Европе так называемая цифровая система записи нот, новая, в отличие от общепринятой пятилинейной нотации. Изобрел ее преподаватель музыки Эмиль Шеве. Быстро распространилась она, например, во Франции. В России же ее пытались ввести в «Бесплатных классах хорового пения», созданных Н. Рубинштейном при Российском музыкальном обществе. Ратовали за это еще и В. Одоевский, и К. Альбрехт, и Г. Ломакин. Особенных преимуществ цифровая система не имела. Однако для России, едва как сто лет назад оставшейся без своей собственной, крюковой нотной системы, перейти еще раз на иную, новую, было немыслимо. Подобный переход означал бы новые потери в области гармонии и контрапункта, потери, которые уже произошли при переходе на минор и мажор, при заключении музыки в систему гармонии семи белых и пяти черных клавиш, то есть при появлении того, чего ранее в русской музыке не было и в помине. Цифровая система применялась в России для обучения учащихся. И по свидетельству П.И. Чайковского был в свое время подготовлен сборник сочинений Бортнянского, переложенных по системе Э. Шеве для учительской семинарии при Московском воспитательном доме. Одновременно были попытки издать в этой же системе гимн Бортнянского «Коль славен», переложенный на три голоса. Однако цифровая система Шеве в России потерпела провал. Забылись и эти издания. Наконец, по наказу Н. Рубинштейна И. Е. Репин пишет свой знаменитый групповой портрет «Славянские композиторы», который позже помещается в фойе Большого зала Московской консерватории. Рубинштейн сам составлял список музыкантов, которых молодой Репин должен был нарисовать на портрете. И хотя он не включил в него ни Бородина, ни Мусоргского, почему-то лишив их права называться «славянскими» композиторами, хронологически этот ряд деятелей музыкальной культуры начинается с изображения Бортнянского, который на портрете изображен сидящим в кресле и облаченным в парадный придворный мундир. Не вполне естественное сочетание композиторов давно умерших и благополучно здравствующих, которые никак не могли бы встретиться в одной зале, тем не менее позволило Репину создать любопытное полотно, не пришедшееся по сердцу многим, но все же имевшее большой общественный резонанс. Наиболее грандиозные события, связанные с памятью о Бортнянском, происходили начиная с 1901 года и посвящены были 150-летнему юбилею со дня его рождения. С этого момента российская общественность словно пробудилась после длительного осмысления всего величия наследия композитора. Юбилей заставил еще раз обратить внимание не столько даже на сами произведения Бортнянского, сколько на его место и роль в истории и музыки и русской культуры в целом. XVIII век, ознаменованный в истории России многими великими событиями, в своей музыкальной ипостаси словно бы выпал из памяти. Достижения русских музыкантов той эпохи не получили ни должного освещения, ни должной оценки. Даже на памятнике Екатерине Великой, что стоял на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и символизировал собой век Просвещения, не было уделено места никому из музыкантов. Есть на памятнике великий поэт — Державин, есть великий полководец — Суворов, есть великий ученый — Ломоносов, но нет музыканта. А ведь с первыми двумя был не только творчески близок, но и дружил Дмитрий Бортнянский. Последнего же видел в юные годы. Целая эпоха, целый пласт культуры словно бы отошел на второй, незаметный план. Организатором 150-летнего юбилея выступила Придворная певческая капелла. Первым делом решено было восстановить место захоронения композитора, ибо уже тогда никто не мог с твердостью утверждать, где он похоронен. 27 сентября, в день кончины композитора, в Смоленском соборе при кладбище, там, где долгие годы при институте Бортнянский преподавал музыку и руководил хором, состоялась заупокойная обедня, которую отслужили придворные певчие. Никто еще не предполагал тогда, какую реакцию вызовет это торжество. На праздник были подготовлены и отпечатаны специальные билеты. Но оказалось, что к собору с самого утра пришло огромное количество народа. На службу памяти Бортнянского хотели попасть многие люди, но ни у кого не оказалось билетов. В конце концов билеты объявили недействительными. Известный исследователь древнерусской музыки С. Смоленский, который участвовал в торжествах, расскажет позже: «Да где тут и кому спрашивать билеты, если народ ломится чуть ли не силой!.. Храм и билеты... все-таки несовместимо!.. Народ не верит в какие-то билеты. Не верит — и хорошо!» Храм был переполнен. Люди толпились на улице. Едва закончилась обедня, как Придворная капелла запела знаменитую «Херувимскую» № 7 Бортнянского. Молящиеся отирали слезы на глазах. Это ли было не торжество русского музыканта! После «Херувимской» прозвучал концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою» и одно из последних сочинений Березовского — хор «Верую». После обедни народная толпа двинулась на кладбище к могиле композитора. Здесь отслужили панихиду у памятника с золоченой надписью на овальной табличке «Действительному статскому советнику Дмитрию Степановичу Бортнянскому. Сей памятник сооружен скорбящею женою его в 1826 году ноября 17-го дня». Никто не ожидал такого внимания к имени Бортнянского, такого поистине народного признания давно умершего автора духовной музыки. В Придворной певческой капелле состоялся вечер памяти композитора. Первоначально выступил С. Смоленский, который еще раз напомнил присутствующим биографию Дмитрия Степановича и отметил его роль в становлении русской духовной музыки. Затем певчие капеллы исполнили ряд наиболее известных его сочинений. Подобного рода концерт, состоящий только лишь из произведений Дмитрия Степановича Бортнян-ского, причем самых лучших, был первым за все десятилетия после его кончины. Событие само по себе можно считать уникальным. Не менее уникальной стала и выставка произведений Бортнянского, открытая в специальном зале капеллы. Там были представлены автографы и рукописи многих его сочинений, а также печатные ноты. На выставке гости могли лицезреть и то, что в настоящее время считается, увы, утерянным. Но самое главное — там любители музыки впервые открыли для себя еще и светского Бортнянского, автора сонат, инструментальных сочинений, опер. Автографы Квартета и Квинтета, итальянских опер «Алкид» и «Квинт Фабий», павловских сочинений «Сокол» и «Сын-соперник» — все это лежало под стеклянными колпаками, доступное для рассмотрения. Как и знаменитый рукописный альбом сонат для клавесина, подаренный Бортнянским Марии Федоровне и ныне также считающийся утраченным... Эхо юбилея прозвучало и в некоторых европейских странах, и даже за океаном. В Герцеговине под руководством известного сербского поэта, автора патриотических стихотворений и драм Алексы Шантича прошло празднование знаменательной даты, был устроен концерт из произведений Бортнянского. Подобного рода праздники проходили в Греции и США. 150-летие со дня рождения Дмитрия Степановича напомнило о том, что в России нет не только памятника ему, но и нет памятника вообще русским музыкальным деятелям многовековой русской культуры. Юбилей всколыхнул поначалу стихийное народное движение за сбор средств на постановку памятника композитору или же вообще композиторам духовного пения. Заметки по поводу нового предприятия появлялись в русской печати. Поначалу выступили газеты «Русь», «Голос правды», «Русская музыкальная газета», «Хоровое и регентское дело». Их поддержали другие издания — «Музыка и пение», «Петербургская газета», «Церковные ведомости», «Новое время», «Колокол», «Петербургский листок», «Свет», «Сегодня», «Баян», «Музыкальный труженик» и многие другие. Развернулось широкое общественное движение. Деньги на строительство собирались по всей России. Устраивались концерты и благотворительные вечера. Несколько лет продолжались разговоры. Пресса публиковала статьи о необходимости завершения этого начинания. Наконец, был создан специальный комитет на общественных началах под руководством С. Смоленского. Комитет обратился в Министерство внутренних дел с просьбой утвердить его статус и разрешить официальный сбор средств на сооружение памятника. Разрешение было дано. С 1908 года начинается постоянная работа комиссии по постановке памятника трем известным композиторам духовного пения — Бортнянскому, Турчанинову и Львову. Комитет также проводил вечера и концерты. Затем было принято решение о том, где поставить такой памятник. Перебирались разные варианты, все — в Санкт-Петербурге. То площадь Исаакиевского собора, то перед Казанским собором, то Малая Конюшенная улица, которую даже намеревались переименовать в бульвар Д.С. Бортнянского. Наиболее приемлемый и удобный проект места установки памятника предполагал его у стен Придворной певческой капеллы, неподалеку от Зимнего дворца, у певческого мостика, на том самом пути, который композитор каждый день проделывал от дома до места службы. Время шло, средства все собирались. Но их явно не хватало. Установка памятника затягивалась. Одновременно подобная же идея возникла и у любителей русской музыки за рубежом. Из Америки на имя Смоленского пришла просьба выслать необходимые наглядные материалы о Бортнянском. Смоленский незамедлительно откликнулся на просьбу и выслал копию одного из портретов композитора. В 1911 году памятник композитору был изготовлен в Нью-Йорке и установлен там же в одном из храмов. Автор памятника, который стоит в Нью-Йорке и по сей день, неизвестен. Постановка же памятника на родине затянулась. А в 1914 году началась война, и стало уже не до Бортнянского. Позднее памятник так и не был поставлен... Но пробуждение внимания к творчеству Бортнянского в предреволюционные годы не могло не сыграть своей важной культурно-исторической роли. Это отразилось на совершенно новом этапе изучения его наследия, который начался в 1920-е годы. Все началось с выхода в свет книги А.В. Преображенского «Культовая музыка в России» в издательстве «Academia» в 1924 году. Преображенский, пытаясь дать объективную оценку творчеству Бортнянского, вновь уличал его в «итальянщине». «Бортнянский — последний итальянец», — писал Преображенский. Но тут же оговаривался: «Но он — первый русский композитор — специалист, овладевший всеми средствами современной ему музыкальной техники, каких до него русское церковное пение, как мы видели, не имело за всю свою историю». Автор книги снова припомнил все самые сомнительные упреки, брошенные еще столетие назад в адрес Дмитрия Степановича. В книге процитированы слова того же В. Одоевского: «Можно указать в операх Галуппи целые места, перенесенные его учеником Бортнянским в наше церковное песнопение», а также высказывание Ю. Арнольда: «Бортнянский склонен к мелодическо-лирическому стилю, напоминающему неаполитанскую школу, или стиль Дуранте до того, что в сочинениях Бортнянского иногда встречаются мотивы самого Дуранте». Не обошлось и без замечаний Глинки: «Бортнянский был итальянец, Львов — немец». К сожалению, и об этом сетует даже не слишком расположенный к нему Преображенский, вышеупомянутые авторы высказываний не приводят никаких доказательств своих мыслей, не указывают в сочинениях Бортнянского «заимствованные» места. Уже к этому времени, к 1920-м годам, становится ясно, что подобного рода выпады голословны и вполне устарели. Серовское замечание о Бортнянском, как «слабом отголоске итальянцев Моцартовского времени», ныне уже трансформировалось в ощущение моцартовской роли того же Бортнянского в истории русской музыки XVIII столетия. Преображенский вынужден сделать вывод, подводящий его к серьезным исследованиям проблемы: «Бортнянский... наиболее свободен от подобных упреков и скорее может дать основание считать его наиболее умеренным итальянцем, отрешившимся от крайностей стиля и обращавшим — более других — внимание на близость музыки к тексту, хотя и нашедшую у него своеобразное выражение». Размышляя дальше, Преображенский делает удивительно смелый, но крайне важный вывод, касающийся исторического места и роли Бортнянского в русской культуре. «Все эти опыты, — пишет он о русской школе музыки, — однако, ни в какой мере не могли способствовать осуществлению идеалов того „русского музыкального мира“, о котором мечтает „Проект“ Бортнянского. Эти деятели оказывались по нему скорее теми „путешественниками, которые идут вдаль пить мутную воду, презирая перед собой текущий чистый и прозрачный источник“ и которых потому он назвал „рассеянными“. Не был ли таким рассеянным путешественником уже Глинка, старавшийся, по его собственному выражению, „проложить хотя тропинку к нашей, то есть русской, церковной музыке“, а в действительности отправившийся по проторенной дороге в Берлин к Дену изучать западные церковные лады? Не были ли такими же рассеянными людьми и все те, кто, как Одоевский, Потулов, Чайковский и другие, искренне желая дать самобытное русское направление нашему церковному пению, увлекали его в подчинение чуждой дисциплине старого стиля?» Сделав такой вывод, Преображенский ставит Бортнянского в число первых среди тех, кто пытался вернуть русской музыке ее истинное лицо. «Очищение нашей церковной музыки от иностранных элементов, — цитировал Преображенский неизвестного автора, — историческая задача русского пения с Бортнянского...» 1920-е годы совершили коренной поворот в отношении оценки Бортнянского. Выпады относительно «итальянщины» в творчестве композитора в работе Преображенского стали последними. В 1927 году то же издательство «Academia» выпускает важнейший и единственный в своем роде сборник «Музыка и музыкальный быт старой России». Здесь Б.В. Асафьев опубликовал работу «Об исследовании русской музыки XVIII в. и двух операх Бортнянского», где впервые поставил вопрос о внимательнейшем научном изучении русского музыкального наследия предглинков-ской эпохи и еще раз напомнил об уникальном светском творчестве композитора. «Значение его (Бортнянского. — К.К.), — писал Асафьев, — неоспоримо велико, и в этом, конечно, кроется тайна воздействия и религиозной музыки Бортнянского на необъятные пространства России в течение целого столетия, воздействия и посейчас не исчерпанного». Асафьев впервые бросил упрек не Бортнянскому, а исследователям его творчества! «Культурному музыканту, — восклицал он, — легко судить о симфониях Бетховена или об операх Вагнера и Римского-Корсакова: он владеет ими в своем сознании, он их усвоил, впитал. Но это — ценности. А в русской музыке до Глинки — ценностей, по давнему мнению, нет и не было... Я преклоняюсь перед гением Глинки... Глинка не исчерпан. Но тем более я считаю несправедливым отказывать в значении творческой работы его предшественников... В творчестве Глинки гораздо больше элементов от прошлого... русской культуры, чем обычно думают... Если же бросить взгляд назад, вглубь, окажется, что артистическая личность Глинки выделяется на фоне предшествующего хаоса, где личностей нет, а есть неясно различимые контуры какой-то муравьиной работы... Историк музыки должен быть очень осмотрителен: оставшиеся на поверхности потока временно окристаллизовавшиеся формы звучаний, впечатляющие ряд поколений, суть не что иное, как победоносные завоевания великих талантов и гениев». Вслед за Асафьевым начинают публиковать свои работы музыковеды, действительно озабоченные изучением русской музыкальной культуры XVIII века. Время от времени эта работа прерывалась на годы, в связи с известными процессами торможения в изучении русской культуры в 30-е и 40-е годы. Однако и тогда создавались первые законченные биографические публикации, в одной из которых — Б. Доброхотова — композитор был поставлен в один ряд со всеми последующими музыкантами России. Появляются работы Финдейзена и Рабиновича, Ливановой и Скребкова, Рудаковой и Келдыша, Иванова и Розанова, Рыцаревой. Казалось бы, вот имя композитора не просто «реабилитировано», но уже и как бы естественно звучит в музыковедческом обиходе. Правда, именно в музыковедческом. Музыка его почти не исполняется, наследие, которое тогда еще не было в большинстве своем найдено, не пропагандируется. Широкому слушателю и читателю имя уже неизвестно. Знают его только в лоне Русской Православной церкви. И снова Бортнянский — антиквариат, а не живой, существующий в нашем сознании композитор с его замечательной музыкой. Но вот вдруг посыпались на голову изумленных исследователей находки рукописей Дмитрия Степановича. Причем одна за другой. То в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, то в Лондоне, то в Парижской национальной библиотеке, в ее музыкальном департаменте. Найдены ноты «Алкида», ряда мотетов, написанных в Италии, наконец, замечательного концерта для чембало и оркестра, посвященного Марии Федоровне. Находки начинают атрибутировать, о них говорят, их исполняют. Заслуга в этом, притом весьма большая, украинских музыковедов и исполнителей, в частности, композитора М. Степаненко, не только разбиравшего поступавшие из-за рубежа рукописи, но и исполнявшего вновь найденные сочинения Бортнянского и записывавшего их на пластинки. Так начался и продолжает развиваться новый взлет внимания к наследию Дмитрия Степановича Бортнянского. Прошли первые премьеры его опер в Киеве и в Москве. В здании бывшей Придворной певческой капеллы, ныне Государственной капеллы имени М. Глинки, на фасаде которого в самой середине высечено в виде барельефа имя Бортнянского, проходят год за годом замечательные «Невские ассамблеи», где исполняются многие сочинения виртуоза русского музыкального XVIII века. Академическая хоровая капелла под управлением В. Чернушенко включает многие из них в свой репертуар. Немалый вклад в пропаганду творчества Бортнянского вносит работа В. Минина с его хоровым коллективом. А не так давно закончена новая серия компакт-дисков под общим названием «История русской музыки».Это 35 хоровых концертов Дмитрия Степановича, отредактированные еще П. И. Чайковским. Запись произведена Государственным камерным хором Министерства культуры РФ под управлением В. Полянского в соборах Смоленска и Полоцка. Оперы Бортнянского понемногу прокладывают себе дорогу в наших музыкальных театрах. И верится, что настанет время, когда современный слушатель сможет познакомиться со всем наследием композитора. Хотя и сейчас, даже при желании, не так-то просто попасть на концерт, составленный из произведений «Орфея реки Невы». Нет сомнения, что с течением времени многие сочинения Бортнянского войдут в постоянный репертуар консерватории, как это уже сделано в музыкальных школах, где для обучения используются его сонаты. К счастью, и в учебник по истории России для средней школы помещен ныне портрет композитора с подписью и датами жизни. Право, его жизнь и труды стоят того, чтобы о них знали наши учащиеся. Если бы еще к тому же добавить в портретный ряд русских композиторов, который обычно выпускается для музыкальных школ, и изображение лица Бортнянского, то от этого только выиграют и учителя и юные музыканты. Огромное значение для осознания важности наследия Бортнянского имело празднование 1000-летия крещения Руси. Впервые музыка его звучала повсеместно, по всей стране. Записи на пластинках познакомили слушателей с новыми вариантами исполнения его духовных произведений. У древних стен Киева и Новгорода, Владимира и Ярославля, в Троице-Сергиевой лавре и Свято-Даниловом монастыре в Москве в самые торжественные минуты воздух сотрясали громогласные и протяжные, мелодичные и сердечные напевы, созданные великим мастером хорового искусства. Не забудем и о том, что в 2001 году мы будем отмечать 250-летие со дня рождения гения. В наши дни многое напоминает о композиторе. Аллеи и статуи Павловска, улицы Петербурга, дом Бортнянского, сохранившийся до наших дней, множество гравюр и портретов современников. Нет, правда, главного. Того, о чем мечтали поколения композиторов, тех, кто внес свой неоспоримый вклад в развитие русской музыки и русского хорового искусства. Достаточно лишь перечислить их имена, чтобы понять, какое наследство еще порой скрыто от нашего внимания. М. Березовский и А. Ведель, С. Дегтярев и П. Турчанинов, С. Давыдов и Ф. Львов, Н. Бахметьев и А. Львов, М. Глинка и Г. Ломакин, С. Смоленский и Н. Потулов, П. Чесноков и Г. Львовский, С. Танеев и П. Чайковский, М. Римский-Корсаков и А. Архангельский, С. Рахманинов и А. Кастальский. Список можно еще долго продолжать... А мечтали об одном — увековечить историю русской музыкальной культуры с древнейших времен не только полным изданием всех произведений, но и созданием памятника всему певческому делу в России. Таковым памятником мог бы стать монумент в честь Дмитрия Степановича Бортнянского, связавшего своей жизнью и творчеством «век нынешний и век минувший», помогающего нам понять и проникнуть в неиссякаемые глубины народного духа. Недаром же, по словам современника, Он непорочну жизнь на то лишь посвятил, Чтоб увлекать сердца людей на умиленье... Словарь терминов и понятий Альт — низкий детский голос, а также название партии в хоре, которую исполняют низкие детские или женские голоса. Антифон (греч. — противозвучание) — поочередное пение двух хоров, солиста и хора. Аранжировка (фр. — приводить в порядок) — переложение музыки, произведения для какого-либо ансамбля или его облегчение. Баритон (греч. — низкозвучащий) — певческий мужской голос, который занимает промежуточное положение между тенором и басом. Гимн (греч.) — песнопение торжественного характера. Бывают духовные, военные, государственные и др. Первым в России общепринятым гимном стал полонез О. Козловского на слова Г. Державина «Гром победы раздавайся», который иногда называли по началу припева — «Славься сим, Екатерина». Однако официально был принят гимн Д. Бортнянского на слова М. Хераскова «Коль славен наш Господь». Его исполняли даже куранты на Спасской башне Московского Кремля. До 1917 года существовал еще один государственный гимн — «Боже, царя храни», сочиненный в 1833 году А. Львовым на слова В. Жуковского. Головщик — до XVII века певчий в русском церковном хоре, начинавший песнопения и исполнявший соло. Дискант (дышкант) (лат.) — высокий детский певческий голос, отличающийся чистотой, яркостью и звонкостью, а также соответствующая партия в хоре. Доместик (лат. — домашний) — руководитель хора или учитель пения в Византии и первоначально в России. Знаменный роспев — древнерусский вид духовного пения, просуществовавший многие столетия. Имеет особую систему записи нот, так называемую крюковую нотную грамоту. Канон (греч. — правило) — вариант полифонической музыки, где во всех голосах в точности повторяется одна мелодия. Кант (лат. — пение) — многоголосная бытовая, часто духовная песня, распространенная на Украине, в Белоруссии и в России в XVII—XVIII веках. Капелла (итал.) — хор, хоровой коллектив. Происходит из средних веков, когда на Западе «капеллой» называли придел в церкви, где размещался хор. Капельмейстер (нем. — руководитель хора) — в XVIII веке —руководитель капеллы или инструментального оркестра. Кондакарное пение — было распространено в Киевской Руси X—XIII веков. Сохранились книги с нотными записями кондакарного пения в виде точек, запятых и палочек, точная расшифровка которых в настоящее время невозможна. Концерт духовный (лат. — состязаюсь) — произведение для нескольких или одного исполнителя, где часть голосов как бы противостоит всему хору. Лад — одно из важнейших понятий в музыке, совпадающее с понятием «гармония», приятная для слуха согласованность между звуками, а также — звуковая система. На Руси длительное время господствовали так называемые натуральные, греческие лады, в которых отсутствовали минор и мажор. Пение по этим ладам создавало особое понимание музыки, близкое к народному. Литургия (греч. — общественный, всенародный, и дело, обязанность) — важнейшее богослужение православной церкви, во время которого совершается Святое Таинство Причащения. В Литургию входят псалмы, молитвы, гимны, отдельные песнопения. До XVII века исполнялась одноголосно. С XVII—XVIII веков — многоголосно. Месса (лат. — отпускаю) — то же, что и Литургия, но в католической церкви, а также многочастное произведение для хора а капелла. Монодия (греч. — песня одного певца) — сольное пение или одноголосная мелодия. Обедня — то же, что и Литургия. Обиход церковный — состав церковных песнопений на круглый год. Октоих — восьминедельный цикл православных песнопений, связанный с системой осьмогласия. Развит и дополнен выдающимся песнотворцем VIII века Иоанном Дамаскином. Осьмогласие (древнерусск. — восьмигласие) — система гласов для пения в православной церкви, чередующаяся каждые восемь дней и восемь недель, из которых состоит Октоих. Партия (лат. — часть) — отдельный голос в многоголосном хоровом сочинении. Псалмы (греч. — хвалебная песнь) — библейские гимны, составная часть православного богослужения. Регент (лат. — правящий) — руководитель хора в русской православной церкви. Реквием (лат. — покой) — разновидность мессы, траурная, заупокойная месса, в православной церкви подобное песнопение называется Панихидой. Сопрано (итал. — над, выше) — самый высокий женский голос. Стихира (греч. — ряд, строка, стих) — жанр православной поэзии и музыки. Тенор (лат. — непрерывный ход) — высокий мужской голос, а также партия в хоре. Унисон (лат. — один звук) — одновременное пение или звучание одинаковых голосов или звуков. «Херувимская» — наиболее любимое песнопение в православной церкви, часть Литургии. Хор (греч. — хоровод с пением) — коллектив певчих или музыкальное произведение для него. До XVIII века в России в церковных хорах женщины не пели. Певчими были мужчины и мальчики. Основные даты жизни и творчества Д.С. Бортнянского 1751 — Родился в городе Глухове. 1758 — Семилетним певчим отправлен в Санкт-Петербург в Придворную певческую капеллу. 1764 — Исполняет главную мужскую партию Адмета в опере Г. Раупаха «Альцеста». 1766—1768 — Работает при дворе под началом Бальдассаре Галуппи. 1768 — Отправлен пенсионером в Италию, в Венецию для обучения музыке у Б. Галуппи, одновременно участвует в средиземноморской кампании русского флота под началом графа А. Г. Орлова в качестве переводчика и дипломата. 1776 — В Венеции в театре «Сан-Бенедетто» поставлена опера «Креонт». 1778 — Там же прошла премьера оперы «Алкид». 1778 — На сцене герцогского театра в Модене поставлена опера «Квинт Фабий», в годы обучения в Италии пишет также ряд хоровых произведений на латинские и немецкие тексты. 1779 — Возвращение в Россию. 1780—1784 — Работа при российском дворе в качестве капельмейстера, руководство хорами в Сухопутном шляхетском корпусе, Смольном институте. Начало работы над созданием цикла духовных хоровых концертов. 1785 — Назначение капельмейстером при «малом» дворе Павла Петровича. 1786—1795 — Обучение музыке Марии Федоровны, детей Павла, создание цикла сонат для клавесина, Концерта для чембало с оркестром, Квинтета, Концертной симфонии — первого в России симфонического произведения. 1786 — Премьера оперы «Празднество сеньора» в Павловском театре, одновременно премьера оперы «Сокол» в театре в Гатчине. 1787 — Постановка в Павловске оперы «Сын-соперник». 1796 — Назначение на должность управляющего Придворной певческой капеллой — главным хором Российского государства. 1801 — Начало деятельности Бортнянского в Петербургском филармоническом обществе, знаменитые концерты хора капеллы, где впервые в России исполняются лучшие сочинения европейских и русских композиторов, Бортнянский становится директором Придворной певческой капеллы. 1804 — Избран почетным членом Академии художеств в Санкт-Петербурге. 1791—1814 — Пишет ряд кантат и ораторий на слова Г. Р. Державина: «Любителю художеств», «Страны российски, ободряйтесь», «Сретение Орфеем солнца», «На возвращение», «На приезд из чужих краев» и другие, а также на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого, П. А. Вяземского, А. Востокова и других, создает гимн «Коль славен наш Господь» на слова М. М. Хераскова и другие духовные гимны, заканчивает работу по созданию Духовных хоровых концертов и переложению церковных песнопений на современную нотацию. 1812 — Пишет песню для солиста, хора и оркестра «Певец во стане русских воинов» на слова В. А. Жуковского, а также «Песнь ратников» и «Марш всеобщего ополчения в России». 1816 — Назначается цензором всех издаваемых в России нот церковного пения, пишет общегосударственную Литургию, части служб. 1817—1824 — Концертная деятельность в капелле, издательская работа в области хорового искусства, подготовка к выпуску в свет собственных Духовных хоровых концертов, участие в работе по «Проекту об отпечатании российского крюкового пения», педагогическая деятельность в капелле. 1825, 27 сентября — кончина в Санкт-Петербурге, позднее — погребение на Смоленском кладбище. 1953 — перенесение праха Бортнянского со Смоленского кладбища в Пантеон деятелей российской культуры в Александро-Невской лавре. Произведения Дмитрия Бортнянского Песнопения для церкви Духовные хоровые концерты (55 концертов) для четырехголосного хора. Духовные концерты для двух четырехголосных хоров (12 концертов). Одночастные хоровые концерты для четырехголосного хора, для двух четырехголосных хоров, для трио с четырехголосным хором (около 30 концертов). Хоровые «хвалебные» песни (около 10 хоров). Переложения церковных песнопений для четырехголосного хора (около 20 переложений). Литургии: «Обедня на три голоса», «Простое пение по всей России распространенное», на два голоса. Сочинения на латинские и немецкие тексты, мотеты, хоры, отдельные песнопения, написанные в годы обучения в Италии. Оперные сочинения «Креонт», поставлена в Венеции в 1776 г. «Алкид», там же в 1778 г. «Квинт Фабий», поставлена в герцогском театре в Модене в 1778 г. «Празднество сеньора», поставлена в Павловске в 1786 г. «Сокол», поставлена в Гатчине в 1786 г. «Сын-соперник», поставлена в Павловске в 1787 г. Для клавесина и оркестра Цикл сонат для клавесина. Отдельные сочинения для клавикордов и чембало: Ларгетто, Каприччио, Рондо и др. Концерт до мажор для клавесина. Концерт для чембало с оркестром ре мажор. Квартет до мажор. Квинтет ля минор. Квинтет до мажор. «Гатчинский» марш. Концертная симфония. Вокальные сочинения Романсы и песни «Dans le verger de Cythere» («В саду Цитеры»). Гимны: «Коль славен наш Господь» на слова М. М. Хераскова, «Предвечный и необходимый» на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого, «Гимн Спасителю» на слова Д. И. Хвостова, «Озари, святая радость» на слова А. Востокова. Песни: «Певец во стане русских воинов» на слова В. А. Жуковского, «Песнь ратников», «Марш всеобщего ополчения в России». Кантаты и оратории: «Любителю художеств», «Страны российски, ободряйтесь», «Сретение Орфеем солнца», «На возвращение», «На приезд из чужих краев» на слова Г. Р. Державина, «Гряди, гряди, благословенный» на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого и П. А. Вяземского, «Песнословие», «Возведи окрест взор, Россия» и др. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
|||||||||