 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Нортон Андрэ :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Лесков Николай Семёнович :: Станюкович Константин Михайлович :: Грин Александр :: Горький Максим Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Часы без пружины :: Аквариумист :: Тюремные дневники :: Камероны :: Сказка про Evil Джека :: Артур и минипуты :: Советский Союз в локальных войнах и конфликтах :: Три-четыре |
Книга МануэляModernLib.Net / Современная проза / Кортасар Хулио / Книга Мануэля - Чтение (стр. 8)
по Парижу – это для меня тоже музыка, ночь не принесла утешения, мне словно бы хочется еще одной, дополнительной части квартета, которую Барток не сочинял, но которая где-то таится в той зоне времени, которую не измерить часами, оттуда мне слышится тревожащее меня требование порядка, некое неосознанное знание, из которого снова возникает аура, беспокойство сна в кинотеатре в ночь Фрица Ланга; когда идешь по улице как бы ощупью, без назначенной цели, в этом есть какая-то открытость, возможность того, что за любым углом и в любой миг ты можешь услышать первую фразу той музыки, которая сумеет тебя примирить со всем ускользающим или ненадежным, Людмила моя и чужая, Людмила, все более увлеченная пингвинами и агитаторами, – я испытываю легкую тошноту оттого, что ее теряю из-за скопления непримиримых обстоятельств, и заодно чувство неотвратимости, чувство, что мы подошли к рубежу и теперь что-то будет тихо обламываться так, чтобы каждый из нас остался на своей стороне трещины, огромного разлома времени, с напрасными жестами дружбы, слезами и платочками, оба голые под порывами черного ветра. Зато каждый вход в метро еще раз унесет меня в любимые районы или по фонетической, смутно магической ассоциации представит мне еще какую-нибудь неведомую станцию, где начнется новый кусок бесконечного парижского ковра, новая волшебная шкатулка, новые приключения. Впрочем, это мрачноватое умонастроение, которое издавна тянет меня погружаться в город, будто в музыку, в метания от Франсины к Людмиле (почему метания, почему их не объединить, к чему это тягостное раздвоение, от которого мне так хочется избавиться и которое порождено исключительно их собственными точками зрения?), приводит к любопытным открытиям, глухо созвучным состоянию моего духа, служащему мне компасом. Вчера, пройдя по убогой площади Клиши с ее безумной и хмурой толпой и углубившись в улицу Куленкур, я впервые увидел под аспидно-серым небом нос «Отель-Террасе», его шесть или семь этажей с окнами и балконами, выходящими на Монмартрское кладбище. На середине моста, подвешенного над склепами и могилами, как скорбный меч халтурного Страшного суда, я облокотился на перила и спросил себя, неужели это возможно, неужели это вероятно, неужели туристы и провинциалы, живущие в «Отель-Террасе», каждое утро как ни в чем не бывало поднимают жалюзи своих окон, выходящих на это окаменевшее море надгробий, и неужели после этого возможно заказывать себе завтрак с круассанами, выходить на улицу, начинать обживать новый день. Надо бы мне провести ночь в этом отеле, послушать во тьме гул Монмартра, медленно уступающий тишине, услышать последний автобус на резонирующем мосту, нависшем над смертью, на этом балконе, заливаемом иным, неподвижным и тайным, гулом, который жизнь отвергает своими словесами, своей любовью, своим упорным забвением. Я приведу сюда тебя, моя маленькая француженка Франсина, чтобы ты, книжница, картезианка (как и я), получила здесь первый настоящий урок патафизики вместо поверхностного литературного взгляда, который ты так часто смешиваешь (мы смешиваем) с тем, что струится под кожей дня. И однажды я также поведу тебя в галерею близ Пор-Рояля, где постепенно оседает пыль, как если бы время засыпало своим прахом витрины и переходы, пыль, пахнущая перчатками, и перьями, и сухими фиалками, и там покажу тебе – не торжественно, но мимоходом, как следует поступать в «жилых» местах, – витрину со старинными куклами. Запыленные, они стоят там невесть как давно, в своих чепчиках и бантах, в немыслимых париках, в черных или белых башмачках, наводя уныние глупостью улыбающихся лиц, которые теперь тоже прах, к которым прикасались крошечные пальчики и были обращены любовные сонеты, сохранившиеся, быть может, в каком-то альбоме мещанской гостиной. Лавочка эта маленькая, и в те два раза, что я подходил к витрине, я внутри никого не видел; в глубине там есть намек на лестницу, темные занавески и опять же пыль. Видимо, некая постыдная торговля производится в другие часы дня, приходят люди продать фамильных кукол, самых лучших, фаянсовых или фарфоровых, а другие приходят их покупать для своих коллекций и, прогуливаясь по этому мини-борделю типа голландских витрин, рассматривают ляжки, трогают грудки, заставляют кукол вращать голубыми глазками, обязательный ритуал, сопровождаемый возгласами и долгими паузами, комментариями продавщицы, которая мне представляется сухощавой старухой, – и, возможно, посещением чердака, где валяются отдельные головы и ноги, взаимозаменяемые одежки, чепчики и башмачки, тайника этакого Синей Бороды, куда забредают подобрать подарок перед визитом к тетушке, коллекционирующей кукол, дабы остановить время. И возможно.
* * * – Может быть, так, а может быть, совсем иначе, – сказала Франсина, проводя пальцем по стеклу и отворачиваясь, как бы с досадой. – Почему ты вечно погружен в сомнения? Ведь можно зайти, посмотреть. Ну да, ты предпочитаешь тайну, всякое определение тебя разочаровывает. – Так же, как тебя раздражает сомнение, – сказал я, – и все, что ты видишь, кажется тебе доказуемой теоремой. Я не хочу туда заходить, мне там нечего делать, мне ни к чему это знание, с которым ты, засунув ладошки под подушку, спишь так крепко и без снов там, где безумные девушки в белых чепчиках бросаются с балконов отеля, выходящего на кладбище. – Нет, ты никогда не поумнеешь, не научишься понимать меня. – Вот видишь – понимать тебя. А что же мы делаем, если не стараемся понять друг друга единственно возможным способом – кожей, глазами, словами, которые не просто сухие термины? Ах ты моя машинка айбиэм, светоориентирующаяся пчелка, да ведь никто тебя, рыжую-прерыжую, не понимает лучше, чем я. Чтобы тебя понять, мне не нужны твои рассуждения, незачем входить в эту лавку, чтобы знать, что это западня с кривыми зеркалами. – О да, иллюзии, – сказала Франсина, прижимаясь ко мне, – блаженство тех, кто предпочитает правде фантазию. Ты правильно поступаешь, Андрес. Очень правильно. Ее влажные губы, всегда ищущие и так не похожие на то, что они говорят. Мы оба принялись смеяться, пошли бродить по улицам, пока усталость и желание не привели нас в квартиру Франсины в Марэ, над ее магазином, где продаются книги и бумага; мне нравилось заходить в торговое помещение, где в этот час хозяйничала мадам Франк с видом идеальной ответственной совладелицы, глядящей на приход младшей партнерши с ее другом так, как если бы то были клиенты: мне нравилось листать новинки, покупать у мадам Франк пачку бумаги или книгу и платить за них на глазах у Франсины, которая так охотно подарила бы их мне. По внутренней лестнице мы поднимались в квартиру, аккуратную, четкую, как сама Франсина, надушенную лавандой, с затененным освещением, уютную, как мурлычущая кошка, кошачий уют исходил от гостиной и двух комнат, от голубого ковра, от библиотеки с коллекцией «Плеяд» и словарем Литтре, – ну, разумеется, Франсина и холодильник, Франсина и хрустальные стаканы, Франсина и шотландское виски, Франсина, трогательно приверженная интеллектуальной честности, которой так противоречило путаное и скользкое существование всяких там витрин и отелей с балконами, выходящими на кладбище, Франсина в своей точно пригнанной клетке, другая сторона моей жизни-Людмилы, конкретизация давней тоски по определенному рисунку дней и всего быта, но также почти мгновенное неприятие столь многих разумных, рациональных условностей, симметричное другому неприятию – Людмила посреди беспорядка в кухне, где на полу остались разбросанные куски лука, где транзистор изрыгает звуки «Радио Монте-Карло», где замусоленное посудное полотенце, подобно гнусной длани, обнимает единственную уцелевшую чашку из чайного сервиза, а сама Людмила бежит встречать какого-то пингвина. – Но ты же ее любишь, Андрес. Я для тебя – контрудар, я, побыв с тобой, возвращаю тебя ей. Это не упрек, ты знаешь, что я тебя люблю, тебя такого, какой ты есть в твоем мире, в другом кругу, где я ничего и никого не знаю, не знакома ни с одним из твоих друзей, не знаю, как вы общаетесь, ты и эти южноамериканцы, которых я встречаю лишь в романах да в кино. – Это не только моя вина, – хмуро сказал я, – в это племя включена Людмила, а вы обе порешили, что никогда, ни за что не сможете и не должны встречаться. – Я спрашиваю себя, как могли бы мы встречаться, на чем в окружающем мире могут быть основаны наши отношения. Ты уходишь и приходишь, как могла бы уходить и приходить я, будь у меня кто-то другой; однажды, довольно давно, я смутно подумала, что это возможно, но на том все и кончилось, на смутной мысли. Ты, Андрес, не любишь нас по-настоящему, вот единственное объяснение, уж ты извини, я знаю, что тебе претит копанье в любовной психологии и тому подобное, претит все, что для тебя, но сути, невыгодно, извини еще раз. – Мне претит не это, а все, что за этим скрывается, абсурдное сопротивление обветшавшего мира, который продолжает яростно отстаивать свои самые дряхлые формы. Любить, не любить – все это пустые формулы. Я был так счастлив с Людмилой, я был с ней совершенно счастлив, когда встретил тебя и понял, что ты – это другая извилина счастья, другой способ быть счастливым, не отказываясь от прежнего образа жизни; и я сразу тебе это сказал, и ты разрешила мне приходить сюда без всяких условий, ты согласилась. – Что ж, соглашаешься, – сказала Франсина, – времени впереди много, вот и говоришь себе, что. Может быть. Когда-нибудь. Потому что любовь. – Вывод, ясное дело, будет один: вы обе любите по-настоящему, тогда как я, и так далее. Пойми, у меня с Людмилой все поломалось вдрызг, ты это знаешь, потому что она не согласна, потому что мое желание быть честным ничего не дало, да, знаю, честным на мой лад, для меня это значит, что она и ты должны знать, что есть ты и она, вот и все, но так не пошло, никогда не пойдет, мы живем в такое время, когда все летит к черту, и, однако же, эти схемы прочно живут в людях вроде нас – ты, конечно, понимаешь, что я говорю о мелкобуржуазной и рабочей среде, о людях оседлых, и осемеенных, и женатых, и очагочтящих, и многодетных, ах, дерьмо, дерьмо. – И ты, – сказала, чуть ли не забавляясь, Франсина, – разыгрываешь У Тана между мной и Людмилой, примирителя, пчелу между двумя цветками, так, что ли; хотела бы я посмотреть, как бы ты пил кофе с нами обеими сразу или вел бы нас под руку в кино. Ах, ты выводишь меня из себя. – Хорошо бы, любовь моя, хорошо бы! – Нет, У Тан, я тебя люблю вот таким, рядом со мной, и когда-нибудь ты меня покинешь, или я тебя покину, уж не говоря о том, что Людмила, по твоим словам, устремилась куда-то к пингвинам, но это ты мне еще не объяснил. – Я слишком хорошо знаю, что тебе неприятно, когда я о ней говорю. – А Людмилу наверняка бесит, когда ты упоминаешь мое имя, это очевидно. Но остается еще пингвин, согласись, это нечто из ряда вон, тут можно бы сделать исключение. – Ты добрая, – сказал Андрес, – ты слишком добрая, малышка. – Теперь ты таки выведешь меня из себя. Довольно того, что все обстоит гадко и нелепо, ты знаешь, я терплю, я сама этого хотела, я дала тебе ключ от дома, и ладно, я приемлю нас обоих в этом виде, я приемлю себя на одном конце клубка, и Людмила, думаю, поступает так же, моя сестра по другую сторону, держащая другой конец веревки. – И последнюю фразу она произнесла с ироническим и почти жестоким смехом, – сказал я, целуя ее плечо, прижимая ее к себе так, чтобы сделать больно. – Да, конечно, да, твоя сестра по другую сторону думает то же самое, хотя стремится это выразить более наперченным языком, чем твой. И так мы движемся втроем, и так мы движемся втроем, пока клубок не попадет в когти космического кота или Маркосова пингвина, пора объяснить тебе его появление на сцене, сегодня ровно в тринадцать часов в аэропорту Орли. Вероятно, это политическая тайна, так что, пожалуйста, не рассказывай мадам Франк, ведь мы знаем, что она настоящая гидра реакции. – У Тан удаляется, – сказала Франсина, – и входит ухмыляющийся палач. Мы уже давно отработали ритуальные диалоги, идеально удобные начала, которые с Людмилой были горячечным бредом, завершавшимся борением на ковре и хохотом, а с Франсиной были обменом очень тонкими стрелами, которые вонзались все ближе к сонной артерии, к заветному месту соединения бедер. – Палач, – сказал я, – дарит тебе маленькую древнюю мудрость: para mas despacio atormentarme llevфme alguna vez роr entre flores, что в переводе с испанского означает: «И чтобы дольше меня помучить, однажды он повел меня в цветы». – В те давние времена этот поэт уже знал нас, – сказала Франсина ритуальным голосом. – О да: Франсина Захер Мазох и Андрес де Сад. Мы могли долго тянуть этот ритуальный диалог, грусть и желание не спеша обменивались легкими щелчками, туманными выпадами, заниматься любовью с Франсиной означало нечто большее, чем, поспорив, помириться, определить временную территорию для контакта, – Франсина тогда не только отбрасывала все, что поднимало ее против меня, но сама устремлялась из потока споров в зону немыслимых бурь и как бы звала меня срывающимся голосом, превращаясь в шквал ликующих кимвалов и ногтей. Она всегда первая протягивала руку к тому переключателю, который гасил часы враждебных лиц и колючих слов, чтобы мы раскрылись другому свету, в чьих лучах из нашего словаря, немногих, но насыщенных смыслом словечек, создавался особый язык-постель, шепот-подушка, где тюбик крема или прядь волос были ключами шифра, знаками; Франсина дает себя раздевать, стоя у кровати с закрытыми глазами, и ее рыжие волосы, мягко вьющиеся, лезут мне в лицо, и она вздрагивает при каждом движении моих пальцев среди пуговиц и молний, плавно садится на кровать, чтобы я снял ей чулки и спустил трусики, и все это не глядя, живет лишь осязание, даже когда я на миг отрываюсь от нее, чтобы раздеться в напряженной, как струна, тишине, объединяющей любовников, которые, полные ожидания, совершают подготовительные движения; и вот Франсина, упершись ступнями в ковер, мягко откидывается на спину, заранее постанывая жадными, отрывистыми всхлипами, – музыка кожи, отвечающей своим трепетом на губы, скользящие по ее бедрам, и руки, раздвигающие их для первого глубокого поцелуя, сдавленный возглас, когда мой язык касается клитора и начинается малое, легкое соитие, и я чувствую, как ее рука забирается в мою шевелюру, безжалостно дергая меня за волосы, призывая подняться и в то же время заставляя оставаться на месте до предела, тешить ее наслаждением, которое я пока не разделяю, я, коленопреклоненный на ковре раб, которого держат за волосы, принуждают посасывать что-то соленое и теплое, и тут мои пальцы углубляются к укрывшемуся меж двумя лепестками клитору, и указательный скользит назад, ища другое, твердое, упругое отверстие, и я знаю, что Франсина будет роптать: «Нет, нет», сопротивляясь двойной ласке, яростно сосредоточенная на наслаждении, накатывающем спереди, призывая меня теперь обеими руками, вцепившимися в мои волосы, и, когда я увлеку ее за собою в постель и повалю на спину в глубине кровати, она, приподнявшись и подмяв меня, хватает мой член рукою и втягивает в свой пересохший, шершавый рот, постепенно наполняющийся пеной и слюной; она сжимает губы так, что мне становится больно, и словно цепенеет в непрерывной одышке, из которой мне приходится ее вывести насильно, я не хочу, чтобы она сглотнула, я хочу познать ее глубже, в головокружительных недрах ее чрева, которое пожирает меня и тут же отдает обратно, наши уста сливаются, я обнимаю ее плечи, терзаю ее груди, до боли придавливая их, и она сама этого хочет и требует, самозабвенно изливаясь в приглушенном длящемся стоне, утробном зове, в котором звучит почти протест и вместе с тем желание подвергнуться насилию, каждый мускул ее, каждое движение охвачены одержимостью, рот приоткрыт, глаза заведены, подбородок упирается мне в шею, руки блуждают по моей спине, захватывая ягодицы, прижимая меня все больше и больше, пока она не начнет изгибаться в судорогах, либо же я первый, когда огненная влага обжигает мне бедра, погружаюсь в нее до предела, и мы соединяемся в общем стоне, освобождаясь от власти могучей неодолимой силы, которая еще раз истекла, излилась в слезах и всхлипах, в биении замедленного ошеломляющего мига, когда вселенная, бешено кружась, бросила нас в жарком поту на подушки, в сон, в благодарный шепот, замирающий вместе с ласками дрожащих рук. О, эта нежная, неуемно женская музыка тела Франсины, как ей сказать когда-нибудь, что только через любовь она обретает свободу, решается или заглядывается на самые причудливые выдумки желания, забывая о ножницах здравомыслия, которыми до и после будет подрезать формы настоящего, чтобы подогнать их к каким-то идеям и придать четкость, требуемую бдительным рассудком. Как ей сказать, что эта кровать, эта свойственная рыжим белая кожа, ее светлый пушок – вот портики, через которые она сможет по-настоящему войти в кукольную лавку, отпросив требования трезвого ума, что мало-помалу уже пробуждается – сигарета и оттененный подушкой профиль, удовлетворенная и, пожалуй, горькая улыбка, первый цепкий взгляд, пробежавший по всем четырем углам спальни, заглянувший в близящийся вечер, надо кому-то позвонить, предстоит душ, дезодорант, кинофильм ровно в девять, подведение дневного баланса с мадам Франк в безупречном бюро при магазине, где никто никогда не увидит валяющегося на полу лука или чашек, обернутых грязным полотенцем. Как иначе сказать ей, что я ее люблю, когда все остальное опять по другую сторону, когда я, оказывается, У Тан, ну ясно, когда Людмила. Проснуться, поглядеть на нее еще спящую – слабый свет ночника скользит по рыжим, мягко вьющимся волосам, очень белая рука лежит на груди; разбудить ее ласками, от которых она ежится и мурлычет невнятный, улыбчивый протест, еще смешанный с обрывками сна; и знать, что наступит наконец минута, когда ее глаза уставятся на меня будто издалека, а затем сосредоточатся внимательно и скорбно на моих глазах, пробегут по моему лицу, голове, будто сомневаясь, что я это я. И целовать ее, и знать, что будет жажда, будет виски со льдом, будет ужин, уход, возвращение в одиночество, долгая прогулка с остановками в ресторанах, у витрин с пыльными куклами, разговоры о пингвинах. * * * Что ни говори, Оскар провел изрядно напряженные полчаса, и, хотя ему, к счастью, пришлось произнести всего несколько слов, чтобы сообщить, что Аргентинское общество защиты животных и все прочее, тот момент, когда он очутился в машине, а таможенники остались в аэропорту, принес ему великое облегчение из числа тех, которые можно выразить только тем, что откроешь портфель и достанешь коробку с кордовскими миндальными пирожными, предназначенными для Маркоса, чьи права тотчас были попраны Людмилой и Гладис, которые ухитрились съесть большую часть, пока их жертва и Оскар обменивались первыми впечатлениями о скандале с Арамбуру и о стремительном восхождении генерала Левингстона. А что с этим недотепой Эредиа, поинтересовался Оскар, вдыхая воздух автострады с такой жадностью, словно он был свежайший, и чувствуя себя невероятно счастливым. Он сегодня вечером прилетает из Лондона, сказал Маркос. В Польше делают похожие пирожные, заметила Людмила, но молочные сласти, о нет, этого там нет. Хочешь, я научу тебя их готовить, предложила Гладис, тоже словно возродившаяся после получаса протокольных церемоний, надо только раздобыть тростниковый сахар, ведь свекольный сахар – это гадость, значит, ты полька? На заднем сиденье сыпались имена и быстрые, отрывистые замечания, Оскар отряхивался от новостей, как от мух, самое срочное было выяснено еще перед въездом в Париж. Нет, вначале, я думаю, муравьев на борту не было, но знаешь, все возможно. Здесь они орудуют вовсю, сказал Маркос, последнее письмо Эредиа, видимо, было перехвачено. Метров за двести машина с представителями зоопарка Венсенна начала правильный обгон полицейского пикапа, и Лонштейн снова занял свое место справа, безупречно соблюдая дорожный кодекс, меж тем как два представителя хватались друг за дружку, чтобы не свалиться от хохота на широкое зачехленное заднее сиденье, вспоминая примечательные моменты церемониала вручения и получения, что вызвало легкую тревогу у броненосцев, помещенных в багажнике, и сонное презрение пингвина, на которого экванил оказал невероятное действие. Высади нас в Порт-д'Орлеан, попросил Ролан, надеюсь, что с животными ты сумеешь управиться сам. Прекрасно управлюсь, господин директор, Маркос мне уже сказал, что чем меньше будут видеть вас двоих возле моего дома, тем лучше с муравьелогической точки зрения. Дело в том, сумеешь ли ты сам поднять контейнеры, сказал Люсьен Верней. Моя консьержка весит сто восемь кило, заметил Лонштейн, и это соматически, сиречь телесно, действует на лестницу, хотя как будто противоречит закону тяжести; когда этой толстухе вдруг взбредет в голову отнести мне наверх телеграмму, куда там ракете «Аполлон». В таком случае, сказал Ролан. Надеюсь, Маркос тебя предупредил, чтобы ты не выпускал животных из контейнеров, счел своим долгом прибавить Люсьен Верней. Ты, вероятно, хочешь мне внушить, что я не должен выбрасывать контейнеры на помойку, о ангел любви, сказал Лонштейн, спи спокойно, уж если Маркос мне что-нибудь объяснил, это все равно что рассказ о Троице для кафров. Прощайте, господа директоры, счастливого возвращения к дромадеру и гиппокентавру. Ах, чуть не забыл, че, гриб-то вырос на полтора сантиметра, ей-богу, вам стоит на него посмотреть; когда мы преодолеем этап с контейнерами и всей этой дерьмовой бучей, нет, я без намеков. Почему ты упорно стараешься повторить мне весь этот идиотский разговор? посетовал мой друг. Потому что он вовсе не идиотский, говорит Лонштейн, надо было, чтобы эти ребята, я хочу сказать, господа представители, знали, что я не меньше в курсе дела, чем они, хотя им это ни капельки не понравилось, потому как они технократы революции и считают, что веселье, грибы и моя консьержка не относятся к диалектике Истории. Итак, говорит мой друг, который отнюдь не технократ, но попросту торопится, ты поднял животных в свои апартаменты и возвратил машину. Да, говорит раввинчик, и гриб подрос еще на три миллиметра. Когда они поехали по бульвару Распай, стало очевидно, что Оскар просто засыпает. Давай чуточку вздремнем, сказал Маркос, поговорим вечером, когда приедет Эредиа, да поосторожней с телефоном. У меня куча новостей для тебя, сказал Оскар, борясь с десятым зевком. Но Маркос только поблагодарил его за пирожные под наглое хихиканье Гладис и Людмилы, приканчивающих коробку, и предоставил Гладис описать местонахождение отеля для вечерней встречи. Стоя на тротуаре возле отеля «Лютеция», Оскар с минуту ошалело смотрел на дорожное движение этого Севра-Вавилона, держа в одной руке чемодан и другой – Гладис. – Почему они так быстро умчались? Мы же могли вместе пообедать или так посидеть, у меня столько есть чего рассказать Маркосу. – Этот парень знает, что делает, – сказала Гладис, – когда ты посмотришь на себя в зеркало, ты поймешь, что не зря я тебе заказала номер люкс; что до меня, любовь моя, мне надо принять душ, хотя на сей раз в ванной у нас не будет пингвина. [67] 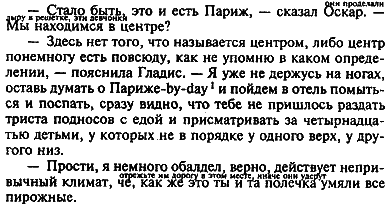 – Пирожные очень вкусные, только слишком сладкие, – заметила Людмила, сворачивая с бульвара Распай на улицу Деламбр. – Почему ты не остался с Оскаром? Мне показалось, вид у него был какой-то разочарованный. – На самом деле, скорее сонный, – сказал Маркос, – а в таком состоянии не больно-то поговоришь. Но, если хочешь знать правду, я должен попытаться уяснить кое-какие обстоятельства, и теперь, когда мы удачно провернули наше дельце, я могу спокойно подумать. Остановись здесь, приглашаю чего-нибудь выпить. Еще раньше, отправляясь в полдень в Орли, Маркос себя спрашивал, почему Людмила. Ему понравилось, что она предложила вести машину, что не пришлось действовать через Андреса, который, повернувшись спиной, нарочито занялся проигрывателем. Объяснить ему уловку с бирюзовым пингвином было бы делом недолгим, а на Людмилу накатил такой приступ хохота, что она, узнав, что едут Ролан и Люсьен Верней, была готова париться в автобусе № 94. Но потом, когда выехали на автостраду, Маркос почувствовал, что она начинает отчуждаться, думая о чем-то, изменившем ее манеру вести машину, – она вдруг стала какой-то резкой и словно бы встревоженной. Он искоса взглянул на нее, зажег сигарету и протянул ей. – Это как жизнь, – сказала Людмила, – глядишь, вроде шутка или фарс, а там где-то притаилось совсем другое. Тут два момента, не думай, что я не понимаю, два очень понятных момента. Первое то, что история с пингвином вовсе не шуточка, а второе, что ты меня посвятил в это дело. Ты посвятил в это дело меня. Теперь я, понимаешь ли, соединяю и то, и другое. И будет логично, если я тебя спрошу, почему ты со мной об этом заговорил, почему рассказал мне. – Просто так, – сказал Маркос. – В таких вещах причина не всегда ясна. – А Андресу ты об этом рассказал? – Нет, мы все больше говорили о женщинах. О пингвине я только упомянул, и, как ты сама видела, его это не слишком заинтересовало. – Зато теперь ты… Почему? Потому что я предложила подвезти тебя в Орли? Ты мне ничем не был обязан. Представь себе, что я… ох, хрен ядреный и ракушка кудрявая, пардье, не подберу слова. – Ты смешиваешь в равных дозах аргентинские и галльские ругательства, милая полечка. – А у меня то преимущество, что я не очень понимаю их смысл, – сказала Людмила. – Раньше Андрес заставлял меня повторять разные словечки, чтобы посмеяться вместе с Патрисио и Сусаной, а, по-моему, они звучат очень мило. – Да, звучат мило, – сказал Маркос, – только иногда их неправильно употребляют и тем все портят. Ну, конечно, я тебе доверяю, тут твое наитие тебя не обмануло. И тебе незачем воображать что-то сверхнеобычное. – Да, но… Ну ладно, я и впрямь пыталась немного помочь, эти сигареты с Сусаной и прочее, но то, что ты ни с того ни с сего вдруг выкладываешь мне все про пингвина и про двадцать тысяч фальшивых долларов, это уже нечто совсем другое. – Если ты тревожишься, что я тебе об этом деле рассказал, можем это попросту забыть. Без всяких условий, все остается по-прежнему. – Нет, нет, напротив. Напротив, Маркос. Это… Ох, черт, ты понимаешь. Маркос положил руку ей на плечо, потом убрал руку. – Все очень ясно, полечка. Не считай, что ты замешана в том, что мы делаем. Если я с тобой об этом заговорил, поверь, это потому, что, возможно, тебе когда-нибудь захочется быть с нами, но это должно прийти само, вроде желания лечь спать, или порезвиться, или сходить в кино, ну, как приступ кашля или невольное ругательство. И главное, тебе нечего беспокоиться. Если тебя это не интересует, больше об этом ни слова, и конец. Но не думай, что я забыл про Андреса. – Его мнение никак не может повлиять на мои поступки, – сказала Людмила. – Я работала с Сусаной, и это его ничуть не интересовало, он, правда, не возражал, просто то, что вы делаете, кажется ему ребячеством и его раздражает. Меня сперва тоже это лишь забавляло, но теперь я начинаю смотреть по-другому. Да, мне надо это обдумать, – сказала Людмила, ловко обходя бельгийскую машину, которая упорно желала переместиться через три ряда, к величайшему негодованию местных водителей. – Ты нездешняя, – сказал Маркос. – Никто не может требовать, чтобы ты встревала в ответственное дело, например, проявляла патриотизм. – А директора зоопарка в Венсенне тоже не патриоты? – спросила Людмила. – Конечно, нет, но, чтобы все так думали, достигнуть нелегко, и на это нельзя рассчитывать. – Выходит, интербригады? – Допустим. Они, я полагаю, были не хуже, чем многие другие. – Без пяти минут час, – сказала Людмила. – Пингвин, наверно, уже приземляется. Отчасти из-за всего этого, а также просто потому, что Людмила, они оказались в кафе на улице Одессы – укромный уголок, зеленые табуретки и тишина, располагавшая к белому вину, сигаретам и воспоминаниям. Теперь речь пошла о Кордове, о дружбе с Оскаром в буэнос-айресском пансионе, о старике Коллинсе – весь этот сложный, запутанный клубок, который Маркос разматывал для Людмилы, отвечая на ее вопросы или на ее молчание, не удивляясь тому, что Людмиле хотелось знать, есть ли у них пирожные другого сорта, учился ли с ними в университете Лонштейн, и тому, что в какую-то минуту, когда он объяснял ей резоны неизбежности Бучи, Людмила, подперев подбородок кулаками, уставилась на него, как цыганка, поднявшая взор над стеклянным шаром, прежде чем объявить зловещее пророчество. – Я в этом мало что понимаю, – сказала Людмила, – и, по правде, в данный момент это неважно. Я только хотела бы, чтобы ты мне сказал одну вещь. – Догадываюсь, – сказал Маркос. – Что через час ты вернешься домой и что тогда. – Да. Потому что я не люблю врать, если можно этого не делать, и теперь мне этого особенно не хотелось бы. Андрес мне никогда не врет, хотя преимущества этой его системы весьма сомнительны. Итак, есть пингвин, старик Коллинс, все прочее. Но также есть пучеро, которым мы вместе будем ужинать, и между одним глотком и другим о чем-то надо же говорить. – По-моему, можешь ему все рассказать, полечка. Андрес не с нами, я все ждал, что он сам сделает первый шаг, но ты же видишь. Возможно, мне надо было с ним поговорить, как с тобой, по праву старой дружбы, возможно, он бы хорошо отреагировал, как знать. С ним тоже надо действовать по наитию, но если я этого не сделал, значит, не сделал, и баста. Если хочешь, можешь, разумеется, обо всем ему сказать. Я знаю, он не ответит ни да ни нет. – Очень хорошо, – сказала Людмила. – Что до меня, то я, бог весть почему, чувствую себя очень счастливой. Не смотри на меня с таким видом. Я всегда что-нибудь такое ляпну. – Я смотрю на тебя не поэтому, – сказал Маркос. – Смотрю просто так, полечка. * * * Да, но кто ты, кого я держу в объятиях, кто уступает и отказывает, жалуется и требует, кто в этот миг упрямствует? И получается так, что она согласна на все (но кто ты, кого я держу в объятиях?), и лишь когда я хочу постепенно спустить ее трусики, она сжимает бедра и сопротивляется, она хочет это сделать сама, ей надо, чтобы именно ее пальцы ухватились за резинку и медленно сдвигали бледно-розовые трусики до середины бедер, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
|||||||