 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Нортон Андрэ :: Грин Александр :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович :: Станюкович Константин Михайлович :: Сименон Жорж Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Конец материи :: Тюремные дневники :: Часы без пружины :: Камероны :: Аквариумист :: Артур и минипуты :: Опасная любовь :: Советский Союз в локальных войнах и конфликтах |
Черный замок ОльшанскийModernLib.Net / Исторические детективы / Короткевич Владимир Семенович / Черный замок Ольшанский - Чтение (стр. 19)
Они не хотели рисковать. Несколько дней — это слишком много. Вот катастрофа, пара часов и удушье — это был верняк. Холодная ярость охватила меня. Погибать из-за какой-то сволоты? Ну, н-не-ет! А калейдоскоп работал и работал, и стеклышки с тихим щелканьем занимали свои места. Все. Во всяком случае многие. Вплоть до слов про «страшные яйца», которые говорили над пьяным Вечеркой те, неизвестные. Мои, и Сташки, и всех нас враги. Стоило лишь взглянуть на яйцеобразную форму подземелья. А одно ли оно здесь такое? Так, калейдоскоп складывался в рисунок. Но кто, кто из живых узнает, что он сложился в моей голове во что-то логическое? Никто. Я взял свечу и пошел к отдушине. Язычок огня все больше оттягивало в ту сторону. Значит, откуда-то поступал воздух. Может, плиты не так уж плотно завалили люк. Отставив руку со свечой, я начал ощупывать кладку. Да, в ней действительно была отдушина с ржавой крестообразной решеткой. Куда она вела? А черт его знает! Может быть, в другой такой же подвал. «Допустим, ты пробил головою стену. И что же? Ты оказался в соседней камере…» — Возьми, Сташка, свечу, — сказал я. — Держи в стороне от тяги. Освободив правую руку, я подпрыгнул, ухватился за решетку и начал раскачивать ее (или, может, качаться на ней?). Все это было пустым делом. Даже выломай я проржавевшее железо, кто бы пролез в дырку размером двадцать на двадцать пять сантиметров? Но я был неспособен рассуждать логично ни о чем, кроме моего «калейдоскопа». И я качался и качался, то подтягиваясь к решетке на руках, то отстраняясь, с силой распрямляя согнутые ноги, которыми упирался в стену. Показалось, что ли, но в какой-то момент мне сдалось, что решетка и нижний камень кладки в самом деле слегка «ходят», как шаткий зуб. Я спрыгнул немного отдохнуть и увидел, что от вертикальной перекладины решетки вьется, бежит среди камней узкая трещинка. И тут я понял, что поступил правильно, начав эти «экзамены на обезьяну». Так она и вмуровывалась в свое время, решетка, в каменную кладку: минимум два камня были двойные или с большими выемками. Два конца «креста» входили в выемки, а два других просто всовывались в проемы, а потом эти проемы заполнялись крепкой цемянкой. Цемянка не выдержала. Я снова повис на решетке. Длилось это целое столетие. Во всяком случае первая свеча уже догорела, и Сташка зажгла вторую. Первый камень выпал снизу… Второй, зараза, держался, словно у него были корни. Тысячи корней. Но наконец хлопнулся мне под ноги и он. Камень на камень. — Становитесь, Сташка. Я вас подниму и, простите, протолкну, ногами вперед. В первый и последний раз я держал ее на руках. В стороне горела воткнутая в мусор предпоследняя наша свеча. Чувствовал сквозь легкое платье теплоту и округлость ее ног. Потом, когда они исчезли в бреши, твердую округлость груди. А у глаз моих, в полумраке были ее глаза, и прядка ее волос легко щекотала мне висок. — Стали? — Кажется, утвердилась, — шепотом ответила она из-за стены. Я пошел за огнем, потом двинулся к пролому. И вдруг услыхал приглушенный крик. Оглянулся. Завал вверху за моей спиной угрожающе прогибался. И тогда я бросился бегом, сунул свечу в ее руку. — Отступите. Должно быть, так прыгают сквозь огненный круг львы в цирке. Во всяком случае пролом я почти пролетел, приземлился на четвереньки, и целое море пламени охватило мою голову, рассыпавшись потом огненно-зелеными искрами. — Живы? — Жив. Руку, кажется, слегка подвернул. Мы, как сговорившись, глянули назад в пролом и ужаснулись. Нижняя плита держалась одной стороной. Едва держалась. Достаточно было кинуть в нее камнем, — да что там, — даже просто, казалось, кашлянуть или крикнуть, и все это обрушилось бы вниз, мозжа и давя все живое. Путь к лестнице был отрезан. И даже если бы мы специально вызвали эту лавину — неизвестно, не засыпала бы она тот пролом, через который мы попали сюда. А куда попали? Мы обошли вокруг точно такое же подземелье, такое же «страшное яйцо», только глухое и с сильно разрушенной лестницей. И никакого выхода. И здесь была отдушина, только вдвое меньше и без решетки. И, значит, расширить ее было нельзя никак. И еще — слабая надежда — окошко вверху размером с ладонь. Это окошко не было темным. Это было слабое пятно света, дневного света, который падал откуда-то сверху и освещал даже какую-то достойную жалости былинку, росшую, по-видимому, на дне какого-то колодца или просто ямы, куда и выходила отдушина. Обессилевшие, мы сели прямо на плиты и, честно говоря, пали духом настолько, что опустили головы. Это было уже действительно все. В самом деле, слабым утешением было то, что они, если они были, не знали о существовании соседних камер, и потому мы не задохнулись и не были уже мертвы, похоронены под обвалом. Наша удача означала только более медленную смерть. И если мои кошмары несли в себе хоть зерно правды — ну что ж, у того, что было похоронено здесь разными людьми, теперь будет четыре стража. — Ничего, ничего, Сташка, — сказал я. — Ну, перестань, перестань. Все еще не так уж плохо. Мы придумаем что-нибудь, чтобы выбраться. Наконец, мы сожжем на последней свече что-либо из одежды. Неужто не найдут, хотя бы по струйке дыма? Да найдут. Конечно, найдут. — Не утешайте меня, — тихо сказала она. — Здесь сотни дымов из печных труб… Кто обращает на них внимание? Нет, надо смотреть правде в глаза. Это — конец. Плечи ее задрожали. Мне показалось, что она плачет, что вообще вся ее маленькая фигура есть живое воплощение отчаяния. — Не плачь, — сказал я и погладил ее по голове. По этим чудесным волосам цвета красного дерева с золотом, которые никто в мире — а я первый — не решился бы назвать рыжими. Да они и не были такими. — Я не плачу, — неожиданно твердым и даже сухим, возможно, от безнадежности, голосом сказала она. — Мне обидно другое. — Что? — Теперь уже можно сказать. Потому что все равно ничего не изменится. — Что такое? — одними губами спросил я. — Мне обидно, что ты не заметил… Не заметил, что я едва не с самого начала люблю тебя… — Перестань, — сказал я. — Это я, это я не хотел, чтобы ты заметила. Я прожил больше тебя, так много, так бесстыдно много, что не имею права… — Ты на все имел право… Я очень, очень люблю тебя. И мне все равно, что ты этого прежде не знал — теперь знаешь. И мне все равно, что мы здесь и не выйдем отсюда. Потому что это мы здесь. Ты и я. И других у нас, даже если бы случилось непоправимое и я перестала бы любить тебя так, как любила, уже не будет. Не думай. Я счастлива этим. — И я счастлив, что помогло горе, что я услышал это. Потому что я никогда бы не решился сказать тебе… Хотя я желал бы, чтобы ты жила долго-долго, пока существует этот проклятый, этот благословенный мир. Больше всего на свете хотел бы, чтобы ты жила. Я очень, очень люблю тебя. И мне легко сейчас признаться в этом. Она придвинулась и положила голову мне на колени. — Я очень… я все отдала бы за тебя. Правда. Правда, потому что судьба поставила нас перед невозможностью лгать. Ни словом. — Я и так никогда не лгал бы тебе. Этим тяжелым волосам, морским глазам, этим ресницам невозможно было бы лгать. Спасибо тебе за все. Будь благословенна. И так мы сидели в плену неразрывных, слитых в единое целое последних объятий, ожидая последнего исхода. А иного нам не было дано. Прошли минуты, может, часы, а может, и столетия. Мы боялись пошевелиться. Мы жили переполненной, высшей жизнью. Потому что просто уже не жили. * * * …Я вскинул голову. Мне послышался крик. Детский? Или крик взрослого, приглушенный каменной толщей? Крик этот как будто блуждал: звучал то ближе, то дальше, то совсем исчезал, то бился в каких-то запутанных лабиринтах. Бубнил, как из-под земли, и вдруг долетел так ясно, словно был в нескольких метрах, под открытым небом. — Сташка, слышишь? Наверное, она не слышала. То ли спала, то ли просто находилась в прострации. — Дяденька! — Словно комариный писк, звучал откуда-то голос. И тут же как бы взрывался в паутине катакомб: — Я сейчас! И снова как сквозь вату: — Сейчас… Что это было? Галлюцинации? Так быстро? А наконец, чего и ожидать от этого куска земли, испокон веков отравленного ненавистью, вероломством, подлостью, смертельным ужасом и самой смертью? Последняя свеча уже наполовину сгорела. Поблекло пятнышко света в отверстии. Ничего. Теперь уже скоро. Серый, черный камень вокруг, камень измены и убийства выпьет наши жизни. Мне показалось, что мы здесь не одни, что чей-то взгляд остановился на нас. Я приподнял голову, стараясь не пошевелиться, не потревожить девичьей головы на моих коленях… …Из зарешеченного окошка на меня смотрело человеческое лицо. Смотрело пристальным и, может, мне это показалось, недобрым взглядом. Блестели глаза, большие-большие в темных провалах глазниц. Цвет кожи от свечи, горевшей там, за стеной, был пергаментно-желтый, мертвый. А на тонких, всегда таких приятно-насмешливых губах была холодная, злорадно-издевательская, безразлично-изучающая улыбка. Ксендз Леонард. Смотрел зловеще, как ворон потопа[169], когда этот потоп начал спадать, открывая глазам Ноя и его, ворона, трупы допотопных людей и зверей. Окликнуть его? Я не решился. Тяжелее всего была бы эта последняя ошибка: увидеть, как улыбнется и уйдет, а с ним исчезнет последнее пятно света, последняя надежда. А оно и в самом деле улыбнулось и исчезло, это лицо. Угас свет. Неожиданно очнулась Сташка. — Здесь кто-то был? — спросила она диким, словно после беспамятного сна, голосом. — Был здесь кто-нибудь или нет? — Нет, — сказал я безжизненно. — Никого здесь не было. Сиди тихо. Вздремни еще. Сыростью тянет от камней… Нет, я не ожидал такого. Мой калейдоскоп рассыпался. В него попало лишнее стеклышко… Не мешало бы поинтересоваться, откуда оно появилось и каким образом испортило рисунок? — Ты что? Заговариваешься? Темное, непонятное говоришь. — В ее голосе теперь слышалось нервное возбуждение и напряженность. — Тихо. Тихо ты. И тут я услышал вначале легкое царапанье, как будто мыши где-то скреблись, затем скрежет. Потом этот скрежет усилился, переходя в пронзительный визг. В неописуемом удивлении — потому что до сего времени я слышал о подобном только в сказках, а видел лишь в кино — я не спускал глаз с вертикальной линии в стене. Она становилась все шире под этот визг, и я таращил глаза на то, как эта линия стала щелью, которая ширилась и ширилась, а затем превратилась в темную, широкую расщелину, в которую мог пройти человек. Отъезжал узкий прямоугольный кусок стены. Глазам открывались полукруглые желоба. Видимо, такой желоб был и в стене, и она отходила, откатывалась на каменных шарах (похожий механизм я видел когда-то в тайном ходе одного из старинных замков крестоносцев. Как любят теперь говорить, — взаимообогащение. Не по этому ли принципу действуют наши подшипники). А вообще, не горожу ли я вздор? Так все путается в голове после этих нескольких часов в подземелье. Я осторожно взял Стасю под мышки и поднялся. К нашим ногам уже катились из темноты щели две маленькие фигурки, Стасика Мультана и Василько Шубайло. — Дядя Антось! Вы тут?! Тетя Стася! И вы? У меня сжало горло, в нем стоял твердый ком. Возможно, я закричал бы. Но сдержался. Потому что за мальчишками из мрака выступала фигура ксендза. Черная тень и два пергаментных пятна: рука со свечой, вся облепленная маленькими сталактитами воска, и лицо, на котором застыла все та же вопросительно-безразличная усмешка, которая словно издевалась и испытывала. — Вы живы? — шевельнулись губы. Во мне как бы еще сильнее укрепилось подозрение. — Благодарение пану богу, — сказал он. — Идемте. …Мы вышли «коридором» в небольшую камеру. Ксендз толкнул стену, и она с прежним рокотом и визгом покатилась на свое место. Мы повернули за угол и очутились в длинном и низком коридоре-катакомбе. — Здесь недалеко, — сказал Жихович, — и слава богу, что здесь есть ход. — Слава богу, что они не знали о нем и о втором подземелье. — О том, в котором вы были? О нем не знал и я, — сказал ксендз. И добавил, помолчав: — Спасибо вот им. Они столько кричали о подземельях, когда вы исчезли, что я пошел с ними, лишь бы отвязаться. Остальные ушли на поиски какого-то неизвестного «городища» и «курганного могильника» с час назад… Нехорошо, идя на встречу с возможной опасностью, направлять людей на ложный след. Из небольшой лжи иногда рождается непоправимое. Как из лжеучения — смерть духа, а из нарочитой фальши — смерть. Он мог бы и сам являть пример воплощения фальши, если бы не горький сарказм в тоне его слов. — Достаточно уже смертей на этом несчастном уголке земли. Просто какой-то Бермудский треугольник: Кладно — Ольшаны — Темный Бор. Гибнут надежды, без следа исчезают люди, их мечты и надежды. — А кто в этом виновен? — Я все еще не мог избавиться от подозрительности. — Не знаю. Наверное, предки и потомки, недавние и сегодняшние. И я виновен. В том, что живу, когда все друзья… и подруги давно погибли. Он шел по коридору, как живое привидение. Воистину так. — Было бы ужасно, если бы погибли еще и вы. На пороге какого-то открытия, — он многозначительно покосился на меня, — или на пороге поражения, которое только и определяет, мужественный человек или нет. Мне стало немного стыдно. Ведь если принимать во внимание его прошлое, то он был выше подозрений. — Послушайте, — сказал я, возможно слишком резко, не в силах забыть ту усмешку в отверстии, — возможен ли стопроцентный христианин первых лет христианства? В наши дни, с нашим прошлым? Не лги даже в мелочах, не прелюбодействуй даже оком? Нет, вы, кажется, такой или хотите быть таким. Объясните мне, как это? — Да ну вас. — А я не верю. Не верю, потому что у большинства людей двойное дно. — Не слушайте его, — тихо промолвила Сташка, — просто у него был стресс, и он никак не может очухаться. — Двойное дно. Возможно, и тех замуровали, как в моем сне. Моему калейдоскопу недостает лишь одного стеклышка. — Какого? — Что означали те слова из кошмара: «два стража неотпетые и один некрещеный»? Кто они были, эти трое? — Послушайте, — сказал ксендз, — у вас в самом деле нервная неуравновешенность. Мы вышли на свет. Зеленела трава. Низкое уже солнце бросало апельсиновые отсветы на листву. Из-за ворот, с пыльной деревенской улицы, долетал спокойный и мирный хорал вечернего стада: мычание коров, жалостно-гнусоватое блеяние овец. Я взял Сташку за руку, и тут меня затрясло. Так, что я боялся произнести даже слово, чтобы оно не прорвалось рыданиями облегчения. Не за себя, можете мне поверить. — Ты не сожалеешь о сегодняшнем дне? — шепотом спросила она. — Нет. Кто-то сказал: «Я не знал, как выглядит мой родной дом, пока не вышел за его стены. Я не знал, что такое счастье, пока не прошел безднами беды…» Я не сожалею о сегодняшнем дне. И, однако, мне довелось под конец пожалеть о нем. Возле дома навстречу мне бросился Мультан. — Слава богу, живы. Слава богу, хоть вы живы. Потому что троих в один день… У меня сжалось сердце. — Кто? — Вечерка сегодня вытаскивал шнур возле Дубовой Чепы[170] (черт его знает, чего он всегда его среди этих пней ставит) и вытащил… — Лопотуха? — Он. Милиция увезла уже. Наверное, упал в темноте с крутого обрыва. Виском о пень или о мореный дуб — вон сколько их там торчит у берега. И готов! Я вспомнил достойного жалости, безобидного человека-страдальца, его беззащитное «мальчик, не надо» и как он пытался напугать меня, чтобы не шлялся у замка, не посягал на «его дом». Вспомнил свои подозрения и представил последнее стеклышко из калейдоскопа: тело утопленника. И тут я понял, что я — осел. ГЛАВА VII. О жизненной необходимости основательного изучения старославянской грамматики и алфавита, о без пяти минут докторах наук, которые тоже бывают ослами, и одной помощи, пришедшей непоправимо поздно Мы сидели с Хилинским на берегу заводи, там, где впадала в нее Ольшанка. Очень широкая в этом месте заводь исходила паром, над ней стояли маленькие и редкие столбы тумана, чуть подсвеченные новорожденным солнцем. Рыбачили. Вернее, удил один он, изредка подсекая то плотвичку, то небольшого голавля. Уже десятка два рыбок плавали в его ведерке, временами начиная беспричинно, как по команде, громко всплескивать. — Все ясно, — сказал он, выслушав меня. — Ясно, что Лопотуха должен был погибнуть после врачебного заключения Лыгановского. Кто-то испугался, что к нему вернется психическое равновесие. — Из тех, кто присутствовал тогда? — Почему? Каждый из них мог рассказать об этом кому-либо из родных или знакомых. — Лыгановский таки уехал. — Да. Он сказал: «Если каждое мое слово в этом чудесном и высокоморальном крае будет приводить к таким результатам, то мне лучше исчезнуть. И пусть они здесь живут согласно своим обычаям и нравам. Мне до них теперь, что Кутузову до Англии». — А что было Кутузову до Англии? — Ну, когда мы слишком уж носились да цацкались с новой союзницей, так он сказал «пфуй» и императору и такой политике, добавил что-то в смысле: «А по мне так хоть сейчас же провались этот остров — я бы и не охнул». — Д-да-а, а гуманностью тут фельдмаршал не отличился. — И все же я никого из присутствовавших тогда не могу заподозрить, не вижу также, кого связывало бы прошлое с этим несчастным. — Мы еще очень мало знаем. И потому не можем предвидеть и предотвратить поступки этого или этих. И ты прав: могли кому-то и рассказать. — «Предотвратить». А тут из-за нашего незнания гибнут и гибнут люди. Вы не погибли вчера только чудом. — Думаешь, искусственный, подстроенный обвал? — А то как же. Обвалился кусок стены там, где ломали. И тут же к сотрясению добавилась сила, приложенная к плитам. Подсек. На этот раз вытащил окунька. — Брось, — неожиданно попросил он. — Не твое это дело. Это начинает становиться очень опасным. В следующий раз все может закончиться не так удачно. А тут еще твое нервное состояние. Всякий может сказать, что делом занимался псих. Не будет доверия. — И пускай не будет. — Во мне вдруг проснулся юмор висельника, чего я от себя никак не ожидал. — Здесь столько умных, что обязательно нужен хотя бы один ненормальный. Если не Лопотуха, то пускай уж буду я. — Ну-ну. Сумасшедшие иногда должны высказывать парадоксы и еретические суждения. Даже замахиваться на авторитеты. Особенно если прежде грешили передовыми взглядами. — Ну, конечно. Сверхъестественное презрение к ругани и восхвалениям… И куда же это я попал? И куда могут завести человека передовые взгляды? А ведь многие считают свои взгляды передовыми. А у кого совесть атрофирована — те все себя передовыми считают. Изобретают газы, атом, дыбу, шовинизм, исторические поступки, эшафоты. И учат этой морали, если знают, что на нее махнули рукой… Открывают, открывают то, до чего никому нет дела. А вот обыкновенное средство от зубной боли или от радикулита, когда у человека зад болит… Человечество от этого воем воет, а им изобрести слабо. Они копаются в глаголицах… — Ну, ты даешь. Просто пуританский… — И вдруг уставился на меня. — Ты что, морского змея увидел? Он, видимо, даже испугался, увидев, что я застыл, уставившись в одну точку, словно одеревенел. Моя удочка успешно сплыла бы на середину заводи, если бы он не перехватил ее. — Ну вот. Ну вот и у тебя что-то попалось. Ты гляди, как повел осторожно… А, черт! Да что, наконец, с тобой? Но тут я начал трястись от смеха. Поначалу тихого, а потом совсем уже нестерпимо безудержного. — Да что с тобой, хлопче? Ты в самом деле свихнулся, что ли? — Идиот! Идиот! — Согласен, но почему? — Я сказал… ой… про глаголицу… — Не ты первый. — И только тут мне стукнуло в голову… Мы искали под третьей башней. — Правильно.  — третья буква, что в кириллице, что в глаголице. — Да. И в глаголическом… ах-ха-ха! 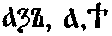 первая буква и имеет под титлом значение один.  — имеет значение два, а 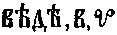 — имеет значение три… Ой, держите меня! И нас чуть не засыпало и не убило под третьей башней. — Та-ак. Не вижу ничего смешного. Своеобразный юмор. — Дело в том, что  — действительно один, два и три. Так в глаголице. Но в кириллице 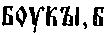 — не имеет числового значения. И никогда не имела, как  , как дервь  , как Ш, Щ, Ю и другие. Не имела. — Как-как? — А вот так. И значит  стоп вниз, это означает 6, а не 8 стоп вниз. Б и Ж не имели в древней Белоруссии числового значения.  — первая башня,  никакая, понимаешь, никакая.  — это вторая башня от угловой. Значит, ошиблись не только мы, но те, кто хотел нас засыпать… Они ничего не знали, они только следили за нами. А все, что мы… Я изнемог от смеха, совершенно обессилел: — Господи! Олух! Олух! Осел ременные уши. — Ничего, осел на четырех ногах и то спотыкается. — Ну, хватит. Я больше не позволю этому ослу спотыкаться. Мулом мне стать, если это будет не так. С этого момента я твердо решил, что никто, ничто и никогда в ослы меня не запишет. История когда-нибудь докажет, так это или не так. Пока мы дошли до места, где нам нужно было расходиться, я поведал Хилинскому все свои соображения по этому делу. Пускай передает дальше кому хочет. Я больше не желал рисковать. Мало ли что могло случиться со мной в этом идиотском уголке? Он слушал внимательно, а потом, ничего не комментируя, произнес каким-то безразличным голосом: — Похоже на то. — И после паузы добавил: — И еще тебе пища для размышлений: «БТ» никогда, с самого основания ларька, киоскеру не отпускали. Что мне было до «БТ» и до этого бедняги Пахольчика? Меня удивило другое. — Так, значит, поиски идут? Их не оставили? — А-а, — отмахнулся он, — я ничего не знаю. Щука как-то обмолвился. …Через день наше тихое пристанище превратилось в столпотворение вавилонское. Сновали между Ольшанами и Ольшанкой разные машины и разные люди. Приезжали даже из Кладненского и столичного музеев. Меня это не касалось. Я сделал свое и, на этот раз, надеялся, что без ошибки. Я просто делал то же, что и прежде. Вместе с хлопцами, вместе с археологами (где прибыль, там помощников гибель) выносил мусор и щебень. На этот раз из второй башни. И все эти дни я, словно предчувствуя недоброе, пребывал в самом дрянном настроении. Приходили и уходили местные жители. Иногда на холме люди собирались даже в маленькие группки, где оживленные, а где и мрачные. — Ну что, наклевывается что-нибудь? — спросил Ничипор Ольшанский. Он стоял поодаль вместе с Вечеркой, Высоцким и Гончаренком. И хотя, отгребя новую порцию разной трухи, на глубине шести стоп от «материка» мы действительно только что нашли изображенный на камне контур корабля, я ответил уклончиво: — А черт его знает. Тут такая головоломка, что нельзя быть уверенному ни в чем… Возможно… что-то найдется, а скорее всего — нет. Я не хотел рассыпать почти завершенного узора в калейдоскопе. До вечера мы расчистили почти всю площадку. Я уже приблизительно видел, где пол сделай из меньших плит. Там можно было предположить существование замурованного лаза. Поэтому я специально не позволил ребятам делать раскопку до конца. — На сегодня достаточно. Завтра с утра займемся снова. Они ворчали: азарт есть азарт. — Ничего, ничего. Оставьте немного приятного ожидания и на завтра. — Приятного, — с порядочной долей издевки сказала Сташка. — Ничего там приятного не будет. Я помрачнел: — Если я даже прав, то один день ничего уже не даст и ничего не изменит. Даже если догадки правильные. Потому что люди — мы в этом случае — опоздали с помощью. На добрых три с половиной столетия. ГЛАВА VIII. Два призрака в лощине нечисти и дама с черным монахом, или паршивый белорусский реализм …Мы умылись в реке, и я пошел проводить Сташку и ее команду до лагеря. Там уже весело плясало пламя костра и шипел котел с супом, судя по запаху, куриным, а возле него колдовала худенькая Валя Волот. Все расселись вокруг костра. — Что это вы так поздно? — спросила Валя. — Свинья полудня не знает, — ответил Седун. — Да и не только мы виноваты. Петух ведь еще не сварился. Я чувствовал, что Генка снова что-то готовит. — А все она, — сказал Генка, кивая в сторону девушки. — Не надо было ей смотреть, как петуха резали. У нее глаз живит. И вздохнул с фальшивой печалью: — Так долго мучился петух. И тут Валя удивила меня. Видимо, Генкины глупости даже у нее в горле сидели. — Э-эх, — воскликнула она, — не человек, а засуха. Да еще такая засуха, что и сорняки в поле сохнут. — Сам он сорняк, — сказала вдруг Тереза. — А моя ж ты дорогая, а моя ж ты лапочка брильянтовая. А я ведь на тебе жениться хотел. — На которой по счету? — спросила Тереза. — Женись, только не на мне. — Женись, чтоб дурни не перевелись, — добавила Валя. Генка притих, понимая, что уже все хотят прижать ему хвост. После еды он даже вежливо сказал «спасибо», но Волот и после этого осталась непреклонной. — Спасибо за обед, что поел дармоед. — Милосер-рдия! — взмолился Генка. Девчатам и самим уже не хотелось добивать «дармоеда». На компанию опустился тихий ангел. Я не знаю ничего лучше костра. Он пленяет всегда. Но особенно в таком вот мире, залитом оливково-золотистым светом полной луны. Повсюду мягкая однотонность, повсюду что-то такое, что влечет неизвестно куда. К в этой слегка даже серебристой лунной мгле — теплый и живой багряный мазок. Художники понимают это. Хорошие художники. — Мне пора, — со вздохом сказал я и поднялся. — Пожалуй, я провожу вас до края городища. Прохлада ночного воздуха на лице. Особенно ласкового после жара костра. Мы шли в этой мгле. Костер отдалялся и превратился уже в пятнышко, в живую искру. Слегка прогнутой чашей, оливково-серебристой под луной, перед нами лежало городище, обособленное от остального мира тенью от валов. — Лунный кратер. — Станислава, ты не передумала? — О чем? — Не раскаиваешься? — В чем? — В том, что сказала вчера. — Нет, — тихо сказала она. — И думаю, что не буду раскаиваться. До самого конца. — И я. До самого конца. Все равно, скоро он наступит или нет. Только я не знаю, чем заслужил такое от бога. — А этого ничем не заслуживают. — Ни внешностью, ни молодостью, ни поступками, ни даже великими делами? — Иногда. Если такое уже и без того возникло. А оно приходит просто так. Я взял ее руки в свои. Потом в моих пальцах очутились ее локотки, потом плечи. Я прижал ее к груди, и так мы стояли, слегка покачиваясь, будто плыли в нереальном лунном зареве. Потом, спустя неисчислимые годы, я отпустил ее, хотя этот мир луны был свидетелем того, как мне не хотелось этого делать. — Прощай, — сказал я. — До завтра. — До завтра. — Что бы ни случилось? — Что бы ни случилось с нами в жизни — всегда до завтра. — Боюсь, — сказал я. — А вдруг что-нибудь непоправимое? — Все равно — до завтра. Нет ничего такого, чтобы отнять у нас вечное «завтра». Ноги сами несли меня по склону. Я способен был взбрыкивать, как жеребенок после зимней конюшни. Все нутро словно захлебывалось, до краев переполненное радостью. Была, впрочем, в этой радости одна холодная и рассудительная жилка уверенности. Уверенности и знания, которые росли бы и росли, дай я им волю. Однако я им этой воли не давал, сверх меры переполненный только что происшедшим и новорожденным чувством безмерного ликования. И я не давал воли внезапному озарению, которое пришло и не отпускало меня, став уверенностью и знанием. В этом была моя ошибка. Но я просто не мог, чтобы в моем новом ощущении единства со всем этим безграничным, добрым и мудрым миром жили подозрения, ненависть и зло. Я вступил в небольшую лощину, лучше даже сказать, широкое русло высохшего ручья. Слева и справа были довольно крутые косогоры, тропинка вилась по дну и выходила в неширокий проем, за которым, не мигая, висела большая неподвижная звезда. Туманно и таинственно стояли в котловине в каком-то никому не ведомом порядке большие и меньшие валуны. Это было место, в котором старая народная фантазия охотно поместила бы площадку для совещаний разной вредной языческой нечисти. Она вымирает, но все равно в такие вот лунные ночи, когда вокруг светло и только здесь царит полумрак, сюда слетаются на ночное судилище Водяницы[171], Болотные Женщины[172], феи-Мятлушки[173], Вогники[174] с болот, Карчи[175], Лесовики[176], Хохолы[177] и Хохлики[178] и другие полузабытые кумиры, божки и боги. Вспоминают, плачут по былому, творят свою ворожбу, предсказания, суд. Дыхание трав увядающих тает, Сочится туман над стальною водой. В низине, где замок почиет седой, Последняя фея сейчас умирает. Эта лощина — последний уголок их когда-то безграничного царства. Эти еле видные, тускло мерцающие камни — их поверженные троны. Троны в лощине, в которой густо настоялась их тревога, бездомность и обреченность. Их последняя безнадежность в мертвой пустоте бездуховности. И единственное живое — живое ли? — существо в этом мире заброшенности и хмурой Печаля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
|||||||