 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Дюна (Книги 1-3) :: Полуночный маскарад :: 200 км танков. О российско-грузинской войне :: The Boarding House :: Агнесса. Том 1 :: Полет :: Ящик Пандоры :: Змея из ночного кошмара :: Омен. Последняя битва. |
Криминальная МоскваModernLib.Net / Биографии и мемуары / Хруцкий Эдуард Анатольевич / Криминальная Москва - Чтение (Весь текст)
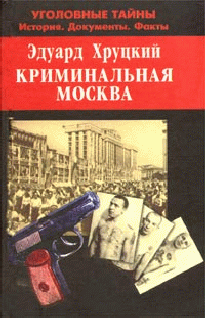 Эдуард Анатольевич Хруцкий Криминальная Москва От автора У каждого города есть своя история. Вернее, не одна, а целых две. Первая — это парадная. За нее Москве давали ордена и звания. О ней писали, снимали кино, показывали по телевизору. Вторая — подпольная, следы которой обозначены в ежедневных милицейских сводках. В своей книге я хочу рассказать о маленьких московских тайнах. О сыщиках и ворах, художниках и мошенниках, о людях, не нашедших себя в те годы, о которых я пишу. В моих историях нет вымысла, в них живут реальные люди, показанные в реальных ситуациях. Много лет я собирал материалы о криминальной Москве, но в те годы напечатать это было невозможно. Пришло время — и они увидели свет. Ну а как это получилось, судить вам, дорогие читатели. Я приношу искреннюю благодарность моему другу Петру Спектору, подвигнувшему меня к написанию этой книги. Глава 1 Сыщики и воры Профессия Ивана Васильевича Жаль, что большинство людей не ведет дневники. Память, конечно, инструмент прекрасный, но перенасыщенность информацией заслоняет многие яркие страницы прошлого. Я тоже не хранил старые журналистские блокноты, в которые записывал, кроме всякой ежедневной ерунды для газетной текучки, факты для будущих очерков. А жаль. Оговорюсь сразу, очерк об Иване Васильевиче Парфентьеве я в свое время написал. Было это в 1959 году. Иван Васильевич надел очки, внимательно прочел мое сочинение. — Интересно, — усмехнулся он, — как не про меня. Только, знаешь, не напечатают это. — Да как же так, — удивился я, — напечатают. Я тогда еще многого не понимал. Впервые был написан очерк о начальнике МУРа. Делал я его для журнала «Молодая гвардия». В редакции очерк понравился, его запланировали в один из ближайших номеров. Но… Прошло некоторое время, и мне вернули рукопись. — Почему? — взволновался я. — Не волнуйся, — сказал мне главный редактор Виктор Полторацкий, — ты написал хорошо и интересно. Но есть другие соображения. — Какие, Виктор Васильевич? Вы же говорите, что все это интересно. Полторацкий посмотрел на меня печально. — Запомни: кроме нашего умения, есть еще… — Он ткнул пальцем в потолок. — Я позвоню в журнал «Советская милиция», отнеси его туда. Я так и сделал. В милицейском журнале очерк провалялся дольше и был благополучно потерян. Что интересно, через два года я познакомил Юлика Семенова с Парфентьевым. Вполне естественно, Юлиан немедленно попал под обаяние этого человека и написал о нем блистательный очерк для журнала «Москва». Это сочинение разделило судьбу моего материала под названием «Комиссар». А Иван Васильевич, хитро усмехаясь, сказал нам: — Я же предупреждал. Тогда я еще не знал, что в то былинное время ценился не профессионализм, а умение подлаживаться к партийному руководству города. А у Парфентьева это не очень получалось. Многие «наверху» считали его слишком прямолинейным и плохо управляемым. Но давайте по порядку. Надо сказать, что с 1933 года работа уголовного розыска для печати была засекречена. И только в 1957 году на прилавки магазинов легла книга Аркадия Адамова «Дело „пестрых“. Наверно, после знаменитого романа У.Коллинза «Лунный камень» в Москве не было такого ажиотажа. Это вообще был первый роман, где появилось слово «МУР». Я работал тогда в газете «Московский комсомолец». Аркадий Адамов пришел к нам в редакцию и рассказал много интересного о работе МУРа. А через несколько месяцев были закончены съемки фильма «Дело „пестрых“. Один из первых показов нового фильма состоялся в нашей редакции. Аркадий Адамов привел к нам в гости Парфентьева. Вот уж никак я не ожидал, что легендарный комиссар милиции окажется невысоким плотным человеком. Тем более что в фильме его играл весьма импозантный актер Владимир Кенигсон. После просмотра, когда мы собрались в комнате, где у нас происходили редакционные совещания, главный редактор Миша Борисов сказал мне: — Иди к Парфентьеву, договаривайся о материале. — Иван Васильевич, — протиснулся я к начальнику МУРа, — мы бы хотели написать о вашей службе. — Хорошее дело, — прищурился Парфентьев, — получи разрешение и приходи. Я тебе помогу. Это сейчас можно сравнительно легко попасть на Петровку, а тогда… В общем, через три месяца я все же прорвался в МУР. Парфентьев принял меня сразу. Войдя в кабинет, я несколько растерялся. За столом сидел Парфентьев в синей с серебряными погонами форме комиссара милиции и чинил зажигалку. Он кивнул мне, чтобы я сел, и продолжал вставлять в латунный корпус длинную, гибкую пружину. Она все время выскакивала и вырывалась у него из рук. Наконец ему удалось поставить ее на место, он отложил зажигалку, встал и протянул мне руку: — Пробился все-таки. Молодец, — одобрительно сказал он. — Знаешь что, ты у нас походи, с ребятами познакомься, приглядись. Ко мне можешь приходить в любое время. Меня сначала отправили в отдел, занимающийся борьбой с мошенниками, к молодому оперу Эдику Айрапетову. Материал для первой публикации я собирал скрупулезно и тщательно. Кочевал со своим блокнотом из отдела в отдел, записывая занимательные истории, ездил с оперативниками на обыски и задержания. Собрав полный блокнот историй, я пошел к Парфентьеву. — Ну, ты еще не сбежал? — засмеялся он. — Насобирал кошмарных историй? Ты наших ребят меньше слушай, они столько знают, что вполне на целое собрание сочинений наговорить смогут. Ты пока все эти ужасы забудь, сейчас очень важна профилактика преступлений. Предотвращение противоправных действий — наша важнейшая задача. Вытащить человека из дерьма гораздо легче, чем ловить его потом. Это предложение мне явно не понравилось. Писать о каких-то душеспасительных беседах, в то время как сыщики ловят матерых уголовников. Но чем больше я разговаривал с оперативниками, которые занимались профилактикой, тем интересней было работать. Меня знакомили с подопечными, позволяли встречаться с ними и разговаривать. Так за короткое время я узнал о нескольких трагических судьбах. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев как раз в те далекие времена встретился на своей крымской даче с писавшим ему письма раскаявшимся уголовником. Я не знаю, как сложилась жизнь собеседника Хрущева, но профилактическая работа стала чудовищно модной. Опять заговорили о перековке, о новых социалистических методах воспитания. Но тогда, в МУРе, я еще этого не знал и заинтересованно выслушивал истории бывших воров и налетчиков. Когда у меня скопился материал, я пришел к Парфентьеву. Время было позднее. Иван Васильевич налил мне стакан крепчайшего чая, достал бутерброды, завернутые в жирную бумагу. — Ешь. Бутерброды с домашними котлетами, очень вкусные. Мы пили чай, и я рассказывал ему о своих встречах с «завязавшими» уголовниками. — Ты не очень-то увлекайся их рассказами. Запомни: уголовники и шлюхи наврут такое, что вашему брату журналисту самому не придумать. Ты вот три истории рассказал. Гаврилова, домушника, я хорошо знаю. Этот вполне завязать может. А остальные… Знаешь поговорку: «жид крещеный, конь леченый, вор прощеный…» Комиссар так и не успел договорить. Дверь кабинета раскрылась, и влетел Эдик Айрапетов. — Иван Васильевич! На Трубной в квартире троих завалили. — Еду. Парфентьев открыл ящик стола, вынул пистолет в кобуре без крышки, приладил ее на ремень. — Ну, чего сидишь? Хотел увидеть кошмарную историю, вот она и случилась. Поехали. В переулке на Трубной мы вошли в приземистый двухэтажный дом. У подъезда стояла «скорая» и несколько оперативных машин. На ступеньках сидели младший лейтенант и огромная овчарка. — Ну что? — спросил его Парфентьев. — Довела до трамвайной остановки, там след поте ряла, товарищ комиссар. — И то дело. Где «скорая»? — В квартире. — Кто там еще? — Следак из прокуратуры. — Пошли, — это относилось ко мне. Мы поднялись на второй этаж, вошли в распахнутую дверь квартиры. Я почувствовал странный, назойливый запах. И никак не мог понять, чем пахнет. Только под утро, когда я шел домой по пустым рассветным бульварам, понял, что это запах людской крови. Убийцы зарубили топором всю семью — мужа, жену и двоих детей. А пока я находился в квартире и наблюдал за работой опергруппы. — Стой здесь и смотри. Никуда не лезь и руками ничего не трогай, а то оставишь пальчики и потянет тебя прокуратура за убийство, — усмехнулся Парфентьев. Через некоторое время ко мне подошел Эдик Айрапетов. Я уже разбирался в муровской структуре и поэтому удивился: — Ты что здесь делаешь? Это же особо тяжкие. — Моих клиентов замочили. Это татары-золотишники. У нас были данные, что они крупную партию «рыжья» должны купить. — Что именно? — Золотые десятки. Пойдем, я тебе их тайник покажу. В одной из комнат кровать с никелированными шишаками была выдвинута на середину. В углу часть пола была поднята, как крышка. — Смотри. — Эдик посветил фонарем. На оцинкованном дне тайника сиротливо лежало колечко с каким-то камушком. Видимо, второпях убийцы его не заметили. Мы вышли из этой квартиры на рассвете. Город был тихим и сонным. — Тебя отвезти? — спросил Парфентьев. — Не надо, я живу рядом. Я шел по утренней Москве, привычной и до слез знакомой, а перед глазами стояли носилки с трупами, которые проносили санитары мимо меня. Откинулся брезент, и я увидел вместо лица кровавую кашу. Тогда, впервые столкнувшись с убийством, я думал о том, что жизнь не такая уж длинная. В любой момент может появиться урка с топором и… И тогда, не по книге Адамова, а по тому, что я увидел этой ночью, я понял, что такое работа сотрудника угрозыска. В квартире убитых, в отличие от фильма «Дело „пестрых“, Парфентьев не командовал, не распоряжался громогласно. Он о чем-то тихо говорил оперативникам, они ему что-то рассказывали. Не было трагизма и патетики. Люди работали. Делали свое привычное дело. Я до сих пор помню ребят-сыщиков, на рассвете куривших у машины. Лица у них были усталые, как у людей, выполнивших тяжелую и неприятную работу. По сей день я благодарен Ивану Васильевичу, что он взял меня на это убийство. Именно в этой, пахнущей кровью квартире я впервые узнал, что такое сыск. На следующий день, когда я пришел в МУР, встретил комиссара в коридоре, во всем его мундирном блеске. Он ехал в горком партии. — Ну, — усмехнулся он, — кошмары не снились? — Пока нет. — Ну и хорошо. Я часика через два вернусь и разыщу тебя. Конечно, об Иване Васильевиче Парфентьеве можно написать не очерк, а целую книгу. Он начинал свою работу постовым милиционером и закончил комиссаром милиции третьего ранга. От постового — до начальника МУРа. В 50-м году, за семь лет до нашего знакомства, он ликвидировал одну из самых страшных банд -банду Пашки Америки. Он никогда не любил говорить о своих делах. Предпочитал рассказывать о Сергее Дерковском, Владимире Чванове, Игоре Скорине. Не знаю, была это скромность или осторожность человека, начавшего свой путь в органах при самых кровавых наркомах. Не знаю. Знаю только одно — он был первым начальником МУРа, издавшим книгу своих криминальных историй. К сожалению, она так и не была переиздана. Так уж случилось, что мне пришлось уехать из Москвы, а когда через год с лишним я вернулся, Иван Васильевич ушел из МУРа, в котором командовал больше десяти лет. Это был абсолютный рекорд. Ни один начальник не продержался столько на своем посту. Конечно, отправить такого профессионала сыска, как Парфентьев, командовать Управлением вневедомственной охраны, было не по-хозяйски. Но кто тогда об этом думал? Власть прощает себе всё, не прощая своим защитникам даже маленьких промахов. Мы продолжали встречаться. Иван Васильевич приезжал к нам в редакцию. Мы часто собирались за рюмкой в его квартире. Иван Васильевич работал над новой книгой. Мне довелось читать отрывки из нее. Но где она? После смерти Ивана Васильевича я пытался разыскать эту рукопись, чтобы издать вместе обе книги, но так и не нашел. Конечно, можно было написать о громких делах, погонях и засадах. Но я решил написать о человеке, который терпеливо возился с начинающим журналистом, показывая ему изнанку жизни и делая так, чтобы эта изнанка не вызвала у него психологического отторжения. Многие мои коллеги любят формулировку «прирожденный сыщик». Так не бывает. Человек рождается не для того, чтобы разгребать кровь, горечь и грязь. Оперативниками становятся по стечению жизненных обстоятельств. Сыщик — это профессия. А понятие это состоит из многих компонентов. За много лет работы в криминальной теме я убедился, что плохой человек не станет хорошим сыщиком. Потому что в этой профессии главное — прикоснуться сердцем к чужой беде. Конечно, нынче, говоря об Иване Васильевиче Парфентьеве, многие люди вспоминают разное. Я видел людей, которые на дух не переносили начальника МУРа, считая его слишком жестким человеком. Но есть и те, которые вспоминают о нем тепло и добро. Мне не довелось присутствовать при том, как комиссар Парфентьев устраивал разносы подчиненным. Правда, я видел, с какими лицами выходили из его кабинета мои муровские приятели. Но я знаю и другого Парфентьева, заботившегося о бытовых нуждах своих сотрудников. Сегодня, когда я пишу этот материал, я вспоминаю веселого, лукавого человека. Я вспоминаю бойкую скороговорку и прищуренные глаза. Один раз, на Трубной, я видел сыщика Парфентьева. Он был собран, стремителен и немногословен. Лицо его было жестким и злым. В жизни каждого человека есть этапные, знаковые встречи, которые, как выясняется позже, оказывают влияние на всю оставшуюся жизнь. Дружба с Иваном Васильевичем помогла мне на долгие годы выбрать главное направление в моей работе. И я всегда буду жалеть об ушедшем времени и стараться хоть мысленно вернуться обратно в пережитое. Потому что там рядом со мной жили все мои ушедшие друзья. Особо опасные Когда это было?… Давно, чудовищно давно. Сейчас порой кажется, что этого и не было вовсе. …Я проснулся от скрипа двери и сразу увидел за огромным окном черепичные крыши, зелень каштанов и березовый скос холма. Дверь отворилась, и в комнату вошли мой дядя в форме и человек в расстегнутой желтой кожанке — такие по ленд-лизу получали наши летчики — и светло-серых брюках. Но не она, естественно, не кожанка, привлекла мое внимание. На брючном ремне висела затейливая кобура. Человек с пистолетом был весел, рыжеват и светлоглаз. Он улыбнулся мне, подмигнул и сказал: — Привет. А потом сразу же исчез за дверью. — Дядя, кто это? — Майор Скорин, мы вместе работаем. Было лето 45-го. Первое мирное лето. Родители отправили меня на каникулы к дяде, в Ригу… Начальнику уголовного розыска Латвии Игорю Скорину тогда было двадцать шесть лет, а мне всего двенадцать. И, конечно, ни он и ни я не знали, что через тринадцать лет мы встретимся в МУРе, подружимся на долгие годы, до весны 98-го, когда я проводил его в последний путь. В 58-м я после долгих мытарств пробился в МУР и доставал оперативников своими расспросами, а они говорили мне: — Пойди к Скорину. Он расскажет тебе о банде Митина. О последней банде. О бандгруппе из Красногорска, наводившей ужас на Москву почти три года, я и сам кое-что слышал. Рассказы были самые фантастические. Так, сразу после войны слагали легенды о «Черной кошке», которая на самом деле была группой пацанов-ремесленников с Пушкинской улицы. Возглавляли ее шестнадцатилетний Витька Панов и семнадцатилетний Фима Шнейдерман. Залетели они на первом же деле — на квартирной краже в доме № 8 на той же Пушкинской улице. При обыске на квартире Панова нашли лист бумаги с заголовком: «Кодла „Черная кошка“, далее была изложена программа „новой блатной группировки“ и стояло восемь подписей. Каково же было изумление сыщиков, когда увидели, что у всех восьми задержанных на руке красовался рисунок наколотой черной тушью кошки. Времена были тяжелые. Бандиты в Москве свирепствовали, прямо как нынче, и ушлые опера списали на группировку с романтическим названием практически все нераскрытые налеты. Так родилась легенда. Слухи о «Черной кошке» наводили ужас на московских торгашей и спекулянтов. Народный эпос тех дней гласил, что прежде, чем ограбить квартиру, бандиты рисовали на ее дверях изображение кошки. Сейчас любой человек понимает, что это невероятная глупость. Но тогда, особенно после войны, когда преступность в Москве была чудовищной, люди свято верили в лихих разбойников. Мы, пацаны, как могли претворяли этот миф в жизнь. Старались, как учила пионерская организация, «сказку сделать былью». В нашем доме жил директор магазина. Ежедневно на его дверях мы рисовали кошачью морду. Торговая семья тряслась. Так продолжалось до тех пор, пока опера из 10-го отделения не сели в засаду, выше этажом, и не отловили нашу компанию и не надрали всем уши. Впервые банда Митина дала о себе знать в 1950 году. Как хорошо я помню это время. Город жил в ту пору весьма неплохо. После денежной реформы 1947 года, после неурожая и голода Москва, все-таки столица сталинской империи, выглядела сыто и пьяно. На каждом углу работали пивные; рестораны, забитые гуляющей публикой, гудели до четырех утра, а Елисеевский магазин казался просто гастрономическим храмом. Внешняя, показушная сторона города напоминала знаменитый разворот из книги «О вкусной и здоровой пище», изданной по инициативе самого Микояна. Мы, молодые, часто собирались, чтобы послушать запрещенный джаз или песни Лещенко и Вертинского. В нашей компании был студент актерского факультета ГИТИСа Леша Шмаков, он удивительно здорово читал стихи Есенина и пел их под гитару. Не удивляйтесь, Сергей Есенин в те годы был полузапрещенным поэтом. Не знаю, как было у моих товарищей, но меня всегда наставляли родители: — Если заговорят о политике, немедленно уходи. А в 1950 году начали добавлять и другое: — Начнутся всякие разговоры о бандитах — уходи. В те былинные годы получить 58-10 УК РСФСР было легче, чем доехать на трамвае от Тишинского рынка до Сокольников. Тогда я не мог этого понять. Но работая в 1990 году с документами по банде Митина, наткнулся на докладную записку начальника УМГВ Москвы, комиссара госбезопасности третьего ранга (генерал-майора, по-нынешнему), на имя министра госбезопасности генерал-полковника Абакумова. В документе том руководитель столичного ГБ доносит, что о неустановленной пока банде по городу стремительно распространяются панические слухи. Виктор Семенович Абакумов был человеком крутым, а резолюция его проста, как грабли: «Не знаешь, что делать? Сажать за распространение антисоветских слухов». Так что, пока служба уголовного сыска МГБ СССР не повязала банду Митина, райотделы МГБ всласть насажали «врагов народа». В банде Митина было четыре участника и три пособника, а по делу о панических слухах уехали «валить древесину» тридцать шесть человек. Кстати, пусть никого не смущает название «уголовный сыск». Именно так тогда именовался привычный для нас уголовный розыск, переданный, как, впрочем и вся милиция, в систему МГБ. Но, несмотря ни на что, слухи о банде распространялись по Москве стремительно. О бандитах судачили в очередях, обсуждали налеты в пивных, говорили со страхом во дворах. Прошел слух, что якобы «Черная кошка» бежала с места расстрела и теперь снова шурует в Москве. Но вернемся к нашей истории. Двадцать шестого марта 1950 года в промтоварный магазин № 61 Тимирязевского района вошли трое. Покупателей было немного, хотя только сегодня в продажу поступил недорогой шевиот, который в те годы считался наиболее расхожим материалом. — Всем оставаться на местах! — скомандовал один из нападавших. — Мы из МГБ! Как потом рассказывали свидетели, люди не так испугались оружия, как магических букв — МГБ. Трое «из МГБ» согнали всех в подсобку, заперли, забрали 68 тысяч рублей, несколько штук дорогой материи и скрылись. Сегодня, когда молодые люди узнают об этой цифре, вряд ли она поразит их. Но по тогдашним масштабам цен, это было целое состояние. К примеру, автомобиль «Москвич» стоил около девяти тысяч рублей. А хороший финский домик в Переделкино аж целых двадцать пять. Вот и судите: много или мало забрали «рисковые ребята» за один налет. Милиция стояла на ушах. Но никаких результатов. Решили, что банда залетная. Но 16 ноября в том же районе и тем же методом был взят еще один магазин. Налетчики унесли 24 500 рублей. А 10 декабря взяли промтоварный магазин № 69 на Кутузовской слободе. Унесли 61 936 рублей. Пока крови не было. Но 1 февраля 1951 года старший оперуполномоченный Ховринского отдела милиции Кочкин проверял работу участковых на своей территории. Проверка была плановой, сплошь надуманной и нужна была только для «галочки». Вместе с участковым тащились они по февральскому морозу, мысленно матеря начальство и собачью службу. Замерзнув, решили зайти погреться в промтоварный магазин. — Капитан, — к Кочкину подскочила одна из продавщиц, — вон, видите, трое стоят? — Ну, вижу. — Они три раза заходили в магазин. Ох, как же не хотелось снова идти на мороз! Но трое, да еще магазин! Кочкин с участковым подошли к курящим на улице парням. — Документы, — скомандовал опер. — А ты кто такой? — спросил человек в кожаном полупальто. Кочкин достал удостоверение. — Я — старший уполномоченный… Он не успел договорить, один из парней трижды выстрелил в него из нагана. Участковый отскочил и начал задирать полу шинели, пытаясь добраться до кобуры. В него тоже выстрелили, но промахнулись. И пока он доставал «ТТ», бандиты скрылись. Кочкин был убит. Так пролилась первая кровь. Одиннадцатого марта участковый 100-го отделения милиции после службы заглянул в «Синий платочек»— так любовно местные алкаши называли пивной павильон № 2. Не успел лейтенант заложить первую стопку и культурно запить ее пивом, как в пивную ворвались трое. — Руки вверх! А пистолет-то свой лейтенант Бирюков сдал дежурному. Только кружка, тяжелая, литого стекла, была у него в руках, вот ею-то он запустил в налетчиков и бросился на них. Бандиты расстреляли лейтенанта из двух стволов. Пуля-дура захватила с собой и мастера завода № 465 Виктора Понохина, мирно пившего пиво в углу. И уже на улице бандиты ранили мастера фабрики ширпотреба Корсунского и подстрелили ни в чем не виновную, как написано в сводке, домохозяйку, тащившую из гастронома сумку с продуктами. Ночью первому секретарю МГК ВКП(б) позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сказал, что вождь недоволен криминальной обстановкой в Москве. Никита Хрущев никогда не был особенно смелым человеком. Впрочем, в то время представителю партийной элиты быть смелым значило быть мертвым. Совсем недавно закончилось «ленинградское дело», был уничтожен Вознесенский, брошен в Матросскую Тишину всесильный министр госбезопасности генерал Абакумов. Старые соратники — Ворошилов, Молотов, Каганович — почувствовали, как изменялось к ним отношение вождя. А это был верный признак нового политического процесса. И тогда Хрущев собрал руководство столичной и областной милиции. Больше часа будущий творец «оттепели» орал на перепуганных ментов, а в конце совещания приказал начальнику УМГВ Макарьеву арестовать как врагов народа начальников двух райотделов милиции. Но, видимо, бандиты не очень боялись партийного лидера: через несколько дней в Кунцевском районе взяли магазин и убили директора торга Антонова, пытавшегося оказать сопротивление. Когда читаешь документы об этой банде, невольно возникает вопрос: как уголовный сыск, оперслужба МГБ, почти два года не мог их заловить? Дело было на контроле у Абакумова, а позже Игнатьева, — и ничего. А все оказалось просто. На банду не могла выйти агентура. Налетчики практически не общались с уголовниками. В Подлипках они брали сберкассу. Кассирша, увидев бандитов, нажала кнопку сигнализации. В отделе милиции раздался сигнал тревоги. — Чего там у них? — Дежурный отключил звонок и набрал номер сберкассы. — Да? — ответил мужской голос. — Сберкасса? — спросил дежурный. — Нет, стадион. Именно этого времени хватило бандитам, чтобы забрать 80 тысяч рублей и уйти. Но здесь они наследили сильно. Потеряли калошу и обойму от «ТТ». А дальше опять кровь. При налете на пивную убиты двое посетителей. Через несколько дней в продовольственном магазине № 13 ранены кассирша и продавщица, убит участковый 111-го отделения младший лейтенант Грошов. За два года банда совершила 15 вооруженных налетов, убила 8 человек, из них трех работников милиции, захватила в кассах и магазинах 292 500 рублей наличными. Может быть, и погуляли бы налетчики еще немного, если бы не агент с псевдонимом «Мишин». В 58-м году Игорь Скорин, рассказывая мне о банде Митина, пообещал, что когда-нибудь поведает, как все было на самом деле. Прошло почти двадцать лет. Однажды мне позвонил Скорин: — Ты еще интересуешься бандой Митина? — Конечно, я даже помню твое обещание. — Молодец, память отличная. Тебе — боевое задание. Я куплю выпивку, а ты организуй какую-нибудь мужскую закуску. Колбаски хорошей, мясных консервов несколько банок. — Зачем? — Поедем к человеку, который разработал красногорскую банду. — Далеко? — В Калининскую область. Мы выехали рано, на стареньком «Запорожце» Скорина и добрались до места к обеду. Скорин проехал мимо деревни и направил машину к реке. У самой воды стоял покосившийся домик. — Ну вот и приехали. — Скорин остановил машину. К нам подошел среднего роста, крепкий пожилой человек. — Здорово, гости дорогие. Приехали к самой ухе. — Привет, Михалыч. Мы ели уху, пили тепловатую водку и говорили о погоде, клеве, здоровье. Наконец Скорин сказал: — Ты, Михалыч, помнишь, о чем мы с тобой говорили? — А то. — Вот и расскажи все, как было. — Как было… — Михалыч закурил. На кистях рук у него были пятна, похожие на ожоги. Так раньше сводили татуировки. — Ну что ж, расскажу. Он снял рубаху, и я увидел синь татуировок, которыми украшали себя солидные воры. — Так уж случилось, — начал он, — что доматывал я свой последний срок в лагере под Петрозаводском. В блатном мире человек я был известный, имел кликуху и авторитет. Было мне уже за сороковник, и начала меня тоска грызть. Надоели крытки, этапы, лагеря и шизо. Надоесть-то надоели, а что делать? Профессия у меня одна— воровская. Был я классным домушником. Дома меня мать ждала, жили мы под Москвой, и сеструха Надя. Как только откинулся от хозяина, в сентябре, сразу к сеструхе поехал, а ее нет. Тяжело ранили ее блатари у пивной, она через месяц в больнице умерла. И взяла тогда меня злость на них. Решил, пусть меня ссученным считают, но я их все равно урою. Дней десять покрутился по хавирам и малинам. В пивных потерся и на рынках кое-что узнал. А после поехал я в Дурасовский переулок, где областная ментовка находилась. Прихожу, показываю старшине при входе справку об освобождении и говорю: — Мне Скорин нужен. Старшина с понятием оказался, дежурного вызвал, а тот Скорину позвонил. Ты спросишь, почему я к Дмитричу пошел. Все просто. Он меня последний раз сажал. Пришел я к нему в кабинет, рассказал все, и говорю: — Хочу этих мокрушников найти и сдать. Только без ваших ментовских припарок. Подписывать ничего не буду. А Скорин мне в ответ: — Ты, Михалыч, мужик взрослый, а ума у тебя нет. Как я могу тебя на такое дело послать, если мы с тобой наши отношения не оформим? Я же должен тебе задания давать, секретные разговоры проводить, правовую защиту оказывать. Я подумал и сказал ему: — Крести. Так появился агент «Мишин». Был он человеком опытным и ушлым, поэтому не рассказал своему «крестному отцу», что сидел в лагере с налетчиком по кличке «Армян». Жили они в зоне в полном доверии. Когда Мишин освобождался, кореш дал ему адресок пивной, где он найдет человека по кличке «Рыжий», который может взять его на хорошее дело, в налеты на магазины и сберкассы. Пивную у железнодорожной станции в Мытищах Мишин нашел сразу. Место было культурное. Стояли столики, на них пепельницы, прямо как в ресторане. Взял сотку с припуском, то есть с кружкой пива, пару бутербродов с красной икрой, сел в угол. Осмотрелся. Народу, как ни странно по вечернему времени, было немного. Но человека, похожего по описанию на Николу Рыжего, он не заметил. Не хотелось просто так возвращаться домой. За соседним столиком гуляла компания молодой шпаны. Говорили по «фене», стараясь показать всем, что они — солидные блатняги. Мишин позвал одного из них. Тот подошел к столу. — Ну, чего тебе? — Ты, сявка, со мной по закону вообще разговаривать не можешь. Но я тебе дело поручить хочу. Пацан с уважением взглянул на татуировки на руках, на золотые фиксы. — Что надо? — Рыжего знаешь? — Конечно. — Где он? — Позвать? — Зови. Рыжий появился через полчаса. Подошел, сел за стол. — Ты кто такой? Мишин назвал свою кличку. — Слышал о таком? — Говорили люди. Чего надо? — От Армяна привет и ксивенка. Мишин достал из кармана листок бумаги. Рыжий прочел, засмеялся радостно: — Так что мы здесь сидим? Пошли ко мне. Напились они в этот вечер сильно. На следующий день Мишин встретился со Скориным. — Не нажимай, — сказал Скорин, — пей, гуляй, входи в доверие. Когда увидишь, что он тебе полностью верит, попроси достать на пару дней пистолет. Уже зимой Мишин и Рыжий гуляли в ресторане «Звездочка» на Преображенке. Там Мишин и завел разговор об оружии. Рыжий сказал: — Достану, но нужен кусок (тысяча рублей). На следующий день он передал Мишину пистолет. Оружие отстреляли. Экспертиза показала, что из него был убит капитан Кочкин. Через два дня Мишин вернул пистолет. — Ну, как дела? — спросил Рыжий. — Не очень. Наводка была туфтовой, поэтому взял мало. Нужно к солидному делу прибиваться. — Понимаешь, — Рыжий внимательно посмотрел на Мишина, — я о тебе с солидными ребятами говорил. Они у меня стволы прячут. Ну, конечно, с каждого дела мне небольшую долю отстегивают. А мне много и не надо, было бы на что погулять. Они хотят числа пятнадцатого февраля взять две сберкассы — в Пушкино и у стадиона «Динамо» в Москве. Завтра за стволами приедут, я о тебе снова поговорю. Мишин позвонил Скорину. А дальше все было как обычно. Наружка привела человека, взявшего оружие, в Красногорск, а через день были установлены все участники банды. Брать банду было поручено двум группам. Одну возглавлял Сергей Дерковский из МУРа, вторую — Скорин. В коридоре управления они потянули спички. Тот, кто вытащит короткую, берет Митина. Повезло Дерковскому. Всех взяли ночью. Без стрельбы и осложнений. Действительно, агентуре трудно было выйти на этих людей. Они вели жизнь вполне законопослушных молодых людей. Главарь банды Митин работал мастером на заводе, его подручный Лукин — студент авиационного института, остальные члены банды ударно трудились, исправно посещали комсомольские собрания. Судьба Мишина сложилась вполне удачно. Он поступил на завод, стал высококвалифицированным слесарем. Когда умерла мать, продал дом и уехал в Калининскую область. Очень долго я не мог понять, почему старые сыщики называли банду Митина последней. После знаменитой амнистии летом 53-го года, которую почему-то называют бериевской, хотя инициатором ее был Маленков, банд в стране появилось немеряно. На этот вопрос мне так никто и не ответил. Видимо, опера имели в виду, что это была последняя банда времен культа личности. Менее чем через месяц после ее ликвидации умер Сталин. Последняя банда… Достаточно смешное определение в нашей действительности. В 1934 году на прилавках магазинов появилась книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». В этом любопытном сочинении приводится выступление начальника лагерей ОГПУ М.Д. Бермана на первом слете ударников стройки. Он много говорил о том, что именно труд на этом строительстве перековал бывших бандитов, воров, проституток и вредителей. Пройдет время — и труд в лагерях ОГПУ превратит всех преступников в строителей социализма. И через несколько лет с преступностью в нашей стране будет покончено. Завершил он выступление словами: — Наш паровоз, вперед лети!… Вот он и летит… Только куда? Уж рельсы кончились, а станции все нет. «Таганка, все ночи, полные огня…» Тюрьма эта была элитная. В ней сидели только «социально близкие». По сто шестнадцатой пополам — так у блатарей называлась 58-я статья — сюда не отправляли. Конечно, может показаться странным, но Таганка являлась нашим криминальным символом тех лет. Ее разрушили, а память о ней живет в неведомо кем сочиненной песне. Включаю телевизор. На экране кандидат в президенты, сын юриста, голосом, «лишенным приятности», выводит грустную песню старых московских урок: «Таганка…» Включаю радио, на волнах неведомой станции неплохой певец с надрывом сообщает озверевшим от жары соотечественникам: Быть может, старая тюрьма Таганская Меня, мальчишечку, по новой ждет… Наверняка в мире нет больше такой страны, как наша. Страны, где уголовная «феня» так органично вошла в речевой строй современного языка. Нигде с таким упоением не поют блатных песен. И не только пацаны под гитару в подъезде, но и потраченные жизнью интеллигенты на своих застольях. И везде — «Таганка». Думаю, что ворам в законе на своем очередном сходняке надо сброситься и восстановить тюрьму как памятник воровского эпоса. А что? Сейчас многое восстанавливают, что разрушали раньше. А здесь — символ блатной идеологии. Он вполне может стать основой бандитской национальной идеи. Потому что ни в одной стране готовность попасть в «зону» не жила в каждом гражданине независимо от положения в обществе, как у нас. А песни и язык тюремного мира были своеобразной профилактической прививкой. В 1934 году на прилавках магазинов появился коллективный труд тридцати шести писателей во главе с Максимом Горьким: «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Из аннотации к книге следует, что на ее страницах читатели увидят «типы руководителей стройки, чекистов, инженеров, рабочих, а также бывших контрреволюционеров, вредителей, кулаков, воров, проституток, спекулянтов, перевоспитанных трудом, получивших производственную квалификацию и вернувшихся к честной трудовой жизни». Надо сказать, что книга эта была написана по личному распоряжению председателя ОГПУ Генриха Ягоды. Работали над ней лучшие перья советской литературы: Борис Агапов, Сергей Буданцев, Евгений Габрилович, Михаил Зощенко, Вера Инбер, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Виктор Шкловский, Бруно Ясенский. Поэтому и коллективный сей труд получился ярким и убедительным. ОГПУ ставило перед писателями главную задачу — читатель должен понять, что труд в ГУЛАГе не уничтожает, а перерождает преступника. Точку в этой идеологической кампании поставил сам Сталин, объявив, что в СССР навсегда покончено с преступностью. Это заявление вождя должно было успокоить инженера, вернувшегося с работы в обворованную квартиру, или бухгалтера, раздетого уркаганами в темной подворотне. С той поры ни в кино, ни в книгах, ни в газетах не появлялись уголовные сюжеты. Не существовало у нас преступников, и все дела. Дом наш, единственный кирпичный, пятиэтажный, стоял в плотном кольце одноэтажных и двухэтажных домишек Кондратьевских и Тишинских переулков. Здесь бушевал Тишинский рынок. Сейчас это маленькая территория, огороженная забором. А тогда человеческое море захлестывало все близлежащие улицы и выплескивалось к Белорусскому вокзалу. Это было чудовищное море. В нем перемешивалось горе с алчностью, трусость с храбростью, добро со злом. В те годы Тишинку считали самым криминогенным районом Москвы. Перед ее кровавыми подвигами бледнела слава Марьиной Рощи, Вахрушенки и Даниловской заставы. Господи! Я по сей день помню это пугающее скопище нечисти. На территории этой была своя иерархия и даже некая форменная одежда. Ниже всех стояли уголовные солдаты-огольцы. Они ходили в темных кепках-малокозырках, в хромовых сапогах, именуемых прохорями, сбитых в гармошку, под пиджаками обязательная тельняшка, белый шарф на шее и, конечно, золотой зуб-фикса. Они были особо опасны для нас, мальчишек. Могли запросто отобрать продовольственные карточки, если тебя родители посылали в магазин, снять шапку, изъять билеты в кино. Они шныряли по рынку, выполняя указания солидняка — местного ворья. Сегодня, когда я вижу новых волонтеров уголовного мира, в кожаных куртках и плотных брюках с напуском, я обязательно вспоминаю огольцов с Тишинки. В Москве гремели первые салюты, а в нашем доме грабили квартиры, грабили и соседние магазины, и склады. Нет, это делали не мальчики в малокозырочках. Другие, совсем другие люди занимались этими делами. Один из них жил в нашем доме. Здоровый, мордастый, летом он ходил в светлом коверкотовом костюме, с двумя медалями и двумя нашивками за ранение на лацкане. …Впервые я их увидел летом 43-го. Троих шикарно, не по военному времени одетых молодых мужчин и двух красивых девушек с ними. Они шли по двору. На груди мужчин серебрились медали, а у одного был даже орден Красной Звезды. Зимой они ходили в фетровых бурках и кожаных пальто. По сей день у меня вызывают смех наши фильмы с грязными, плохо одетыми бандитами. Не знаю, как у других, но наш Мишка Монахов был законодателем мод в районе. Мы, пацаны, обожали его, он щедро угощал нас папиросами и шоколадом. А кроме того, огольцы с Тишинки боялись трогать соседей Монаха. Он держал за нас мазу. Так это называлось раньше. А однажды утром я увидел, как двое здоровых оперов волокли его в машину. Серый пиджак был разорван, синевой наливалась правая половина лица. Когда его вталкивали в «эмку», он подмигнул мне разбитым глазом. Видимо, детство мое, прошедшее в самом сердце человеческой скверны, страх перед огольцами заставили меня пойти в спортивный зал, чтобы научиться драться, и каленым железом выжгли из моей души «блатную романтику». В Москве была своя градация ценностей. Я имею в виду неофициальную, не навязанную нам газетами и радио. В городе рождались криминальные легенды. Как жаль, что я не знал тогда, что через много лет постараюсь изложить их на бумаге. Я бы собирал эпос, и, уверен, истории эти пришлись бы по душе читателям. В легендах тех лет жили отважные благородные воры и бесстрашные умные сыщики. Тогда о МУРе в московском обществе говорили почтительно и таинственно. И хотя о его сотрудниках не писали в газетах и не снимали фильмов, в столичных гостиных рассказывали просто фантастические истории. Кое-кого знали в лицо, как эстрадных артистов: иметь с ними короткие, дружеские отношения считалось так же престижно, как с популярными тенорами. Звезды кино и театра. Звезды-летчики. Звезды — писатели и поэты. Звезды-сыщики. В 30-е годы: Николай Осипов, Георгий Тыльнер, Леонид Вуль, Валерий Кондиано. Эти люди раскрыли преступления, вошедшие в историю криминалистики: кражу редкой коллекции монет у одного из красных наркомов, описанную Львом Шейниным в очерке «Динары с дырками», кражу знаменитого золотого брегета у Эдуарда Эррио, нашумевшее ограбление мехового магазина в Столешниковом. В 50-х люди знали Игоря Скорина, Владимира Корнеева, Илью Ляндреса и, конечно, Володю Чванова. О Володе можно рассказывать бесконечно, мой покойный друг Игорь Скорин называл его невезучим, потому что ему доставались самые неприятные дела. Сложность их заключалась в том, что потерпевшими были знаменитые артисты тех лет: Гельцер, Мессерер, Яблочкина, Артур Эйзен. В 1958 году мы с Чвановым сидели в его кабинете в МУРе и он рассказывал крайне занимательную историю одной громкой квартирной кражи. Я отлично знал, что родной «Московский комсомолец», в котором я тогда работал, никогда не напечатает такие истории, но собирал их, как скряга копит деньги. Был конец мая, в окно кабинета вползала вечерняя свежесть, вытягивая табачный перегар, и доносилась веселая музыка из сада «Эрмитаж». Так уж случилось, самое модное место Москвы тех лет обреталось аккурат напротив самого МУРа. Это, кстати, порождало массу шуток и анекдотов у гулявших здесь московских деловых. — Пошли, — сказал Чванов. — Куда? — поинтересовался я. — В люди, в народ, в сад «Эрмитаж» пиво пить и есть котлеты «по-киевски». И мы ринулись в пучину чувственных удовольствий. Хорош был парк в тот влажный вечер. На открытой эстраде играл уже реабилитированный джаз, у входа в летний театр толкался народ — там выступала Гелена Великанова, сидели на белоснежных лавочках солидные, хорошо одетые пожилые люди, почтительно здоровались с Чвановым. — Весь цвет деловой Москвы, — улыбнувшись, сказал мне Володя. Ресторан был забит. Но моего спутника узнали, немедленно нашли столик, стремительно обслужили. Внезапно подошел сам метр с подносом, на котором стояли фрукты, коньяк «Двин», шампанское. — Вам прислали, с уважением, Владимир Федорович. — Кто? — деловито спросил Чванов. — Вон с того столика. Чванов посмотрел. Из-за стола поднялся роскошно одетый, солидный человек. Он прижал руку к сердцу и поклонился. — Отнесите ему все обратно, скажите, что мы на работе и пить не можем. — Кто это? — спросил я. — Самый зловредный вор-домушник. Помнишь дело Гельцер? Как не помнить. Это была одна из самых интересных квартирных краж того времени, раскрытая сотрудниками МУРа. Ах, ресторан ВТО! Замечательное место на улице Горького. Закрытый клуб, где собирались артисты, режиссеры, драматурги и театральные деятели. В те дни завсегдатаем его был высокий, интересный, прекрасно одетый человек. Некто Калашников Алексей Федорович. На лацкане дорогого костюма носил мхатовскую «Чайку» и считался известным театральным деятелем. Его знали и все постоянные посетители. Уважали за широту и умение вести себя. А он невзначай заводил разговор о крупных артистах, интересовался, как они живут и сколько зарабатывают. Актеры — народ беспечный и открытый. Много интересного узнал от них Алексей Федорович. Особенно о мехах и бриллиантах театральных звезд. Квартиру знаменитой балерины Екатерины Гельцер в Брюсовском переулке взяли профессионально. Дверь открыли подбором ключа, украли только уникальные бриллианты, две дорогие шубы и палантин из черно-бурых лис. Дело взяли на контроль в горкоме партии. Ежедневно в МУРе накалялась «вертушка» комиссара Парфентьева. Он старался реже бывать в своем кабинете. Были разосланы ориентировки во все комиссионные и скупки драгоценностей, сориентированы ломбарды. Оперативники ежедневно трясли спекулянтов из Столешникова, с Трубной, Сретенки. И вдруг один из агентов сообщил, что скорняк Буров, живущий в Столешниковом, приобрел похожие по описанию шубы. Когда Чванов приехал к Бурову, тот запираться не стал. Да, купил шубы у директора комиссионки на Сретенке. Когда директора «выдернули» в МУР, шубы уже опознала Гельцер. Директор покаялся. Купил, чтобы заработать немного, а принес ему шубы человек солидный, уважаемый, крупный деятель театральный, по имени Алексей Федорович, с которым он познакомился в ресторане ВТО. Тот сказал, что вещи его, а тут деньги понадобились. — Где он живет? — спросил Чванов. — Не знаю, но его любовница работает администратором в кинотеатре «Экран жизни» на Садовом. За администратором установили наблюдение, а через два дня появился и сам театральный деятель: был он одет в ратиновое, модное тогда пальто с шалевым воротником из дорогого меха, в шапке-пирожке. Шел степенно, как и полагается деятелю искусства. Его взяли в вестибюле кинотеатра, прихватили и администратора и повезли на Соломенную сторожку, где проживал у любовницы театральный деятель. Там нашли палантин и драгоценности. Работник искусства оказался крупным вором-домушником из Ленинграда. Для закрепления показаний его повезли на квартиру к Гельцер. — Ну вот, — сказал балерине Чванов, — все вещи вам вернули. — Не все. — А чего нет? — Диадемы! Ее мне после спектакля преподнес президент Франции. — Где диадема, Алексей Федорович? — повернулся Чванов к задержанному. — Это какая? Вроде короны? Так это же туфта театральная. Я ее в сугроб у дома выкинул! — Ей же цены нет!!! Там десять огромных бриллиантов! — Балерине стало плохо. — Как бриллиантов! — ахнул вор и схватился за сердце. Пришлось оперативникам оказывать срочную медицинскую помощь обоим. Вор показал место, где он выкинул диадему. Три часа оперативники и вызванные на помощь милиционеры из отделения перекапывали снег во дворе. И когда надежды уже не осталось и начало темнеть, в жухлом снегу сверкнули бриллианты. Сегодня произошел некий литературный прорыв. Все нынешние эстрадные звезды начали писать о своем творческом пути. Как-то я купил книгу Михаила Шуфутинского. Она была богато иллюстрирована. Я рассматривал фотографии и вдруг на одной из них узнал снятого в Сан-Франциско своего хорошего знакомого. Человека, которого я прекрасно знал по московскому Бродвею. Звали его Миша, он был утомлен незаконченным высшим образованием в Плехановском институте. А славен тем, что бесконечно разрабатывал планы добычи денег полукриминальным путем. Однажды, после Олимпийских игр в Хельсинки, где наши боксеры получили «серебро» и «бронзу», он предложил нам денежное дело. Нужно было выступить в нескольких московских крупных гастрономах. Миша организовал встречи боксеров — призеров Олимпиады с уставшими от борьбы с ОБХСС работниками прилавка. — Кто будет выступать? — поинтересовался я. Мне хотелось пойти, чтобы встретиться с Тишиным, Медновым, Толстиковым. — Их не будет, — таинственно сказал Миша, — вместо них будете выступать вы. Мне умельцы изготовили олимпийские медали. Наденете их на шею, и ты станешь Медновым, Трынов — Тишиным. Получите хорошие башли. Всего страху-то два часа. Мы отказались, а предприимчивый Миша нашел-таки других «призеров» Олимпиады. Он провел несколько встреч, прилично заработал, но дело кончилось скандалом и фельетоном в «Вечерке». С той поры мы стали относиться к нему настороженно и с некоторым подозрением. Поэтому, когда он попросил меня и Бондо Месхи принять участие в розыгрыше, мы наотрез отказались. Тем более что нам нужно было нарисовать на руках фальшивые татуировки. Но, естественно, желающие заработать пятьсот рублей нашлись. На эти деньги в то время можно было месяц приглашать любимую девушку в «Коктейль-холл». Им действительно ничего не надо было делать. Мишкин приятель, художник, нарисовал тушью на руках устрашающие картинки, и в назначенное время они вошли в общественный туалет на Белорусском вокзале. Там стоял Мишка с каким-то пижоном в светлом костюме. Тот внимательно оглядел татуированных. А потом ушел вместе с Мишкой. Ребята получили по полтыщи, и мы гадали, что это была за афера. Узнал я об этом через несколько лет в МУРе, когда Мишку заловили с прокатными холодильниками. Он опять создал простую систему. В те годы бытовая техника была чудовищным дефицитом, поэтому в Москве открывались прокатные пункты. За вполне умеренную плату любой гражданин, имеющий паспорт со столичной пропиской, мог получить в свое распоряжение холодильник, телевизор, стиральную машину, радиоприемник и даже автомобиль «Москвич». Друг наш Миша имел узкую специализацию, он помогал истомленным дефицитом соотечественникам приобретать холодильники. Утром он с товарищами обходил московские пивные точки, искал похмельных безденежных алкашей, брал у них за пару бутылок паспорт «напрокат». Получал в пункте проката холодильник, продавал, а паспорт возвращал владельцу. Но вернемся к нашим татуированным друзьям. Лихой оперативник нарисовал мне эту леденящую душу картину. Жил да был в Москве директор мебельного магазина. Перевыполнял план, висел в торге на доске почета и, конечно, не забывал себя. Торговля мебелью всегда считалась у торгашей Клондайком. Однажды он узнал, что его зам прокручивает дела и не отстегивает ему долю. Более того, негодяй зам начал спать с женой шефа. И она бросила мужа, ушла к разрушителю семейных устоев со всеми бриллиантами и шубами. Днем в душной подсобке, пахнущей мебельным лаком, и ночами в опустевшей квартире он вынашивал кровавые планы мести. И однажды грузчик из магазина вывел его на нужного человека — нашего знакомца Мишу. Миша сказал: — Есть люди, замочат твоего фраерка, но стоить это будет пятнадцать тысяч. Клиент согласился, но потребовал предъявить ему «мокрушников». Встреча состоялась в сортире на Белорусском. Клиент остался доволен, руки, исписанные «армавирами»— так на «фене» именовались татуировки, — его убедили. Мишка получил деньги. И коварный зам исчез. Надо сказать, что всю операцию Миша подгадал под отъезд обидчика в Сочи. Директор наслаждался сладостным чувством удовлетворенной мести. А через месяц встретил своего отдохнувшего и загорелого врага в Столешниковом. Он бросился к Мишке. Тот сидел дома и пил дефицитное чешское пиво. Дав мстителю-неудачнику вдоволь накричаться, он сказал: — Олень, кто в наши дни убивает за такие деньги? Можешь жаловаться на меня в милицию. Первым подразделением МУРа, куда отправил меня Иван Васильевич Парфентьев, был отдел по борьбе с мошенничеством. — Иди туда, — сказал комиссар, — там работает хороший опер Эдик Айрапетов, вы ровесники, так что найдете общий язык. В кабинете Айрапетова находился, как я понял, заявитель, в роскошном, рижского пошива, голубом костюме, модном галстуке. Он сидел, положив руки на трость с серебряным набалдашником. На среднем пальце правой руки поблескивал перстень. Был он похож на тогдашнюю звезду эстрады куплетиста Илью Набатова. Когда я вошел, он с недоумением посмотрел на меня. — Это наш сотрудник, — сказал Эдик. Борис Аркадьевич приподнялся и барственно кивнул мне. — Так, продолжим нашу милую беседу. Зачем вы втюхали этим грузинам стекляшки вместо бриллиантов? — Бога побойтесь, Эдуард Еремеевич, — прекрасно поставленным баритоном сказал «артист». — Бог здесь ни при чем, Борис Аркадьевич, вас по фотографии потерпевшие опознали. — Начальник, давай очняк; признают — расколюсь, а так, на голое постановление, не возьмешь. — Будет вам очняк, все будет. А пока отдохните в камере. Конвойный милиционер повел «артиста» из кабинета. Выходя, он положил трость на стол Айрапетова и сказал: — Сберегите. — Конечно, только года два она у меня пролежит. — Ну, это мы посмотрим, — усмехнулся Борис Аркадьевич. — Лазарев — мошенник высшего класса. — Айрапетов вышел из-за стола и сел рядом со мной. Мы очень подружились с Эдиком Айрапетовым, встречались не только в МУРе, но и на «воле». Мы были молодыми, веселыми, верили в свою счастливую звезду. Однажды познакомились с двумя милыми барышнями. У одной была собственная машина «Победа». Как-то они пригласили нас повеселиться на даче. Я зашел за Эдиком и увидел, как он что-то вынул из сейфа и положил в портфель. Тогда я не придал этому значения. Мы приехали на дачу, но туда, к нашему огорчению, нагрянули родители, и мы, прихватив тюфяки и одеяла, отправились веселиться прямо на природе. Утром меня разбудило не пение птиц, не легкий лесной ветерок. Разбудил меня грохот. Я открыл глаза и увидел здоровенный будильник, подпрыгивающий на капоте «Победы». Эдик вскочил и скомандовал: — Шесть часов. Пора на службу. Работа для него была единственным смыслом жизни. Поэтому начальник МУРа Парфентьев поручал ему необычные дела. Однажды комиссар вызвал его рано утром. Ровно в семь Эдик был в приемной. Секретарь Парфентьева Антонина еще не пришла на работу, поэтому вход в кабинет был свободен. — Разрешите, товарищ комиссар? — А, Эдик… Заходи, заходи, — голос начальника был притворно ласков. — Чайку хочешь? — Спасибо, товарищ комиссар, я позавтракал. — Тогда начнем, помолясь. Тебе поручается секретная разработка по делу, связанному с одним из членов президиума ЦК КПСС. Айрапетов напрягся. — Грабанули? — Нет. — Туфтовое золото или сверкалки втюхали? — Ну что ты несешь! Это же Председатель Президиума Верховного Совета СССР, а не твои фармазонщики. — Брежнев! — ахнул капитан. — Он самый. Ему позвонили по прямому телефону на работу, и человек сказал: «Ты сука, Брежнев». Дальше еще хлеще. — А что же КГБ? — Да их… — Комиссар сдержался, но Эдик понял, какие слова проглотил начальник. — Семичастный, комсомолец… Объявил, что здесь чистая 206-я УК, поэтому подследственно это дело МУРу. Вот тебе телефон помощника Леонида Ильича. И помни… Что он должен помнить, Айрапетов знал точно, и радости ему это не прибавило. Помощник Брежнева, весьма строгий чиновник, поведал капитану «леденящую душу историю» о том, как Председатель Президиума сам взял трубку городского телефона и его обложили матом. С тех пор, хотя номер менялся дважды, по нему звонит некто и несет по кочкам будущего вождя страны. — Леонид Ильич, — вздохнул помощник, — уже сам трубку этого телефона не поднимает. — А что, звонит по этому номеру одно и то же лицо? — Матерится один и тот же, но есть и много других звонков. Скажем, просителей, которые приезжают в Москву. Как они достают закрытый номер, ума не приложу?! В тот же день на городской телефонной станции появился новый телефонист. Девушки, работающие на коммутаторе, бегали смотреть на симпатичного сыщика, сидящего с наушниками у отдельного коммутаторного блока. Через три дня Айрапетов вычислил, что все звонки идут из автоматов Дзержинского района, рядом с Грохольским переулком. Там постоянно дежурили три машины сыщиков. Трижды по рации капитан отдавал приказ на захват, и трижды группа приезжала к пустому автомату. Наконец у Эдика созрел план… Звонок раздался в четырнадцать часов. Женский голос ответил: — Аппарат товарища Брежнева. — Брежнев… — прошипела трубка. — Минуточку, сейчас соединим… А капитан уже в это время давал по рации команду на захват. — Да, — ответил в трубке густой бас. — Ты сука, Брежнев. Ты… Договорить он не успел, оперативники скрутили хулигана. На Петровку Айрапетов приехал злой. Пять дней на телефонном узле. От чая с бутербродом и уличных пирожков с капустой его мутило. Прежде чем приступить к допросу, он пошел в столовую и съел две солянки. Задержанный был настолько перепуган, что рассказал все сразу. С Брежневым у него счеты еще с войны, а номер телефона он купил за сотню на площади трех вокзалов. Два дня задержанный ходил с Айрапетовым по площади, пока наконец не появился продавец. Капитан огляделся. На остановке такси красовалась группа кавказцев в серых кепках модели «аэродром». Эдик подошел к ним. — Откуда, ребята? — Из Баку. — Земляки, одолжите кепку на пять минут. — На, дорогой, — засмеялись земляки. Эдик надел на голову чуть великоватую кепку, подошел к продавцу. — Скажи, друг, — с нарочито сильным акцентом сказал он, — как проехать в приемную Верховного Совета? — А тебе зачем? — За брата хлопотать хочу. Сидит брат. — Деньги есть? — Есть. — Хочешь, продам тебе прямой телефон самого Брежнева? — Век не забуду, дорогой. Сколько? — Стольник. — Держи, — капитан достал деньги. Продавец протянул бумажку с номером. — Спасибо, дорогой! У тебя брат есть? — Нет. — Жаль, некому будет хлопотать за тебя! Я из МУРа. Стой и не дергайся! На допросе задержанный показал, что каждый вечер в шесть большую часть полученных денег он передает некоему Борису в кафе сада «Эрмитаж». — Вот и хорошо, все рядом, на Петровке, далеко ехать не надо, — засмеялся Айрапетов. — Мы вместе пойдем, ты ему деньги передай, а уж дальше наша забота. Борис ждал сообщника за столиком в кафе. Одет он был в красивый светлый костюм. При передаче денег его арестовали с поличным. А дальше выяснилось, что Борис журналист, что встречался с женщиной, которая убирала квартиру у одного крупного государственного деятеля. Она часто рассказывала Борису о том, что видела в квартире. Однажды поведала, что на столе в кабинете лежит справочник прямых телефонов всех тогдашних вождей. Борис сразу сообразил, что на этом можно сделать деньги, и попросил ее по возможности регулярно переписывать номера телефонов. Сначала он продавал их в Доме журналиста, номера жадно раскупали многие репортеры, а потом решил поставить дело на солидную ногу. Вот так мы жили в эпоху развитого социализма. Говорят: «Новые времена — новые песни». Конечно, песни новые, а «Таганка» все равно осталась как памятник той патриархальной эпохи, когда жулики свято блюли свой «закон», а сыщики были популярны, как эстрадные звезды. Память — странно устроенный механизм: почему-то в ней особенно ярко отпечатываются редкие радости, которые выпадали на нашу долю. Конечно, мы помним свои неудачи, горести и разочарования. Но, мысленно возвращаясь в прошлое, мы хотим видеть его радостным и добрым, как телевизионная сказка «Покровские Ворота». «Музыка народная, слова КГБ…» В 1979 году произошло событие, на которое не обратили внимание широкие массы советских людей. Это был не космический полет и не ввод в Афганистан «ограниченного контингента советских войск». Это была обычная кадровая перестановка в МВД. Сдолжности начальника Главного управления уголовного розыска сняли генерал-лейтенанта, доктора юридических наук, профессора Игоря Ивановича Карпеца. Человека, побившего все рекорды пребывания на этой должности. Одиннадцать лет Игорь Карпец возглавлял эту неблагодарную службу. До него комиссар Овчинников продержался на посту шесть лет. Генерала Карпеца перевели начальником ВНИИ МВД СССР. Все вроде бы закономерно. Известный юрист, а Карпец был ученым с мировым именем, должен заниматься наукой. Но истинная причина была совершенно другой. Слишком близко подошли сыщики, возглавляемые генералом, к так называемой бриллиантовой элите. Слишком часто в оперативных материалах стали мелькать фамилии людей, получивших в стране развитого социализма статус неприкасаемых. Генерал Карпец был талантливым сыщиком и прекрасным организатором, и если он начинал разработку по делу, то всегда доводил ее до конца. А это не устраивало прежде всего самого могущественного министра внутренних дел — Николая Щелокова. Кабинеты директоров магазинов, металлоремонта и всевозможных ателье были связаны незримой нитью с домами на улице Толстого и Грановского, где проживала партийно-советская элита. Как бы это ни казалось странным, у деловых из Столешникова и номенклатурных семей был один бог— камень, булыжник, розочка. Так на тогдашнем сленге именовались алмазы, бриллианты, сапфиры, изумруды. И люди генерала Карпеца попытались сломать эту сложившуюся годами систему и осуществить на деле фразу литературного героя Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но из этого ничего не вышло. Отстранение генерала Карпеца от работы стало крупной победой бриллиантовой мафии. И хотя службы экономической контрразведки КГБ и соответствующие подразделения ОБХСС постоянно «лечили» деловых от «золотухи», правление Брежнева, которое нынче называют застоем или модным словом «стагнация», стало самым сладким временем для крутых дельцов. Если при Никите Хрущеве они еще по инерции побаивались, то при Брежневе все полезло наружу. Деловые стали основой московского светского общества. Они кутили в лучших кабаках, ездили на редких в те времена иномарках, обставляли антиквариатом шикарные квартиры. Наступило их время. Появилось даже специальное определение новой социальной прослойки — деловые люди. Именно ими, как сервелат жиром, была нашпигована вся московская жизнь. После сталинского аскетизма и хрущевской воздержанности брежневское время выкинуло лозунг: «Гуляй!» Произошли определенные социальные сдвиги, и, оказавшись в новой компании, ты уже не знал, кому пожимаешь руку — крупному ученому или дельцу, даешь свой телефон коллеге-журналисту или наводчику из банды Монгола. Жизнь стала похожа на тщательно перетасованную колоду карт. Утром по радио, днем по телевидению нам рассказывали о высоком моральном облике советского человека, а ночью дрожали в разгуле загородные кабаки «Сосновый бор», «Сказка», «Старый замок», «Иверия», «Русь», «Архангельское». О последнем ресторане разговор особый. Начну с одной забавной истории. Недалеко от ресторана обосновался дачный поселок, где жили высшие чины Министерства обороны. А в те годы о которых идет мой неспешный рассказ, в нем жили многие наши маршалы. Однажды один доблестный военачальник, закончив свои дела в Арбатском военном округе, приехал на дачу и решил прогуляться по ночной прохладе. Он надел не самую новую синюю куртку из болоньи, старые тренировочные штаны и вышел «в мир, открытый бешенству ветров». Светящийся квадрат ресторана «Архангельское» привлек внимание маршала. Он подошел поближе и вдруг услышал из открытого окна печальную историю поручика Голицына. Такого бывший боец РККА вынести не мог. Он решительно направился к дверям ресторана. Но войти туда и дать волю праведному гневу он не смог. На его пути встал специально обученный швейцар. Он был не просто человек, открывающий и закрывающий дверь. Нет. Тонкий психолог и стратег стоял у входа в ресторан. Он выбирал из толпы посетителей людей, которые могут войти в этот храм «чувственных удовольствий». И, надо сказать, никогда не ошибался. — Тебе чего, мужик? — спросил он разгневанного маршала. — Я — маршал… — Ты… — не дал ему договорить изумленный страж. — Вон отсюда, ханыга. Я тебя, алкаша, давно приметил, когда ты по утрам бутылки собираешь. И военачальник, штурмовавший глубокоэшелонированную оборону вермахта, был остановлен доверенным лицом местного КГБ. Разгневанный маршал вернулся на дачу и бросился к вертушке. С кем он говорил из начальства могущественной спецслужбы, рассказывают по-разному. Ночной собеседник заверил маршала, что он разберется и примет меры. А поутру в кабинет маршала пришли люди, которые с печалью в голосе объяснили необходимость существования этого притона разврата. Жизнь в ресторане начиналась после двадцати трех часов. Слеталась сюда, как комары на свет, гуляющая Москва. В ресторане играл замечательный оркестр. Им руководил прекрасный музыкант Толя. Он сам писал неплохую музыку и делал замечательные аранжировки старых песен. Мне нравилось, как он пел их. Он понимал те слова, к которым писал музыку, поэтому его общение со слушателями было душевным и нежным. Но наступало ночное время — Толя выходил на сцену и начинал программу словами: — Выступает хор Бутырской тюрьмы. Романс. «Мы сидели вдвоем». Музыка народная, слова КГБ. Прекрасно пел Толя, удивительно играли его оркестранты. Видимо, поэтому так стремилась в «Архангельское» гуляющая публика. После того как Толя ушел из ресторана и начал писать музыку для кино, многие из моих друзей, да и я тоже, стали ездить в этот ресторан крайне редко. Но все же «Архангельское» был не простым рестораном. В нем можно было увидеть срез тогдашней московской жизни. До утра шел в ресторане «разгуляй». Здесь были все: чиновники, уставшие от государственных дел, тихие бойцы КГБ, киношники, актеры, писатели и, конечно, цвет и гордость подмосковных гулянок — деловые. Была еще одна постоянная категория — дети. Дочери и сыновья тех, кто ежедневно учил нас, как надо жить. Ближе к утру стягивались к ресторану силы краснознаменной милиции. С пьяных владельцев «Волг» и «Жигулей» снималась мзда. Не трогали только иномарки, в основном «мерседесы» с серией «ММЗ» и номерами из нулей. Это разъезжались после очередного расслабления дети Мазурова, сын Щелокова, зять Бодюла, родственники Громыко и даже отпрыск иностранного вождя Цеденбала. Кроме специальных номеров на машинах, у каждого из них был и специальный талон: «Без права проверки». Талоны эти выдавали только начальник ГАИ Москвы генерал Ноздряков или хозяин ГАИ страны Лукьянов (нет, нет — это однофамилец). Носились по городу «мерседесы», нарушали все, что можно нарушить, гаишники же только кидали руки к козырьку. Заключались громадные сделки. Гуляла по Москве валюта. Та самая, которую отбирали у артистов за выступления за рубежом, у кинорежиссеров за постановку совместных фильмов, у небольшого числа писателей, чьи романы пользовались спросом на книжном рынке Запада. На эти деньги ездили на африканские сафари сыновья Гришина, Мазурова, Щелокова… То, что мы сегодня неуклюже называем теневой экономикой, постепенно подминало под себя партийный и карательный аппарат. Наверняка мало кто знает, что родной брат нашего бровастого вождя, члена Союза писателей СССР, был тесно связан с грузинской торговой мафией. И когда дело зашло слишком далеко, чекисты, под командованием лично Цвигуна, повязали деловых грузин, предупредив, что одно слово о сановном брательнике может стать последним в их жизни. Деловые отправились валить лес, а брат уехал поработать в Болгарию. Но все же еще была сила, которая не давала окончательно развернуться и оборзеть новоявленной мафии. Как ни странно, это был КГБ. Андропов в то время делал все, что мог, чтобы остановить надвигающийся вал преступности. По сей день я твердо уверен, что самые громкие кражи тех лет замышлялись именно в этом загородном кабаке. Обстановка в нем была своеобразная — своего рода «питательный бульон», в котором плавали уголовно-деловые пираньи. …В Нюрнберге было жарко, и я с другом, хорошо знавшим город «боевой славы тысячелетнего рейха», пошли обедать в открытый ресторан, расположившийся во дворе старой крепости. Не успели мы выпить по глотку пива, как мой товарищ сказал: — В углу сидит мужик, он просто сверлит тебя глазами. Я оглянулся и встретился взглядом с затемненными стеклами очков; казалось, что большое насекомое смотрит на меня, тяжело и враждебно. И я узнал этого человека, хотя он изменился. Очки у него другие, волосы, седые, основательно поредевшие, специально отращены чуть длиннее, олицетворяя принадлежность к художественной богеме. Но тонкие лягушачьи губы, тяжелый, чуть приплюснутый нос остались прежними. И перстень на левой руке тот же. Дорогой, с многокаратным сапфиром, обрамленным крупными бриллиантами. Он рассчитался и пошел мимо нашего стола к выходу. На секунду остановился и снова посмотрел на меня сквозь темные стекла. Потом отвернулся и ушел. — Кто это? — спросил мой друг. — Да так, никто. Этот «никто» приезжал в ресторан на «вольво» с водителем, что по тем временам было очень «круто». Часто появлялся в компании Бориса Буряце. Боря Цыган числился артистом Большого театра, куда его пристроила интимная подруга Галина Брежнева, дочь «хозяина земли русской». Цыган ходил в эпатажных одеяниях, на груди его для всеобщего обозрения висел здоровенный крест, усыпанный бриллиантами. Был знаменит тем, что не мог спокойно видеть хорошие камни у другого человека. Насколько мне известно, странную пару в этом кабаке очень интересовал человек по фамилии Бабек. Это был таинственный персонаж из светской тусовки тех лет. Говорили, что он сын иранского генерала, казненного шахом за симпатии к нашей стране. У Бабека было две дачи, одна в районе Николиной Горы, вторая — в Пахре. Люди, имевшие с ним дело, рассказывали, что обе дачи были заставлены антиквариатом. Он скупал только мейсенский фарфор, картины и ювелирные изделия — те, что наши военные вывезли как трофеи из побежденной Германии. У вдов и детей маршалов он скупал немецкую мебель. И такие сувениры, как старинное оружие. У одного из маршалов он за огромные деньги приобрел саблю фельдмаршала Кейтеля. Ту самую, которой немецкий фельдмаршал последний раз отсалютовал, прощаясь с войсками перед подписанием капитуляции. Вещи эти покупались по целевому заданию антикваров из ФРГ и путями неведомыми переправлялись им. Впрочем, с таможней у Бабека были прекрасные отношения, так как он, по моим сведениям, оказывал неоценимые услуги нашему правительству — тайно торговал оружием. Мой товарищ, дивный парень, отчаянный авантюрист, в хорошем понимании этого слова, рассказал мне, что Бабек интересовался и камушками. Я хорошо помню, как Бабек появлялся в ресторане. Его всегда сопровождал мини-гарем из красивых здоровенных девах. Впрочем, на фоне сына иранского диссидента любая девушка показались бы великаншей. Человек в черных очках и Боря Цыган интересовались Бабеком, потому что у него был канал вывоза и покупатели за границей. Кстати, человека, встреченного мною через много лет в Нюрнберге, я знал как Андрея Александровича, но другие величали его Борисом Ильичом, я это сам слышал. Знающие люди называли две его клички: «Умный» и «Сократ». Друзья-сыщики прокрутили их через ГИЦ, но это ничего не дало. Номер «вольво», «пробитый» через ГАИ, помог мне узнать только имя хозяйки машины — Лидия Васильевна Злобина, 1902 года рождения. Мой повышенный интерес не остался незамеченным. Дважды на меня с друзьями «наезжали» у выхода из ресторана молодые люди в кожаных куртках и вельветовых джинсах. Такая тогда была мода у столичных бомбардиров. Скажу без ложной скромности, встречи эти не доставили молодым людям особой радости. Это еще больше подвигло меня на проведение оперативно-розыскных действий. Я начал расспрашивать своих друзей-сыскарей, но никто из них ничего не мог мне рассказать ни об Умном, ни о Сократе. Начальник угрозыска страны, мой большой друг, ныне покойный, генерал Карпец прямо сказал мне: — Брось это дело. Последствия могут быть не адекватными. Я тебе одну историю расскажу, но написать о ней ты можешь через много лет. Есть в Москве художник-реставратор. Человек заслуженный и известный, получивший звание членкора Академии художеств. Жил он весьма скромно, но была у него одна необыкновенно ценная вещь. Когда-то императрица Екатерина подарила его прабабке бриллиантовое колье потрясающей работы. Реликвия эта переходила из поколения в поколение. Ее даже в лихом 18-м не тронули рукастые чекисты, лечившие буржуазный элемент от «золотухи». Не тронули потому, что семье была выдана охранная грамота Совета народных комиссаров. Но наступили плохие времена, тяжело заболела внучка, возраст не позволял художнику работать много и продуктивно, да и вообще деньги были нужны. Посоветовавшись с сыном, они решили продать драгоценное украшение. Вещь была дорогая и входила в список госценностей. Художник предложил ее Алмазному фонду. И вот тут началась странная история. Эксперт фонда, сославшись на отсутствие денег, что было маловероятно в те годы, порекомендовал покупателя, академика из Баку. Приезжий азербайджанец сомнений не вызывал. Он предъявил все положенные документы и сказал, что для него, как для коллекционера, приобретение колье — главное дело всей жизни. Он продаст машину, часть своей коллекции и соберет деньги. В назначенный день он пришел с чемоданчиком, полным коричневых сотенных купюр. У академика было только одно условие: предварительно показать драгоценность своему ювелиру. Художник согласился, академик ушел, унося заветные дензнаки, а художник отправился в райотдел милиции. Нет, он не пошел заявлять на азербайджанского научного светилу. Дело в том, что отделение находилось в соседнем доме и у художника сложились добрые отношения с ребятами из райотдела. Художник оформлял им в порядке шефской помощи всевозможные стенды для ленинской комнаты, милиционеры же присматривали за его мастерской, в которую привозили на реставрацию весьма ценные вещи. В тот вечер, оформляя очередной стенд, он рассказал своим друзьям из уголовного розыска о предстоящей сделке. Его милицейских друзей эта история почему-то заинтересовала, и они попросили провести встречу на их территории, конкретно в Даевом переулке. Поехали на «Жигулях» участкового инспектора. Он сам сидел за рулем. В назначенное время к машине подошли академик и ювелир-эксперт. Они сели в салон. Ювелир взял в руки колье и начал рассматривать бриллианты. — Да, — сказал, — та самая вещь. Внезапно рядом затормозила «Волга» с милицейскими номерами. Из нее вылезли трое, подошли к машине. — Уголовный розыск, — представились они и предъявили документы. — Мы должны задержать этих двух людей. В считанные минуты ювелира с колье и академика пересадили в «оперативную» машину, и она рванула вниз по переулку. Милиционер, сидящий рядом с художником, понял, что состоялся типичный разгон. Он выскочил из машины и открыл огонь. Но «Волга» с сотрудниками уголовного розыска, ювелиром и заезжим академиком скрылась. В городе был объявлен план-перехват. Но по горячим следам преступников «заловить» не удалось. Два месяца все оперативные подразделения Москвы стояли на ушах. Уголовные розыски отделений ежедневно давали отчеты о проведенной работе по обезвреживанию преступников. И что самое любопытное, никто не догадался сопоставить фоторобот с молодым начальником угрозыска 17-го отделения милиции. Опознали и арестовали его только через два месяца. Взяли и его подельников. Колье вернули художнику. Дома у одного из них нашли фотографию, сделанную в ресторане «Арагви». Там он был запечатлен вместе с Борей Цыганом и человеком, которого я знал по кличкам «Умный» и «Сократ». — Дело это у нас забрали, — добавил Карпец, — и почему-то поручили Управлению БХСС. Чем оно кончилось, я не ведаю, меня от оперативной работы отстранили. Кстати сказать, следов этого дела я потом не нашел ни в каких документах МВД. Под Новый год, 30 декабря 1981 года, в подъезд высотного дома на Котельнической набережной вошли трое прекрасно одетых мужчин с огромной елкой. — Мы к Ирине Бугримовой, — сказали они вахтеру. — А ее нет дома. — Знаем, знаем, мы ее коллеги, артисты цирка, привезли Ирочке подарок. Елку. Артисты были настолько вежливы и обаятельны, что вахтерша ни на минуту не усомнилась в их словах. Она начала беспокоиться минут через сорок. Поднялась на нужный этаж, увидела елку, прислоненную к стене. Артистов не было. Они словно растворились в многоэтажном доме. Терзаемая страшными мыслями, вахтерша бросилась к черному ходу. Он был открыт. Тогда она вызвала милицию. Приехавшая Бугримова не нашла в квартире своей уникальной коллекции бриллиантов. Часть из них всего два дня назад она надевала на новогодний прием во французском посольстве. Дело под контроль взял адмотдел ЦК и лично его заведующий генерал-полковник Н.И.Савинкин. Через три дня после ограбления в Шереметьевском аэропорту был задержан человек, улетавший в ФРГ. За подкладкой его пальто обнаружили несколько бриллиантов Бугримовой. Курьер раскололся сразу и назвал имя Бориса Буряце. В его квартире и нашли ценности, принадлежащие известной дрессировщице. Борис был спокоен. Он позвонил Галине Брежневой и стал ждать, когда чекисты оставят его в покое. Но этого не случилось. Курирующий следствие по этому делу зампред КГБ Семен Цвигун приказал Буряце арестовать. Генерал армии Цвигун, он же писатель Мишин, лауреат Госпремии РСФСР за сценарии фильмов «Фронт без флангов» и «Фронт за линией фронта», точно знал, что его друг, генсек Брежнев, поддержит его. Так же, как в свое время, в 1952 году, и.о. министра госбезопасности Молдавии полковник Цвигун прикрыл бывшего первого секретаря республиканской партийной организации Брежнева от гнева самого Сталина. Брежнев в тот момент уже стал секретарем ЦК, а в Молдавии началось знаменитое дело Павленко. В этой многомиллионной афере были замешаны руководители республики. Сталин приказал устроить политический процесс. Цвигун сделал все, чтобы фамилия Брежнева не фигурировала ни в каких документах этого беспрецедентного по масштабам дела. Но весьма опытный оперативник Цвигун забыл, что в политике нет друзей. Эта забывчивость стоила ему жизни. После тяжелого разговора с Сусловым, понимая, что его карьера рухнула, 19 января в 16 часов 15 минут он застрелился на своей даче в Усово. И это тоже была победа бриллиантовой мафии. Ровно за год до этих событий была ограблена музей-квартира Ал. Н. Толстого. Я живу в доме, который мрачно возвышается у въезда в Замоскворечье. Дом сей, как швейцар в дорогом ресторане, украшен медалями мемориальных досок. Кто здесь не жил! И те, кто сажал, и те, кто сидел. Сейчас выясняется, что виноваты были и те и другие. Короче, как сказал известный в свое время публицист Борис Агапов: «Охотник и дичь — одно и то же». В квартире моей когда-то жил молодой полковник Василий Сталин. Давно это было. Потом в ней жили совсем другие люди, но жильцам, словно эстафета, переходила дверь. Да, представьте, именно дверь с огромным, старинной конструкции, английским замком. Самое интересное, что дверь та была не входная, она защищала одну из комнат. Почему юный полковник врезал этот замок? От кого он запирался, оставалось загадкой. Надо сказать, что мне это бронзовое чудовище не мешало. Замок давно уже не работал, так что и забот никаких у меня не было. Но однажды… В этот вечер ко мне заехал Толя с друзьями — прелестной дамой, назовем ее Валерией, и неким молодым человеком по имени Леша. Представлен он был как режиссер студии «Молдова-фильм». Кстати, через некоторое время у него при обыске было изъято удостоверение именно этой студии и билет члена Союза кинематографистов. Лихие оперы за час выяснили, что Леша никогда не служил ни на одной киностудии страны и, конечно, не был членом Союза. Но в тот вечер этот милый молодой человек рассказывал о своих творческих планах и, как любили говорить в «Кинопанораме», делился замыслами. Тогда я еще не знал, что «режиссер» был дважды судим и занимается исключительно кражей драгоценностей. Мы чуть-чуть накурили и открыли окна, чтобы проветрить квартиру. Сквозняк. Внезапно сильно хлопнула дверь с замком. Потом что-то лязгнуло, как проржавевший затвор, и дверь в соседнюю комнату захлопнулась. Исторический замок сработал. Мы все были в состоянии повышенной веселости и потому решили с Толей вскрыть дверь монтировкой. — Не надо, — сказал хрупкий мальчик Леша, — у моей бабушки были такие замки. Дайте мне молоток и толстую проволоку. Минут десять народный умелец из Бессарабии ковал на кухне нечто. Потом появился с профессионально сделанной отмычкой. Кинорежиссер широкого профиля расправился с замком за три минуты. — Это меня бабушка научила, — мило улыбаясь, сказал он. Ну что ж, чему в молодости научили — от того потом и разбогатеешь. Вот такая история. Но обратите внимание. Валерия приехала из Молдавии, Леша тоже. И семейство Щелоковых прибыло к нам именно из тех благословенных мест. Покойный граф Алексей Толстой оставил своей супруге Людмиле Ильиничне огромное состояние. Оно заключалось не в деньгах на счете, а в драгоценностях, столовом серебре, картинах, антиквариате. Время шло. Наследников у вдовы не было. И она решила завещать все государству. Вот тогда и пришли к ней сотрудники Министерства культуры. А с ними был фотограф. Он-то и снял все завещаемые ценности. Нынче его не найти, фотомастер «свирепствует» где-то в районе Брайтон-Бич. Я не смог с ним встретиться в Нью-Йорке, он после моего звонка якобы уехал в Чикаго. Любопытно другое: снимки эти нашли при обыске в квартире Леши. Пожилая почтенная дама, вдова писателя с европейским именем, на приеме во французском посольстве знакомится с очаровательной молодой женщиной. Валерия действительно была прелестна, а главное, не глупа и хитра чудовищно. А как же милая девушка из Кишинева, подруга режиссера-взломщика, попала на этот прием? Все просто. У нее появился французский жених. Правда, парижанин этот был не из тех, кого зовут на официальные приемы. Однако Валерии помогли попасть на желанный прием. Она не просто пришла, ее подвели к Людмиле Ильиничне, как подводят агента к «объекту». Они подружились — старая одинокая женщина и молодая очаровательная дама. Скоро Лера стала необходима Людмиле Ильиничне. Старость всегда тянется к молодости. Однажды милицейский патруль заметил, что над входом в музее-квартире мигает плохо различимая при свете дня лампа охранной сигнализации. Сержанты бросились в здание. В запертой ванной они нашли Людмилу Ильиничну и работницу Министерства культуры. Обе женщины были в шоковом состоянии. Начальник МУРа Олег Еркин потом рассказывал мне, что их поразила та необыкновенная точность, с которой налетчики брали вещи. Они взяли только самое ценное, точно зная, что где лежит. И картины они выбрали именно те, на которые огромный спрос на аукционах Запада. Начались оперативно-розыскные действия. В тот же день вышли на Валерию и задержали ее на семьдесят два часа. — Вы не имеете права, — сказала она, — я завтра должна уехать в Париж. Там меня ждет жених. — Имеем все права, — ответили ей сыщики, — придется тебе, красивая, лет эдак десять еще в невестах походить. — Посмотрим, — усмехнулась Валерия. — А чего смотреть-то, — развеселились оперативники, — смотри не смотри, наводка-то твоя. Бедные оперы, они не знали, какие силы стоят за этим делом. Вечером в 83-е отделение, где «отдыхала» французская невеста, приехали трое из МВД и забрали ее. Наверное, в Бутырку или Лефортово, подумает читатель. Нет. Ее отвезли домой, она собрала вещи и на следующий день в 8.20 отбыла из Шереметьева в Париж. А через день улетел в Израиль режиссер-взломщик Леша. Вот что значит быть земляками министра внутренних дел. А где же ценности? Их не было ни у Валерии, ни у Леши. Они исчезли. Только не думайте, что грабили графиню наши герои. Нет, музей брали два весьма профессиональных вооруженных разбойника в чулках, натянутых на лицо. Об этом деле писали по-разному. Вот что мне удалось узнать, в Париже, в баре гостиницы «Мон-Флери». Всю операцию спланировал Леша. Но сам идти на грабеж не мог. Одно дело вскрыть замок. Другое — вооруженный грабеж. Здесь должны работать совсем другие люди. Короче, некто передал Леше десять тысяч, чтобы нанять профессионалов. Но кинорежиссер посчитал, что шести штук профессионалам за глаза хватит. Он нанял двух одесских ребят. Те согласились. Но тоже были не дураки. И тут появилась главная фигура. За три тысячи одесситы наняли одного из самых крупных бандитов того времени. В историю уголовного мира он вошел под кличкой «Бец». Может быть, читатели помнят розыскные объявления, висевшие по Москве. Там были такие строчки: «Прекрасно владеет оружием. Может переодеваться в женское платье…» Это был бандит умелый, умный, жестокий и очень красивый внешне. По плану Леши, одесситы должны были брать квартиру в день отъезда Валерии. Утром взяли. Вечером она улетела. Все. Но Бец ждать не стал. Слишком велик был куш. Он взял музей-квартиру средь бела дня — сразу. И естественно, ничего никому не отдал. Это его и сгубило. Его взяли через десять дней. На его фотографии на стендах у отделений милиции появился штамп «Задержан». Но через несколько дней вновь — «Разыскивается». Бец бежал. Он выпрыгнул из окна квартиры своей любовницы, когда оперы его привезли к ней, как он сказал, за ценностями. Ребята из МУРа говорили мне, что на них что-то нашло тогда. Позже выяснилось, что хозяйка квартиры, цыганка, обладала громадной гипнотической силой. Искали его. Искали вещи. Одно из колец нашли в Баку, бриллиантовое ожерелье — в Ереване. Бец объявился в Тбилиси. Ценности были у него. Но, кроме ценностей, имелся пистолет с тремя обоймами и две гранаты «Ф-1». Сыщики понимали, что терять бандиту нечего. Значит, кровь. Бец знал, что его ищут, знал, что город блокирован. Бец пришел за помощью к агенту угрозыска. Тот предложил вывезти его в багажнике своей «Волги». Машина была старая, ГАЗ-21. И «как назло», двигатель «отказал» на одной из людных улиц. Ее закатили в переулок. Там и закончилась жизнь одного из самых крупных налетчиков тех лет. Автоматная очередь — и все. А как же Валерия и Леша? Да замечательно! Мой знакомый кинопродюсер встретил их год назад в Женеве, на берегу знаменитого озера. Они были веселы и счастливы. Обратите внимание на одно странное обстоятельство. Бриллианты Бугримова и Толстая надевали на прием в посольство. Это нынче на подобные мероприятия ходит кто попало, а тогда на территорию предполагаемого противника допускались только те, кто принадлежал к советской элите. Второй, неразрешенный по сей день вопрос: почему отпустили явных участников ограбления музея-квартиры А.Н.Толстого? И не просто отпустили, а отправили «за бугор». Все это мог организовать только человек, занимавший в те годы ключевой пост в советской иерархии. Но не станет же этот неведомый человек сам заниматься организацией налетов. Безусловно, поэтому и был нужен такой человек, как Сократ-Умный. Конечно, только он сегодня может рассказать, кто стоял за его спиной, кто убрал Зою Федорову, навел на квартиру Лианозовой, наследницы русского короля нефти, по чьему указанию взяли ценности у вдовы нашего классика и бриллианты у Ирины Бугримовой. У меня есть несколько предположений. Но это только мои догадки. Пока об этом говорить преждевременно. Сегодня все эти алмазные разборки кажутся мелкими и патриархальными. Сегодня только бригада Козленка вывезла алмазов больше, чем все контрабандисты, вместе взятые, за годы Советской власти. Но когда мы обращаемся к нашему не столь далекому прошлому, к событиям, случившимся на памяти живущего сейчас поколения, то напрашивается вопрос: кому и зачем, на самом деле, понадобилось так безжалостно менять жизнь целого народа? Все тем же людям, которые утром учили нас, как строить социализм, а ночами гуляли в престижных кабаках. Тем, кому мало было власти ради нее самой. Тем, кому она нынче помогла стать непомерно богатыми. Иногда мне кажется, что вся Москва превратилась сегодня в огромный ресторан «Архангельское». Вот-вот появится оркестр и снова прозвучит нелепая, как наша жизнь фраза: «…музыка народная, слова КГБ». …А жаль все-таки, что ничто и никогда у нас не меняется к лучшему. Деревянный Вольтер в глубине комнаты Москва. Осень. 1957 год. Мне позвонил мой товарищ, человек весьма ходовой и ушлый: — Хорошие вещи нужны? — Конечно. — Поехали. Мы встретились с ним в десять вечера на площади Маяковского, сели в такси и поехали на Арбат. На тот, старый, еще не порушенный Арбат с его прелестными переулками, милыми двориками, заросшими зеленью, с элегантными особнячками. Теперь этого Арбата нет. Вместо двориков, особняков и переулков — бездарный проспект с домами-уродами. Много лет ревнители столичной старины обвиняли в разрушении заповедной Москвы ГлавАПУ, Моспроект и лично главного архитектора города Посохина. Конечно, их вина в этом есть, но, как ни странно, винить надо было, как мне рассказал генерал КГБ Коваленко, знаменитую «девятку» — управление КГБ, занимавшееся охраной правительства, и бывшего председателя, А.Н.Шелепина, которого звали «железный Шурик», и, конечно, самого непредсказуемого генсека— Никиту Хрущева. Все дело в том, что первому лицу было весьма неудобно ехать из Кремля на дачу в Горки-2. Правительственный кортеж крутился по центру, прежде чем добирался до Рублевского шоссе. Сталин опасался неведомых террористов, а Никита Сергеевич, видимо, боялся, что в капканах старомосковских улочек его поджидают члены антипартийной группы, например Молотов с противотанковым ружьем или Каганович со станковым гранатометом. И судьба Арбата была решена. Но давайте вернемся в ушедшую осень, в несуществующий ныне переулок. Малый Николопесковский уже готовился ко сну. Такси остановилось у полукруглой арки. Двор, засыпанный листьями, скамеечки, клумба с погибающими цветами и в глубине одноэтажный флигель. Окна в нем были зашторены, и свет пробивался узкими полосками, создавая ощущение опасности и тайны. Мой товарищ постучал в окно каким-то особым кодом, словно морзянку отбил. Дверь распахнулась. На пороге стоял молодой парень весьма приятной наружности. Полный, высокий, роговые очки делали его похожим на какого-то чеховского персонажа. Это был знаменитый московский фарцовщик по кличке «Голем». — Прошу, — чуть грассируя, сказал он. Первое, что я увидел в тусклом свете настольной лампы, войдя в квартиру, был Вольтер. Двухметровая фигура, сработанная из красного дерева, стояла в глубине комнаты. Великий мыслитель иронично взирал на кучи заграничного тряпья. Чего здесь только не было! Американские костюмы, итальянские пиджаки, финские плащи, голландские юбки, английские шерстяные рубашки. — Выбирайте, — сделал широкий жест рукой чеховский персонаж. — У вас прекрасный Вольтер, Коля, — сказал я. — Да, — ответил он, — остатки бывшего семейного благополучия. Но скоро он покинет мой дом. Один мужик из посольства обещал мне за него приличную партию шмотья. Прошу вас, выбирайте. Мой ассистент покажет вам товар. Он еще раз оглядел свой склад и крикнул: — Виктор! Из таинственной глубины флигеля, где в эту минуту заиграли менуэт старинные часы, появился человек, одетый во все фирменное. Он поздоровался, щелкнул выключателем, и загорелся под потолком китайский фонарь-люстра. В зыбком желтоватом свете я увидел Гобсека с лицом херувима, человека из моего военного детства. Виктор Лазарев появился в нашем классе в 44-м. Мальчик из детской сказки, с большими голубыми глазами. Какие у него были волосы, я не помню, так как все школьники Москвы до седьмого класса были подстрижены наголо, как солдаты-новобранцы. Только через много лет я понял смысл этого издевательства. Нас берегли от педикулеза. Каждый день перед уроками нас строили и проверяли на «форму двадцать», проще говоря, на вшивость, — в те былинные годы о детях старались заботиться. Надо сказать, что у нас был необыкновенно дружный класс и, самое главное, много читающий. Видимо, книги в то несытое и совсем не комфортное время скрашивали наше не очень веселое детство. Читали много и запоем. Из рук в руки переходили книги, которыми мы постоянно обменивались. Дюма, Гюго, Жюль Верн, Борис Житков, Стивенсон зачитывались до дыр. Мы с нетерпением ждали большой перемены. Именно тогда нам приносили завтрак. Он был всегда одинаков. Полтора свежих бублика и две соевых конфеты. Никогда потом я не ел ничего более вкусного, чем этот военный завтрак. Если кто-нибудь болел, то его пайку получал один из нас и по дороге домой заносил заболевшему. Я не помню случая, чтобы кто-то из наших ребят не донес бублики и конфеты до товарища. Это было святым мальчишеским правилом. Однажды Лазарев вынул из портфеля и положил на парту шесть книжек издания «Academia». Шесть книжек Александра Дюма. Всю его историю о трех мушкетерах. — Дашь почитать? — бросился я к нему. — Конечно, — улыбнулся он своей милой, немного смущенной улыбкой. — Ты что возьмешь? — «Двадцать лет спустя». «Три мушкетера» я уже прочел, а вот продолжение достать не смог. Его не было даже в детской библиотеке на Курбатовской площади. — На сколько дней? — поинтересовался Лазарев. — Дня на три. — Хорошо. Три завтрака. — Какие завтраки? — не понял я. — Обычные, которые мы получаем на большой перемене. Я согласился и через три дня голодухи на перемене получил книгу. Мы и не заметили, как весь класс через несколько дней попал в кабальную зависимость к Вите Лазареву. А потом он начал продавать нам книжки, и цены на них колебались от двух до десяти завтраков. С урчащими от голода животами мы возвращались домой и представляли, как Витька Лазарев приходит в свою квартиру, разогревает чай и пьет его, заедая нашими бубликами и конфетами. Но, как позже выяснилось, все обстояло иначе. Мальчик с внешностью херувима складывал свою дневную добычу в сумку от противогаза и исчезал сразу после уроков. Нет, одиннадцатилетний Гобсек шел не домой прятать свою добычу. Он через проходной двор топал на Тишинку, где в подворотне рядом с кинотеатром «Смена» обменивал конфеты и бублики на упаковку папирос «Пушка». А потом на площади перед Белорусским вокзалом продавал их россыпью по червонцу за штуку. В пачке было двадцать пять папирос; таким образом, Витя Лазарев получал за пачку двести пятьдесят рублей, практически две цены. А что он делал со своими деньгами в таком юном возрасте, для меня осталось загадкой по сей день. Потом его исключили. Милиция задержала его за торговлю папиросами. Его исключили, а мы опять начали есть свои завтраки. Снова увидел я его только в 1952 году. В кафе «Мороженое» на улице Горького он явился мне в образе официанта. Глядя нагло мне в глаза, он обсчитал меня почти в два раза, точно зная, что при девушке скандал из-за денег я не подниму. И вот в этой комнате он разбирает шмотки, не обращая внимания на Вольтера, печально взирающего на это безобразие. Лазарев перекладывал вещи, упорно делая вид, что не знаком со мной, а мы вели с хозяином светскую беседу. Недавно отшумел Московский фестиваль молодежи и студентов, на нем впервые был устроен своеобразный кинофестиваль. Впервые нам довелось посмотреть столько хороших фильмов. И с Колей Големом мы обсуждали «Канал» Анджея Вайды, собеседник мой говорил интересные вещи, у него было свое оригинальное видение творчества великого поляка. Не так давно я прочитал в одной из многочисленных книг, что фарцовщики появились у нас после знаменитого Московского фестиваля в 1957 году. Это не совсем верно. Первый всплеск спекуляции вещами приходится на 40-й год, когда мы присоединили Западную Украину и Белоруссию и захватили Латвию, Эстонию и Литву. Именно оттуда начала попадать в Москву красивая и модная одежда. Надо сказать, что обыкновенный командированный не мог вывезти, к примеру, из Львова контейнер мужских костюмов, а вот так называемые ответственные работники разного уровня пригоняли в Москву немыслимое количество товаров. Вполне понятно, что сами они торговать не могли, поэтому находили умных людей, которые одевали во все это великолепие московских модников. В 45-м, после войны, столичные подпольные дельцы работали с повышенной нагрузкой. С одним из таких я был хорошо знаком. Как его звали и его фамилию не знал никто, именовался этот человек кличкой «Челси». Почему именно Челси, а не Окленд или Глазго, могу объяснить. Любители футбола помнят блистательное послевоенное турне нашей сборной по городам Англии. Вполне естественно, что наши футболисты привезли кое-что на продажу. Все это поступило в одни руки. Вот тогда у этих «одних рук» и появилась эта удивительная кличка. Когда один из клиентов спросил его: — Откуда этот костюм? Он не задумываясь ответил: — Из Челси. — А что такое Челси? — Страна. Никита Сергеевич Хрущев был «великим реформатором». Он ликвидировал Промкооперацию, и в стране появилось чудовищное зло — подпольные цеха. Он закрыл московские пивные-деревяшки, куда после смены заходил заводской народ, выпивал свою сотку, запивал пивом, заедал бутербродом и, обсудив футбольные новости, шел домой. Пивные закрыли, и появилось всесоюзное движение— «на троих». И почтенные передовики производства выпивали свой стакан в подъезде, закусывая мануфактурой. С его благословения было запрещено иностранцам, постоянно проживающим в Москве, и уже многочисленным туристам отдавать свои вещи в комиссионные магазины. Весьма важный чин из КГБ у нас в редакции доказывал нам, приводя устрашающие примеры, что именно в этих торговых точках передаются шифровки, микрофильмы и прочий шпионский хлам. Вот тогда и появилась веселая армия новых фарцовщиков. Шестидесятые годы были посвящены бескомпромиссной борьбе с ними. На битву эту были брошены огромные силы милиции. Комсомол сформировал особые отряды добровольцев с широкими, но незаконными полномочиями. В КГБ работало специальное подразделение. Тысячи людей, забросив свои основные занятия, гонялись по коридорам гостиниц, по ресторанам, по московским закоулкам за молодыми бизнесменами. В 1959 году меня познакомили с невысоким благообразным человеком в сером костюме с университетским значком на лацкане. Мы обедали вместе в Доме журналиста на открытой летней веранде. Теперь ее нет, как и нет старого Дома журналиста, славившегося отменной кухней и широким гостеприимством. Его разломали по приказу зятя Хрущева, Алексея Аджубея, всесильного редактора «Известий». Итак, мы обедали. Нового знакомца мне представили как аспиранта МГУ, занимающегося философией. Меня поразило необыкновенное невежество будущего светоча гуманитарной науки. Пообедали и разошлись, и я забыл об этом человеке в сером костюме. Но через десять дней наши пути вновь пересеклись, на этот раз в ресторане «Арагви». Мы приехали туда с моей барышней и Юликом Семеновым, с которым долго и крепко дружили. Юлик хорошо знал директора ресторана Владимира Николаевича, поэтому нас принимали как дорогих гостей. Нам накрыли стол в маленьком кабинете, мы скромно пировали, а потом моей даме понадобилось выйти. Я проводил ее и вернулся. Сел за стол, мы продолжали разговор, время шло, а дама все не возвращалась. Обеспокоенный, я вышел в коридор, соединяющий кабинеты с общим залом ресторана, и увидел, что мою девушку «блокировали» аспирант-философ в сером костюме и знакомый мне по Бродвею персонаж в модном клетчатом пиджаке. Конфликт закончился в мою пользу, мы вернулись к столу, а аспирант с товарищем остались зализывать раны. Через два дня на Пушкинской площади ко мне подошел мой старый товарищ по московскому Бродвею Сеня Павлов, которого в центровой компании звали «Сэм», и сказал: — Слушай, Ян хочет с тобой помириться. — Какой Ян? — Вон он стоит. У входа в кинотеатр «Центральный» стоял аспирант в сером костюме. Я принял его извинения, сам пожалел о своей несдержанности, тем более что ее следы четко прочитывались на его лице. Улучив момент, я спросил Сэма: — А кто этот Ян? — Это же Рокотов. Король валютной фарцовки по кличке «Ян Косой». С той поры мы виделись достаточно часто в самых разных местах. В кафе «Националь», на вечерней улице Горького, в коктейль-баре, на втором этаже ресторана «Москва». Король московской фарцовки был одет все в тот же серый костюм и носил все тот же университетский значок. Много позже появились публикации, что Рокотов был агентом начальника валютного отдела БХСС майора Исупова. Возможно. Я как журналист часто бывал на Петровке и однажды встретил там Рокотова, мы поговорили на лестничной площадке об общих знакомых и погоде. Встреча эта меня ничем не удивила. Я понимал, что при такой профессии, как у Яна Косого, его должны были часто выдергивать на Петровку. Я знал, что с агентами встречаются не в служебных помещениях. К тому времени мне уже было многое о нем известно. Что он купил аттестат за десять классов и пытался поступить в Юридический институт. Но потом выбрал более легкий путь к вершинам науки — купил за бутылку университетский значок. Еще в школе он спекулировал марками, потом был «чернокнижником»: продавал абонементы на подписные издания у магазина на Кузнецком мосту. В 1960 году в связи с оперативной обстановкой в кавказских республиках и Средней Азии, где валюта стала практически второй денежной единицей, дела по незаконному обороту валюты передали КГБ. В мае 1961 года Яна Рокотова задержали у камер хранения. В присутствии понятых из ячейки было извлечено 440 золотых монет, золотые слитки общим весом 12 килограммов и большое количество валюты. Всего на сумму два с половиной миллиона рублей. После ареста Рокотова и его подельников появились статьи о безумных кутежах Яна Косого, об актрисах и манекенщицах, которых он содержал, о шикарных квартирах и дачах. Могу сразу сказать — все это туфта. Его арестовали в том же самом сером костюме, и на суде он был в нем. На суде Ян выглядел спокойным. Думаю, то, что нашли у него в тайнике, было далеко не все. Он охотно давал показания, понимая, что с судом ссориться не надо и срок за его дела совсем небольшой — три года. Но в это время… Никита Хрущев совершал очередной заграничный вояж. В Вене он осудил административные власти союзников, управляющих Западным Берлином, за то, что они превратили город в сплошной черный рынок. Как мне рассказывали люди, сопровождавшие его в этой поездке, один из западных политиков, ему на это ответил, что такого черного рынка, как в Москве, нет ни в одной европейской столице. Разгневанный генсек вернулся в Москву, вызвал Шелепина. У «железного Шурика» на руках был козырь— группа Рокотова. Когда Хрущев узнал, что подсудимые получат по три года, он разъярился еще больше и приказал срочно подготовить указ об усилении борьбы с особо опасными преступлениями. Как известно, закон обратной силы не имеет. Но только не для Хрущева. И подсудимые с ужасом услышали об этом во время прочтения приговора. Ян Рокотов и его подельник, двадцатитрехлетний Владислав Файбишенко, получили по 15 лет. Но, видимо, у Никиты Хрущева, кроме колорадского жука и мирового империализма, появился третий главный враг — Ян Косой. На очередном пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем тезисы отчетного доклада на ХХII съезде КПСС, генсек опять вспомнил своего врага. Он зачитал письмо рабочих завода «Металлист», возмущенных мягким приговором Мосгорсуда. В результате генпрокурор Руденко обжаловал приговор, и дело пошло на рассмотрение в Верховный суд. И вновь закон обрел обратную силу. Все, что так сурово порицал Хрущев, рассказывая с трибуны ХХ съезда о культе личности, он сам претворил в жизнь. Потом он сделает еще много приятных сюрпризов стране. Поставит ее на грань Третьей мировой войны в дни Карибского кризиса. Расстреляет демонстрацию голодных рабочих в Новочеркасске… А что же наш друг Голем? Он жил иначе. Широко. По-купечески. Он тратил деньги в кабаках и заводил многочисленные романы. Коля не складывал деньги в ячейку на вокзале. Он красиво жил. Но однажды его отловили, привели в милицию и взяли подписку о трудоустройстве. Была такая форма борьбы с тунеядцами. Две подписки — потом высылка в отдаленные районы Сибири. Коля был человеком веселым и щедрым, поэтому у него имелись друзья. Он принес в милицию справку о том, что устроился дворником в ЖЭК. Бдительный участковый несколько раз приезжал на его участок, и каждый раз ему говорили, что новый дворник только что ушел. Тогда Колю решил проверить сам начальник паспортного стола отделения. Он позвонил в ЖЭК и сказал, что приедет утром. Естественно, Колю предупредили. И вот в назначенное время в Сретенский переулок въехала «Волга» с летящим оленем на капоте. Из нее вышел Голем в роскошном барском пальто и меховой шапке. Водитель достал из багажника фартук и некий предмет в замшевом чехле. Коля повязал фартук, вынул из чехла инкрустированный лом и начал усердно сбивать лед с тротуара. Потом он оторвался от работы и увидел начальника. — Здравствуйте, товарищ майор, — вежливо поздоровался Коля. — В человеке все должно быть прекрасно. Мысли, одежда, лом. Не правда ли? Майор счел за лучшее ретироваться. А погорел Коля все же на валюте. Он вместе с отчаянными ребятами изготовил пуансон и в режимной типографии начал печатать мало отличимые от настоящих пятидесятидолларовые бумажки. «Зелень» уходила на Кавказ. Все шло хорошо. Пока не нашелся умник, который обратил внимание, что все купюры имеют одну серию и одинаковый номер. Началась разборка. Кавказцы «наехали» на Голема, тут и милиция подоспела. Последний раз я видел Колю в Ярославле. Мы случайно встретились в гостинице. Он освободился и работал на киностудии Горького администратором на картине «Женщины». Он был такой же веселый, ироничный и щедрый. Лет восемь назад у Малого театра я увидел человека, торгующего с лотка. На импровизированном торговом устройстве висела табличка: «Куплю СКВ». Он посмотрел на меня, и я узнал несколько поблекшего херувима с опухшим от пристрастия к спиртному лицом. Мы поздоровались, и я ушел. А несколько дней назад я вновь встретил Лазарева. Он вылез из машины и в сопровождении охранников пошел в ресторан «Дядя Ваня». Он снисходительно посмотрел на меня и по-барски кивнул. Кстати, о деревянном Вольтере. Коля так и не отдал его иностранцам — я уже писал, что он был человеком широким, — а подарил его нашему общему знакомому на день рождения. Совсем недавно я был у того в гостях. Деревянный мыслитель стоял, как и прежде, в углу комнаты и так же иронично взирал на суетный мир. Целая жизнь прошла с того осеннего вечера 1957 года, и он совсем не изменился. Я даже позавидовал ему. Пайковый хлеб 41-го года Сначала мы прятались от налетов в метро «Белорусская». Как только трагически замолкала черная тарелка репродуктора, мать хватала «тревожный чемодан» и сумку, в которой ждал своей очереди термос с чаем, и мы занимали позицию у дверей. Потом радиоголос объявлял: — Граждане, воздушная тревога! И сразу же, как безутешные вдовы, над городом начинали голосить сирены. Мы бежали через двор, и вместе с нами спешили жильцы других подъездов, перебегали Грузинский Вал и мчались по площади к станции метро. Потом мама стала каким-то членом в дворовой команде МПВО, получила повязку, брезентовые рукавицы и здоровые щипцы, которыми надо было захватывать зажигательные бомбы, упавшие на крышу. И тогда мы стали прятаться от немецких самолетов в подвале нашего дома. Однажды во время ночного налета мама пошла на свое место по боевому расчету, а меня, как обычно, сплавила в подвал, в бомбоубежище. Мне удалось прошмыгнуть мимо бдительной старушки, охраняющей вход в наш дворовый бункер, незамеченным подняться наверх и выскочить из подъезда. Это была единственная картинка прошедшей войны, которая на всю жизнь врезалась в мою память. Черное небо над затемненным городом. Лучи прожекторов, шарящие по нему. Вот два луча сошлись, и в их перекрестье я увидел силуэт самолета. А с крыши нашего дома внезапно ушли в небо цепочки сигнальных ракет. Досмотреть мне не дали. Какой-то военный врезал мне по шее, схватил за руку и отволок в убежище. А утром мы узнали, что во время налета с нашей крыши пускали ракеты в сторону Белорусского вокзала. На чердаке была перестрелка, и шпионов задержали. Вполне естественно, что все двери на чердак после этого закрыли амбарными замками. Но у нас был секретный лаз, и мы с моим корешем Валькой проникали туда в поисках фашистских знаков, которые, по нашему глубокому убеждению, спрятали немецкие шпионы. Знаков мы не обнаружили, зато нашли здоровенный пистолет-ракетницу и припрятали до поры до времени. Время это подоспело в ноябре, когда немцы подошли к Химкам. Вот тогда мы взяли ракетницу, сперли здоровенный кухонный нож, сложили все это в школьный портфель и отправились на фронт. Дошли мы только до стадиона «Динамо»: нас задержал милицейский патруль и доставил в отделение. Там из портфеля извлекли наше вооружение, пришлось сознаться, кто мы и куда идем. Степенный дежурный сержант, внимательно нас выслушав, разделил наши патриотические чувства, но поинтересовался, где нам удалось найти такую замечательную ракетницу. Мы честно все рассказали. — Ладно, пацаны, — сказал сержант и отвел нас в пустую комнату, — подождите здесь. А через некоторое время зашел другой милиционер. Он взял нас за руку и повел к трамвайной остановке. С пересадкой мы доехали до Петровки и вошли в небольшое трехэтажное здание. Много позже я понял, что нас привезли в МУР. Веселый человек с черным чубом, сдерживая смех, выслушал нашу фронтовую одиссею, потом принес два стакана чая, сахар и два куска хлеба с салом. — Заправляйтесь, ребята, а потом поговорим о ракетнице. Мы, давясь и перебивая друг друга, рассказали, где и при каких обстоятельствах было найдено столь грозное оружие. Наш куратор куда-то вышел, приказав все съесть и выпить, а мы остались в маленькой комнате, на стене которой висел плакат — женщина в косынке, поднесшая палец к губам и надпись: «Будь осторожен — враг подслушивает». Мы прилично изголодались и съели все моментально. Позже я понял, что муровский опер отдал нам половину своего дневного пайка. Наш новый знакомый вернулся и предложил нам сделку: — Ребята, мы сейчас прокатимся на машине к вам домой, пойдем на чердак, и вы покажете место, где нашли ракетницу. А мы обещаем, что ничего не скажем родителям. Так и сделали. Через много лет, когда я подружился с сыщиками с Петровки, в одном из застолий я вспомнил детскую историю 41-го года, и оказалось, что говорил тогда с нами замечательный сыщик Владимир Корнеев; это был его последний день в Москве, на следующее утро он ушел за линию фронта с диверсионной группой. Через много лет, после грандиозного успеха фильма «Семнадцать мгновений весны», случилась весьма поганая история. Ко мне приехал крайне взволнованный композитор Микаэл Таривердиев — мы тогда с ним крепко дружили — и, чуть не плача от обиды, показал международную телеграмму. Текст ее, насколько я помню, был таким: «Поздравляю успехом моей музыки вашем фильме. Френсис Лей». Телеграмма была отправлена из Парижа. Вполне естественно, что о ней немедленно узнали в Союзе композиторов. По Москве поползли грязные слухи. Микаэл был человек бесконечно талантливый, добрый, готовый всегда прийти на помощь даже малознакомому человеку, но легко ранимый. Тем более что в Союз композиторов начали приходить письма трудящихся. Володя Корнеев тогда был начальником МУРа, и я привез к нему Таривердиева. Корнеев вызвал сотрудника и поручил ему разобраться. Первое, что удалось установить сразу: адреса на письмах возмущенных трудящихся оказались несуществующими, потом выяснилось, что Френсис Лей никогда не посылал подобной телеграммы. Микаэл приехал ко мне и процитировал Михаила Ивановича Пуговкина, вернее, его героя Софрона Ложкина из фильма «Дело „пестрых“: „МУР есть МУР“. Мне очень повезло. Когда я пришел на Петровку, 38, там еще не существовало никаких пресс-групп, я мог совершенно спокойно общаться с сыщиками. Тогда в МУРе в основном работали «штучные» люди. Каждый был личностью, у многих была поистине необыкновенная биография. На их долю выпало время репрессий, которые не пощадили и милицию, борьба с уголовниками в 30-40-х годах, криминальный беспредел военных лет. Не хочу преуменьшать достоинства многих из тех, кто сегодня работает в МУРе, просто они живут в другое время. Сейчас в уголовный розыск приходят в основном из специальных институтов МВД и школ милиции. Люди, о которых я пишу, попадали туда иначе. В 1940 году после окончания десятилетки Владимир Чванов ушел в армию. В те годы милиция не отлавливала призывников по подвалам и матери гордились, что их сыновья — красноармейцы. А через год кадровый боец Владимир Чванов уже воевал с немцами. Ему не удалось узнать самого острого солдатского счастья — счастья наступления. На его долю достались поражения. Под Смоленском, в третьей атаке, он был тяжело ранен. Медсанбат. Санитарный поезд. Тыловой госпиталь. В 1942 году он вернулся домой на Самотеку. К дальнейшему прохождению службы в армии комиссия признала его негодным. Он вернулся в поломанную войной тыловую жизнь. В Москву карточек, Тишинского рынка, дороговизны и бандитизма. Через месяц его вызвали в райком комсомола. — Направляем тебя в уголовный розыск. Пойдешь? — А оружие дадут? — Обязательно. — Тогда пойду. Так в 20-м отделении милиции в Марьиной Роще появился новый пом. оперуполномоченного. Как хорошо я помню 42-й год. Видимо, есть особая память детства, которая хранит самые значительные события. С наступлением темноты Москва погружалась во мрак — светомаскировка. Только в троллейбусах и трамваях горели синие лампочки. Улицы и мрачные проходные дворы сулили прохожим неисчислимые беды. Те, кто работал на заводах в ночную смену, обычно оставались там до рассвета. В городе шуровали уголовники. И хотя действовало еще постановление ГКО за подписью Сталина от 19октября 1941 года, позволяющее расстреливать бандитов на месте задержания, это мало останавливало блатных. Я жил рядом с Тишинским рынком. Район считался весьма криминогенным, но все же Марьина Роща со своими воровскими традициями, сложившимися сразу после революции, слыла в народе местом гиблым. Вот именно в это гиблое место и пришел служить двадцатилетний пом. оперуполномоченного. Оружия ему пока не дали — нужно было отработать полугодовой испытательный срок. А красную книжечку с фотографией, печатью и должностью он получил. Первый день службы начался спокойно. Перед этим оперативники повязали Котова и Степуна, известных в Марьиной Роще квартирных налетчиков. С утра все оперативники разбежались по адресам скупщиков краденого и подельников арестованных уркаганов. В отделении остались один оперативник и новый сотрудник Володя Чванов. Ближе к обеду в комнату вбежал ошалелый опер: — Слушай, как тебя… — Володя… — Вот что, Володя, все ребята на территории, а Котов со Степуном бежали из КПЗ. — Как? — Оглушили конвойных и ушли. Знаешь, дуй в засаду к Котову на квартиру. И Чванов пошел. Это был его первый день в уголовном розыске, у него не было опыта, не было оружия, было одно — острое желание взять сбежавшего урку. Чванов вошел во двор, в глубине его стоял маленький, покосившийся домик, вросший в землю до самых окон. Он прошел длинный коридор по нещадно скрипящим половицам и толкнул дверь в комнату, сохранившую еще следы обыска. Спиной к дверям сидел человек, ел жареную картошку с тушенкой и пил водку. На столе стояли тарелка с салом, селедка, колбасный фарш в банке. От этого великолепия у голодного Чванова защемило в животе. Человек за столом повернулся и увидел худого, длинного паренька в вытертой солдатской шинели. — Тебе чего, пацан? — Он встал. — Ты Котов? — Ну. — Я из уголовного розыска, — Чванов достал красную книжку. — Пошли! — Куда? — улыбнулся, показывая золотые фиксы, урка. — В милицию. Котов схватил лежавший на сундуке ломик. Слава богу, что с седьмого класса Чванов занимался боксом, даже был призером первенства Москвы. Он увернулся от просвистевшего лома и ударил бандита в челюсть. Опрокинулся стол, от удара бандит отлетел к стене и затих. Чванов вынул у него из брюк ремень и крепко связал за спиной руки. Потом поднял бутылку с водкой и плеснул Котову в лицо. Налетчик застонал и сел. — Пошли. Он привел его в отделение и сдал дежурному. Многоопытные милиционеры с интересом смотрели на худенького паренька, один на один «повязавшего» крупного налетчика. А через час его вызвал начальник уголовного розыска отделения Тимофей Селиверстович Скрипка. Он несколько минут разглядывал нового сотрудника, потом сказал: — Иди в дежурную часть, получай оружие. — А как же испытательный срок? — Он у тебя утром начался, а к вечеру закончился. Иван Васильевич Парфентьев в 60-е годы выпустил книгу. По тем временам это было поистине сенсационным откровением. В ней он описал многие интересные дела, рассказал о своих коллегах и подчиненных, но практически ничего не написал о себе. Когда я писал свой, кстати не напечатанный, очерк о нем, то там не было сыщика Парфентьева, а был руководитель весьма сложного подразделения милиции. Как я жалею сегодня, что мне не удалось «разговорить» Ивана Васильевича. Но что делать, молодость— это такая пора, когда кажется, что жизнь твоя и близких людей бесконечна, а времени в запасе очень много. Несколько лет назад я разыскал документы по ликвидации в 1949 году одного из самых опасных бандитов того времени — Пашки Америки. К сожалению, я пользовался только архивными материалами, потому что участников этого дела уже нет в живых. У него была редкая для блатных кличка — «Америка». Как этот человек, звавшийся в миру Андреевым Павлом Никитичем, ее получил, не знал никто, даже такие оперы, хранители уголовных историй, как Ефимов, Скорин, Парфентьев, Корнеев. Так вот, кличка была вполне красивой и, естественно, заставляла человека, носящего ее, жить сообразно. В свои 25 лет Америка среди уголовников слыл в авторитете. Молодые воры подражали ему во всем. Он обожал серые костюмы, красивую обувь и кожаные пальто. У него было три любимых места. Когда денег много — ресторан «Астория», чуть меньше — «Звездочка» на Преображенке, когда совсем мало — так называемый «Есенинский бар», милое пивное заведение, которого нет нынче, так как на его месте возведен «Детский мир». Люди, знавшие Америку в те далекие времена, говорили, что он был весел и щедр. У себя дома, в огромной коммунальной квартире, он не жил. Не любил ссориться с родителями, поэтому снимал себе славную комнату с отдельным входом в Сокольниках, в деревянном домике рядом с парком. В те годы снимать квартиру без временной прописки было строжайше запрещено. И у Америки такая прописка имелась. Только стояла она в паспорте на другую фамилию — на Никитина Андрея Павловича. Имелась и справка с места работы. В ней значилось, что гражданин Никитин А.П. работает художником-модельщиком в Производственном комбинате МОСХа. И справка о зарплате была, а в ней сведения, что заработок гражданина Никитина сдельный, до двух тысяч в месяц. Это были хорошие деньги по тем временам. Америка такую сумму проставил специально, закрыв справкой свои костюмы, пальто и поездки на машинах. Ну а если кто-то желал выяснить, где же подлинный Андреев, то в 1-м Дубровском проезде, где он жил раньше, любопытному отвечали: мол, после лагеря не вернулся, писем не пишет. Вот и все. А по Московской области катились ограбления магазинов и касс. Они совершались в один и тот же день, практически в одно и то же время, группами по три-четыре человека. Брали много. Так, только 2 февраля были взяты три магазина в Химкинском, Балашихинском и Кунцевском районах области. Бандиты унесли 120 тысяч рублей. После чего банда ложилась «на дно» и тратила нажитые деньги. Их было четырнадцать человек. Америка — главарь. Народ все больше неслучайный: блатные с двумя, а то с тремя «ходками в зону» за спиной. Деньги приходили и уходили. Причем разрыв между «приходом и расходом» был слишком уж коротким. Это беспокоило Америку, и он начал подумывать, как поставить дело, чтобы одним ударом взять большую сумму. Однажды в ресторане «Звездочка» он встретил блатного по кличке «Никола Взрослый». Андреев не знал ни его имени, ни фамилии, только кличку. Они сели за стол, выпили, и Никола Взрослый предложил Андрееву «золотое дело». Америка согласился. Пятнадцатого апреля 1949 года кассиры Московского финансового института Никитина и Тимакова получили в банке 258 тысяч рублей. Вполне естественно, что мешок денег они везли на машине. В вестибюле института в 18 часов к ним подошел молодой человек в элегантном габардиновом плаще и серой кепке-букле. — Вы зарплату привезли? — спросил он вежливо. — А тебе что? — бдительно ответила Никитина. — Ничего, — и молодой человек трижды выстрелил в них. Никитину уложил на месте, а Тимакову смертельно ранил. Схватил мешок денег, запрыгнул в такси «Победа», за рулем которого сидел Никола Взрослый, и скрылся. Двойное убийство и похищение мешка денег по тем временам было преступлением чрезвычайным. Оперативную разработку по делу возглавили Парфентьев и Дегтярев, два аса сыска того времени. На месте преступления нашли три гильзы от парабеллума, удалось составить достаточно точный словесный портрет преступника, но главное — в брошенном на Башиловке такси «сняли» один четкий пальцевый отпечаток. Эксперты определили, что он принадлежит Андрееву Павлу Никитичу, 1924 года рождения, ранее проходившему по делу о вооруженных нападениях вместе с неким Котом. Ясно, что в 1-м Дубровском сыщикам сообщили, что сынок как ушел по этапу, так и сгинул. Бдительные соседи подтвердили, что со дня ареста Пашка Андреев дома не был. А в это время, как любил писать господин Дюма… Перенесемся в весеннюю Казань. Тогда она еще была довольно грязным и пыльным городом. Именно в Казани в марте 1949 года в пивной у рынка состоялась встреча, ставшая роковой в жизни Америки. Случайно встретились два кореша: бандит Николаев и бывший уголовник, а ныне агент угрозыска Брюнет. За кружкой пива и стопарем водки Николаев поделился с Брюнетом, что у него теперь есть надежные документы. Из паспорта вытравили запись об ограничении и поставили штамп отдела найма оборонного завода. Таким образом он скрыл от всех свое уголовное прошлое. И сделали ему это надежные люди всего за 500 рублей. Донесению этому было придано серьезное значение. Еще бы, в городе есть люди, делающие фальшивые документы. В то режимное время это воспринималось почти как ЧП. Брюнет вновь встретился с Николаевым и сообщил, что его брат бежал из лагеря и крайне нуждается в хороших документах. Николаев согласился помочь, правда, сказал, что на самих «художников» у него выхода нет, а посредника он знает. Дальше все было делом техники. После очередной встречи Брюнета с Николаевым за «работником оборонного завода» пошла «наружка». Николаев долго ходил по рынку, кого-то разыскивая, потом остановился и поговорил о чем-то с человеком, торгующим ковриками. Неизвестного «отпасли» до дома на Спартаковской улице и установили, что это некто Сычев. Началась отработка его связей, которые оказались весьма интересными. Оперативникам для успешного разрешения комбинации был необходим агент, которому бы доверял Сычев. Часто в доме на Спартаковской появлялся некто Баринов. По 1-му спецотделу человек с такой фамилией не проходил. Но опытный опер Платонов по целому ряду деталей в поведении, по постоянному употреблению уголовной фени, по татуировке понял, что у этого человека кое-что есть в прошлом. Он решил получить отпечатки пальцев Баринова. Через несколько дней его вызвали в паспортный стол отдела милиции — сын Баринова должен был получать паспорт. Прежде чем пригласить Баринова, оперативник поработал над графином, проведя чернильную линию вдоль горлышка. На свету эта ловушка смотрелась как трещина. После непродолжительной беседы о паспортных делах Платонов предложил написать заявление. Графин мешал, и Платонов сказал: — Вы переставьте его на маленький столик, только осторожно, у него горлышко с трещиной. Баринов обеими руками взял графин… Дальше работали эксперты НТО, а через день из картотеки была вынута карточка некоего Новикова, он же Лапин, дважды судимый за квартирные кражи. Короче, вечером следующего дня Баринов толкнул на улице человека, тот, естественно, упал, тут же кстати оказался патруль, и… Выяснилось, что Баринов-Новиков, освободившись, купил себе фальшивые документы, с прошлым порвал и нынче работает честно. Он и согласился помочь сыщикам. Через несколько дней Баринов вывел оперативников на подпольную типографию. Делал документы некто Василий Михайлов, опытный гравер с солидным уголовным стажем. При обыске в его квартире нашли штампы, печати, бланки и т.д. На допросе казанские оперативники особенно интересовались, кому из уголовников были сделаны новые документы. Так вышли на Америку. Михайлов дал его новую фамилию, вспомнил и о справке из МОСХа. Два дня понадобилось МУРу, чтобы разыскать в Сокольниках Америку. Несколько дней за ним следили, а потом взяли на «блатхате», где собралась практически вся его банда. Случилось это 20 мая. Потом был суд, и Павел Андреев уехал на двадцать пять лет в Якутию в Дорлаг МВД. Тогда на два года отменили расстрел. Попадись Америка в 1950-м — стенка. Кстати, парабеллум, из которого он убил Никитину и Тимакову, ни при задержании, ни при обыске не нашли. Он всплыл в июне 1949 года, в то время когда Америка сидел в КПЗ. Около часа ночи в 3-м проезде в Алексеевском студгородке прозвучали выстрелы. Грабитель напал на ювелира Курочкина. Но тот не растерялся и не только отобрал ствол у налетчика, но и доставил его в милицию, предварительно избив. Как потом выяснилось, парабеллум у Америки украл случайный собутыльник. И еще одна история, случившаяся со мной на Петровке, 38. Однажды я разговаривал с завалившимся прямо на месте «работы» вором. Он залез в квартиру, но был с сильного бодуна. Нашел в буфете литровый графин водки, настоянной на лимонных корках, выпил и заснул. Сон его нарушил хозяин, кстати, полковник КГБ, которому по роду службы полагалось носить табельное оружие. Итак, я слушал исповедь домушника-алкоголика, а тут зазвонил телефон. — Тебя Иван вызывает, — сказал мне Чванов. В кабинете у Парфентьева я, к радости своей, увидел Игоря Скорина, начальника отдела МУРа по особо тяжким преступлениям, моего старинного знакомца. — Ну вот, — Парфентьев закурил «Казбек», — ты хотел крупного дела. Иди со Скориным. В своем кабинете Игорь собрал сотрудников. — Значит, так, ребята, агентура дала данные, что Васька Кот сегодня гуляет у Наташки на Дангауэровке. Брать будем ночью. Корреспондент поедет с нами. Мрачные оперативники почему-то усмехнулись. — А ты, — сказал Игорь, — до двадцати трех будешь у нас. Не могу я тебя с такой информацией выпустить из здания. Сам понимаешь. Я понятливо кивнул. Не заметил тогда веселых искорок в глазах Скорина. Время было всего семнадцать. А через час у меня свидание. Я рассказал об этом Скорину. — Где свидание? — На бульваре, рядом. — Ее приведут. Сева, — сказал он оперативнику, — сейчас тебе опишут девушку, встретишь и приведешь. И надо же, через час с небольшим я встретил в коридоре МУРа свою любимую девушку. Наверное, никогда у меня не было такого странного свидания. Мы попили кофе в буфете, посидели на скамейке в коридоре, глядя, как мимо нас проходили суровые оперативники, почему-то с интересом нас разглядывавшие. Ах, если бы я знал тогда… Но наступило время, я простился с подругой и сел в «Победу» вместе со Скориным. Шли двумя машинами, квакая сиренами у светофоров. Наконец свернули на узкую зеленую улицу. Потом был какой-то пруд, дома кончились, начались бараки. Машина остановилась. — Пошли, — скомандовал Скорин. Длинный одноэтажный барак стоял чуть в стороне, свет горел только в двух окнах. Из темноты появился какой-то человек и что-то сказал Скорину. — Здесь, — повернулся Игорь к оперативникам. Когда мы подошли к крыльцу, Скорин вдруг тихо сказал Севе: — Слушай, дело-то не простое, у тебя есть лишний пистолет? — Есть, — так же тихо ответил Сева. — Дай Эдику. — Да вы что… — Под мою ответственность. — Ой, смотрите, товарищ начальник. А он умеет? — Он же в прошлом году демобилизовался. — Ну тогда… — Сева сунул мне в руку тяжелый пистолет. На ощупь я понял, что это «ТТ». — Только в крайнем случае, понял? — прошептал Скорин. — Понял. — Я опустил пистолет в карман. Мы прошли по коридору, который еле освещала тусклая лампочка. Мимо сундуков, тазов, висящих на стене, мимо велосипедной рамы, лежащей почему-то на полу. Игорь толкнул дверь, и сразу же трое оперативников ворвались в комнату. — Сидеть, Кот! — рявкнул Сева. — А я и так сижу, — спокойно ответил невидимый мне человек. Когда я протиснулся в комнату и раздвинул широкие спины оперов, то увидел щуплого лысого человека, сидящего за столом, на котором стояла бутылка водки и лежала крупно нарезанная колбаса. Кот налил стакан, выпил, крякнул, закусил, надел пиджак и сказал: — Теперь поехали. Только на сухую берешь, Игорь Дмитриевич. — А об этом мы на Петровке поговорим. Вот и все. Обыденно и просто. Даже обидно. Только позже я понял, что именно эта милицейская повседневность и есть основа их тяжелой и неблагодарной службы. В машине я вытащил пистолет: — Возьмите, Сева. — Да ты его выкинь лучше, — захохотал Скорин, и вслед за ним заржали оперативники. Я повернул «оружие» к свету и увидел, что это просто отлично сделанная копия пистолета «ТТ». И понял, что мое сидение несколько часов в ожидании операции, и свидание с девушкой, и пистолет были обыкновенным розыгрышем доверчивого журналиста. Так уж случилось, что именно люди, с которыми я познакомился в МУРе и подружился, помогли мне найти и главную тему в моей работе. Я писал о них очерки, потом романы и повести. Делал киносценарии. Что у меня получилось — судить не мне… Но почему-то мне кажется сегодня, что я словно отдавал им неоплатный долг за тот кусок пайкового хлеба далекого 41-го года. Бриллиантовый дым Сознаюсь сразу — заголовок этот мною добросовестно похищен. Давно, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники, как любил говорить знаменитый московский вор и мой сосед по лестничной клетке Витя Золотой, я приехал на каникулы к дяде в Ригу. Шел 46-й год. По улицам ездили извозчики. Город еще не утратил свой европейский лоск. И жизнь в нем была совсем иная, не очень понятная для мальчишки, приехавшего из Союза. Дядька был чудовищно занят на работе. Вместе с Игорем Скориным они чистили город от бандитов, поэтому я практически был свободен в своих волеизъявлениях. Однажды забрался на чердак дома, где жил дядька, и нашел там подлинный клад — русские книги, изданные в Латвии до 40-го года. Они были свалены кучей в дальнем углу чердака. Верхний слой подмок — осколки снарядов, а возможно, просто отсутствие хозяина повредили черепицу крыши, и вода залила чердак. Но все же я разыскал в этой куче с десяток малоформатных книжек, с обложек которых смотрели на меня декольтированные дамы, с кинжалов капала типографская кровь, таинственные красавцы во фраках целились из револьверов. Несколько дней я запоем читал всю эту макулатуру, пропуская не интересные мне любовные сцены и переходя непосредственно к действию. Конечно, все эти книжки были дерьмовым лубком на манер того, что выпускают многие издательства сегодня, но одна все-таки произвела на меня впечатление. Называлась она «Бриллиантовый дым», и написал ее некто Борис Мерцалов. Итак, Санкт-Петербург. Январь 1914-го. Вывески с буквами «ять». Бобровые воротники гвардейских офицеров. Шиншиллы элегантных дам. Электрический свет вечернего Невского. Гудящий от разгула ресторан «Медведь». Красавцы и красавицы. Бриллианты. Таинственные убийства и скоротечные романы. Потом революция. Гражданская война. Бегство на юг. Тифозные теплушки и нападения степных банд. Белые рыцари и кровавые чекисты. Бегство в Константинополь. Потом, естественно, Париж. Все эти красавцы и красавицы, гвардейские офицеры и бандиты, чекисты и белые контрразведчики на протяжении трехсот пятидесяти страниц охотились за драгоценными камнями. В криминально-детективную канву романа вплеталась мистическая линия. Автор писал о том, что от бриллиантов исходит невидимый дым, который отравляет людей, превращает их в негодяев и убийц. Сегодня я, вспоминая много лет назад прочитанный детектив, не могу не согласиться с теорией неведомого мне Бориса Мерцалова. От драгоценных камней исходит какая-то магическая сила, делающая людей корыстными и жестокими. В нашем доме никогда не было украшений с дорогими камнями. Конечно, мама носила какие-то серьги и брошки, но не с бриллиантами. Впервые бриллиант, чистый, без оправы, я увидел в доме своего товарища по классу Сережи Новоселова. Отец его считался в Москве одним из лучших художников-ювелиров. Именно художников. Он работал в каких-то особых мастерских, где делали штучные подарки для высоких зарубежных гостей и совпартэлиты. Но, кроме того, он работал на дому, делал украшения для оперных див, знаменитых артистов и, конечно, вездесущих артельщиков. Как-то вечером я зашел к Сереже. Не помню, как это получилось, но он спросил меня: — Ты бриллианты видел? — Нет, — честно признался я. — Хочешь посмотреть? — Очень. Сережа вышел и вернулся с отцом, Николаем Сергеевичем, высоким, веселым, очень расположенным человеком. — Читал «Три мушкетера»? — спросил он. — Конечно. — Помнишь алмаз королевы, который потом продал Д’Артаньян? — Чтобы найти герцога Букингема. — Правильно. Смотри. Николай Сергеевич расстелил на столе кусочек черного бархата и положил на него желтоватый, плохо ограненный камень. — Неужели это он? — разочарованно спросил я. — Нет, это не он, просто похожий. А вот хорошо обработанный бриллиант. На бархат лег кусочек стекла с острыми гранями. Я смотрел на них и никак не мог понять, в чем же красота и неведомая сила этих камней. Впрочем, понять это я не могу и по сей день. Но тем не менее именно эти камни лежат в основе чудовищного количества самых кровавых преступлений. Когда-то человек, выдвинувший хорошо известную идею, которая должна была овладеть массами, пообещал из золота делать унитазы, а драгоценные камни раздавать детям как игрушки. Насчет золотых унитазов мне пока слышать не приходилось, а вот бриллиантами действительно тешились дети. Только давайте задумаемся: чьи? В 1967 году мой товарищ, генерал милиции Эрик Абрамов, рассказал мне интересную историю. Рассказал и взял с меня слово, что, пока он жив, я не использую ее в своей писательской работе. А как я мог тогда использовать эту информацию? Никак. Ни одна газета, ни один журнал не осмелились бы опубликовать эту крамолу на своих страницах. Если бы я использовал ее в романе, повести, сценарии, зоркое око Главлита не только вымарало бы ее, но и отправило представление на автора в ЦК КПСС, а те приказали бы знаменитому Пятому управлению КГБ заняться сочинителем вплотную. Такие были нравы в годы строительства развитого социализма, поэтому всю собранную мною информацию я стараюсь «выдать на-гора» нынче. Но вернемся к рассказу моего товарища. В те годы, о которых пойдет речь, был он капитаном, начальником БХСС Советского района. На эту должность его перевели, как тогда говорили, «в порядке оздоровления кадров» из уголовного розыска. Лихим опером считался мой друг Эрик Абрамов, лихим и цепким. Именно он «поднимал» тогда знаменитое «кожевенное дело» — крупные хищения на кожкомбинате. Они проводили обыск на даче в Малаховке. — Ищите, ищите, капитан, — зевнув, сказал хозяин дачи, разбуженный слишком рано по воскресному времени, — только я молчать не стану, я прокурору напишу. Генеральному, товарищу Руденко. — Ваше право. — Абрамов повернулся к участковому. — Пригласите понятых, лейтенант. — Я в ЦК напишу. Бериевские времена год как кончились. Я не позволю произвол чинить, позорить честных тружеников! Два часа обыска ничего не дали. Хозяин сидел на крыльце в желтой майке, синих командирских галифе и тапочках на босу ногу. Он курил и усмехался зло и торжествующе. Абрамов уже мысленно представил себе начало письма на имя Руденко. Таким, как этот, в желтой майке, нужен масштаб. Он еще раз взглянул на хозяина дачи. Тот усмехнулся, достал из кармана пачку «Казбека», закурил. Но сведения были точными, полученными от надежного агента. Именно этот человек в желтой майке и синих галифе, начальник ОТК комбината, хранит на даче украденную кожу. Абрамов поймал ненавидящий взгляд хозяина и точно понял, что кожа здесь. Подошли оперативники, посмотрели на шефа и развели руками. — Ничего, товарищ капитан. — Сарай смотрели? — Перерыли все… — Ломай стены. Хозяин бросился к сараю, раскинул руки: — Не дам! Кто возместит ущерб? — Я возмещу, — спокойно ответил Абрамов, — лично сам… Если, конечно, ничего не найду. Кожу они нашли в двойной стене сарая. А под стыком стен обнаружили схрон. В нем был трехлитровый бидон, набитый деньгами, и пол-литровая банка от маринованных огурцов, под крышку заполненная прозрачными камушками. Находка была столь неожиданной, что Абрамов поехал в местное отделение, чтобы доложить начальству. — Немедленно приезжай на Петровку, — скомандовало непосредственное начальство. На Петровке полковник взглянул на банку и спросил: — Считали? — Изъяли с понятыми, считать и оценивать будем здесь. — Поехали. — Куда? — На кудыкину гору. Кудыкиной горой оказалось партийное здание на Старой площади. В приемной вельможной дамы, занимавшей в ту пору высокий пост, шеф приказал Абрамову: — Жди. И исчез с портфелем за дверями, выполненными, как тогда было принято, под платяной шкаф. Такую маскировку, чтобы ввести в заблуждение ворвавшегося террориста, придумали после убийства Кирова. С той далекой поры нужно было входить в шкаф, чтобы попасть в сановный кабинет. — Мне стало страшно, — рассказывал Эрик Абрамов, — ведь все эти ценности «висели» на моих капитанских плечах. Полчаса страха, и полковник вновь появился в приемной. — Благодарность тебе, Абрамов, от партийного руководства. Большие ценности державе вернул. На, поезжай, оформляй, как надо. Он протянул портфель Абрамову. В машине мой друг раскрыл портфель, вынул банку и увидел, что она стала не такой полной, словно один слой сняли. Потом шеф стал комиссаром милиции третьего ранга, а самого Абрамова премировали месячным окладом. Вот такая история произошла в самом начале знаменитой оттепели. Мы еще вернемся к этой занятной истории, а пока давайте совершим экскурс в далекое прошлое. Работая над романом о русской сыскной полиции, я перерыл кучу архивных материалов. Меня очень заинтересовало распоряжение товарища министра внутренних дел, действительного статского советника Сергея Петровича Белецкого начальнику Московского охранного отделения полковнику Мартынову. В нем говорилось о незамедлительном задержании в обстановке особой секретности отставного штабс-капитана лейб-гвардии Литовского полка Буланина Алексея Викторовича. Все. Больше ничего в этом документе не было. В чем провинился бывший штабс-капитан перед МВД Российской империи, было для меня неясно. К великому сожалению, я уже дописал роман «Полицейский», когда нашел документ, проливающий свет на эту таинственную историю. Представьте себе молодого подпоручика лейб-гвардии Литовского полка — человека из хорошей, но не слишком обеспеченной семьи, попавшего в круговорот легкомысленной и соблазнительной светской жизни столицы Российской империи. А жалованье небольшое, всего сто десять рублей, да и то из него вычитают обязательные взносы на букеты императрице и полковым дамам, на постройку церкви, на подарки и жетоны уходящим из полка. И конечно, бега и карты. Молодой офицер запутался в долгах, и тут он открыл в себе необыкновенный талант. Нет, он не стал писать стихи, как поручик Лермонтов, или морские повести, подражая флотскому офицеру Станюковичу. Он начал потрясающим, неведомым доселе способом красть бриллианты. Причем делал он это не под покровом ночи, а при скоплении народа, средь шумного бала. Все дело в том, что драгоценные камни в то время крепились к кольцу двумя способами. Они утапливались в само кольцо, но это были в основном камни не очень большие, а многокаратные бриллианты, изумруды, сапфиры держались в специальных лапках. Это позволяло лучше увидеть подлинную красоту камня. Правда, такое крепление было не очень надежным — если одна из лапок случайно отходила, камень можно было утратить навсегда. Вот этим и воспользовался гвардейский офицер: он начал выкусывать камни, когда целовал даме руку. Кто возразит, если красавец офицер чуть дольше, чем требует этикет, и более страстно поцелует даме руку? Ну а через какое-то время дама замечала пропажу камня, но была уверена, что потеряла его. Попал Буланин под подозрение только в 15-м году, когда выкусил здоровенный, как орех, изумруд у жены французского посланника. Но тогда, уже уйдя с военной службы, он стал любовником жены Великого князя Кирилла Владимировича и, вполне естественно, был близко знаком со всеми действующими лицами пьесы о закате монархии в России. Поэтому-то Белицкий и поручил задержать его не начальнику Московской сыскной полиции Карлу Петровичу Маршалку, а гению политического сыска и интриг полковнику Мартынову. Московская охранка взяла Буланина, он был предан суду, лишен всех званий и привилегий и отправлен рядовым на фронт, где и сгинул в сырых окопах под Ригой. Сгубил бывшего штабс-капитана бриллиантовый дым. В 1957 году я уволился из армии. Москва, как ни странно, очень изменилась за то время, что я ее не видел. Куда-то подевались многие мои веселые друзья, и вечерний променад по улице Горького стал не таким притягательным, а может быть, мы просто повзрослели. Трудно сказать. Но с удивительным постоянством по московскому Бродвею продолжали гулять деловые. Магазинщики, бойцы службы быта, комиссионщики. Их дамы по-прежнему удивляли прохожих роскошными шубами и россыпью бриллиантов. Драгоценные камни считались в столице лучшим вложением капитала. Однажды ко мне пришел приятель, которого я знал еще со школьных времен. — Помоги мне в одном деликатном деле. — В каком? — Понимаешь, я женился, живем мы с родителями жены в маленькой квартире, а тут кооператив замечательный в центре подвернулся, но нужно внести все деньги сразу. — Тебе нужны деньги? — Нет. Деньги у меня будут, но для этого надо продать одну вещь. Он вынул из кармана мешочек, в котором во время войны мы носили в школу чернильницы-непроливайки (это был именно тот мешочек, на нем еще оставались ржавые следы чернил того времени), и достал из него широкий золотой браслет, усыпанный камнями. Он положил его на стол, и моя скромная комната в огромной коммуналке на улице Москвина преобразилась, словно светом каким-то наполнилась. — Откуда у тебя эта красота? — спросил я. — Бабушка дала продать. Я пошел в комиссионку, но там за эту красоту дают немного, и знакомые нашли мне купца. — Понятно. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой и проследил, как бы тебя не кинули. — Именно. — Хорошо. Только вещь дорогая, за нее вполне могут башку пробить. Я возьму с собой еще одного корешка. Я позвонил своему коллеге по спорту, прекрасному боксеру Андрюше Родионову, и мы втроем отправились на встречу с перекупщиком. Встретились мы с купцом зимним вечером на улице Неждановой. Я узнал его. Десятки, сотни раз видел на улице Горького. Высокий красивый блондин с лицом виконта из западных фильмов. Он был всегда дорого и строго одет, ходил один, иногда останавливался поболтать со знакомыми. Знающие люди говорили мне, что этот человек «ходит по камушкам» и кличка у него «Женя Юрист». Он был высоким, плотным и, сразу видно, физически сильным. Женя Юрист посмотрел на нас, узнал, конечно, и усмехнулся. — Вы что, Витя, — обратился он к моему товарищу, — всю сборную по боксу привели? Мы с Родионовым многозначительно усмехнулись — Ну что ж, — сказал мне купец, — вы знаете меня, а я знаю вас, так что возможность кинуть минимальна. Пойдемте. Мы свернули под арку, вошли в подъезд, спустились в полуподвал и попали в коридор большой коммунальной квартиры. Здесь было пьяно и шумно. В одной из комнат рыдал аккордеон, гулялась свадьба, как я понял, молодого флотского лейтенанта. Женя Юрист подошел к двери одной из комнат, открыл, и мы оказались в маленьком тесном помещении. У окна колченогий канцелярский письменный стол, платяной шкаф, ровесник первой пятилетки, и три венских стула. Четверо здоровых мужиков с трудом умещались в этой конуре. — Тесновато? — усмехнулся Женя Юрист. — Ничего, — находчиво ответил мой друг Андрюша, — в тесноте, но не в Бутырке. — И то верно. Где вещь? Виктор достал заветный мешочек и вынул браслет. Купец сел за колченогий столик, зажег настольную лампу, достал лупу и долго рассматривал браслет. — Да, та самая вещь. Потом посмотрел на нас с Андрюшей, втиснувшихся между окном и столом, и спросил: — А если бы я… — Не надо было бы этого делать, — широко улыбнулся полутяж Андрюша. — Я так и понял. Он подошел к шкафу, открыл его, и мы с изумлением увидели, что он совершенно пуст. Там лежал только сверток, завернутый в газету. — Считайте. Я прозвал этого человека ключником. С удивительной точностью он появлялся на улице Горького около полуночи и заканчивал свою прогулку с рассветом. Он словно открывал на ночь и закрывал под утро московский Бродвей. Женя Юрист оказался человеком не простым, а прямым потомком старинного польского королевского рода. У него была одна из самых звучных восточноевропейских фамилий. Чем он занимался в свободное от фарцовки время, не знал никто. То говорил, что он художник-шрифтовик, потом вдруг стал сценаристом на студии научно-популярных фильмов. Правда, ни одной картины, поставленной по его сценарию, я не видел. Зато он был весьма информированным человеком в отношении подпольной торговли «розочками». Однажды днем мы обедали с ним в ресторане «Астория». По дневному времени зал был практически пуст, скучающие официанты сидели в углу за служебным столиком. И вдруг они встрепенулись, словно кавалерийские кони, услышавшие звук трубы. В зал вошел высокий и весьма немолодой человек, в прекрасно сшитом, песочного цвета костюме. Он опирался на дорогую трость с затейливой ручкой. Огляделся и царственно кивнул моему соседу. Манерами он напоминал провинциального актера, играющего короля на сцене Кимрского театра. — Он что, из треста ресторанов? — Нет, — усмехнулся Женя, — он просто заряжает половых на всю шоколадку. Знаешь, кто это такой? — Нет. — Он когда-то держал весь бриллиантовый бизнес. — А сейчас? — В авторитете, но от дел отошел. Дает советы за большие деньги. Зовут его Леонид Миронович, крутой делец, он свое дело начал с блокадного Ленинграда. Конечно, у Леонида Мироновича была бронь. Зелененькая бумажка, на которой написано, что предъявитель ее освобождается от военной службы как незаменимый специалист. Леонид Миронович работал в Москонцерте администратором и по роду службы бронировал известных артистов. Конечно, в список знаменитых теноров, чтецов и представителей оригинального жанра ему ничего не стоило вписать свою фамилию, тем более что начальство высоко ценило его за пробивные способности и возможность в то не очень сытное время доставать продукты и выпивку. Несколько раз с концертными ансамблями на самолетах он летал в блокадный Ленинград. Там он выменивал на хлеб, консервы и комбижир драгоценные камни. Но это была никому не ведомая сторона гастрольной деятельности, а официальная проходила на самом высоком уровне и заслуживала всевозможных поощрений. В одну из поездок он сошелся с ленинградскими торгашами, и сообща они разработали план, простой и незатейливый. Зачем рисковать и прятать в реквизите продукты? Можно все сделать значительно проще: печатать туфтовые отрывные талоны для продуктовых карточек. Небольшое пояснение для тех, кто не жил в тылу во время войны. Все продовольственные товары отпускались по карточкам. Карточки были хлебные и продуктовые. Когда вы покупали, предположим, хлеб и жиры, то у вас из карточки продавец вырезал талоны. Потом эти талоны наклеивались на бумагу и сдавались в торг. Именно по ним определялось количество проданных продуктов. Так вот, администратор с компанией наладили в Москве печатание ленинградских отрывных талонов. Фальшивые бумажки сдавались в инстанции, из магазинов на квартиры уносились продукты, таким образом, в подсобках излишков не было. Люди умирали от голода, а человек с королевскими манерами скупал в осажденном городе бриллианты. Ему повезло, что единственный директор магазина на Лиговке, с которым он имел дело, был застрелен бандитами во время налета. В конце 43-го ленинградские сыщики раскрутили аферу с талонами. Но на Леонида Мироновича никто не дал никаких показаний. После войны работы у него прибавилось. Из покоренной Европы умные люди везли не аккордеоны и отрезы, а стоящие камни, которые нужно было быстро реализовать. Кроме того, он попал в «поставщики» сильных мира сего — к знаменитым генералам МГБ братьям Кобуловым. Как рассказал мне Женя Юрист, он был наводчиком, но накалывал только те квартиры, где хранились редкие фамильные драгоценности, работая не на лихих московских бандитов, а для эмгэбэшников. Хозяин квартиры, как враг народа, уезжал с семьей в «солнечную» Коми, а ценности его уходили в доход государства. Ввиду того, что в сталинском правовом государстве совершенно необязательно было составлять при обыске протоколы на месте, не нужно было приглашать понятых, ценности увозились на Лубянку, а там… По словам Жени Юриста, Леонид Миронович по-прежнему оставался поставщиком больших семей. Драгоценные камни всегда интересовали крупную партийную номенклатуру. В удивительное время мы жили тогда. Смотрели фильм «Коммунист», замечательную трагическую историю простого пролетария Шатурской электростанции. Сопереживали судьбе Василия Губанова и не знали, что по приказу Дзержинского уголовная секция МЧК производила аресты крупных партийных и советских работников. Нет, это были не коррупционеры в сегодняшнем понимании, это были мародеры, дорвавшиеся до власти. При обысках у них изымали драгоценности и украшения. Видимо, тот самый ядовитый бриллиантовый дым действовал одинаково и на красавцев во фраках, и на комиссаров, закованных в кожу. В 80-м году в нижнем баре Дома кино появился интереснейший персонаж, повергший моих много повидавших приятелей, распивающих спиртные напитки, в крайнее изумление. Человек этот был весьма хорош собой, почему-то он не разделся, как положено, в гардеробе, а явился в бар в мужском норковом пальто, которое небрежно сбросил на стул, и оказался в бархатном костюме, в кружевной рубашке, расстегнутой почти до пояса. На шее у него на золотой цепи, напоминающей якорную, висел громадный крест, усыпанный бриллиантами, пальцы отягощали перстни с огромными камнями, из-под рукава пиджака свисал крученый браслет с драгоценными камнями. Он взял шампанское и сел, высоко поддернув брюки. Сделал это специально, так как на щиколотке у него тоже оказался массивный золотой браслет. Не знаю, как другие, но лично я ничего подобного в жизни не видел. Это был знаменитый в Москве Боря Цыган, получивший от дочери генсека Галины Брежневой нежную кличку «бриллиантовый мальчик». Не правда ли, необычная и нежная кликуха для любовника? Роберт Рождественский написал для моего фильма «По данным уголовного розыска» смешную песню. Поет ее Михаил Хачинский, игравший в картине уголовника Мишку Червонца. Так много золотишка держал в своих руках, что стали мои руки золотыми. У Бори Цыгана, исходя из слов этой песни, руки должны были стать бриллиантовыми. Через них прошли драгоценности с самых крупных краж того времени, огромные камни, вывезенные нашими военачальниками из поверженной Германии. Правда, оговорюсь сразу, большинство редких камней, изъятых из тайников фашистских бонз, были вывезены фашистами в качестве трофеев из захваченных европейских стран, особенно из Голландии. Интересная закономерность прослеживается во всех крупных грабежах времен веселого застоя. Взял Бец музей-квартиру Алексея Толстого, МУР стал на уши и вернул почти все ценности. Та же история с кражей бриллиантов у Ирины Бугримовой и ограблением ювелира Бориса Гольдберга в Ленинграде. Потерпевшим возвращали все, кроме самых ценных и редких вещей. Они исчезали с завидным постоянством. Куда уходили они? Кто нынче владеет ими? К сожалению, у меня есть только оперативные данные, не подтвержденные ни следствием, ни судом. Почему, как ни старались наши «демократы», так и не смогли найти счетов партийно-советской номенклатуры в западных банках? Потому что есть более надежная и практически неуязвимая для поисков форма хранения капитала — ячейки в банковских сейфах. Туда можно положить мешочек от чернильницы-непроливашки, набитый камушками. И лежат они там спокойно, ожидая своего часа. Аиначе на какие деньги так роскошно устроились дети бывших вождей за границей? Правда, теперь это никому не интересно. Команда лихого мальчика Андрюши Козленка под названием «Голден АДА» вывезла за один прием из страны столько золота и бриллиантов, сколько не могла украсть вся партверхушка за семьдесят лет. Все-таки прав неведомый рижский писатель Борис Мерцалов -существует бриллиантовый дым, сочится он из камней, отравляя людей. И будет это всегда, независимо от государственного строя и идеологии. К сожалению, человек смертен — зло бессмертно. Самородок для члена политбюро В восемь утра ко мне в номер пришел директор картины Витя Гольдберг. Он сел за стол и посмотрел на меня глазами, в которых сконцентрировалась вековая грусть еврейского народа. — Я к тебе с просьбой, — тихо и печально сказал он. — Сегодня ты, режиссер, я и оператор должны лететь в Москву. — Знаю. Я подошел к окну, улица Республики, где стояла гостиница «Север», в которой я жил, была залита противным желтым светом. Ветер крутил поземку, тащил по тротуарам снежные колючки. — Послушай, — так же вкрадчиво продолжил Витя, — у звукооператора плохо с матерью, ему срочно нужно в Москву. Ты не можешь уступить ему свой билет? — А почему я, а не ты или режиссер? Кстати, сегодня 30 декабря, послезавтра Новый год, и ты хочешь, чтобы я встретил его в поезде? — Старик, — еще более печально сказал Витя, — ты же холостяк, а у нас у всех жены и дети. — Это не довод для того, чтобы снимать меня с самолета. — Тогда придется мне ехать поездом. Я посмотрел в грустные Витины глаза и сказал: «Черт с тобой». Разговор этот происходил много лет назад в городе Салехарде, где по моему сценарию снималось бессмертное документальное кинополотно об оленеводах Ямало-Ненецкого национального округа. Я мысленно проклял тот день, когда согласился ехать зимой с группой на досъемки, представив себе, как по этому морозу я сейчас попрусь на автобусе через Обь на станцию Лабытнанги, откуда шла железнодорожная линия на Котлас… Но, если говорить по совести, я был единственным свободным человеком, а все остальные накупили на детские каникулы путевки в Болшево и Репино, где располагались Дома творчества кинематографистов. Правда, мне позвонила из Москвы моя дама и твердо предупредила, что если я не приеду на Новый год в Москву, то могу забыть номер ее телефона. Но сообщение это не слишком отразилось на моем настроении. Я спустился в ресторан позавтракать. Оленина во всех видах, рыба муксун, поганая водка тюменского завода. За соседним столом я увидел знаменитого московского каталу Борю Кулика, я его встретил несколько дней назад, он с тремя подельниками приехал сюда на гастроли почесать в карты доверчивых рыбаков и геологов, получающих в декабре весьма солидные суммы за свой каторжный труд. Рядом с ним сидел человек в новеньком синем костюме и необмятой рубашке. Он был коротко стрижен, а лицо как бы обожжено северным ветром. Такого цвета лица бывают у людей, много работающих на воздухе. Я знал этого человека. По московским делам. В молодости встречал его на танцплощадках, позже в ресторане «Гранд-Отель». Чаще всего именно там; видимо, Герман (так его звали) любил больше других этот кабак. — Ты чего задержался, Боря? — спросил я Кулика. — Да вон Герка вчера откинулся, решил его встретить и вместе ехать в Москву. Герман молчал, улыбался как-то непонятно и глядел на меня с явным осуждением. Я доел свою оленину, проглотил местную бурду под названием «черный кофе» и уже собирался уходить, когда Борис спросил меня: — Слушай, вы до станции на своем автобусе едете? — Да, у нас аппаратуры навалом. — Прихватите нас? — Конечно. Я был рад этому обстоятельству, потому что Гера по кличке «Шофер» вызывал у меня острое чувство любопытства. Но ни в автобусе, ни в поезде мне так и не удалось разговорить его. Он даже несколько презрительно цедил слова, глядя мне в лицо холодно и равнодушно. В Москве, когда наш поезд подошел к перрону, он спрыгнул с площадки, притопнул ногой, словно пробуя столичную землю на прочность, улыбнулся и сказал, ни к кому не обращаясь: — Ну что ж, теперь посмотрим. Сказал и исчез в вокзальной суете. Через год он вновь возник в моей жизни. Встретились мы в ресторане ВТО на улице Горького, был когда-то там прекрасный театральный кабачок, горячо любимый всеми московскими людьми, имевшими причастность к литературе и искусству. В тот день там отмечали юбилей. Чей, точно не помню, но праздновать его собрались все. «Все» — это было особое московское понятие. «Все» считали себя сливками столичного светского общества. Туда входили, естественно, дети больших родителей. Некоторые из них нынче с телеэкрана рассказывают о своих папах в передаче «Большие родители». И конечно, модные писатели, познавшие успех кинематографисты, артисты, журналисты-международники и все те, кто был женат на иностранках. По социальным понятиям такой брак позволял занять в московских светских кругах место где-то сразу за дочерьми и сыновьями членов политбюро. Надо сказать, что Володя Высоцкий, с которым мы дружили, уже тогда был знаменитым бардом и популярным актером, но попал в избранный московский круг только после женитьбы на Марине Влади. Кроме того, в светское общество входили вездесущие торгаши, зубные техники и, безусловно, сотрудники КГБ. Так вот, весь цвет столичной полукриминальной тусовки гулял в ВТО. Я приволок цветы и подарок, вручил их юбиляру, выпил за его здоровье и решил тихонько смыться, как вдруг почувствовал на себе тяжелый взгляд. Я повернул голову и увидел шикарно одетого Германа. Я кивнул ему, он — мне, и все. Когда я уходил, то спросил у кинорежиссера Витаутаса Жалакявичуса: — Ты не знаешь, кто этот мужик в синем костюме? — Этот? Полковник из КГБ. А утром мне позвонил Боря Кулик: — Понимаешь, какое дело, ты теперь на всяких тусовках будешь встречать Герку Шофера, ну, он зарядил этим козлам, что он полковник, ты уж, пожалуйста, не сдавай его. — Боря, пусть себя называет хоть сыном Павлика Морозова. Какое мне до него дело? Действительно, какое мне было дело? Я кое-что знал об этой развеселой компании. Там крутились камушки и золото, валюта и шмотки. Но все они были, как броней, прикрыты положением родителей, ресторанными связями, товарищескими отношениями. Но все-таки «полковник» Герман Станиславович Мазур, по кличке «Шофер», интересовал меня. Я позвонил своим муровским друзьям, и они поведали мне, что гражданин Мазур родился в Москве в 1930 году, окончил два курса филфака МГУ, был исключен за поведение, не достойное звания советского студента, после чего работал снабженцем на трикотажной фабрике в Купавне, осужден по статье 88 УК РСФСР за торговлю драгоценными камнями сроком на пять лет. Освобожден по отбытии срока наказания, прописан в Москве, работает в ЖЭКе техником-смотрителем. Вот такая карьера сложилась у полковника спецслужб. От всезнающего Яши, директора мастерской металлоремонта в Столешниковом переулке, я узнал, что Мазур — один из самых крутых фарцовщиков драгоценными камнями. — У него есть возможность доставать неплохие камни, — сказал Яша. — Откуда? — Ты же знаешь наш принцип: «меньше знаешь — дольше живешь». Он работает предельно осторожно. Камни уходят в хорошие руки, откуда их чекистам и ментам не выковырять. Много позже я узнал, где крал камни Мазур. В марте 1971 года по приглашению родственников Боря Глод собрался посетить Германию. В те далекие годы немногие граждане нашей великой страны ездили с частными визитами в ФРГ, поэтому таможенная служба осматривала их особенно внимательно. Ни чемоданы, ни ручная кладь не вызвали у инспекторов таможни никаких подозрений. Боря Глад мог бы свободно пересечь таможенную границу, но один из инспекторов заметил на его пальце массивное кольцо с крупным камнем. — Позвольте взглянуть. — Пожалуйста, камень не настоящий, кольцо из сплава. Вот это показалось инспектору подозрительным, и он решил внимательно осмотреть перстень. Почему элегантный, хорошо одетый человек носит на руке такую безвкусицу? Каково же было изумление инспекторов, когда выяснилось, что перстень этот оказался футляром, в котором лежал бриллиант весом в четыре карата. Конечно, Глод сразу же заявил, что перстень ему подарили и он ничего не знал о том, что находится внутри. Дело приняло к производству Следственное управление КГБ. Глод понял, что с контрразведкой шутить не надо, и начал понемногу колоться. Так выяснилось, что буквально в ста шагах от сурового дома КГБ находится маленькая ювелирная фабричонка, расположенная в церкви как раз между зданием КГБ и магазином «Детский мир». То, что там творилось, никакому описанию не поддавалось. На фабрике, вернее, в большом цехе никто не отвечал за сохранность драгоценных камней. Начальник цеха и мастер могли спокойно выносить любое количество камней, недостачу которых потом списывали на разрушение при резке. Фабрика получала неплохие камни, поэтому московские спекулянты бриллиантами буквально охотились за ними. Тут-то и появлялся недоучившийся филолог Мазур. Но он так обставил дело, что следствие не зацепило его даже в свидетели. В марте арестовали Глода, а в июне забрали в Лефортово восемь человек во главе с начальником цеха. У арестованных изъяли полмиллиона рублей, что по тем временам считалось суммой баснословной, и шестьдесят отличных бриллиантов. Это было самое крупное бриллиантовое дело тех лет, им заинтересовался сам председатель КГБ Юрий Андропов. Он и приказал полковнику Добровольскому устроить показ ценностей для руководства комитета. Вся верхушка КГБ — Андропов, Цвигун, Цинев, Пирожков — ходили мимо импровизированного стенда, брали камни в руки. Рассматривали их. Конечно, ситуация была предельно опасной для следователей группы. Не дай бог, какой-то камушек случайно закатится в щель на полу или еще что-нибудь… Но все обошлось. Хотя у всех на памяти была странная история с золотыми самородками. Ребята из МУРа закрыли канал, по которому из Магадана уплывало в Москву самородное золото. Несколько месяцев шла разработка преступников, в банду под видом покупателя внедрялся сотрудник МУРа. Дело было опасным. Золотом в те времена торговали люди, которые чужой крови не боялись. И все-таки их взяли. Министр внутренних дел Николай Щелоков доложил об этом напрямую Брежневу. Генсек сам любил золотишко, а тут такая возможность своими глазами увидеть уникальные самородки. Надо сказать, что мне приходилось видеть самородное золото и золотой песок, или шлих. Золотой песок мало напоминает по цвету те изделия, которые из него делают. Самородки — совсем другое дело. Сама природа придает им особую форму. Я держал в руках кусок золота, слепленный этим великим мастером в виде собачьей головы. Держал в руках и удивлялся, как в земле, в породе, где залегает золотая жила, можно было создать такую вислоухую голову доброго дворового пса. Но это все лирика. Золотые слитки были привезены в здание штаба ленинской партии, разложены и открыты для глаз членов и кандидатов в члены политбюро. Уж я не знаю, как и сколько они смотрели все это богатство, брали в руки самородки или нет, только следователь Подшивалов, который отвечал за доставку золота в ЦК КПСС, принимая ценности обратно, обнаружил, что не хватает одного стопятидесятиграммового самородка. Несчастный следак сразу же представил картину своего исключения из партии, позорного увольнения из органов и даже тюремные решетки. Но он был парнем не трусливым, достал акты сдачи и приемки и положил их перед растерянными чиновниками секретариата Брежнева. Скандал докатился до генсека. Тот собрал всех членов политбюро и сказал, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Члены политбюро осознали глубину праведного гнева Брежнева и самородок был возвращен. Кто его спер, видимо, знал только покойный генсек. Когда-то многие наши соотечественники добросовестно заблуждались, считая, что наши золотые изделия и камни имеют огромную ценность за границей социалистического лагеря. Конечно, золото всегда останется золотом, драгоценные камни — драгоценными камнями. Наш доверчивый покупатель, простояв многочасовую очередь в ювелирный магазин и приобретя золотую цепочку, считал, что он необыкновенно удачно вложил деньги. Когда же он попадал на Запад и видел целые улицы ювелирных лавок, то сразу же понимал, что драгметалл не так уж и ценится. Но в Москве в те времена об этом знали не многие. Но люди, имевшие представление о мировом рынке ценностей, располагали и информацией о ценах. Несмотря на «лечение от золотухи», которое в свое время проводило ВЧК-ОГПУ, несмотря на голод, войну, послевоенную неразбериху, у многих московских людей остались на черный день припрятаны дорогие ювелирные украшения, сработанные превосходными мастерами и украшенные стоящими камушками. Мы, как известно, жили в стране победившего дефицита, поэтому в городе было несметное количество мелких спекулянтов. Иначе говоря, людей, которые могли обеспечить вас дефицитом. Мне кажется, такие мелкие спекулянты были в каждом дворе. Когда я жил на улице Москвина, то обращался за помощью к некой Алле Михайловне, обретавшейся в доме № 3, она помогала мне достать хорошие туфли или рубашку. Надо сказать, подобные дамы работали в разных московских конторах, но только там, где была возможность спокойно уйти с работы днем. Они выстаивали длиннющие очереди за дефицитными вещами, а потом продавали их соседям с минимальной наценкой. Довольны были все. Отношения между продавцом и покупателями были просто патриархальными, поэтому к ним обращались с просьбой помочь продать старинный сервиз, гобелен, а частенько и старинные украшения. Для такого случая у многих были свои тихие ювелиры, которые уже давно числились пенсионерами, но продолжали работать посредниками. По-настоящему богатыми людьми были только московские деловые. Только они могли дать настоящую цену. Как ни странно, подобные формы купли-продажи нашли в городе твердую основу. Люди приносили золотые монеты, кольца, кулоны. Все, что смогли сберечь их экономные мамы и бабушки. Появилась возможность вложить деньги, люди становились пайщиками ЖСК, покупали автомобили, строили на полученных на производстве садово-огородных участках хорошие домишки. Если бы наше дорогое государство принимало у населения эти цацки по нормальной цене, никому бы и в голову не пришло иметь дело с мелкими дворовыми спекулянтами. Но государство твердо стояло на своем и принимало в скупках редкое ювелирное изделие как золотой лом, за копейки. Поэтому и существовал этот маленький черный рынок. Я уже говорил, что редкие дорогие вещи уплывали к московским деловым. Где они прятали свое добро, о том не знал никто. Их жены могли только на домашних праздниках появляться перед гостями во всей приобретенной красоте. Много позже, в 80-е годы, они перестанут бояться и их дамы засверкают в ресторанах и театрах изумительными украшениями. Лихие ребятишки поняли, что брать госсобственность опасно и тяжело, и решили бомбить цеховиков. Главное заключалось в том, чтобы делец, напуганный до смерти, сам отдавал свои ценности и деньги. Но как узнаешь, у кого они есть, а у кого, кроме дубленки и «Жигулей» по доверенности, ничего нет? Вот тогда-то и началась кропотливая оперативная работа. Мощному аппарату ОБХСС в сравнении с ушлыми ребятами просто было нечего делать. Но для настоящего дела нужны были люди, имевшие возможность беспрепятственно проникать в стан врагов. Были и другие, более тонкие методы. Дельца заманивали в катран (подпольный игорный дом), где его обыгрывали или подставляли красивую девушку. Второй способ был наиболее эффективным. И денег на подготовительную работу не жалели. Я знал одну такую даму, звали ее Нина Акула. Она-то и рассказала мне историю, как с товарищами вытряхнула деньги у проживающего ныне в далеком государстве Израиль крупнейшего московского цеховика Лени Белкина. В те годы начала расцветать новая форма обогащения — подсобные производства при колхозах. Все сельские хозяйства, находившиеся в зоне рискованного земледелия, жили небогато и трудно. Когда государство, войдя в тяжелое положение сельских тружеников, разрешило подсобные предприятия, то целая орда веселых дельцов кинулась поднимать запущенное сельское хозяйство Нечерноземья. Чего только не выпускали эти предприятия! Платки, чеканку, фотографии киноартистов, трикотажные кофточки, обувь. Товар расходился лихо, и в кассах колхозов появились живые деньги. Можно было платить зарплату, начинать строительство, думать о приобретении техники. Но большая часть прибыли оседала в карманах цеховиков. Дело Белкина процветало, у него было два цеха в подмосковном колхозе. Один выпускал резиновую обувь, второй — трикотаж. И вот он приехал на десяток дней отдохнуть в город Пярну, на любимый эстонский курорт, в страну взбитых сливок и ликера «Вана Таллин». И почему-то вышло так, что его комната в пансионате «Каякас» оказалась рядом с апартаментом Нины Акулы. Роман начался стремительно. Прекрасная дама по уши влюбилась в рослого и симпатичного Белкина. Ах, эти ночи на взморье! Терраса ресторана «Раана-Хона», повисшая над заливом, маленькое кафе на Морской улице, тихий парк, населенный ручными белками. Потом Москва, уютная квартира новой подруги на улице великого драматурга Островского в Замоскворечье. Еще никогда в жизни его так не любили. Белкин всерьез уже начал подумывать о перспективах совместной жизни со своей возлюбленной. Все было прекрасно, но однажды председатель колхоза зашел к Белкину и рассказал, что им упорно интересуется ОБХСС. А потом подъехали два молодых опера. Поговорили о сырье, о поставках, о товаре. Белкин был паренек тертый и хорошо знал, чем могут закончиться такие визиты. Он приехал к любимой, все рассказал ей и попросил спрятать кое-какие ценности. Любимая проплакала весь вечер, чем еще больше разбередила Ленино сердце. Черт с этим ОБХСС, главное, что он любим. В цеху бухгалтерия приведена в идеальный порядок, при обыске в доме не найдут ничего. Пробьемся! Он привез заветный чемодан на улицу великого драматурга и поехал в колхоз. Вечером, купив парного мяса, он прилетел на крыльях любви, открыл дверь квартиры и ничего не понял. Прихожая пуста, не было ни бронзовой люстры, ни ковровой дорожки, ни зеркала. Только стенной шкаф распахнул дверцы, словно собираясь его обнять. Он вошел в комнату и не увидел мебели. Тогда Леня понял, что его кинули, а жаловаться некому. Вот какую историю рассказала мне замечательная дама. Я слушал эту историю, смотрел на Нинку Акулу и никак не мог вспомнить, где видел ее раньше. А потом все-таки выскреб из памяти ресторан ВТО, элегантного Мазура и красивую брюнетку рядом с ним. — Нина, — спросил я, — это дело Гера Мазур поставил? — Откуда вы знаете? — Догадываюсь. Два года назад я приехал в Антверпен. Времени было немного, и я торопился в Брюссель, но здесь мне надо было обязательно встретиться с человеком, который обещал рассказать о некоторых делах, связанных с русскими бриллиантами. Мы сидели в кафе на главной площади у ратуши. Было жарко. На площадь въехал белый «мерседес», и из него вышел Гера Мазур. Равнодушно мазнул по площади холодными глазами и не торопясь стал подниматься по ступеням ратуши. И я вспомнил Салехард, и ресторан «Север», и бывшего зека в новом костюме. До чего же интересно устроена жизнь. Глава 2 Ностальгия Золотой переулок А потом зажгли фонари и неестественно желтый свет залил переулок. Он был неприятным и зыбким, казалось, что дома заразились инфекционным гепатитом. Я стоял у часовни, построенной в конце переулка, смотрел на Столешников — он был удивительно похож на кинодекорацию. Весенние сумерки только что опустились на город, переулок был пуст, только витрины дорогих бутиков сообщали о необыкновенно выгодных скидках по случаю окончания зимы. Я смотрел на черные, пустые окна домов. В них больше никто не живет… Остался здесь единственный долгожитель, Владимир Гиляровский, хитро глядящий на пустой переулок с мемориальной доски, прикрученной к стене дома № 9. А когда-то за этими пустыми окнами жили мои беспутные друзья и хорошенькие девочки, с которыми мы крутили легкие, веселые романы. В то время Столешников переулок был одним из самых модных в Москве. Жить в нем считалось необыкновенно престижно для определенного, но многочисленного людского слоя тех лет. За любую доплату вселялась сюда трудовая-деловая столичная аристократия. Сюда стремились короли трикотажных артелей. Принцы ювелирных дел. Герцоги металлоремонта… Столешников был не просто городской улицей, а своеобразной жизненной установкой, идеологией, если хотите. Две комиссионки, два магазина «Меха», ювелирный, вещевая скупка, в которой царствовал Боря Могитлевский, букинистический магазин, лучшая в Москве табачная лавка, ресторан «Урал» в маленькой одноименной гостинице, роскошное кафе «Красный мак». И, конечно, скупка ювелирных изделий и золота. Находилась она на Петровке, но была в створе Столешникова, поэтому и именовалась как «золотишник» в Столешникове. Во дворах было несметное количество частных и государственных мастерских: металлоремонт, реставрация фафора, ювелирные работы, пошив кепок, скорняжные услуги. Если бы можно было повернуть стрелки назад… Как у Стэнли Кубрика в фильме «Сияние». Помните, Джек Николсон входит в пустой бар и он внезапно заполняется тенями прошлого… Наверняка по переулку ровно в двенадцать прошел бы человек в ратиновом пальто с дорогим шалевым воротником, в круглой меховой, ее тогда называли боярской, шапке. Он солидно шел сквозь суетную толпу, спешащую в комиссионки, в кафе «Красный мак». Немногие сегодня помнят это самое элегантное московское кафе. Зал его находился на двух уровнях, как когда-то в кафе «Артистическое», задрапированные стены, красные удобные кресла, тяжелые бархатные занавеси, вытканные красными маками. Вечером на каждом столике зажигались лампочки с красивыми абажурами. Полумрак и интим. И кухня была здесь прекрасная. Но вернемся к человеку в ратиновом пальто. Он приходил в кафе ровно к двенадцати, усаживался всегда за один и тот же столик, обслуживал его метр, никому не доверяя ухаживать за столь дорогим гостем. Этого человека побаивались. Фамилия его была Мохов, звали Альберт Васильевич. И кличка у него была. В определенных кругах его звали «Темный». Но Альберт Васильевич не был ни налетчиком, ни трикотажным дельцом. У него была престижная профессия, дававшая ему определенное положение среди московских деловых. Он был ювелиром. И очень хорошим. Работал он на дому, имел официальный патент, платил положенные фининспекции деньги всегда вовремя. Но даже если бы он запоздал с оплатой, думаю, ни один фининспектор не отважился бы его беспокоить. Мохов был «темным» ювелиром, он выполнял неучтенную левую работу для «пламенных» чекистов братьев Кобуловых, министра госбезопасности Меркулова и их грузинских коллег. Поговаривали, что у него бывал полковник Саркисов, начальник охраны Лаврентия Берия. Телохранитель заказывал недорогие безделушки, которыми лубянский маршал одаривал своих многочисленных любовниц. Колечки и браслеты были выполнены Моховым так элегантно и красиво, что производили впечатление очень дорогих вещей. Разные слухи ходили по Москве о работе Альберта Васильевича. Говорили, что Амаяк и Богдан Кобуловы, генералы МГБ, соратники всесильного Берия, привозили к Мохову уникальные вещи, изъятые на обысках, но почему-то не попавшие в протоколы, и Темный переделывал их, давая камням и золоту новую жизнь. Мохова в его кругу побаивались, старались не сближаться с ним, поэтому он заводил широкие знакомства среди московской артистической богемы. В 1951 году, на Рижском взморье, я впервые увидел его в компании Александра Вертинского. В 50-м году в Москве появилась весьма опасная группа разгонщиков. Как потом выяснилось, в нее входили молодые офицеры, уволенные из армии в 45-м и 46-м годах. Практически все из них прошли войну, не боялись ни крови, ни опасности. Что любопытно, все пятеро некоторое время служили в Германии и Австрии, привыкли к легким послевоенным деньгам, которые сами текли в руки на бывшей вражеской территории. Они вернулись домой, поступили на работу и в институты, но запасы скоро кончились, а московские рестораны каждый вечер манили к себе молодых лейтенантов. Тогда они придумали беспроигрышную схему. Они начали бомбить цеховиков и торгашей. Но делали это так, как их учили в армии. Сначала разведка. Молодые, хорошо одетые, щедрые ребята-фронтовики с хорошенькими девушками стали постоянными посетителями самого модного в ту пору ресторана «Аврора» на Петровских линиях, там нынче кабак «Будапешт». В этом ресторане ежевечерне собирались артельщики, торгаши, деловые люди из Столешникова. Там ребята знакомились с деловыми людьми, пили с ними и выведывали их маленькие тайны. А через несколько дней в квартире подпольного дельца раздавался звонок. Входили двое или трое молодых людей, предъявляли муровские книжечки, клали на стол ордера на обыск и начинали изъятие денег и ценностей, нажитых преступным путем. Все оформлялось по всем правилам. Протокол изъятия, протокол допроса. Потом перепуганному цеховику говорили, что он может переночевать дома, а утром прибыть в МУР, где на его имя будет заказан пропуск. Лейтенанты были неплохими психологами. Они точно знали, что никто добровольно в тюрьму не пойдет. Так и было, дельцы исчезали из Москвы тем же вечером. По Столешникову поползли страшные слухи, говорили об особой бригаде, расследующей дела крупных дельцов. Многие грешили на Мохова. Его стали бояться еще больше. Но одного не учли веселые разгонщики-лейтенанты: среди деловых была прочная прослойка агентуры МГБ. Вот к одному из негласных помощников органов они однажды и пришли с обыском. Утром директор магазина «Меха» не сбежал из города, а отправился прямехонько к оперу, у которого был на связи. Тот позвонил в МУР… Ну а дальше все пошло заведенным порядком. Через месяц в доме № 9, на котором нынче висит мемориальная доска московскому репортеру, на третьем этаже оперативники УМГБ задержали разгонщиков. Взяли троих, а один, бывший лейтенант из армейской разведроты, прошедший все, что может пройти отважный человек на страшной войне, выпрыгнул из окна третьего этажа во двор и исчез в лабиринтах проходных дворов Столешникова, Петровки, улицы Москвина. Он не боялся, что его выдадут подельники. И они его не выдали. Почти через полвека мы пришли с ним в этот двор, и он показал мне окно и провел по чудом уцелевшим дворам и подъездам-«сквознякам». Теперь он уважаемый в стране кинематографист. Но я не буду без его разрешения называть его фамилию… А что же случилось с «темным» ювелиром? Как рассказали мне старые чекисты, он пал жертвой ведомственных интриг. Министр госбезопасности Виктор Абакумов начал собирать компру на бериевскую бражку. И в первую очередь, на развеселых кавказцев — братьев Кобуловых и генерала Гоглидзе. Люди всесильного министра вышли на Мохова, но допросить его не успели. Он исчез. Поехал по телефонному звонку неизвестного человека оценивать редкое ожерелье — и больше его никто не видел. В 1984 году в дачном поселке Малаховка были убиты и ограблены Гоглидзе Евлалия Федоровна и ее дочь Галина. Убил их вор-домушник Крекшин, впервые пошедший на мокрое дело из-за большого количества драгоценностей. Многие из них, как выяснилось позже, имели музейную ценность. Откуда у замминистра МГБ, расстрелянного по делу Берия генерал-полковника Гоглидзе, такие ценности? Вот выдержка из протокола допроса бывшего заместителя МВД Грузии генерала Каранадзе: «…лучшие вещи арестованных крупных людей забирались всегда Кабуловыми, женами Гоглидзе Сергея и Беришвили Константина, которые даже дрались из-за них между собой». В 1937 году, в момент массовых репрессий, Сергей Гоглидзе был народным комиссаром внутренних дел Грузии. А как мы знаем, там всегда было много богатых людей. Убийцу семьи Гоглидзе Крекшина арестовали, большую часть драгоценностей изъяли. Эксперт, работавший с ним, рассказал мне, что там было больше десяти работ «темного» ювелира Мохова. Столешников был во времена великого вождя народов неким олицетворением иной жизни, богатой и разгульной. В газетах писали о невиданных рекордах хлеборобов Нечерноземья. В кино шли фильмы о военных и трудовых подвигах. Писатели радовали нас томами «Кавалер Золотой Звезды» и «Далеко от Москвы». А Столешников жил по другим законам. С утра до вечера в нем толкались красивые элегантные женщины, да и мужчины были хоть куда. И у Столешникова, как у многих его завсегдатаев, была в Москве кликуха — Спекулешников переулок. Но на фоне лживой морали тех лет переулок жил честно, он не скрывал свои пороки, он гордился ими. А потом я уехал и не был в Союзе долгих пять лет, а когда вернулся, то сразу же увидел плоды трудов Никиты Сергеевича Хрущева. Он наотмашь начал бороться с культом личности и его пережитками. Нет больше ресторана «Аврора», вместо него — «Пекин» (а позже «Будапешт»), но не гуляют там веселые артельщики, потому что Хрущев прикрыл Промкооперацию. Он не цеховиков лишил теневых денег, а нас — хороших недорогих вещей: трикотажных рубашек, модельных ботинок, спортивных товаров. Борьба «с последствиями культа личности» началась с закрытия «Коктейль-холла». Стремительно менялись интерьеры в кафе и ресторанах. Из «Гранд-Отеля» исчезли редчайшие вазы, которые даже ЧК в былые годы не тронуло. Они выплыли в неком поселке под кличкой «Заветы Ильича», на Воробьевых горах. Видимо, туда же ушли и бронзовые, редкой красоты торшеры из кафе «Артистическое», и мебель из кафе «Красный мак». Борьба со сталинскими излишествами обрушилась на город. Снимали с домов лепнину и фигуры, крушили дубовые бесценные панели в театрах и ресторанах, забыв о том, что сделаны они были в прошлом веке и к Сталину отношения не имели. Москва, как огромный корабль, вплывала в новую эпоху. Конечно, пострадал и Столешников. Кафе «Красный мак» превратилось в грязную забегаловку с пластиковыми липкими столиками. Но зато напротив общественного туалета, где теперь, кстати, ресторан «У Кузьмы», открыли чудо-забегаловку с хитрым автоматом, жарившим удивительно вкусные пончики, обсыпанные сахарной пудрой. В фирменном винном магазине появились невиданные доселе разноцветные импортные бутылки вин, ликеров, коньяков. Оттепель! Под этим веселым знаком начала выстраиваться наша жизнь. Я жил рядом, на улице Москвина, поэтому обедал частенько в ресторане «Урал», который обошли все социальные новшества. В нем по-прежнему было вкусно и дешево. Забавная история произошла там со мной зимой 64-го года. Ко мне зашли два моих товарища. Они были братьями, и хотя один из них родился на два года позже, были они удивительно похожи. Мы выпили дома, а потом решили, по нашим скромным деньгам, посидеть в «Урале». Там меня знали, поэтому соорудили к водке дешевую, но обильную закуску, и мы повели наш неспешный разговор. Но вдруг я заметил, что зал опустел, а столики вокруг нас заняли люди с до боли знакомым выражением лица. Мы собирались выпить по третьей, как в лицо нам направили стволы. — Не дергайтесь! Руки на стол! Мы положили руки на скатерть. На нас надели наручники, затолкали в машину и привезли в «полтинник»— легендарное 50-е отделение милиции, находящееся на Пушкинской улице, чуть наискось от Столешникова Надо сказать, что в это самое время в Москве появился опасный убийца по кличке «Мосгаз». Он звонил в дверь, представлялся слесарем Мосгаза, проникал в квартиру и топором убивал хозяев. Не щадил ни детей, ни стариков. Несколько месяцев Москва была на осадном положении. Милицию лихорадило, тем более что Хрущев держал дело под неусыпным контролем и ежедневно материл начальника московской милиции. Когда нас везли в машине, я внезапно отчетливо вспомнил розыскную фотографию преступника, сделанную по фотороботу, которая лежала у меня на работе. Узкое лицо, удлиненный нос. Тонкие губы, твердый подбородок. И тут я понял, что мои дружки, братья Миша и Саша, чудовищно похожи на фоторобот злодея. Но так думал не один я, поэтому нас рассадили по разным комнатам и начали допрашивать. Как я понял, у оперов из «полтинника» сложилась железная версия. Двое убийц, работают в разных районах. А я или наводчик, или организатор банды. Допрашивали нас часа два, за это время успели выяснить, что мои друзья — весьма уважаемые люди. Один— крупный строитель, второй — известный скульптор. Меня они сами прекрасно знали. Когда нас истомили допросами, в комнату влетел запыхавшийся опер из МУРа. — Выкиньте тот фоторобот… — далее он сказал, куда его нужно выкинуть, — вот фотография мочилы. Фамилия его Ионесян. Он актер. На фотографии Ионесян сидел, как положено актеру, в неестественно завлекательной позе, был красив сладковато, не по-мужски. Ничего общего с фотороботом. Инцидент был исчерпан, и мы вместе с операми пошли в «Урал», где и выпили за то, чтобы не быть похожими на фоторобот. Теперь, когда по телевизору показывают фотороботы преступников, я всегда вспоминаю эту старую историю. Несколько лет назад мой приятель привез из Америки видеокассету. — Посмотри, увидишь много знакомых. Сначала на экране телевизора возник знак фирмы, создавшей это эпохальное полотно. Он парил над панорамой Нью-Йорка. Потом камера стала стремительно спускаться и из переплетений улиц и хаоса домов точно выбрала элегантный особняк с колоннами, смахивающий на Белый дом. А в доме том играли свадьбу. И я увидел знакомые лица. Раньше их всегда можно было встретить в хороших ресторанах, творческих домах, на премьерах в Доме кино. Целая галерея знакомых лиц, не подумайте ничего дурного: это были не грабители. Это была все та же «трудовая-деловая интеллигенция». Хозяева часовых мастерских, руководители металлоремонта, пионеры палаточной торговли. Это был особый мир Москвы, со своими нравами, понятиями чести, привязанностями и, естественно, героями. Теперь этого мира нет. Поэтому нельзя починить хорошие часы, быстро сделать ключи, которые бы открывали двери, сшить красивую кепку. Но кроме всего прочего, мир этот был невероятно интересен для человека, пытающегося разобраться в проблемах криминальной Москвы. В маленькие кабинеты заведующих мастерскими и директоров ателье стекалась потрясающая информация, которая, процентов на восемьдесят, оказывалась точной. Я уже сказал, что в этом мире были свои герои, но был и свой бог. Камень. Булыжник. Розочка. Однажды я зашел к своему приятелю Ефиму сделать запасные ключи. В его крохотной шестиметровой комнатке, гордо именуемой кабинетом, сидел вполне респектабельный человек в модном кожаном пиджаке. На столе лежали свежие калачи, открытая банка черной икры и, конечно, стояла хорошая бутылка. — Знакомься, — сказал Ефим с гордостью, — твой коллега Юра Брохин, сценарист, его фильм в Швейцарии приз получил. Так я познакомился с этим странным человеком. И сколько я его знал, он не переставал удивлять меня. И прежде всего — своими связями. В круг его знакомых входили и крупные дельцы, и богатые (подчеркиваю это определение), процветающие деятели культуры, важные чиновники из Моссовета, ЦК, жены и дети членов политбюро и сама Галина Леонидовна Брежнева. Очень долго я не мог связать этих сановных людей с директорами (которые в штатном расписании именовались мастерами) мелких ремонтных и пошивочных мастерских. Только потом я понял, что все эти скромные службы быта являлись местами, куда по неведомым каналам поступали драгоценные камни и валюта. А мой знакомый сценарист Юра оказался одним из крупнейших посредников между скромными лавочками в Столешниковом и роскошными домами, где проживала наша знать. Как-то Юра Брохин, сильно выпив, что бывало с ним крайне редко, сказал мне: — Вот когда напишу книжку, это будут не ваши детективы. Я всех этих Брежневых, Гришиных, Мазуровых наизнанку выверну. Сказал и сразу отрезвел, испугавшись. После этого разговора мы больше не виделись. Я мельком разглядел его в аэропорту: он улетал в Израиль. Много позже я узнал, что Юра, помимо всего прочего, был заметной фигурой в днепропетровской и харьковской блатной тусовке. А как-то меня встретил на улице товарищ, прилетевший из Нью-Йорка. Мы поговорили о том, как красиво загнивают наши идеологические враги, и распрощались. — Слушай, — крикнул он мне в спину, — твоего знакомого там застрелили. — Кого? — Да сценариста Юру Брохина. — За что? — Не знаю, но любопытно другое: у него на столе лежал кейс, в нем было пятьдесят тысяч долларов, так их не взяли. Обычная улица Оушн-парквей в Бруклине. Она с виду не отличается от тысяч других в Нью-Йорке. Но на тротуарах русская речь перемешана с украинской мовой, а английский — с идиш. На лавочке, в нескольких шагах от подъезда, сидят женщины в пестрых халатах и тапочках. Ну совсем как в Одессе. В этом доме на площадке пятого этажа был убит бывший ленинградский вор в законе Евсей Агрон. Много лет назад в Ленинграде, в ресторане гостиницы «Европейская», мой товарищ из ЛУРа показал мне маленького лысоватого человека в голубом териленовом костюме и сказал: — Вот и твой будущий герой пришел. — Кто это? — Большая сволочь, Евсей Агрон, вор, мошенник и бомбардир. Хочешь, покажу его дело? — Конечно. Но как-то не до лысого уголовника мне тогда было, я работал со страшным материалом — преступностью в блокадном Ленинграде. По сравнению с тем ужасом человек в голубом костюме был просто мелкой уголовной шпаной. А через двадцать лет я стою у дома, где когда-то жил бруклинский мафиозо, наводивший безумный страх на лавочников-эмигрантов из Советского Союза. Но не Агрон интересовал меня. В этом же доме убили и Брохина. Знакомые в Нью-Йорке рассказали мне, что Юра Брохин издал здесь книгу под названием «Сека», о каталах. Надо сказать, что сочинение это даже пользовалось некоторым успехом среди бывших советских граждан. Ночью, на Брайтон-Бич, мы сидели в ресторане «Одесса» со старинным знакомцем по Москве, королем металлоремонта Ефимом, и он рассказывал мне о делах сценариста Брохина. На следующий день я поехал на 47-ю улицу. Один ее квартал, между 5-й и 6-й авеню, знают ювелиры всего мира. Сюда поставляются драгоценные камни из ЮАР и Малайзии, из Гонконга и Амстердама. Эту улицу считают самой богатой в Нью-Йорке. Как мне сказали, ежегодный ее оборот составляет четыре миллиарда долларов. Именно здесь лихие ребята с Брайтон-Бич открыли свое ювелирное дело. Почему здесь? Да потому, что один адрес магазина внушал почтение профессиональным ювелирам. Правда, брайтонские ребята не покупали камни у своих коллег из Амстердама. Камни и украшения им приносили в условленное место. Это были золотые изделия и бриллианты, которые беззастенчиво похищали эмигранты — служащие ювелирной компании «Жордине». За несколько лет жители Брайтон-Бич обокрали компанию на 54 (!) миллиона долларов. Кроме того, сюда сбрасывали награбленное ловкие одесские, московские, ленинградские налетчики. И тогда появился Брохин. В Америку часто приезжала его московская клиентура. Все те же чиновники и «члены семей». Им-то и устраивал бывший сценарист камни и украшения по цене ниже рыночной. Той ночью Ефим сказал мне: — Ты знаешь, Юра работал над книгой про наше высокопоставленное жулье. В ней он хотел рассказать о делах Гали Брежневой и других. Думаю, его убрал КГБ. Конечно, на КГБ нынче модно валить все. В полиции люди, специально занимающиеся русской преступностью, сказали, что наверняка убийцу нанял Агрон. Но тогда меня не очень интересовало старое дело об убийстве Юрия Брохина. Меня интересовал след. Нить, связывающая маленькие лавочки в Столешниковом, на Сретенке, на Покровке с домами, которые тогда именовались режимными. Разлетелись по всему свету деловые люди из Столешникова переулка, а тут и перестройка подоспела, на каждом углу можно купить так искомую в те годы валюту, а золото и драгоценности незаконно, но совершенно спокойно вывозят тоннами на Запад. Документы подписывают вице-премьеры правительства. Опустел Столешников. Разрушен его лукавый и веселый мирок. А то, что построили на обломках, мы наблюдаем уже больше десяти лет. Страшные сказки старого Арбата Весна. Солнце. Старый Арбат. Здоровенная вывеска практически по всему фасаду: «Мир новых русских». Я не пошел в этот магазин. Зачем? Я никогда не буду принадлежать к этому «элитарному» слою. А главное — не хочу. Итак, Старый Арбат. Конец апреля. Ощущение нереальности и буффонады, как на эскизах Сомова. Московский Монмартр из Арбата не получился. Поначалу набежали туда лохматые художники, украсили подоконники и стены домов работами, выкопанными из загашников мастерских, заиграли у театра Вахтангова веселые московские джазмены, запели доморощенные барды, а фотографы-пушкари готовы были сфотографировать вас с грустным медведем или обезьянкой с глазами мученика. На этой улице можно было купить и продать все: Звезду Героя и орден Ленина, Георгиевский крест и немецкую медаль, генеральскую форму и куртку десантника. А в арках начали крушить лохов веселые наперсточники, в переулках на скамеечках расположились солидные игроки в железку. Монмартра не получилось. Просто появилась в Москве свободная зона, типа махновского Гуляйполя на Украине во время Гражданской войны. Но за всей видимой отвязанностью и анархией существовал твердый порядок. Улица и примыкающие к ней переулки были разделена на три сферы влияния. От «Праги» до дома № 12 территорию контролировали чеченцы, до театра Вахтангова — борцы, а дальше были охотничьи угодья солнцевских. Такса была стандартная. Четыреста баксов в месяц со стола или подоконника. Каждого пятого числа появлялся сборщик податей и получал «зеленого друга» с художников и торговцев. Видимо, бойцам их криминальные авторитеты приказали на этой культурной территории вести себя крайне интеллигентно, поэтому, если человек не мог в назначенное время отдать всю сумму, на него не «наезжали» и не «включали счетчик», просто объясняли, куда позже принести остаток долга. Я тогда довольно часто бывал на Арбате, ходил среди художников, разыскивая акварели с видами старой Москвы. Это нынче наши уличные живописцы рисуют одни церкви, а тогда можно было найти весьма интересные работы. На Арбате торговали своими картинами несколько ребят, удивительно нежно и трогательно писавших старые московские переулки, осенние бульвары, загадочные проходные дворы. Цены у них были вполне приемлемые, и я купил несколько рисунков милых мне городских уголков. Однажды я подошел к своему знакомому художнику Алику и не узнал его. Лицо его больше напоминало вчерашнюю пиццу. — Что с вами? И Алик нарисовал мне леденящую душу картину. Два дня назад, пятого числа, к нему подошел новый сборщик солнцевских. Алик дал сто пятьдесят долларов и сказал, что остальные передаст, как и было раньше, через несколько дней «смотрящему». Сборщик был молод и крепок. Видимо, из бывших боксеров. Он затащил художника в подворотню и отработал, как грушу в тренировочном зале. Уходя, он объявил, что «ставит его на счетчик». Надо сказать, что в основном арбатские живописцы весом и статью разительно отличались от субтильного Алика, да и характер у них был весьма крутоватый. Они отправились к «смотрящему». Тот понял, что дело плохо, народный бунт всегда страшен. Солнцевский посол сказал, что завтра же уладит это дело и никакого беспредела на своей территории не допустит. В двенадцать, когда почти все художники были в сборе, в пешеходную зону въехал роскошный «ауди». Из машины вылез сам бригадир. Он выволок из нее беспредельщика, прилюдно избил его и заставил извиниться перед Аликом. После этого бригадир объяснил художникам, что парень до этого работал в другом районе, по палаткам, а там нравы — упаси бог, и пообещал, что больше никаких эксцессов не будет. Кстати, так и случилось, и многие художники, перешедшие после разгона арбатской торговли в 1994 году на Крымскую набережную, с тоской вспоминают прежние порядки. Нет, не получилось из Арбата российского Монмартра. Он стал прибежищем залетных катал, наркоманов и карманников. Но было и другое. На моей памяти в Москве было четыре деловых района: Столешников переулок, промышлявший золотом и камнями; Сретенка и близлежащие переулки — прибежище скорняков и меховщиков; Кузнецкий мост — марки икнижные раритеты; Арбат— подпольный центр столичного антиквариата. Улица была многолетним местом встреч крупных антикварных дельцов. После смерти Сталина, когда ресторан «Прага» вновь стал местом «общественного питания» — до этого там находился оперативный штаб охраны сталинской трассы, — антикварные короли собирались в элегантном кафе «Прага» на первом этаже. Потом, когда в 62-м году открыли кафе «Московское», они переместились туда. Сегодня очень много говорят о коррупции и срастании криминала с властью, а произошло это очень давно, как только красный комиссар, закованный в кожу, начал обживаться в Москве. Жених он был выгодный по тем несладким временам, поэтому от московских барышень отбою не было. И тогда комиссар снимал кожу и шил костюм у Лукова или Альтшуллера — были в те далекие годы нэпа известные московские портные, — ну а дальше начиналось падение в мелкобуржуазную трясину. Квартира, мебель, ковры, картины на стены. Вазы Грачева и Фаберже. Так сковывалась тонкая, но необыкновенно прочная цепочка, соединяющая номенклатурные квартиры с антикварами, меховщиками, золотишниками. В те годы именно Арбат определял стоимость живописи, скульптур, работ известных ювелиров. Надо сказать, что и сегодня он диктует цены и определяет спрос. Не надо думать, что это честное и красивое занятие. За многими прекрасными вещами тянется такой кровавый след, что может перевесить любую бандитскую разборку. На несостоявшемся Монмартре стали возникать антикварные лавки. Но солидного покупателя не было. Да и кто пойдет приобретать редкую вещь на улицу, ставшую зоной беспредела… Уж на какие кнопки нажали короли антиквариата, я не знаю, но 19 апреля 1994 года появилось историческое постановление «О запрете торговли на улице Арбат». Прочитав сей документ, начальник 5-го отделения милиции почувствовал прилив радостной энергии и за три дня очистил улицу от художников, мелких торговцев и иного антиобщественного элемента. Надо сказать, что мудрое это постановление не отвадило всевозможных разбойников от столь привлекательной улицы. Сегодня Арбат и его переулки практически застроены. Отремонтированы многие старые дома, из которых выселили коренных жителей этого славного московского места, выстроены новые хоромы для нынешних чиновников и нуворишей. А совсем недавно район поражал огромным количеством пустых домов. В них селились бомжи, московские хиппи и наркоманы. Ходить поздним вечером по Кривоарбатским, Афанасьевским, Власьевским переулкам было не безопасно. Я уже писал о грустном медвежонке, собственности фотографа-пушкаря. Исчез фотограф, исчез медвежонок, обожавший булочки и конфеты. Так уж случилось, что я шел довольно поздно из нового ВТО домой по Кривоарбатскому переулку. Фонари горели через один. Дома пугающе смотрели выбитыми окнами. Скажу сразу, у меня не было никакого настроения встречаться с милыми московскими хиппи или наркоманами. Проходя мимо арки дома № 4, я услышал странный рык, обернулся и глазам не поверил — на меня из темноты арки надвигался здоровенный медведь. Описывать свое состояние я не буду. Как-то неудобно. Скажу одно — годами наработанный имидж решительного человека практически испарился. Но медведь не собирался бросаться на меня. Он рычал и приплясывал на месте. — Не бойся, старичок! — услышал я знакомый голос, и в арке появились мои знакомые художники Алик и Боря. — Не бойся, это же Леша. Леша — тот самый медвежонок, который вместе с фотографом честно зарабатывал деньги. Борис подошел к Леше. Тот встал на задние лапы и как кот потерся о его плечо. — Откуда он у вас? — Да Фима, гад, — сказал Алик, — когда его с Арбата поперли, решил медведя усыпить, а мы выкупили, договорились с ЖЭКом, теперь кантуется в пустой квартире вместе с нами. А вечерами мы его на прогулку выводим. Через год я встретил Алика на Крымском валу, и он рассказал мне, что мастерскую в Кривоарбатском у них отобрали, дом начали ремонтировать, и Лешу купил за большие деньги «новый русский», и теперь медведь вроде охраняет его дачу. Мы привыкли отождествлять Арбат с песнями Булата Окуджавы. С милыми зелеными дворами, гитарами, радиолами, Леньками Королевыми. Теперь этого района нет. И уже никогда не будет. Мои друзья, а их было много, жившие на Арбате, разъехались по разросшейся Москве. Кто попроворнее, сумел уцепиться в центре, остальные осваивают новые районы, сплошь набитые «лимитой». Нет того Арбата, нет кинотеатра «Юный зритель», куда мы бегали в десятый раз смотреть «Остров сокровищ» или «Джульбарса». Нет тихих букинистических магазинов, в которых часами можно было копаться в старых журналах. Исчез старый кинотеатр «Наука и техника». В нем на дневных и вечерних сеансах показывали фильмы о научных подвигах Лысенко или академика Лепешинской, а последний сеанс иногда отдавался под безыдейные фильмы, на титрах которых было написано: «Этот фильм взят в качестве трофея частями Красной Армии». Но что это были за фильмы!… «Восстание в пустыне», «Индийская гробница», «Воздушные акробаты», «Артисты цирка», «Путешествие будет опасным», «Судьба солдата в Америке». С раннего утра выстраивалась огромная очередь страждущих, чтобы достать билеты. Мы бы занимали очередь и ночью, но это было нереально. С двадцати трех часов Арбат был фактически закрыт. Точно в это время на улицу выходили люди, которых мы звали «топтунами». Одеты они были одинаково, в зависимости от сезона. Летом, несмотря на жару, в синих бостоновых костюмах, осенью и весной — в серых коверкотовых кепках и таких же плащах, зимой — в черных пальто с каракулевыми воротниками и таких же шапках. Становились они вдоль всего Арбата, на «расстоянии визуального контакта и голосовой связи». Так было предусмотрено инструкцией начальника охраны правительства генерала Власика. Тогда я не знал, что верхние этажи и чердаки домов занимали снайперы и пулеметчики. Арбат был одним из участков дороги сталинского кортежа на ближнюю дачу. У замечательного поэта Бориса Слуцкого есть даже стихи об этом. Я цитирую их по памяти, поэтому прошу простить, если ошибусь, но главное в них — суть. Бог ехал в пяти машинах, Было серо и рано, В своих пальтишках мышиных От страха тряслась охрана. С перепуганной охраной вождя мне пришлось столкнуться при обстоятельствах вполне экстремальных. В те былинные годы в стране джаз был запрещен. Люди в ресторанах танцевали под бодрые песни наших композиторов. Была одна отдушина — так называемые «ночники», их устраивали в заштатных клубах, солидном Доме ученых и Доме журналиста. Вот туда-то наша компания и бегала. Там играл известный ударник Боря Матвеев, король саксофона Леня Геллер, чудесные аккордеонисты и трубачи. «Ночники» заканчивались соответственно названию, а потом я провожал свою девушку Марину в ее Николопесковский переулок. Мы шли по Арбату сквозь строй топтунов, которые провожали нас бдительным взглядом. «Ночники» в Доме журналиста одно время устраивались регулярно по субботам. Бойцы «девятки» к нам привыкли, и некоторые даже одобрительно подмигивали нам. Однажды, под Новый, 1952-й год я провожал Марину, крутила поземка, ветер нес в спину колючий снег. Было четыре утра. До заветного переулка оставалось совсем немного. Внезапно из-под арки выскочили несколько здоровых парней, скрутили нас и затолкнули в подъезд дома. Я даже среагировать не успел. — МГБ, не дергайся. В подъезде стояли, прислонившись к стене, полковник в форме Министерства государственной безопасности и несколько офицеров со странными автоматами. Потом, в училище, я узнал, что это английские «стэны». Мы ждали минут десять. На улице проревели автомобильные моторы. — Ну, — полковник облегченно вздохнул, — вы что шляетесь по ночам? — Гуляем. — Не гулять надо, а к зимней сессии готовиться, товарищи студенты. Идите и забудьте о нашей случайной встрече. После проезда кортежа вождя «топтуны» весело отправились в нынешний ресторан «Прага», которая была тогда их штабом и столовой. Днем на Арбате ничто не напоминало об опасной ночной работе рыцарей щита и меча. Днем по улице ходил «солидняк». Коллекционеры и антиквары. Украшение московской «трудовой-деловой» интеллигенции слеталось в знаменитую антикварную комиссионку. Это было самое известное место в Москве. Начало ее славе положили, безусловно, репрессии 30-40-х годов. Сюда отдавало ФПУ НКВД картины и предметы антиквариата, изъятые при обысках и арестах. Но наиболее солидные поступления пришли в голодные военные годы. Московские старожилы несли сюда семейные реликвии и подлинники известных мастеров. Покупать все это могли только те, кто получал правительственные пайки, и спекулянты с московского черного рынка. Потом был знаменитый 47-й год, год девальвации денег, и, как мне рассказывали, магазин опустел. Ну а потом вновь заполнился хорошими работами. Мне довелось бывать в домах собирателей картин. Не коллекционеров, а именно собирателей, то есть тех людей, которые не продают и не обменивают приобретенные картины. В квартире известного оперного певца я увидел необыкновенной красоты портрет работы Брюллова, нестеровского Отрока, необыкновенные парижские работы Коровина. Большую часть из своей коллекции он прибрел в магазине на Арбате. Кстати, после смерти он завещал свое прекрасное собрание Третьяковской галерее, и там нынче экспонируются эти работы. В 50-е годы Москва богатела. Вовсю расцвел теневой бизнес. Деляги и торгаши начали вкладывать деньги в искусство. Но картины интересовали их в меньшей степени. Им всем хотелось приобрести нечто более реальное: золотые и серебряные изделия Фаберже. А если есть спрос, то есть и предложение. Мне рассказали оперативники, что человек по фамилии Рывкун в голодные блокадные ленинградские дни выменял на хлеб и сало невесть как попавшие к одному коллекционеру клейма Фаберже. Долго он не мог найти им применение, а потом разыскал несколько талантливых художников и они начали делать собственного Фаберже. Продукция расходилась, как горячие пирожки в голодный год. Особенно велик был спрос в Грузии и Азербайджане. Мастера работали прекрасно, определить подлинность работы могли только многоопытные искусствоведы. Понемногу фирма Рывкуна начала сдавать свою продукцию в знаменитый магазин на Арбате. Вот там-то и были классные эксперты, но, видимо, их просто взяли в долю. Дело кончилось трагически. Со слов одного из крупных чинов КГБ я узнал следующее. ЦК КПСС должен был сделать подарок какому-то иностранному гостю, видимо, как я понял по намекам, самому Арманду Хамеру. Управление делами выделило средства, и на Арбате была приобретена не очень дорогая, но вполне пристойная ваза работы Фаберже. Подарок был вручен. Гость благополучно отбыл «за бугор». А через некоторое время до ленинского штаба докатились слухи, что ваза-то хоть и красивая, но — фуфель. Такое простить было невозможно. В комиссионку нагрянула совместная бригада КГБ и ОБХСС, работали быстро и споро. Посадили всех, кого могли. Но монарший гнев не утихал. Хрущев приказал стереть с лица земли воровскую малину. Приказ выполнили точно и в срок. Старинный особняк, где располагалась комиссионка, размолотили клин-бабой. Улица стала похожа на челюсть с выбитым зубом. Лет двадцать мы ходили мимо этих печальных развалин. Но давайте вернемся на сегодняшний Арбат. Сначала мне хочется вспомнить Мюнхен, русский антикварный магазин недалеко от Ратушной площади. Мы сидели с хозяином, давним моим московским знакомым, и пили кофе. В кабинет осторожно протиснулся дорогой соотечественник с большим кейсом. — Русским серебром интересуетесь? — Конечно. А что у вас? — Фаберже, — гордо сказал визитер. — Не надо, — резко ответил мой приятель. Когда владелец серебра ушел, мой товарищ разъяснил эту пикантную ситуацию. — Ты понимаешь, есть канал из России, по которому гонят сюда туфтового Фаберже. Главное, работы-то отличные, продавали бы просто как новодел, был бы отличный спрос и деньги неплохие получили бы. Нет, им обязательно Фаберже нужен. У вас весь Арбат этим завален. Откровенно говоря, ничего подобного я в арбатских магазинах не видел. Замечательные ребята из спецотдела милиции, работающие на этой территории по антиквариату, рассказали мне, что по сей день, как и раньше, сюда стекаются краденые ценности. Совсем недавно они провели остроумную оперативную комбинацию и задержали людей, ограбивших Петербургский Артиллерийский музей. На продажу в столицу привезли драгоценные доспехи и драгоценный старинный меч. В маленьком кафе рядом с культурным центром независимой Украины я сижу с человеком, который знает практически все об антиквариате. — Сюда приходит много хороших вещей, но, как ты понимаешь, не все оседает в магазинах. Здесь работает целая бригада бойцов, а во главе стоит один грузинский авторитет. Он сейчас живет в Париже. — Фамилию можешь назвать? — Нет. — Кличку? — Тоже нет. Да и тебе не советую глубоко влезать в это дело. Понимаешь почему? Я понял, и мы, допив кофе, пошли пройтись по залитому солнцем Арбату. Он разительно не похож на улицу моей юности. Но это не главное. Мимо нас проходят компании совсем молодых ребят, они заходят в летние кафе, заказывают пиво. Им хорошо и весело в этот солнечный день. Они не видели «топтунов», не знают о том, что здесь пролегал путь сталинского кортежа. Им хорошо на этой улице, потому что она стала их данностью. У японцев есть отличная пословица: «Прошлого уже нет, а будущего может не быть, надо жить сегодняшним». Тверской бульвар У каждой власти свое понимание прекрасного. При великом вожде всех народов в Москве меняли памятники. Мудрого, грустного Гоголя, сидящего в кресле, работы знаменитого скульптора Андреева, заменили на подтянутого, похожего на маршала писателя, жизнеутверждающе глядящего в перспективы московских улиц. Сходство с военачальником Николаю Васильевичу придал его творец, академик Академии художеств Николай Томский, специализировавшийся на скульптурных портретах крупных военных. Одно время карающая рука советского изобразительного искусства занеслась над опекушкинским Пушкиным. Товарищу Жданову не понравилось минорное настроение великого поэта. Слишком грустно глядел он на творения рук наших веселых современников. Много лет спустя замечательный историк Иван Алексеевич Свирин показал мне несколько рисунков проектов памятника Пушкину — ничего более чудовищного я в своей жизни не видел. Но умер Жданов — и «дело Пушкина А.С.» в ЦК ВКП(б), видимо, закрыли и замечательный памятник работы Александра Михайловича Опекушина временно оставили в покое. Он стоял, открывая Тверской бульвар. Видимо, в генах москвичей был заложен импульс, заставлявший их назначать свидания у этого памятника. Начиная с двенадцати часов дня и до позднего вечера у памятника толпились мученики свиданий. Площадь перед Пушкиным была не очень большой, поэтому «часовые любви» стояли частенько практически плечом к плечу. Но радетели новой социалистической культуры не оставляли великого поэта в покое. Как сейчас помню, я встретился со своей барышней Леной у знаменитого памятника, потом она заболела гриппом, и только через неделю мы вновь договорились встретиться на старом месте. Пришли — а памятника нет. Переехал он на другую сторону улицы Горького. И сразу осиротел Тверской бульвар. Московский острослов поэт Михаил Светлов дал свое объяснение этому масштабному акту. На доме на углу улицы Горького и Тверского бульвара поставили фигуру советской балерины. — Вы знаете, — говорил Светлов, — почему Пушкин стоит с опущенной головой? Не хочет заглядывать под юбку комсомолке, стоящей на крыше дома. Правительство пожалело его и перенесло на другую сторону. Это случилось в 1950 году. Тверской бульвар, смирившись с расставанием, продолжал жить, как и прежде, радуясь, что ему пока оставили памятник Тимирязеву. Потеря великого поэта не повлияла на прекрасную привычку московского бомонда гулять по самому зеленому бульвару. В городе тогда, надо сказать, военных было больше, чем сегодня, но начиная с 1947 года они старательно обходили Тверской бульвар. Все дело в том, что легендарный конник Гражданской войны генерал-полковник Ока Иванович Городовиков в том далеком году вышел в отставку. Ему больше не надо было отдавать команды: «Эскадрон оправиться! Огладить лошадей!» Поэтому генерал катастрофически скучал. После завтрака он выходил на бульвар и в сопровождении несчастного адъютанта, которого за ним закрепили на всю оставшуюся жизнь, совершал пешую прогулку. Я очень хорошо помню его. Невысокого роста, в длинной зеленой бекеше с каракулевым воротником и золотыми генеральскими погонами, он шел чуть враскорячку, с особым кавалерийским шиком, отсчитывая каждый шаг звоном шпор. На голове лихо сидела папаха. Генерал зорко поглядывал по сторонам, выискивая глазами несчастных солдат или курсантов. Впрочем, офицерам тоже доставалось от него. Заметив жертву, генерал подзывал ее к себе, особенно он любил разбираться с учащимися военных спецшкол, и заставлял несколько раз проходить мимо себя строевым шагом. Услышав зычный голос лихого конника, со всех концов бульвара сбегались посмотреть на это зрелище гуляющие. Редкое развлечение, прямо как смена караула у Мавзолея. Я обратил внимание, что многие московские места были какими-то незримыми нитями тесно связаны с политическими преобразованиями, происходящими в стране. После смерти Сталина Тверской бульвар немедленно освободился от ночных сторожей. Раньше вместе с темнотой на аллеях появлялась группа одинаково одетых молодых людей, которые не особенно скрывали свою принадлежность к мощному братству МГБ. Любимым их занятием было пугать влюбленных, расположившихся на лавочках. Только ты начинаешь целоваться с любимой девушкой, как за спиной раздавалось деликатное покашливание и веселый голос спрашивал: — Гражданин, прикурить не найдется? Но их присутствие напрочь исключало любые криминальные действия на Тверском бульваре. Он заслуженно приобрел в Москве славу самого спокойного места, и сюда сбегались парочки со всего центра. Они объяснялись в любви, не зная, что их счастье охраняет сама государственная безопасность. Что делали «топтуны», так мы называли людей, стоявших в «зоне визуального контакта» на улице Горького и на Арбате, на воспетом Есениным бульваре? Все оказалось просто и незатейливо. Тверской бульвар был трассой, по которой сам Лаврентий Павлович Берия возвращался в свой особняк на улице Качалова. Приход к власти Никиты Хрущева с его командой, вполне естественно, послужил началом грандиозной чистки правительственного аппарата. Чиновников выгоняли со службы безжалостно и быстро. И если при Брежневе опальным «вождям» оставляли квартиры, а иногда и казенные дачи, то Никита Сергеевич карал сурово и беспощадно. Бывшую номенклатуру выселяли из элитных (по тем временам) квартир, и они бежали в Моссовет за ордерами на новую жилплощадь. Но начальник, хоть и бывший, все же начальник. Поэтому новые квартиры им предоставлялись в тихом столичном центре. А таким был район Бронных, Тверского бульвара и многочисленных переулков в районе Никитских ворот. Это вообще стало в Москве заповедным местом. Со временем в этом районе начнут беспощадно рушить прекрасные особняки и доходные дома и на их месте возводить кирпичные безликие жилища новых государственных чиновников высокого ранга. Но в те времена Тверской бульвар стал местом прогулок представителей поверженной власти. Надо сказать, что после того как улицы города перестали именоваться чьими-то трассами и Тверскому бульвару вернули его прежнее предназначение, летом он превращался в мужской клуб. Начиная часов с двенадцати сюда сбегались все пенсионеры. Это, кстати, была заслуга постсталинских преобразований, потому что в те былинные времена не существовало пенсионного возраста и на пенсию уходили или инвалиды, или глубокие старики, остальные вкалывали до гробовой доски. Итак, новоявленные пенсионеры занимали лавочки, и бульвар превращался в «игорный дом». Гремели кости домино. Зычные выкрики: «Рыба!» заставляли вздрагивать мирных прохожих. На соседних лавочках лихие старички с руками синими от татуировок «шпилили» в картишки. Самые солидные занимали левую, тихую часть бульвара. Это было место шахматистов. А по аллеям степенно гуляли «бывшие». У них сохранились еще пальто и костюмы, пошитые в спецателье, по ним, словно по погонам, они точно определяли, на каком номенклатурном уровне состоял в свое время изгнанник из рая закрытых продуктовых распределителей. Они не играли с населением. Они совершали свой променад, обсуждали новую власть и ждали. Среди них было много узнаваемых людей, чьи портреты в свое время печатались в газетах и журналах, мелькали в кадрах кинохроники. Телевидение в те годы практически не влияло на умы электората. Обладатели телеприемников КВН-49 и их соседи глядели на голубом экране в основном фильмы и спектакли. Солидные люди, погуляв немного, направлялись к славному кафе, стремительно построенному в конце бульвара, неподалеку от памятника Тимирязеву. Здесь они пили кофе, ели мороженое и матерно ругали Никиту Хрущева за неправильную экономическую политику, особенно за освоение целины. Как ни странно, бывшие номенклатурщики оказались правы. Целина не накормила страну, она даже не оправдала те деньги, которые вложили в подъем сельского хозяйства будущего независимого Казахстана. Я достаточно долго проработал в целинном крае и сам видел, как в нечеловеческих условиях молодые ребята, приехавшие со всей страны по комсомольским путевкам, добивались рекордных урожаев и как большая часть его гибла, так как старые маломощные элеваторы не справлялись с таким количеством зерна. Но местные и московские партийные лидеры докладывали «дорогому Никите Сергеевичу» (так в те годы назывался документальный фильм) о рекордных урожаях, и он был счастлив. Все, кто пытался рассказать правду о великой аграрной «панаме», немедленно становились врагами развитого социализма. Даже я получил достаточно жестокий урок. Так уж исторически сложилось, что Тверской бульвар выводил нас, словно знаменитого витязя на картине Васнецова, к камню. «Налево пойдешь… Направо пойдешь…» Правда, ничем страшным этот перекресток не угрожал. Наоборот, именно отсюда можно было попасть «в пучину чувственных удовольствий», как любит говорить мой друг кинодраматург Володя Акимов. Пойдешь налево — попадешь в потрясающую шашлычную, направо — в замечательный ресторан ЦДЛ, прямо — в роскошную пивную Дома журналиста. Мы назначали встречи в кафе на Тверском. Летом сидели за столиками прямо под деревьями — ну чем не Париж! — а зимой в небольшом чистеньком зале. Буфетчица Наташа выдала мне страшный секрет, что Московский трест ресторанов открыл эту точку по просьбе разжалованных номенклатурщиков, поэтому здесь всегда были хорошие закуски, кофе и мороженое и, конечно, коньяки и вина. Слух об этом славном и тихом местечке медленно расползался по соседним улицам, и сюда начали забегать разные центровые люди. Несколько раз я столкнулся там со своим старинным знакомым Ильей Гальпериным. Я познакомился с ним, когда он заведовал маленьким магазинчиком, торговавшим всевозможной галантереей в проезде МХАТа. Илья тогда был королем дефицита. Все дело в том, что страна, усиленно строившая социализм, не обращала внимания ни на какие бытовые мелочи. И вдруг в городе появилось достижение просвещенной Европы — мужские носки на резинках, которые носят нынче все, и венгерские полуботинки на пряжках. Столичные пижоны находились в крайнем возбуждении. Вот тогда-то мой сосед, знаменитый московский вор Леня Золотой, отвел меня к Илье Гальперину, и я стал счастливым обладателем нескольких пар вожделенных чехословацких носков. С той поры у нас с Ильей сложились вполне добрые отношения, мы часто виделись в ресторане «Аврора», в танцзале гостиницы «Москва». А однажды в «Савое» мы отбили его от разгулявшейся компании каких-то татуированных мужичков, желавших прямо из кабака похитить его очаровательную жену Валю. Потом у меня, как пишут военные журналисты, начались суровые армейские будни, и появился я в Москве не скоро. Но выдвинувшись на место постоянной дислокации, я отправился праздновать начало новой жизни в ресторан «Метрополь». Только мы сделали заказ, как официант принес нам вазу с фруктами и весьмамодное в то время крымское вино «Красный камень». — Вам прислали, — сообщил он. — Кто? Официант доверительно показал мне глазами на столик у фонтана, за которым весело улыбался Илья. Но не дефицитное модное вино поразило меня, не встреча со старым знакомым. Нет. Меня поразила его спутница. Рядом с Ильей сидела московская красавица Ляля Дроздова, бывшая любовница Лаврентия Берия и мать его дочери. Много позже Илья, встретив меня на премьере «Декабристов» в «Современнике», затащил к себе на улицу Горького. Время уже было позднее, Гальперин со своими, мягко скажем, сослуживцами уселся играть в карты, а я с любопытством следил, как по столу передвигались здоровенные пачки денег. В два часа ночи все проголодались, хозяин позвонил в закрытый для всех ресторан «Арагви», и через полчаса прибыли официанты и накрыли шикарный стол. Красиво умели отдыхать московские цеховики. АИлья Гальперин был в те годы одним из руководителей крупнейшего в стране подпольного трикотажного дела. О размахе его я узнал позже. В тот день, когда мы случайно встретились в кафе, Илья, закончив разговор с молодым человеком, явно партийно-руководящего вида, сел ко мне за стол, залпом выпил бокал «Боржоми» и сказал: — Сколько этих падл ни корми, как до дела доходит, они сразу в кусты. Сколько они с меня бабок получили… Но ничего, если меня прихватят, я о них молчать не буду. А потом грянуло знаменитое трикотажное дело. Оно было настолько крупным, что режиссер Василий Журавлев, порадовавший нас когда-то фильмом «Пятнадцатилетний капитан», снял пугающую киноленту под названием «Черный бизнес». Чего только не было в этом кинополотне! Но все-таки отсутствовало главное — связь теневиков с партийным и карательным аппаратом. Главой дела был некто Шая Шакерман, его мать приходилась родной сестрой знаменитому одесскому налетчику Мишке Япончику, известному всем по одесским рассказам блистательного Исаака Бабеля как Беня Крик. Племянник исторического персонажа закончил Первый медицинский институт, но клятву Гиппократа не выполнил и сразу же подался в бурное артельное море. Вместе с Борисом Райфманом и Ильей Гальпериным они переоборудовали картонажные мастерские Краснопресненского психоневрологического диспансера, которые выпускали безобидные и неприбыльные футляры для градусников, в мощный трикотажный цех. Но трикотажное производство — это прежде всего сырье и оборудование. Обратите внимание, что все это происходило не в период «застоя», а при грозном борце с Пастернаком, а позже с абстракционистами Никите Хрущеве. Для расширения производства потребовались новые площади. Взятку отгрузили в МГК КПСС. За сто тысяч рублей союзный министр, фамилию которого я до сих пор не могу узнать, хотя можно легко догадаться, распорядился отгрузить «психам» вязальные и швейные машины, закупленные в ФРГ совсем для другого предприятия. За деньги номенклатурные борцы отгружали цеховикам дефицитное, строго фондированное сырье в огромных размерах, из-за нехватки которого чуть не останавливались государственные текстильные фабрики. Но работать без надежной милицейской крыши в те годы, как и сегодня, было невозможно. Ежемесячно в саду «Аквариума» на площади Маяковского Шакерман встречался с четырьмя офицерами с Петровки. Это был выплатной день. Старший получал пятнадцать тысяч, остальные — в зависимости от должности— десять, семь с половиной и пять тысяч рублей. По тем временам это были громадные деньги. Я знаю фамилии этих офицеров, но не называю их специально. Семьи жалко. Хочу сказать, что старший из них получил от деловых к моменту ареста миллион рублей. Наша встреча с Ильей Гальпериным в тот день оказалась последней. По случаю того что у всех арестованных совокупно было изъято полторы тонны золота, их, естественно, расстреляли. Суд, конечно, был закрытым. На скамье подсудимых сидели только коммерсанты. Ментов судили отдельно, а госпартпокровители, снятые с постов, влились в ряды фланирующих по Тверскому бульвару. Уже тогда, как и сегодня, их освобождали от уголовной ответственности за содеянное. Однажды мы шли по бульвару с моим другом, замечательным сыщиком Игорем Скориным. На скамейке напротив Театра им.Пушкина на солнышке сидел человек и читал газету. — Хочешь, познакомлю с забавным персонажем? — Хочу. Мы подошли к скамейке. — Здравствуйте, Борис Ильич, — улыбнулся Скорин. Человек отложил газету и почтительно поднялся: — Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. — Отдыхаете? — Я слышал, вы тоже? — Пенсионер. — И я на заслуженном отдыхе. — Пенсию из общака платят? — Как придется, Игорь Дмитриевич. Завтра в Сочи улетаю, отдохнуть надо пару месяцев. А вы как? — Поеду рыбу ловить. — Ловить — ваша специальность. — Ну, будь здоров, Борис Ильич. Когда мы отошли, Скорин сказал: — Это знаменитый Боря Грач. Борис Ильич Грачевский. — Мошенник? — Это ты по одежде определил? Нет. Этот мужик стоит за многими крупными делами, он — сценарист. Пишет планы налетов. — Прибыльное дело? — Золотое. Здесь я хочу немного рассказать о человеке, ставшем прототипом моего романа об уголовном розыске во время войны Игоре Скорине. О его последнем деле. О том, как он выиграл, а потом проиграл свою войну с коррупцией. В милицию Игорь Скорин попал по комсомольскому набору, со второго курса сельхозинститута. Видимо, из уважения к столь фундаментальному образованию — в те годы в милиции семилетка почти приравнивалась к университету — его сразу же сделали оперуполномоченным и нацепили в петлицы «шпалы». Именно с этого зимнего дня 1937 года и начался отсчет тридцати лет, пяти месяцев и двадцати дней службы в уголовном розыске. Скорину было всего сорок девять лет, когда его с почетом уволили из милиции. Ему улыбались, превозносили его заслуги, особенно военные. Сетовали, что раны мешают работать. Вручили грамоту в сафьяновом переплете, подарили хорошее ружье и именные часы. В сорок девять лет уходил в отставку полковник милиции, начальник уголовного розыска города Фрунзе, нынешнего Бишкека, столицы Киргизии. Уходил, не дослужив отведенных по закону шести лет. А за три года до этого дня был ограблен и зверски убит инженер Оманов. Ко дню приезда Скорина во Фрунзе преступник был уже найден и приговорен к высшей мере. Но Верховный Суд СССР отправил дело на доследование, что бывает крайне редко, почти что никогда. И дело вновь вернулось в прокуратуру Фрунзе, вновь зашустрили по городу оперативники, исполняя план оперативно-розыскных действий, намеченных следователем, и, вполне естественно, оперативная разработка по делу легла на стол начальника угрозыска города. Не надо было иметь за спиной столь долгий опыт работы, как у Скорина, чтобы определить, что дело обвиняемому просто «пришито». И Скорин пошел в тюрьму. Невозможно воспроизвести через много лет первый разговор с человеком, ожидавшим смерти. Скорин помнил только его глаза, потерявшие надежду. Они смотрели как-то иначе. Казались большими и бездонными. Потому что человек, много месяцев ожидавший смерти, видел такое, что недоступно обыкновенным людям. Как легко зажечь надежду в этих глазах! Но как чудовищно трудно выпустить на свободу невиновного. Но он добился освобождения и отмены приговора. Скорин работал в милиции много лет. Он начал свою службу в печально известном 37-м году. Если вести счет ушедшим товарищам, то к погибшим от бандитских пуль можно приплюсовать и работников угро, умерших в ежовских и бериевских лагерях. Да, он знал милицию. Он сам был винтиком огромного, сложного механизма, именуемого машиной законности. Он знал и другое — как эта машина порой бывает беспощадна к своим. Итак, по одну сторону полковник Скорин и несколько оперативников, по другую — аппарат республиканского МВД, прокуратура, партийные власти. Уже тогда в республике буйно начало расцветать все то, что позже мы легко назовем застойными явлениями. А на самом деле закончился процесс сращивания уголовной преступности с партийным и карательным аппаратом. Вот в этом и были-то главные последствия периода сталинского беззакония. Да, они установили преступника. Но установить одно, а предъявить обвинение — совсем другое. Убийство совершил сын одного из руководителей республики. Скорина запугивали, взламывали сейф в его кабинете в поисках розыскного дела, тайно обыскивали квартиру, пытались спровоцировать взятку. В ход был пущен весь набор средств. А потом нашли самое простое. Медицинская комиссия, старые раны и болезни, заключение врачей и почетная отставка. Боря Грач всплыл в разговорах с сыщиками через несколько лет по делу об ограблении Давида Ойстраха. Всплыл, но, как всегда, участие его доказано не было. Об этом ограблении написана целая библиотека детективов, поставлены фильмы, в которых показано, как мучительно и сложно сыщики выходили на след преступников. Отдыхал на 101-м километре после очередной отсидки вор-домушник Никонов, и случилась с ним лирико-драматическая ситуация. Влюбился он в местную врачиху, даму весьма красивую. Но она отвергала его попытки, и он решил поразить ее своим размахом. А для этого, как известно, нужны деньги, тут, как говорили, и сошлись интересы Никонова и Бори Грача. Музыкант был в отъезде, в подъезде дома шел ремонт, посему бдительная вахтерша потеряла счет мужикам в рабочих робах, снующим по лестнице. На дело Никонов пошел с младшим братом. Умело отключил охранную сигнализацию, спокойно вскрыл двери. Освоился в квартире, разыскал все потаенные места, взял огромную сумму в валюте и советских деньгах, целую кучу драгоценностей, заодно и дорогой магнитофон. И братья-разбойники покинули квартиру. Так бы и ждали сыщики, пока у перекупщиков и в комиссионных магазинах всплывут похищенные вещи, чтобы выйти на ушлых урок, но все оказалось значительно проще. Несмотря на строжайший запрет старшего брата, Никонов-младший с товарищем еще дважды посещал квартиру знаменитого музыканта и во время одного из визитов выронил из кармана ручной эспандер, на котором была выжжена его фамилия. Вот этот-то эспандер и дал следствию возможность стремительно выйти на ворюг. Отработав фамилию, сыщики установили, что в «зоне-сотке» проводит свои дни вор-домушник с такой же фамилией. Отработали его связи и выяснили, что у него есть младший брат-качок. Решили посадить им на хвост наружку. Возглавил эту часть операции мой старый друг, тогда полковник, Эдик Айрапетов. Наружное наблюдение дало невероятные результаты. На второй день Никонов-младший отправился в валютный магазин «Березка», где за доллары они с другом закупили ондатровые шапки. Оперативники еле успели предупредить сотрудников КГБ, несших в этом опасном месте нелегкую службу, чтобы они не повязали пацанов на выходе. А старший брат, подогретый дорогими напитками в вокзальном ресторане, дождался на улице красавицу врачиху и, достав из кармана многокаратное кольцо и дорогие браслеты, предложил ей руку и сердце. Гордая дама отказалась. Тогда, в лучших традициях, Никонов бросил драгоценности на землю и втоптал их в грязь каблуком. Когда они разошлись, оперативники выковыряли украшения из грязи и без труда определили, у кого они украдены. А дальше как обычно: задержание, следствие, суд. Вот и вся история, только в ней нет скрипки Страдивари. Я иду от Никитских к Пушкинской по Тверскому бульвару. Не играют больше в домино и шахматы на скамейках веселые местные люди. Исчезли. Отправились жить в Митино или за Кольцевую дорогу. Теперь в их домах расположились фирмы, которые ничего не производят, и банки с ограниченной уголовной ответственностью. Москва вплывает в новый век. А какой он будет — посмотрим. Конечно, хочется, чтобы он стал хоть немного добрее к нам. Двенадцать ступенек вниз Почти триста лет назад начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков докладывал наверх, что его людьми арестован дьякон Иван сын Федотов за то, что взгромоздился на колокольню и кричал: — Быть сему месту пусту, и земная твердь разверзится. За слова сии поносные дьякон доставлен в Тайную канцелярию и кнутами бит нещадно. Я вспомнил этот забавный случай, стоя на Большой Дмитровке (ул. Пушкинская) как раз в том месте, где разверзлась земная твердь. Земля обвалилась, словно упала сюда полутонная авиабомба, соседний дом треснул пополам. Утро было серым и слякотным, вокруг стояло несколько зевак, горячо обсуждая, провалится ли под землю весь центр Москвы и когда. Все сходились на том, что провалится всенепременно. Милиционеры со скучными лицами вяло покрикивали на любопытных, не давая им подходить к опасной зоне. Почти напротив обвала расположился ресторан «Ладья», он, видимо, тоже пострадал от передвижений земной коры, бравые молодцы вытаскивали из его недр столы и стулья. — Наверно, затопило, — сказал кто-то рядом со мной. Я обернулся, увидел знакомое очкастое, уже сильно потраченное жизнью, лицо. — Ты меня не узнал? — спросил очкарик. — Конечно, узнал. Я действительно вспомнил его, вот только имя исчезло, стерлось из памяти. — Конец нашей «Яме». Знаешь, я все надеялся, что найдется человек умный и опять здесь пивную откроет. — А ты по-прежнему тут живешь? — Уже не живу, дом мой тоже накрылся. Приходили из жилуправления, предлагали Митино, а я попросил хоть конуру в коммуналке, но только здесь. Я же на Пушкинской шестьдесят лет прожил. Пойдем выпьем. Помянем нашу «Яму». И мы пошли. Прежде чем начать рассказ о знаменитом в столице подвале, я хочу кое-что вспомнить. В Москве когда-то было много отличных пивных баров. Они все значились под номерами. Я, к сожалению, забыл цифры на вывесках этих замечательных заведений, но хорошо помню два из них. Один назывался «Есенинским», говорили, что поэт-гуляка любил проводить там время. Теперь на его месте стоит огромный «Детский мир». Но, как сейчас, я вижу его обитые деревом стены и удобные кресла. Здесь собирались игровые люди, приезжали после бегов отдохнуть в своей компании. И, конечно, «Пивной бар» на Пушкинской площади, теперь на его месте разбит сквер, где, по моим данным, собирались поставить памятник Леониду Ильичу Брежневу. Как раз напротив великого поэта. По замыслу цеков-ских холуев получалось здорово: автор великого сочинения «Малая Земля» и Пушкин совсем рядом, олицетворяя преемственность русской литературной гениальности. Приглядитесь внимательно, и вы сразу же найдете в данном архитектурном ребусе место для так и не поставленного памятника. Так вот, когда-то здесь былпрекрасный «Пивной бар». Но публика сюда приходила особая. Я бы сказал, элитная. Напротив заведения расположились редакции двух газет: «Труд» и «Известия», чуть дальше — журнал «Новый мир», а в Путинковском переулке, в доме, где сейчас Комитет по печати, размещался Радиокомитет. Наверно, ни одно пивное заведение не отражалось так часто в советской литературе, как эта пивная точка. И только потому, что в двух шагах от бара находился Литинститут. Рядом три театра. Поэтому сбегались сюда после репетиции артисты. Клуб это был. Не пивная — клуб. Но Никита Сергеевич Хрущев, великий преобразователь страны, посчитал, что все эти бары, коктейль-холлы и рестораны никакой пользы советскому человеку принести не могут. Он, еще будучи партийным вождем Москвы, вынашивал план уничтожения злачных мест. Став первым в стране, он ликвидировал деревяшки, маленькие пивные, находившиеся в каждом московском переулке, и закрыл пивные бары. В 1957 году образовалось на Пушкинской площади всегда пустое молочное кафе. Только местные алкаши забегали сюда распить принесенную бутылку под невкусные, словно резиновые, сырники. Брежнев был человеком широких взглядов. При нем постепенно начали вновь открываться пивные заведения. Так появилась «Яма». Давайте зайдем туда. Если повезет и у железных перил, огораживающих вход, не окажется очереди, то, сбежав по этим ступенькам, ты оказывался совсем в другом мире. Тебя встречал сложный коктейль запахов: застаревшего табачного перегара, плохого пива и несвежих вареных креветок. Сумрачный зал с бутафорскими колоннами, длинные деревянные, плохо вымытые столы, официанты в несвежих белых куртках. Если повезет и вы найдете место, то тогда можно заказать странный напиток, напоминающий пиво. Его разбавляли безбожно водой, а чтобы было нечто наподобие пены, добавляли в светло-желтый напиток соду. Больше никогда и нигде я не видел таких мелких и невкусных креветок, а сосиски, если вы их заказывали, нужно было долго отчищать от намертво приваренного к ним целлофана. Правда, к пиву могли принести скумбрию. Коронное блюдо бара. Но она была настолько соленая, что есть ее решались немногие. Добавьте к этому человеческую разноголосицу, нашпигованную матом, звон пустых бутылок, катающихся под столами, стук тяжелых пивных кружек. Вот такая была обстановка в «Пивном баре» на углу Пушкинской и Столешникова, который в Москве называли «Ямой». В легендарные годы застоя в центре города еще жили люди. На Пушкинской, в Столешниковом, на Петровке и в прилегающих переулках вечерами весело зажигались окна, на улицах суетились прохожие. Что и говорить — центр города. И народ здесь был особый. Коренные москвичи. Надо сказать, что в районе «Яма» пользовалась дурной славой. — Притон ворья и хулиганов, — говорили законопослушные граждане, с опаской минуя пьяные компании, вылезающие из подземелья на свежий воздух. Плохая слава была у «Ямы». Очень плохая. Видимо, поэтому в один солнечный апрельский день ленинского субботника и пришел сюда секретарь Фрунзенского райкома. Он отправился с инспекцией по району посмотреть, кто несет нынче ленинское бревно, и проверить местное гнездо идеологического разврата. А в баре, в дальнем закутке, собралась компания завсегдатаев, и мы, конечно, пили не только местное пиво, а кое-что покрепче. К столу подбежал перепуганный администратор Сережа. — Не губите, ребята! Выручайте! Но прятать стаканы и бутылки было уже поздно. Взал вплыл партийный лидер, сопровождаемый свитой, в которой находился и начальник райотдела УВД. И тогда Гена Смолин, парень с внешностью театрального соблазнителя и голосом певца из провинциальной оперы, вскочил и запел: Мы на стройку идем, Мы на вахту встаем, Мы находимся в звездном полете… Весь стол мощной разноголосицей подхватил: Это мы коммунизм на земле создаем, Значит, мы на партийной работе… Секретарь истово выслушал песню, а потом сказал растроганно: — А вы говорили, что здесь одни люмпены собираются. А это же наши, наши люди. Пусть отдыхают. Поработали на субботнике, выпили, хорошие песни поют. А стол уже исполнял: И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин, такой молодой, И юный Октябрь впереди… Секретарь райкома со свитой ушел довольный. Только замыкающий ряды проверяющих начальник 17-го отделения с порога погрозил нам кулаком. На это у него были основания, он лучше всех знал, кто действительно клубится в этом подозрительном месте. Несколько лет назад по телевидению показывали фильм о шестидесятниках. Это были подлинные «фрондеры», и рассказывали они, как чудовищно пострадали за свою смелость и убеждения. Один из них был главным редактором популярного журнала, но за смелую публикацию его освободили и отправили в ссылку… собкором «Известий» в Прагу. Второй за беспримерную смелость был переведен из консультантов международного отдела ЦК КПСС политобозревателем тех же «Известий». Третий потерял должность в штабе партии и стал одним из руководителей Института философии АН СССР. Действительно, «тяжелые» испытания выпали на долю номенклатурных шестидесятников. А наш запевала Гена Смолин блестяще окончил философский факультет МГУ, работал в том же институте и был оттуда изгнан за философский ревизионизм… Он слишком серьезно изучал неопубликованные ленинские работы. Вспоминая ребят, которые составляли главную и самую интересную компанию «Ямы», я уверен, что подлинные шестидесятники собирались именно за этими нечистыми столами. Сюда приходил Юра С., отличный парень, умница. Он в двадцать пять лет защитил кандидатскую диссертацию по экономике, но разошелся с корифеями социалистической науки во взглядах на многоукладность. Приходил прекрасный цирковой акробат Гена Попов, человек, попавший в книгу рекордов Гиннеса за то, что на руках, без страховки, обошел по карнизу Эйфелеву башню. Компания. Странный конгломерат людей, так или иначе ощутивших нравственный кризис. Здесь собирались прекрасные музыканты, способные актеры, несправедливо забытый мой близкий друг, олимпийский чемпион по боксу Володя Сафронов. Они приходили сюда становиться на душевный ремонт. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из моих товарищей жаловался или обвинял кого-то в своих неудачах. Жили все по игроцкому принципу: «Попал — попал». Здесь находили друзей прекрасные художники. Врачи, инженеры, журналисты, киношники, актеры, ребята из науки, спортсмены нашли в этом неуютном подвале подлинную мужскую дружбу и братскую взаимовыручку. Попасть в компанию было так же непросто, как вступить в престижный клуб. Так оберегались от чужих, неинтересных им людей. Только не подумайте, что все посетители «Ямы» были спортсмены или ученые. Нет. Сюда сбегалось и центровое ворьё. Карманники, форточники, квартирные разбойники. Приходили два брата, державшие торговлю наркотой. Люди они были серьезные, вели себя сдержанно и вежливо, конфликтов в баре искусно избегали, но на улице, в любом проходняке в Столешникове могли спокойно подрезать обидчика. Постоянно бывали в баре ребята, которых я знал еще по «Броду» — так в 50-е называлась улица Горького: Юрка Тарасов, когда-то элегантный широкий «золотишник», работавший у скупки на Петровке, и приблатненный Вова Усков. У него был полный набор страшных рассказов о блатной жизни, о побегах, гопстопах и расстрельная статья. По молодости в далеком 51-м он с подельником украл чемодан у иностранца, отсидел положенное и с той поры свято верил, что он «вор в законе». Володька всегда носил с собой нож-выкидуху, которым пугал сопляков, заглянувших в бар. Но парень он был компанейский и неплохой. Приходил сюда не просто выпить, закусить и «посмолить косячок». Он приходил играть. В «Яме» собирались московские каталы «зарядить в железку». Играли с открытия до окончания работы бара. У игроков были свои столы, за которыми и происходили баталии. Здесь собирался цвет игровой Москвы: Боря Кулик, Сеня Фридман, Боря Крест, Бондо Месхи. Всех перечислить невозможно. Они приходили, «заряжали», угадывали или «попадали». Потом уезжали на бега и снова возвращались за своим эфемерным счастьем «Яма» была, пожалуй, единственным местом в Москве, где позволяли отыгрываться в долг. Но правила были жестокие: не принес деньги вовремя — можешь ответить кровью. Железка — вещь заразная, если попрет, за вечер можно было снять несколько тысяч. Ну а если не попрет… Я наблюдал, как зажимались в кулаках купюры, как тихо над столами говорились короткие фразы: — Три первых… Две последних и первая… Маленькие цифры на государственных банкнотах за минуту делали человека богатым или нищим. Это была особая жизнь, малопонятная непосвященному человеку. Конечно, бывал здесь и солидняк. Павлик Кат, фарцовщик, торговавший «розочками». Он специализировался на сапфирах. В «Яме» назначал свидания клиентам. Он не боялся, что здесь его «кинут». Это было практически невозможно, к Павлику в подвале хорошо относились и всегда были готовы оказать физическую поддержку, ну а милиция сюда не заглядывала. Конечно, бар был нашпигован агентурой, но Павлик тоже был не фраер. Сюда приходил странный, тщательно одетый человек без возраста, с пустыми белесыми глазами, смотрящими мимо тебя. Имени его никто не знал, а кличка его была «Лангуст». Он аккуратно садился за стол, тщательно вытирал его бумажной салфеткой, заказывал пиво и креветки и закуривал трубку. Чем он занимается, не знал никто. Он частенько предлагал зажиточным посетителям приобрести у него любопытные вещи. То какие-то необыкновенные, вороненой стали наручные часы, сделанные в 15-м году, то плоскую широкую серебряную цепочку, то немецкий «Знак восточных народов», которым награждали власовцев и полицаев, то старый Устав РККА. Мне иногда казалось, что у него где-то есть подпольная мелочная лавочка. Однажды он подошел ко мне, предложил купить за пятерку книжный раритет и положил на стол книгу в коричневом переплете. Тоненькая, практически брошюра, в солидном твердом переплете. Издана в издательстве «Заря Востока», расположенном в Тбилиси. Это была пьеса «Инженер Сергеев», обошедшая во время войны и после Победы практически все театры страны. Автор этого странного сочинения — некто Всеволод Рокк. Судя по авторской ремарке в конце пьесы, драматург закончил ее в декабре 1941 года в Краснодаре. Я начал перелистывать книгу и увидел фотографию комнаты, видимо гостиной, дорого обставленной по моде 50-х годов. Немецкая тяжелая мебель, ковры, картины, на полированной подставке в углу стоял большой самовар с накладным двуглавым орлом, у которого была обломана царская корона. — Стоп, — Лангуст вырвал у меня фотографию, — это не продается. Но мне уже не нужны были его разъяснения — я увидел самовар и понял, кто автор этой пьесы… Когда-то, в далеком 47-м, мы, пацаны, бегали в магазин «Филателия» на Кузнецкий мост. Рядом в антикварной комиссионке стояли на витрине две вещи, повергавшие нас в трепет: огромный орел из неизвестного металла с красными, как выяснилось, рубиновыми глазами и желтый самовар с накладным российским гербом. Я хорошо запомнил этот герб: некогда венчавшая орла императорская корона была выломана. Позже мне рассказали, что самовар сей был из чистого золота. Во время обмена денег в том же 47-м в московских комиссионках скупили все подчистую. Исчез красноглазый орел, пропал самовар с остатками упраздненного герба. Потом след самовара обнаружился в протоколах обыска у известного в те годы драматурга Всеволода Рокка. Правда, кроме драматургии, у автора этого сочинения было и другое занятие. Именно его сменил на посту министра МГБ генерал-полковник Абакумов, а литератор возглавил не менее звучное ведомство — Министерство госконтроля. Подлинная фамилия человека, прикрывшегося звучным псевдонимом, была Меркулов, и имел он звание комиссара госбезопасности первого ранга. Его, несмотря на литературные заслуги, расстреляли в 1953 году по делу Берия. Много позже, работая с материалами МЧК, я наткнулся на любопытный документ. Некто пламенный большевик Васильев занял высокий пост в Сокольниках. Начал он с того, что выселил из особняка владельца ткацкой фабрики Николаева с семьей, естественно, унаследовал его имущество, в том числе и золотой самовар с двуглавым орлом. Группа МЧК по борьбе с уголовной преступностью, возглавляемая Мартыновым, проверив жалобу Николаева, довела до сведения начальника МЧК Манцева, что Васильев, позоря высокое звание большевика, пьет, устраивает оргии и берет взятки у обывателей. Тогда с этим злом боролись оперативно, и красивую жизнь номенклатурного работника оборвала пуля в 1918 году. Не правда ли, странное совпадение? В 1959 году я работал в пресс-центре первого Московского международного кинофестиваля. Вся элитная киножизнь проходила в гостинице «Москва». Столичных тусовщиков особенно привлекал пресс-бар, дислоцированный в ресторане на седьмом этаже. Вполне естественно, что не было отбоя от просьб журналистов, работающих на кинофестивале, попасть в этот оазис красивой жизни. В администрации фестиваля работало много друзей, и они всегда помогали мне с пропусками для знакомых. Однажды мой товарищ привел своих друзей. Мы весело провели время, а потом поехали на Сретенку, в гости к Коле и Жанне. И там я вновь увидел золотой самовар, совершенно случайно, когда изрядно принявший на грудь хозяин пригласил меня в другую комнату похвастаться необычайной красоты старинными часами «Нортон». Оказалось, что Коля был крупнейшим московским цеховиком. Мы несколько лет не виделись, а потом я узнал, что Коля загремел «за хищение в особо крупных размерах». За год до этого он развелся с женой, разменял квартиру, продал дачу. Тогда так поступали, чтобы избежать конфискации, которая неумолимо шла за осуждением. Но Колю не отправили в «солнечную» Коми, его расстреляли. Так уж сложилась жизнь на конец эпохи Хрущева. Отмечено это время не только борьбой с абстракционизмом, но и серией высших мер. Причем стреляли не бандитов типа Рогожина или Асланова, а именно хозяйственников. И что любопытно, судили их в закрытых заседаниях, словно шпионов. Видимо, уже в те годы кто-то крепко боялся, что всплывут данные о взятках и дорогих подношениях тогдашней номенклатуре. И получилось так, что все владельцы золотого самовара закончили свою жизнь трагически. Я уже говорил о странной цепочке совпадений. Некоторое время назад я семь дней прожил в элегантном курортном городке Хихон в Испании. Там проходила так называемая «черная неделя», а если проще — международная неделя детектива. Это был веселый карнавал, весь город словно стал огромной ареной детективного действа. Ранним утром последнего дня я вышел из отеля и решил пройтись по пустому городу. Со знакомой улицы Корриды, улицы самых дорогих магазинов, я свернул в маленький кривой переулок, где теснились ювелирные и антикварные лавки. Я равнодушно скользнул взглядом по россыпи колец за стеклом, полюбовался моделью старинного парусника и… За стеклом стоял мой старый знакомец— золотой самовар. Да, это был именно он! Я не мог ошибиться. Тот же серебряный орел с отломанной короной. Месяц назад мне надо было найти милый и недорогой подарок, и я пошел к Павлику Коту, который теперь уже стал Павлом Ефимовичем и больше не торгует в пивных камушками, а имеет в самом центре солидное ювелирное дело. Он повел меня к своим реставраторам, и у одного я увидел знакомый золотой самовар. — Как он к тебе попал? — спросил я Павлика. — Один богатенький прикупил его в Испании и отдал мне на реставрацию — орла короновать нужно. — Ты не можешь мне сказать, кто владелец? — При всей старой дружбе — не могу. Тайна вкладов, брат. Имя уж больно известное. Будем надеяться, что новый владелец самовара прочтет эту историю и постарается кому-нибудь втюхать золотое чудо, приносящее несчастье. Кстати, Павлик объяснил мне, что накладной орел сделан не из серебра, а из платины. И вся эта история странно связана с книгой, купленной в «Яме» у странного человека, как потом выяснилось, хорошо знавшего не только Меркулова, но и братьев Кобуловых, Гоглидзе и Влодзимирского. Кто он был, постоянный посетитель пивного подвала? Агент? Чекист-расстрига? Или чей-то сын? Мне так и не удалось узнать. Время унесло его вместе со многими другими пившими, игравшими, спорящими в этом подвале… До чего же оно беспощадно… Но когда становится скверно и муторно и кажется, что все не удалось и жизнь сложилась как-то не так, мне хочется попасть не в Дом кино, не в Дом журналиста. Мне хочется сбежать вниз по двенадцати ступенькам, зайти в зал, прокуренный и пропахший плохим пивом, сесть за стол и ощутить прикосновение добрых рук, услышать милые сердцу голоса и почувствовать покой и легкость. Жаль, что этого не будет никогда. Вращение шара Шар висел над эстрадой и с первого взгляда казался очень большим, но когда ты начинал к нему присматриваться, то понимал, что увеличивался он благодаря зеркальной поверхности. Свет, падая на десятки покрытых амальгамой кружочков, треугольников, квадратов и ромбов, создавал вокруг него своеобразный нимб, увеличивая его размеры. Днем зеркальный шар словно съеживался, становился меньше. Он отсыпался перед вечерней гульбой, когда свет софитов с эстрады заставлял его вращающиеся грани бросать в зал разноцветные искры. Ах, этот зал кафе «Националь», самого модного, самого привлекательного в Москве! Бронзовые светильники, тяжелые гардины, закрывающие окна, арка-перегородка красного дерева, делящая зал на две части. Изумительная посуда, конечно, гордость ресторана — столовое серебро восемьдесят четвертой пробы, изготовленное знаменитым мастером-ювелиром Овчинниковым. Кафе в то суровое сталинское время было неким оазисом демократии. В нем совершенно спокойно пили коньяк и закусывали шницелем «по-министерски» иностранцы и наши соотечественники. Сегодня многие высказывают различные предположения о причинах начала «холодной войны», о железном занавесе и прочих исторических ужасах. Лично я считаю, что поводом для знаменитой речи Уинстона Черчилля, произнесенной 3 марта 1946 года в Фултоне, бесспорно послужило происшествие в кафе «Националь». За несколько месяцев до этого знаменательного события, повернувшего ход мировой истории, в Москву прибыл сын английского номенклатурного работника политический обозреватель Рандольф Черчилль. Надо сказать, что отпрыск британского премьера любил повеселиться, особенно — крепко поддать. Приняв энное количество армянского коньяка, он становился необузданным и агрессивным. Залив глаза в номере, он однажды спустился в кафе «Националь» и повел себя как истинный британец, приехавший в колонию. Войдя в кафе, он схватил стул и взгромоздился на эстраду, которую только что покинул оркестр. Вынул из кармана бутылку и начал пить. На резонное замечание метра Юрия Михайловича, элегантного господина, весьма похожего на американского композитора Глена Миллера, о том, что у нас так себя вести не принято, Черчилль-младший послал его по-английски к матери. Надо сказать, что Юрий Михайлович знал в совершенстве три иностранных языка и работа в сети общепита была «крышей» для его основной боевой профессии. На том же английском он предложил Рандольфу освободить эстраду и покинуть зал. Но член британской номенклатурной семьи пошел по стопам наших высокопоставленных сынков и запустил в него бутылкой. Юрий Михайлович увернулся, бутылка, словно граната «мильс», разнесла закуски на ближайшем столике, салат «оливье» поразил дамские туалеты. Тут, конечно, появились «возмущенные советские граждане», которые и стащили заносчивого британца с эстрады. Они прекрасно помнили постулат великого вождя, товарища Сталина, что самый простой советский человек стоит на две головы выше любого буржуазного чинуши. Знатный гость покинул Москву, увозя в душе злобу и обиду. А после этого его папенька начал против нас «холодную войну» и железный занавес опустился. Насчет причин начала «холодной войны» я, конечно, пошутил, но все остальное правда. Впервые я попал в кафе «Националь» в 50-м году. Я был тогда мальчишкой, одетым в модные шмотки, которые мой отец щедро привозил мне из всевозможных заграничных поездок. И компания наша была весьма неплохо одета по сравнению со среднестатистическими гражданами страны, строящей социализм. Мы тогда жили в весьма пуританском обществе. Половина страны ходила в форменной одежде, вторая половина носила вещи, сшитые на наших передовых фабриках. Джаз был запрещен, иностранные фильмы можно было увидеть только на случайных сеансах в окраинных клубах. Чтобы достать билет на американскую картину, мы иногда простаивали ночами в очереди. Нам нравились эти фильмы, в которых не было ударных темпов, профсоюзных и комсомольских собраний. Мы смотрели их и старались подражать экранным героям, по возможности так же одеваться, так же ходить, так же уверенно и твердо говорить. Мы сидели в «Национале» и дымили сигаретами, именно сигаретами, хотя их тогда почти не курили — большинство людей предпочитали папиросы. Мы именно дымили, потому что всерьез никто из нас тогда не курил. Но сигарета была признаком мужественности, заграничности, и нам казалось, что с ними мы выглядели солиднее и старше. Мой покойный отец, профессией которого было доставать из-за кордона чужие секреты, был человеком веселым, любившим погулять в ресторане. За то недолгое время, пока он находился в Москве, он веселился по полной программе. К тому, что я рано начал с приятелями ходить по ресторанам, он относился философски, субсидировал мои походы и давал дружеские советы. — «Националь» обходите стороной, — говорил он. Уж кто-кто, а он точно знал, что притягательное это кафе было своеобразным садком, из которого потом абакумовские ребята изымали нужных персонажей для своих сценариев заговоров. Но все мы жили в счастливом неведении, поэтому огни кафе на углу улицы Горького и Манежа заманивали нас в элегантный и немного чопорный мир. В первый раз, когда я пришел в «Националь», меня поразили люди, сидевшие за столиком недалеко от нас. Как сейчас, помню уже немного разгоряченных знаменитых актеров Михаила Названова и Павла Массальского, а через два столика что-то ели сошедшие на грешную землю Любовь Орлова, Григорий Александров и Ростислав Плятт. Совсем недавно на экран вышел фильм «Весна». Принят он был зрителями с необыкновенным восторгом. Вте годы решиться поставить фильм, в котором не было соцсоревнования, партконференций и нравоучительных рабочих-ветеранов, было событием. В фильме даже целовались. Такую непростительную эротику мог пробить через цековские препоны только режиссер, поставивший любимый фильм вождя «Волга-Волга». Я, кстати, не шучу. Начиная с 50-го года из старых фильмов начали добросовестно вырезать сцены с поцелуями, в новых их заменило крепкое товарищеское рукопожатие. Так ВКП(б) беспокоилось о нашем моральном облике. Мне приходится иногда делать экскурс во всевозможные глупости того времени, но иначе сегодняшнему читателю многое будет просто непонятным. Нас, молодых, привлекало в «Национале», кроме интерьера, изумительной кухни — в те годы мы, правда, мало в этом разбирались, — возможность увидеть не на сцене, не с экрана людей, которые были нашими кумирами. В кафе царила особенная дружелюбная обстановка и мы, молодые, чувствовали себя практически равными с этими известными людьми, носившими на лацканах пиджаков медали лауреатов Сталинской премии. В те годы это было принято. Ну и, конечно, цены, что для нас было особенно важно. В своем изумительном романе «Долгое прощание» Юрий Трифонов описывает, как его герой Гриша Ребров приходит в «Националь». «Угнездившись за любимым столиком у окна, он пил кофе, жевал весь вечер один остывший шницель с картофельным паем, который умели по-настоящему делать только здесь, в „Национале“… Ребров был без денег. Утром взял у Ляли десятку». И снова хочу пояснить. Это была десятка, которую в 1961 году Никита Хрущев переименовал в рубль Правда, после «разжалования» на этот рубль в «Национале» можно было выпить две чашки кофе. Когда у нас совсем не было денег, мы заказывали окуня на сковородке, яблочный пай и кофе, и это стоило все ту же десятку. В 50-м году в читающей Москве произошло заметное событие: журнал «Новый мир» в октябрьском и ноябрьском номерах опубликовал повесть Юрия Трифонова «Студенты». Впервые на страницах журнала мы прочли нечто похожее на правду, увидели послевоенный московский быт. Я, Валера Осипов и Юлик Ляндрес, впоследствии Юлиан Семенов, бегали на какие-то диспуты, до хрипоты обсуждали поведение героев, и все это было нам необыкновенно интересно. По-моему, в сентябре 51-го года к нашему столу в «Национале» подошел крепкий парень в пошитом, видимо, в Риге пиджаке-букле, на лацкане которого висела медаль лауреата Сталинской премии третьей степени. Он вежливо поздоровался с нами, присел за стол и завел с Валерой Осиповым разговор о баскетболе. Поговорив несколько минут, Валера спохватился и познакомил нас. Он представлял нас с перечислением всех спортивных достижений и наград, а про гостя сказал просто: — Это Юрий Трифонов. Я и раньше видел его, он сидел всегда в первом зале у стены, эти столы постоянно занимали уважаемые завсегдатаи, среди которых было много писателей. Один из них вызывал у меня необыкновенный интерес. Был он невысокий, коренастый, с большой головой, копной седых волос. Смотрел на мир добро и насмешливо. — Ты знаешь, кто это такой? — спросила меня как-то моя барышня Ира. — Нет. — Это Юрий Карлович Олеша, мы живем в одном доме. — Ну, конечно, знаю, — решил я показать свою образованность. — «Три толстяка». — Не только, — сказала Ира, — я дам тебе его книгу, вышедшую в 30-х годах. Так я прочитал необыкновенный роман «Зависть», который и сейчас считаю шедевром нашей литературы 30-х годов. Много позже, когда я вернулся в Москву, отстегнул погоны, спрятал их на память, а шинель, китель и синие бриджи подарил соседу по коммуналке слесарю Грише, которые он немедленно пропил, и стал журналистом, я начал ходить в «Националь» несколько в ином качестве. Со мной, как с равным, разговаривали местные корифеи. Я был человеком из их цеха. Пусть подмастерьем, но все-таки своим. Я помню, мы сидели опять втроем, с Юликом Семеновым и Валерой Осиповым, и к нам присоединился только что пришедший Юрий Карлович. Он был один, без верного оруженосца, литератора Вени Рискинда. Дела у него немного поправились. Переиздали «Три толстяка» и «Зависть». Вышла новая книга — «Ни дня без строчки». Завсегдатаи «Националя» назвали ее «Ни дня без рюмки». Юрий Карлович сел за наш стол, налил коньяку и сказал: — Зима. Я нынче из окна видел Москву, похожую на гигантский пирог с глазурью. Не знаю почему, но эти слова, этот образный ряд, странное видение города поразило меня, я решил обязательно запомнить эту фразу. Но, конечно, не записал, забыл. Потом пытался вспомнить. А недавно купил его дневники и нашел ее там. Он называл себя князем «Националя». И он действительно был им. В те годы Юрий Карлович был беден. Чудовищно беден. А ведь до войны он был знаменитым писателем со всеми вытекающими последствиями. Бросок из известности в забвение, из богатства в бедность не сломил его. Несмотря на глухое пьянство, он оставался человеком с необыкновенным чувством собственного достоинства. В «Национале» его любили все. Не жалели, а именно любили — за талант, мудрость и смелость. Сердобольные официанты кормили и поили его не просто в долг, а иногда и бесплатно. Началась оттепель. И сразу вспомнили о его замечательных книгах. Их переиздали. У Олеши появились деньги. Как рассчитаться с теми, кто помогал ему в трудную минуту? Деньги? Пошло. Это не для Юрия Карловича. Он получил гонорар и купил всем официанткам наручные часы. Опять хочу оговориться: в те годы часы были чудовищным дефицитом. Когда я начал ходить в «Националь», совсем молодым, я еще не понимал, что это было не просто кафе. Не просто место, где пьют коньяк и едят судак «орли». «Националь» был клубом, кстати, точно таким же, как пивбар «Яма» в 70-е, только люди сюда ходили совершенно иные. Но у каждого из них, даже у процветающих в те времена, лежал на душе какой-то камень. Что-то недоброе заставляло их идти не в веселую «Аврору» или «Метрополь», а сюда, под успокоительное сияние зеркального шара. Он вращался и магнитом притягивал к себе всех заблудившихся на дорогах строящегося социализма. Я попытаюсь восстановить один день «Националя» не очень далеких 50-х годов. Первыми приходили трое: Юрий Олеша, кинодраматург Александр Ржешевский и поэт-песенник Вениамин Рискинд. Об Олеше я уже рассказывал, два его спутника заслуживают не менее пристального внимания. Когда я еще мальчишкой увидел Александра Ржешевского в «Национале», никогда бы не подумал, что через несколько лет увлекусь его теорией эмоционального кино. Лучшие режиссеры ставили по его сценариям фильмы: «В город входить нельзя», «Простой случай», «26 бакинских комиссаров» и, конечно, «Бежин луг» великого Эйзенштейна. Но, как ни странно, впрочем вполне закономерно для того времени, именно эта работа не понравилась Сталину, и фильм разгромили и уничтожили, то бишь смыли. Ржешевский был человеком сильным и ушел в театральную драматургию. Он стал соавтором нашумевшей пьесы «Олеко Дундич», но в 46-м году Сталин разругался с Тито, и, естественно, пьеса о сербском герое Гражданской войны была снята. После его смерти в 1967 году вышла необыкновенно интересная книга «А.Г. Ржешевский. Жизнь. Кино. Театр». Веня Рискинд был замечательным рассказчиком, очень добрым человеком, но творческая судьба его не сложилась из-за определенных свойств характера. Он много пил, был ленив. Чуть позже приходил высокий, грузный человек с массивной папкой в руках, кинодраматург Иосиф Склют. Когда-то он написал сценарий к знаменитому фильму «Девушка с характером» и с тех пор так и не сделал ничего серьезного. В обед появлялся очаровательный человек в форме торгового флота — Женя Микулинский. Постепенно зал наполнялся, в дверях возникал директор Московского ипподрома, одетый как легендарный конник времен Гражданской войны. А когда начинал крутиться зеркальный шар, входили деловые, всегда втроем: цеховик, замдиректора Мосторга и крупный чин из Министерства легкой промышленности. Писателя Эммануила Казакевича часто можно было видеть с интересным, прекрасно одетым молодым армянином — студентом Института международных отношений Жоржем Тер-Ованесовым. Это был веселый, расположенный к людям парень, умевший необыкновенно легко найти общий язык с любым. Мы тогда познакомились и на всю жизнь остались в дружеских отношениях. Когда, рассчитавшись с армией, я вернулся в Москву, Жорж, послав к черту карьеру дипломата, стал замечательным фотокорреспондентом. На одной из редакционных посиделок я узнал, что элегантный молодой человек, посещавший «Националь», половину войны отпахал в полковой разведке, награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и двумя — Отечественной войны. Именно он был прототипом командира разведроты в романе Эммануила Казакевича «Весна на Одере». Потом я долго не ходил в «Националь», так как надел военную форму. Поэтому мое знакомство с этим замечательным местом делится как бы на два периода: «до» и «после». Прежде чем перейти к «после», хочу поведать одну знаменитую историю. Мы с Валерой Осиповым пришли в «Националь» в одно из воскресений часика в три. Денег у нас было не густо, но на бутылку сухого и пару котлет «по-киевски» хватало. Зал был полон, но швейцар дядя Коля нас уже знал и пускал без всякой очереди. Рвались сюда мы еще и потому, что вот уже целую неделю в кафе играл джаз трубача Вадика Грачева. У него работали такие корифеи московского джаза, как Коля Капустин и Боря Матвеев. До этого здесь бесчинствовал эстрадный коллектив под управлением аккордеонистки Ани Бродской, переведенный в интуристскую систему после закрытия ресторана «Иртыш», напротив которого нынче стоит «Детский мир». Надо сказать, что утверждала коллективы, играющие в кабаках, комиссия райкома партии. Состояла она вся сплошь из «музыковедов». И надо же было так случиться, что именно в этот день комиссия приперлась в кафе принимать репертуар. Поначалу все шло чинно и тихо, пока в зал не прорвалась компания из пяти здоровых мужиков, как потом выяснилось, экспедиторов и грузчиков Кунцевской трикотажной артели. В тихую, почти семейную обстановку «Националя» они внести свирепый ветер подмосковных пивных. Рядом с нашим столом сидел мой коллега по спорту, замечательный и тогда уже известный боксер Валя Лавров. Теперь он знаменитый писатель и, наверно, забыл тот далекий день. Сидел он за столом с московской красоткой, как мы тогда говорили — барышней из первой сборной, Наташей Фоминой. Кунцевские ребята, выпив третью бутылку, почувствовали себя совсем дома. Они начали разговаривать на привычном для них языке. Милая наша официантка Оля сделал им замечание и тут же была послана по матери. Этого Валя Лавров перенести не мог, он встал, демонстрируя всему залу купленный в комиссионке темно-серый американский костюм, и подошел к столику кунцевских ребятишек. Зал затих. — Извинись, — сказал Валя здоровому мужику. Тот, видимо не зная, что у этого худощавого паренька колотуха, как у заднейноги лошади, поднялся и послал Лаврова еще дальше, чем официантку. Послал и сразу же лег под стол. Валя не зря входил в сборную команды Москвы по боксу. Отлетел стол, загремела посуда, остальные четверо ринулись защищать честь любимой артели. Но тут подоспели мы с Валерой. А потом произошло непонятное, зал охватил какой-то психоз: все начали драться. А Вадик Грачев не остановил оркестр, а заиграл мелодию Глена Миллера «In the mood» из фильма «Серенада солнечной долины». Звенела посуда, визжали женщины. — Милиция! — кричал от дверей дядя Коля. Только комиссия райкома безучастно глядела на это безобразие, и смеялся в своем углу мудрый Юрий Карлович Олеша. Вывод комиссии был однозначен и строг: джазовая музыка даже советского человека превращает в дикого зверя. Вадика Грачева с его музыкантами из кафе убрали. А нас в тот вечер спасла Оля: она вывела Валю, Валеру, Наташу и меня через маленькую деревянную, скрытую за портьерой дверь в вестибюль гостиницы. Оля даже не представляла, каких неприятностей мы избежали. Потом мне только оставалось вспоминать свое любимое кафе, «боевых» товарищей и милых девушек, с которыми было так легко и весело. Я вернулся в Москву тогда, когда милые девушки уже были чьими-то женами, товарищи мои тоже завели семьи, закончили институты. Я снова оказался в «Национале». Но изменился я, и там изменилось многое. Главное, пришло другое время — за столиками люди начали спорить, критиковать и сомневаться, начали говорить смело и с достоинством. Но само кафе не изменилось, лишь по вечерам перестала играть музыка. Потанцевать можно было только в воскресенье. И, конечно, посетители стали другие, более молодые. Закрылась знаменитая «Аврора», вместо нее сделали сначала ресторан «Пекин», а потом «Будапешт». В «Националь» частично переместились московские деловые. С их приходом разрушилась обстановка келейности. Клуб стал превращаться в обычный ресторан. Но по-прежнему сидел за угловым столиком старик-завсегдатай, философски принимая нахлынувшие перемены. Мой товарищ Валера Осипов из известного журналиста превратился в молодого писателя — такая раньше была градация в сложном литературном мире. Он опубликовал в журнале «Юность» маленькую повесть «Неотправленное письмо», которая сразу принесла ему подлинную известность. И справедливо, потому что Валера Осипов был одаренным человеком и талантливым писателем. Повесть заметил знаменитый режиссер Михаил Калатозов, чей фильм «Летят журавли» стал событием в культурной жизни страны. Начались съемки. Главную роль исполняла все та же Татьяна Самойлова. Вот тогда и начался роман Валеры с Татьяной. Теперь они вместе приходили в «Националь», садились всегда вдвоем, и мы понимали их, здоровались издалека, не желая мешать двум этим молодым, красивым, талантливым людям. Говорят, что любовь созидает. Нет. Это разрушительное чувство, оно ломает судьбы людей. Этот роман длился несколько лет. Он безжалостно прошагал по их душам, оставив после себя развалины. До самой смерти мой дорогой друг не мог оправиться от этого жестокого чувства. Возможно, не встреться они на съемочной площадке— и у обоих была бы иная, более счастливая жизнь. Мой друг всю оставшуюся жизнь вел молчаливый диалог со своей любимой, словно хотел досказать ей что-то. Даже перед смертью он говорил со мной о ней. А знаменитый шар над эстрадой продолжал висеть, а потом потускнел. Он уже был не нужен. Только на Новый год в нем, как и прежде, отражался свет разноцветных софитов. И его сняли. На военном флоте, когда корабль отправляют на морское кладбище, в забытую Богом бухту, с него снимают государственный герб. Так же произошло с «Националем». Зеркальный шар был его гербом, под которым собирались пусть ущербные, но очень талантливые люди. Убрали шар, и началась новая жизнь. Вновь возбудилось КГБ. «Националь» стал прибежищем московских фарцовщиков. Так, внезапно появился там некий человек по имени Дима, по фамилии Яковлев, он всем с некоторой долей таинственности сообщал, что он якобы драматург, приехал из Риги, а папенька его местный кардинал. Правда, драматург, видимо, не знал, что латыши в основном протестанты и у них нет кардинала, а главное, что человеку в таком высоком сане семью иметь не положено. Дима любил поговорить о литературе и в довершение рассказа доставал из портфеля договор на написание пьесы, заключенный с Театром имени Моссовета. На самом деле он был крупным валютчиком, а кафе сделал местом, куда его подручные приносили скупленную у иностранцев валюту. Было забавно смотреть, как за щедро накрытым столом восседал Дим Димыч — такая у него была кличка— и принимал своих шестерок. Смешно потому, что в соседнем зале за остывшей чашкой кофе сидел Ян Рокотов и получал добычу от своих бойцов. Клуб кончился. И хотя сюда часто приезжали Леонид Луков и Иван Пырьев, приходили молодой Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Вадим Юсов, прежнюю атмосферу восстановить не удавалось. Мой друг Леонид Марягин, с которым мы познакомились именно в «Национале», рассказал мне о драке с фарцой, в которой участвовали он, Юсов и Тарковский. А потом «Националь» закрыли на ремонт. Примерно через год двери его распахнулись, но это было уже не то место, к которому мы привыкли. Исчезла барская сервировка, да и столы заменили, поставили каких-то колченогих уродцев. Сняли гардины и обнажили окна, сломали арку, соединявшую залы. И начался исход завсегдатаев из «Националя» — только что открылся после ремонта ресторан ВТО на улице Горького. Пожалуй, последним, кто остался в «Национале» из ветеранов, был скульптор Виктор Михайлович Шишков, по кличке «Витя Коньячный», веселый, добрый и щедрый человек. Когда-то мы с Леней Марягиным, гуляя после «Националя» по ночной Москве, говорили о том, что хотели бы сделать в жизни. А совсем недавно мы с ним подошли к углу Тверской и Манежной, посмотрели на вывеску над дверями бывшего «Националя» и вспомнили вертящийся зеркальный шар. Воспоминания эти — сны наяву. Цветные сны, в которых живут женщины, которых мы любим, и друзья, ушедшие навсегда. А еще в этих цветных снах возвращаются к нам события тех давних лет. Человеческая память — удивительный инструмент. Она отторгает все плохое, что ты хотел забыть, поэтому прожитое кажется прекрасным и нежным. Все-таки странную жизнь мы прожили -спорили, мечтали, забыв о том, что с мечтами надо быть очень осторожным, а то они могут сбыться. Джаз времен культа личности 1946 год. Первое по-настоящему мирное лето. Прошлой весной капитулировала Германия, осенью сложила оружие Япония. Вечерами над Москвой пели аккордеоны. Замечательные, отделанные перламутром инструменты привезли солдаты-победители. Прошлое лето было для них временем надежд и ожиданием счастья. Следующий год принес разочарование. Нелегкий послевоенный быт, продукты по карточкам, невысокие заработки. Но все забывалось вечером. После работы московские дворы танцевали. Как только зыбкие московские сумерки опускались на наш район и дома зажигали окна, над площадкой под балконом нашей квартиры загоралась громадная многосвечовая лампа, заливая весь двор нереальным желтым светом. Лампа эта была предметом конфликтов с управдомом Ильичевым, полным, совершенно лысым человеком, постоянно ходившим во френче-сталинке с двумя медалями на груди: «За оборону Москвы» и «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». Все дело было в том, что лампу эту дворовые умельцы подключали напрямую к щиту Мосэнерго, так как в каждой квартире пока еще стояли рядом с электросчетчиком маленькие круглые коробочки, именуемые в народе минами замедленного действия, и если вы растрачивали дневной лимит электроэнергии, раздавался щелчок и квартира погружалась на несколько часов во мрак. Лампа же над танцплощадкой значительно снижала показатели домоуправления по экономии электроэнергии. Ильичев ругался, но с ребятами-фронтовиками связываться боялся. Народ рассаживался по лавочкам и ждал, когда появится любимец двора лихой аккордеонист и певец Боря. Фамилию его я не помню, в памяти осталась только кличка — «Танкист». Боря садился на лавочку, пробегал пальцами по клавиатуре сияющего перламутром инструмента и, как всегда, начинал с привезенного из поверженной Германии фокстрота, к которому были пригнаны родные русские слова: Мы будем галстуки с тобой носить, Без увольнительной в кино ходить, Ночами с девушкой гулять И никому не козырять. Розамунда! Подхватывали песню бывшие солдаты и офицеры. Совсем молодые парни из нашего двора. До войны вряд ли кто-нибудь осмелился бы петь этот польский фокстрот, не опасаясь стать агентом маршала Пилсудского. Война немного изменила представления о прекрасном. Идеологическая зараза с растленного Запада, минуя погранзаставы, проникла в страну, строившую социализм. Из Австрии, Германии, Венгрии, Чехословакии и Польши демобилизованные везли пластинки с фокстротами и танго. Из Румынии прямо на Тишинский рынок огромными партиями поступали пластинки «белогвардейца» — так именовали до войны милого русского шансонье Петра Лещенко советские газеты. Но опаснее всего была война на Дальнем Востоке. Из Харбина прямо в Москву попали пластинки, записанные актерами-эмигрантами в русских варьете. Кстати, именно из Харбина пришел к нам диск со знаменитым шансоном «Дочь камергера». В Москве в коммерческих ресторанах надрывался джаз. Самыми популярными фильмами были «Серенада солнечной долины», «Джордж из Динки-джаза» и «Девушка моей мечты». Мелодии из этих фильмов играли на танцах, напевали и насвистывали по всей Москве. Даже по радио частенько выступал джаз Утесова, Кнушевицкого, Цфасмана. Сегодня, когда я думаю о том времени, то понимаю, почему появились знаменитое постановление ЦКВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“ от 14августа 1946 года, чудовищное постановление о музыке, началась борьба с низкопоклонством перед Западом. Все просто. Люди вынесли тяготы страшной войны, и те, кто сражался, и те, кто впроголодь вкалывали у станков, после Победы вновь обрели чувство собственного достоинства. В те годы мы учились раздельно. Барышни в женских школах, пацаны — в мужских. Но устраивались совместные вечера для старшеклассников. Сначала было что-то вроде диспута, на котором комсомольские активисты мужских и женских школ спорили об образе Павки Корчагина или Олега Кошевого, потом наступала главная часть — танцы. Одно из таких коллективных свиданий проходило в женской школе. Туда мы притащили несколько джазовых пластинок. Окончился диспут, мы перешли к главной части программы. И как только раздалась музыка Глена Миллера из знаменитой «Серенады солнечной долины», в зал ворвалась секретарь Советского райкома комсомола. — Прекратить! — диким голосом заорала она. — Вы что, не слышали, что поджигатель войны Черчилль грозит нам атомной бомбой? Она сорвала пластинку с диска и разбила ее об пол. Черные осколки разлетелись по полу. Мы стояли и смотрели с недоумением на осколки пластинки, слушали гневные слова комсомольской дамы о поджигателях войны и никак не могли сопоставить музыку Глена Миллера с личностью Уинстона Черчилля. Война с «безродными космополитами» и «пресмыканием перед Западом» проходила, как и положено боевым действиям, с потерями и руинами. Все иностранные наименования были немедленно выкинуты из обихода. Достаточно сказать, что знаменитые французские булки стали называться городскими. И, конечно, исчезло слово «джаз». Леонид Утесов переименовал свой знаменитый коллектив в эстрадный оркестр. Кампанию борьбы с космополитизмом возглавил один из руководителей сталинского ЦК Андрей Жданов. Он был прославлен партийной печатью как человек, отстоявший Ленинград. Не генерал армии Жуков и не генерал-полковник Воронов, а именно этот человек с нездоровым отечным лицом «выиграл» ленинградскую кампанию. В те годы прославлялось прежде всего не мужество и воинское умение, а твердость партийной позиции, непоколебимая вера в торжество сталинских идей. Много позже, когда я собирал материал для книги об уголовном розыске блокадного Ленинграда, я узнал страшные подробности руководства Андрея Жданова осажденным городом. Но не спекуляция продуктами, не скупка антиквариата за пайку хлеба, даже не людоедство поразили меня, а история, которую мне рассказал бывший начальник Ленинградского уголовного розыска. Утром его вызвали к Жданову. Тот завтракал в рабочем кабинете. Перед ним на столе — стакан какао, яйца всмятку, в миске белый хлеб. Не предложив голодному человеку даже стакана чая, партийный руководитель, выскребая ложкой белок из яйца, отдал распоряжение и отпустил главного сыщика города. — Знаешь, что поразило меня больше всего? — сказал он мне. — Нет. — У него на столе стояла ваза с персиками. Дел было много, и партруководитель завтракал прямо за рабочим столом. Что поделаешь, война — для всех война. Жданов работал масштабно. Он начал широкое наступление на все, что имело отношение к Западу. По его инициативе была создана новая газета — «Культура и жизнь», которая печатала сводки с полей идеологических сражений. Замечательный публицист, ныне покойный, Борис Агапов, рассказывая мне о тех былинных временах, называл этот орган партии «Культура и смерть», такое мрачноватое название дали ей в народе. В 1961 году должен был состояться очередной съезд КПСС. Какой по счету — не помню, так как ни в рядах ВКП(б), ни в рядах КПСС не состоял никогда. Но год этот помню точно по некоторым сугубо личным делам. Так вот, позвонил мне замечательный журналист Володя Иллеш, мой большой друг, и спросил: — Хочешь заработать? — А то, — находчиво ответил я. — Тогда подъезжай на Смоленскую набережную, там редакция маленькой театральной шараги, тебя будет ждать редактор. Я приехал по указанному адресу, разыскал редактора, и он действительно предложил мне приятную и денежную работу. К партийному съезду московские театры выпускали спектакли, но, чтобы делегаты этого «форума» могли ориентироваться в культурном мире, я должен был написать небольшую брошюру аннотаций к этим замечательным постановкам. Закончив сей труд, я пригласил работодателя обмыть это замечательное событие. Володя Иллеш, рассказывая мне о нем, упомянул, что он в свое время был заместителем редактора газеты «Культура и жизнь». Меня тогда это мало занимало, просто было любопытно, как человек с номенклатурных высот свалился на такую низкую должность. Мы пошли в ресторан «Астория». Выпивали, говорили о театре, слушали джаз. И вот, когда трубач начал весьма неплохо солировать, мой собеседник поморщился и сказал: — А все-таки мы здорово дали им по рукам в свое время. — Кому? — удивился я. — Всем этим барабанщикам, трубачам, саксофонистам. — За что? — Вы помните очерк Максима Горького «Город желтого дьявола»? — Не очень, — искренне признался я. — Напрасно, великий пролетарский писатель уже тогда сказал, что джаз — это музыка «толстых». Горький предупреждал нас об этой идеологической заразе. После знаменитой речи Черчилля в Фултоне, когда мир окончательно разделился, мы, идеологические работники партии, не могли допустить проникновения к нам этой музыкальной заразы. — Подождите, — возразил я, — но во время войны Утесов со своим джазом ездил по фронтам, был джаз ВВС… — Никто не застрахован от ошибок. Он говорил и преображался. Маленький, худенький, неважно одетый человек на моих глазах становился партийным вельможей. — Когда-нибудь партия поймет, как мы были правы, и вновь запретит всю эту буржуазную заразу. Спасать молодежь надо. Спасать. Нас тоже спасали как могли. Но мы почему-то не внимали мудрым словам партийно-комсомольских наставников. Мы продолжали любить джаз, продолжали собирать пластинки и танцевать фокстрот и танго. И несмотря ни на что, джаз продолжал жить. Смешно сказать, но он ушел в подполье. В Москве появились так называемые «ночники». Официально в программах клубов, ДК и творческих домов мероприятия эти именовались музыкальными вечерами. А вот что было на самом деле. Из зала убирали стулья и начинались танцы. Идеология — идеологией, финплан — финпланом. Билет на «ночник» стоил двадцать пять рублей, по тем временам деньги не малые. Не было рекламы в газетах, не было сообщений по радио, но мы точно знали, когда и где будет очередной «ночник» или куда под Москвой приедут играть джаз наши любимые музыканты. Особенно мы стремились попасть на выступления коллективов, где играл кумир молодежи ударник Борис Матвеев. Если он играл в Воронках или Малаховке, мы дружно ехали туда, хотя путешествия эти были небезопасны. Короли танцплощадок, местная шпана нахально лезли в драку, и мы сражались с ними, отстаивая свое право на несколько часов встречи с любимыми музыкантами. В нашей компании было несколько боксеров, и то, чему нас научили в тренировочном зале, практически всегда помогало нам одерживать победу. А потом драки внезапно прекратились, и местные стали относиться к москвичам вполне дружелюбно. Правда, на танцплощадках появились фиксатые, татуированные мужики, перед которыми трепетала местная шпана. Все, как потом рассказали мне знающие люди, оказалось очень просто. Джаз стал прибыльным делом. Музыканты могли только играть, а за организацию подпольных концертов взялись ушлые теневики. Самым крутым был прекрасно одетый человек, завсегдатай «Националя» Семен Самойлов. На загородных площадках билеты тоже стоили не дешево. Местные шли напротырку, так как основной навар давали приезжие москвичи. Драки отпугивали молодых московских ребят и девушек. Поэтому Самойлов, как человек, много повидавший в жизни, взял в долю местных авторитетных урок. Они наводили порядок в секунду, одним, вскользь брошенным взглядом. Но поездки за город были не очень частыми. Борис Матвеев играл в «Шестиграннике», была такая танцплощадка в Парке культуры, или в последнем столичном дансинге в гостинице «Москва». Мы ездили туда, хотя в «Шестиграннике» тоже приходилось драться с местной шпаной, которую чья-то твердая рука направляла на борьбу со стилягами. Что любопытно, когда появлялась милиция, забирали только нас, потом какие-то молодые люди, именующие себя комсомольскими работниками, долго и нудно выясняли, где мы учимся или работаем, требовали предъявить паспорта и комсомольские билеты. Меня отпускали относительно быстро, выяснив, что я не являюсь членом ВЛКСМ. В «Москве» подстерегала другая опасность. Примерно в двадцать три часа в дверях появлялись люди в штатском. Их старший махал рукой, и оркестр замолкал. — Женщины налево, мужчины направо, — зычно командовал главный. Как сейчас помню, у него была повреждена левая рука. И начиналась проверка документов. В танцзал ходили не только мы, молодые, но и люди вполне степенные. С ними разбирались быстро, а нас непременно отвозили в «полтинник», знаменитое 50-е отделение милиции, где задавали один и тот же вопрос: — Где взял деньги на билет? Билет в танцзал стоил целый червонец. Я отвечал немыслимо однообразно: — Сдал молочные бутылки. Послушать джаз можно было в некоторых ресторанах. Правда, там всегда играли мелодии наших композиторов, и то не все. Играть танго и подобие фокстрота разрешалось в ресторанах системы «Интурист», так как их посещали иностранцы, живущие в отелях. Ходить в кабак, в котором бывали иностранцы, как впоследствии оказалось, тоже было довольно рискованным делом. Но тогда мы пребывали в счастливом неведении, поэтому с удовольствием пили «Хванчкару» и танцевали. Но особенно мы любили ресторан «Аврора», где играл знаменитый ударник Лаце Олах. Когда-то мой дядька познакомил меня на Тверском бульваре с невысоким полненьким человеком с веселым лицом. — Это знаменитый джазовый музыкант Лаце Олах, — сказал он мне. Как ни странно, Лаце запомнил меня и, когда я появлялся в «Авроре», дружески здоровался, что очень льстило моему самолюбию. Как только я усаживался с девушкой за стол, к микрофону подходил трубач и объявлял: — Мелодия из кинофильма «Подвиг разведчика». Оркестр начинал играть знаменитый фокстрот «Гольфстрим». Играл оркестр и мелодии из спектакля Центрального театра кукол «Под шорох твоих ресниц» и даже музыку из сцены «Полярный бал» в фильме «Музыкальная история». Такие вещи комиссией, утверждавшей репертуар ансамбля, милостиво разрешались, хотя все знали, что стоит за этими безобидными названиями. Однажды моя девушка Лена достала приглашение на вечер в клуб Совета министров. Сейчас там Театр эстрады. Весь вечер джаз играл лихие американские мелодии. Причем играл вполне официально и безбоязненно. Веселились под музыку «толстых» дети крупных чиновников, служивая молодежь да солидные госдеятели со своими женами в панбархате. И тогда меня поразило лицемерие нашей власти. Это напомнило, как на даче в Барвихе купаться в зоне Рублевского водохранилища могли только номенклатурные работники определенного ранга. Им выдавалось для этого специальное разрешение. Как будто они были чище других. С джазом боролись вплоть до смерти Сталина. Потом перестали, начали сражаться с последствиями культа личности. Мы продолжали любить джаз и бегали по ресторанам и клубам, где играли любимые музыканты. Ресторан «Москва», там пела прелестная Нина Дорда, «Аврора», в которой играл Лаце Олах, «Коктейль-холл», где руководитель ансамбля Ян Френкель иногда баловал нас запрещенными мелодиями. И, конечно, Борис Матвеев, мы старались попасть на все его выступления. О Борисе Матвееве рассказ особый. Он родился на Пресне и много лет жил в огромной московской коммуналке. В 1944 году, тяжелом и не очень сытном, отчим устроил его воспитанником в военно-музыкальную команду. По тем временам это была большая удача. Парнишка питался из солдатского котла и получил военную форму. Он любил музыку и увлекался ударными инструментами. В 1945 году в День Победы, 9 мая, Борис побежал в сквер к Большому театру, где играл ансамбль Кнушевицкого. Он хотел увидеть знаменитого ударника Лаце Олаха. Как зачарованный следил он за его виртуозной игрой. Когда-то, еще до войны, Лаце Олах приехал с джазом Циклера из Чехословакии на гастроли в СССР, здесь влюбился в пианистку Юлю, женился и остался навсегда в Москве. Он привез к нам европейскую школу игры на ударных инструментах. — Понимаешь, — рассказывал мне Борис Матвеев, — саксофонисту, трубачу, аккордеонисту тогда было легче: они услышат мелодию, соло на определенном инструменте, и могут сразу же подобрать. Нам, ударникам, надо видеть, как играет мастер, и перенимать его движения. Борис так и делал, приходил в кинотеатр «Художественный», где перед сеансом играл Лаце Олах, и, как говорят музыканты, снимал все — от игры до движений. Одного только не смог освоить — Лаце Олах виртуозно жонглировал палочками. В Гнесинском училище Борис занимался у знаменитого Кулинского, написавшего тогда первое в СССР учебное пособие игры на барабане. Борис заболел джазом с того самого дня, когда впервые увидел фильм «Серенада солнечной долины». Он любил джаз и учился его играть. Он был хорошим музыкантом, но пока не мог попасть в настоящий большой оркестр. Пришлось работать в ресторанах. Но именно там к нему пришла первая известность, и его пригласили в кафе «Националь». Шел 47-й год, только начиналась полоса запретов и идеологической борьбы. Но джазисты из кафе на уголке ничего этого не знали и продолжали веселить публику. Именно в «Национале», куда приходило много актеров, писателей, музыкантов, у Бориса появились солидные поклонники. Его работой восхищались Майя Плисецкая, Сергей Лемешев, они говорили, что приходят сюда послушать его знаменитое соло на ударных. Однажды в перерыве, когда Борис пил кофе за столиком у эстрады, к нему подсел прекрасно говорящий по-русски иностранец. Он представился как грек, живущий в Москве и работающий в одном из посольств. Он восхищался музыкой, хвалил Бориса за его соло. Позже Борис узнал, что это был знаменитый коллекционер, сотрудник канадского посольства. Доброе слово и кошке приятно, Борис сел к своей установке окрыленный. Как только музыканты отыграли программу и собрались поужинать, к Матвееву подошли два парня в одинаковых костюмах. — Пошли с нами. — Куда? — Узнаешь, мы из МГБ. Две одинаковые красные книжечки, два одинаковых равнодушных лица. Его привезли на Лубянку. В маленьком кабинете капитан в расстегнутом кителе лениво сказал: — Садись и пиши о своей шпионской деятельности. — Да что вы! Какой я шпион! — А о чем с иностранцем разговаривал? — О джазе. — О джазе! А ты знаешь, что твой джаз — идеологическое оружие поджигателей войны? — Нет. — Сейчас мы тебе объясним. Его били долго и очень сильно. Очнулся он только в камере. Все тело налилось жгучей болью. Он приходил в сознание и снова проваливался в темноту. Наконец его снова притащили в кабинет к капитану. — Ну что? Понял, что такое идеологическое оружие поджигателей войны? — Пока нет. — Пошел вон. А все, что было, забудь. Уяснил? — Да. — И джаз свой забудь. Что молчишь? Борис ничего не ответил, но и джаз не бросил. Играл в ресторанах, на «ночниках», на загородных танцплощадках. Вороватые администраторы безбожно обманывали джазистов. Но они все равно играли, потому что джаз стал их призванием. После смерти Сталина, когда наступила так называемая оттепель, вернулся из лагеря Эдди Рознер и снова начал формировать джазовый коллектив. Из всех ударников, которых он прослушал, Рознер выбрал Бориса Матвеева. Потом было много хорошего. Гастроли с Эдди Игнатьевичем Рознером. Свой эстрадный коллектив. Звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1956 году под Новый год в Доме офицеров показывали фильм «Карнавальная ночь». На экране появился джаз, и я увидел любимого музыканта нашей молодости Бориса Матвеева. Мы встретились с Борисом Владимировичем Матвеевым полтора года назад. Он практически не изменился. Такой же элегантный, стройный, красивый, только поседел, конечно. Мы долго вспоминали с ним прошедшие годы, ушедших друзей, грустные и веселые истории. Все-таки мы счастливые люди, хотя в нашем прошлом было плохое и хорошее. Но невозможно, уходя из него, взять с собой только одну радость. Поэтому пусть все, что случилось, останется в наших воспоминаниях. Глава 3 Прогулки в прошлое Лейтенант из моего детства Была война, а мы были мальчишки. Не помню, кто из наших прозаиков-фронтовиков написал о том, что на войне быстро взрослеют. Думаю, это можно отнести и к тем, кто четыре с половиной года войны жил в тылу. У моего поколения пацанов было очень короткое детство. В июне 1941 года они сразу же, независимо от возраста, шагнули в юность. Война сделал нас осмотрительными, развила чувство опасности, научила беспощадной ярости в драках с тишинской шпаной, а главное, сделала гражданами страны, понимание этого мы пронесли через всю нашу жизнь. Военная Москва научила нас многому. В те годы не было полутонов, существовало два цвета — светлый и темный. И мы росли максималистами, живя по своему, неписаному кодексу чести. Я уверен, что всему хорошему, что есть во мне, я обязан военному детству и армии. Война по-разному зацепила судьбы моих сверстников. Одни, как и я, жили в военном тылу, а некоторые стали ее непосредственными участниками. Со мной в военном училище был Леня Вагин, отличный парень с Покровских Ворот. Военная судьба его была необычайной. В начале июня 1941 года его отправили на лето к дяде, который служил в Белоруссии. Когда началась война, Леня вместе с семьями комсостава на машинах отправился в тыл. Но по дороге немцы разбомбили их колонну, и пока оставшиеся в живых люди пешком добирались к Могилеву, их опередили солдаты вермахта. Леню приютили добрые люди в белорусской деревне. Хозяин был связан с партизанами и приспособил пацана в качестве курьера. Леня доставлял сообщения в отряд и приносил инструкции для квартирного хозяина. Потом того арестовали полицаи, и Леня ушел в отряд. Он перезимовал там, помогая разведчикам, был награжден медалью «За боевые заслуги», легко ранен во время бомбежки партизанского лагеря и отправлен на Большую землю. Такая военная судьба была у моего однокашника, а ныне генерал-лейтенанта в отставке Леонида Петровича Вагина. Ничем подобным я похвастаться не могу. Война застала меня на Кольском полуострове, где в лесотундре находился военный объект, на котором служил мой отец. Что делали военные вблизи норвежской границы, известно было только им. Мы с матерью приехали туда на две недели 10 июня. Двадцать третьего июня на машине мы с семьей одного из отцовских сослуживцев доехали до Мончегорска, а там сели в поезд до Ленинграда. На станции Оленья дико закричали паровозы, закашлял зенитный пулемет, в ужасе заголосили люди. Мы только собирались обедать. Меня перед едой обязательно поили рыбьим жиром и гематогеном — темно-коричневой бурдой отвратительного вкуса. Но моя мама свято считала, что это поможет мне вырасти здоровым и сильным. Иногда я думаю, что она была права. Итак, несмотря на военное время, из сумки были извлечены две бутылки этой чудовищной гадости. И тут-то началась тревога. Мама поставила на стол рыбий жир и гематоген рядом с бутылкой лимонада, до которого я был весьма охоч. Она побежала к проводнику, а мы залезли под лавку. У меня тем временем созрел смелый план: пользуясь паникой, похитить лимонад и выпить его. Решено. Я вылез из-под лавки и только хотел спереть заветную бутылку, как с треском разлетелось стекло, — мне в лицо ударил комбинированный коктейль из рыбьего жира, гематогена и лимонада. Как потом выяснилось, три пули из пулеметной строчки, прошедшей по вагону, попали в наше купе. Дико закричала наша соседка. Я сидел на полу, размазывая по лицу мерзкую жижу. Влетела мать и какой-то военный. — Спокойно, — сказал он, — ваш пацан цел, его обрызгало из разбитых бутылок. В купе чудовищно воняло рыбьим жиром. Меня отмыли и пообещали выпороть, если я буду самовольничать. На этом и закончился мой боевой опыт. Потом был Ленинград, ничего особенного не осталось у меня в памяти. Но зато я хорошо запомнил вокзал. Огромную толпу, штурмующую поезд, мат, вопли женщин и крик детей. Здоровенные мордатые мужики сбрасывали с подножек вагонов женщин и стариков, милиция ничего не могла сделать, поэтому вызвали комендантскую роту, которая прикладами отгоняла от поезда одуревших от паники людей. Поезд тронулся только тогда, когда военные и милиция проверили билеты и документы и выкинули на перрон паникеров. Поезд тащился нестерпимо долго, у станции Бологое он стал, по вагонам пополз мерзкий слух, что немецкий десант с танками перерезал железнодорожную ветку. А все было просто — мы отстаивались, пропуская воинские эшелоны. Москва чудовищно изменилась. Все окна были крест-накрест заклеены бумажными лентами, считалось, что они должны предохранить от ранений осколками разбитого взрывной волной стекла. Вечером на окна опускались светомаскировочные шторы. Если, не дай бог, из какой-нибудь щели просвечивалась узенькая полоска света, в квартире сразу же появлялись энкавэдэшники и выясняли, случайность ли это или сигнал вражеским самолетам. Первое, что сделал мама по приезде, пошла сдавать радиоприемник. Дело в том, что в довоенные времена каждый приемник регистрировался в местном отделении ОСОВИАХИМа. На третий день войны была дана команда сдать все радиоприемники. Власти боялись, что немцы начнут активную пропаганду по радио, сея панические настроения и лишая людей воли к сопротивлению врагу. Те, кто не сдал приемники, привлекались как пособники в распространении вражеской пропаганды. Слушать можно было только черную, похожую на сковороду, тарелку репродуктора. Кстати, на этом пострадал наш сосед. Он был радиолюбителем, существовало в те годы такое повальное увлечение; естественно, приемники свои и самодельный радиопередатчик он сдал. Но у него осталась целая куча ламп и радиодеталей. Их и обнаружило зоркое око уполномоченного по подъезду. Была в те годы такая должность добровольного помощника НКВД. У нас этим занималась противная толстая баба, ходившая в зеленой сталинке, синей юбке, хромовых сапогах. На груди ее устрашающе сиял значок, выпущенный еще при наркоме Ежове, он назывался, дай бог памяти, «Добровольный помощник НКВД». Она исчезла вместе со значком, кителем и сапогами в октябре 41-го, когда немцы подошли к Москве, и объявилась только в 46-м. Так вот, бдительный друг НКВД заметил лампы и детали, и к нашему соседу пришли оперативники в тот самый момент, когда он за столом отмечал свой уход на фронт. Это и спасло его от обвинений в пособничестве фашистам. Каждое утро все неработающее население нашего дома, в основном домохозяйки и старухи, дружно разбегались по близлежащим магазинам, скупая соль, спички, крупу, сахар, консервы, свечи, муку. Спросом пользовались только товары длительного хранения. Все квартиры в нашем подъезде были завалены продуктами. Когда шкафы и погребки под окнами были забиты, харчами начинали заполнять ванны. Мама проявила отличное знание отечественной психологии. Она запасалась водкой, твердо зная, что это станет основной валютой и на нее можно будет выменять любое количество продуктов, что впоследствии оказалось чистой правдой. И вот 17 июля 1941 года появилось постановление Моссовета о введении карточной системы. Теперь продукты и промышленные товары продавались по специальным карточкам. Карточки были хлебные, продуктовые и промтоварные. Единственное, что еще продавалось свободно, — это мороженое. И каждое утро пацаны из нашего дома ждали появления на углу улицы Горького тележки мороженщицы. Покупать его надо было утром, так как позже его раскупали ушлые хозяйки. Они растапливали его, смешивали с чем-то и хранили довольно долго. Несколько лет назад я нашел таблицу норм выдачи продуктов в 41-м году. Вот она: Надо сказать, что скудные эти нормы выполнялись свято. Не отоваренных, как говорили в те годы, карточек не было. Но все-таки нормы эти были катастрофически малы. Дефицит всегда дает возможность воровать, так случилось и во время войны. Карточки выдавались по месту работы тем, кто вкалывал на заводах и учреждениях, а иждивенцам и детям их распределяло домоуправление. Конечно, не все, кто заведовал так называемыми карточными бюро, были нечисты на руку. Не все, но многие. Самым простым методом приобретения лишних карточек являлись мертвые души. То есть эвакуированные. Семья уезжала в Ташкент, Челябинск или Новосибирск, а карточное бюро продолжало числить их как проживающих на его территории. В августе и сентябре из Москвы начали эвакуировать госучреждения, заводы, театры. Сей массовый исход жителей столицы в тыл значительно облегчал задачу новой формации деловых людей. В то время на продукты можно было выменять все. И тетки из домоуправлений меняли хлебные и мясные талоны на золото, котиковые шубы, ковры и редкие сервизы. Милиция постоянно арестовывала новых скоробогатеев, сажала их за решетку, конфисковывала наворованное, но это никак не влияло на аппетиты вновь назначенных руководителей карточных бюро. Человек слаб, а дьявол силен. В нашем доме почти не осталось мужчин. Те, кто помоложе, были мобилизованы и дрались с немцами, люди постарше осенью 41-го ушли в ополчение и сложили свои головы под Москвой, остановив врага на несколько часов. Среди погибших был и мой дед, крепкий мужик со стальным кулаком. В тылу оставались только бронированные. Существовало тогда такое понятие, как бронь. Ее получали кадровые рабочие, инженеры-специалисты, ученые и те, кто должен был организовать работу в тылу. Но, как тогда говорили, «сидели на броне» директора магазинов, работники ОРСов (отделов рабочего снабжения), была такая форма продовольственного обеспечения, и, конечно, партийные, советские и комсомольские активисты. Получить долгосрочную бронь и уехать в эвакуацию в сытую Сибирь было заветной мечтой многих «героев тыла». Мы, пацаны, презирали их. Человек в штатском для нас являлся олицетворением трусости. Вечер 21 июля 1941 года. Было еще совсем светло, и мы не зажигали свет. Мама возилась на кухне, я слушал по радио какую-то передачу. Вдруг передача внезапно прервалась и диктор произнес: «Граждане! Воздушная тревога!» Во дворе залаяли, завыли собаки. Это была первая настоящая бомбежка Москвы. Мы пересидели ее в метро, на станции «Белорусская», устроившись в углу в самом конце нижнего вестибюля. Вся станция была забита людьми, работники метрополитена провожали их в тоннель, где они устраивались прямо на рельсах. Когда объявили отбой и мы вышли из метро, все было как прежде, только на углу улицы Горького горела аптека. Через много лет, собирая материал для повести «Комендантский час», я нашел документ, который хочу привести полностью. «По сводке ПВО за июль— декабрь 1941 г. на город было совершено 122 налета; прорвавшиеся 229 самолетов сбросили 1445 фугасных и около 45 тыс. зажигательных бомб. В результате в городе было убито 1235 человек, легко ранено 3113 человек и тяжело ранено 2293 человека. Во время бомбардировок 2 предприятия и 156 жилых домов были разрушены полностью, 112 предприятий и 257 жилых домов — частично. В этот период были частично разрушены также 4 моста, 43 железнодорожных и трамвайных путей. В городе зарегистрирован 1541 пожар (на промышленных предприятиях и в учреждениях — 221), из них 675 крупных». Конечно, Москва не пострадала так, как Ленинград. Огромные силы ПВО были брошены на защиту столицы. Я помню, как мы узнали по радио о подвиге летчика-истребителя, младшего лейтенанта Талалихина. Московский паренек, кажется из Сокольников, первым пошел на таран и сбил немецкий бомбардировщик. Его портрет появился во всех газетах, о нем рассказывали по радио. Он получил Звезду Героя Советского Союза. Для нас, мальчишек, Виктор Талалихин стал непререкаемым авторитетом и примером для подражания. Я вырезал его портрет из журнала «Огонек» и повесил над своим столом, за которым делал уроки. Я увидел из окна лошадь, запряженную в зеленую армейскую двуколку. Было серое, клочковатое ноябрьское утро. Проснулся я рано в ожидании сводки Совинформбюро. Я уже писал, что мы взрослели быстрее, и, как и взрослые, ждали сообщений Совинформбюро и старались разобраться в них. Еще не начав изучать географию, мы умели читать карту и переносить на ней значки, все ближе и ближе к нашему городу. Итак, я увидел лошадь во дворе. Она стояла, грустно опустив голову, словно собиралась заплакать. Я взял на кухне черный сухарь, их выдали вчера по карточкам вместо хлеба, и пошел знакомиться. Мне почему-то показалось, что она потерялась и случайно забрела к нам во двор. Я подошел к лошади и протянул ей сухарь на ладони, она деликатно взяла его мягкими губами и начала громко хрустеть. Я погладил ее, но дальнейших отношений не получилось. Из подъезда выкатился нагруженный чемоданами сосед: — Уходи, мальчик, нечего тебе тут делать! Он начал загружать двуколку чемоданами и узлами, потом появился возчик с мешком, за ним жена соседа. Они загрузили вещи и тронулись со двора. Это был день начала знаменитой московской паники. По утрам во дворах мы находили много интересных вещей. Бюсты Ленина и Сталина, книги классиков марксизма, всевозможные наградные значки: «Активист ОСОВИАХИМа», «МОПР», «БГТО», «Ворошиловский стрелок». Во дворах валялись порванные документы, портреты вождей. Их выкидывали те, кто не верил, что Москву сумеют отстоять от немцев. Мы, мальчишки, удивлялись тому, что люди никак не могут понять, что Сталин в Москве, уж он-то защитит нас от немцев. Через много лет генерал Иван Александрович Серов, бывший председатель КГБ, показал мне старые водительские права со своей фотографией на имя Васильева, а также справку об освобождении, где была написана та же фамилия. Ему было поручено руководить подпольем в случае захвата столицы немцами. Значит, не совсем напрасно боялись те, кто выкидывал атрибутику партийной принадлежности на помойки. Тогда у меня был однозначный ответ, а сегодня я, пожалуй, воздержусь осуждать их. Наверное, самым радостным днем в той моей жизни стал день, когда я услышал по радио сообщение «В последний час». В нем говорилось о разгроме немцев под Москвой. К нам пришли люди, водка у матери была, артельно собрали немудреный стол. В холодной квартире при свечах — электричество отключали постоянно — пели песни, радовались, говорили о том, что к весне война кончится. А она не кончалась и не кончалась. Правда, жить стало легче. В 43-м, после Сталинградской победы, повысили продуктовые нормы, жизнь начала входить в привычные рамки. В армии ввели новую форму: вместо скромных петлиц с алыми кубарями и шпалами появились золотые погоны. Кем мы хотели стать тогда? Конечно, военными. Золотой блеск лейтенантских погон — вот что не давало заснуть нам. Мы не просто завидовали лейтенантам, идущим по улицам, мы завидовали им до беспамятства, бессознательно чувствуя, что нам не придется увидеть того, что видели эти ребята, которые были старше нас всего на каких-то семь лет. А пока нам оставалось мечтать о погонах и портупеях и смотреть в кино «Боевые киносборники», «Партизаны в степях Украины», «Секретарь райкома» и «Она защищала Родину». Нам оставался иллюзорный мир кино и книг. А над Москвой уже гремели первые салюты. Затемненный город на полчаса заливался фантастическим светом фейерверков. Ракеты рвались в темном небе, словно фантастические цветы победы. Жил я рядом с Белорусским вокзалом. Это было одно из преимуществ нашей дислокации. На сортировочные пути приходили военные эшелоны с фронта, и мы только нам известными путями пробирались к ним. Солдаты встречали нас по-доброму, поили сладким чаем, просили отправить письма, а москвичи давали номера телефонов, и мы звонили их родным, говорили, где стоит эшелон и что их отец, сын или брат не может отлучиться из вагона, и предлагали провести их к эшелону, что свято выполняли. Мы тырили дома папиросы, полученные по карточкам, и несли их нашим новым друзьям. А они одаривали нас всякой военной безделицей, самодельными зажигалками, погонами, немецкими железными крестами. Но однажды нам чудовищно повезло: веселый молодой старшина, чью девушку мы провели на свидание нашим секретным фарватером, подарил нам ракетницу и четыре ракеты к ней. В тот день по радио объявили об очередном салюте. Во дворе нашего дома была огромная траншея. Это Метрострой, несмотря на войну, возводил станцию «Белорусская-радиальная». Так вот, мы забрались в траншею и стали ждать начала салюта. Как только над городом вспыхнули первые ракеты, мы зарядили наш пистолет… Но индивидуального салюта в честь войск генерала армии Рокоссовского не получилось. У моего кореша Витьки была слабая рука, а ракетница весила достаточно прилично, и ракета, вместо того чтобы гордо вспыхнуть в небе, влетела в открытое окно пятого этажа. Слава богу, что все обитатели квартиры были на балконе. На следующий день к нам на задний двор пришел участковый, младший лейтенант Соколов. Мы уважали его за то, что он раненый фронтовик и имеет два ордена. — Вот что, пацаны, — сказал он, — давайте не будем ссориться. Вы мне отдаете ракетницу. А я забываю, что вы из нее стреляли. В награду я отведу вас в милицейский тир и дам каждому по разу стрельнуть из своего пистолета. От такого мог отказаться только сумасшедший. Мы разоружились. А через три дня стреляли в тире, правда, не из пистолета, а из мелкашки, но все равно это было здорово. Нашего участкового убили в конце войны, зимой 44-го, когда он задерживал урок, взявших квартиру в Большом Кондратьевском переулке… О наш дом разбивалось чудовищное человеческое море под названием Тишинский рынок. Казалось, что вся накипь военного тыла выплеснулась в Тишинские, Кондратьевские переулки и на Васильевскую улицу. Для нас, пацанов, рынок был опасным, но необыкновенно привлекательным местом. После школы мы шмыгали по нему, разглядывая людей, вещи, наблюдая, как во дворах ушлые пацаны в кепках-малокозырочках играли в «три листика». Это было то же самое, что стало нынче популярной национальной забавой — игрой в наперсток. — И только на туза! — И только на туза! — Как шестерку с восьмеркой подняли, так вы и проиграли! — Как туз, так и денег картуз! Так кричали юные зазывалы, и летали карты на дощечке, хрустели красные тридцатки и синие десять червонцев. Люди проигрывали последнее. А если кто-нибудь замечал, как «крупье» прячет в рукав заветного туза, начинался скандал. Из темных углов выдвигались здоровые мужики в хромовых сапогах гармошкой, в кепочках и тельняшках под бостоновыми пиджаками. — Ты чего, сука, пацана обижаешь? — хрипели они, ощерив фиксатые рты. Много опасностей поджидало нас на Тишинке. Например, беспощадные драки с местными хулиганами-огольцами. Они были старше нас и сильнее. Но мы все равно дрались и уходили побитые, но не сломленные. За это местная шпана относилась к нам со снисходительным уважением. Но вот странное обстоятельство. Стоило, предположим, в кинотеатре «Смена» пристать к нам огольцам с Патриарших прудов, как наши бывшие обидчики начинали «держать за нас мазу», то есть вступались за нас. Мы были пацаны из их района: между собой мы могли ссориться сколько угодно, но чужие не должны были к нам приставать. В школе самым любимым предметом стало для нас военное дело. Мы истово маршировали, кидали деревянные гранаты, разбирали и собирали в военном кабинете старые трехлинейки. Мы любили этот предмет, тайно надеясь, правда непонятно как, попасть на фронт и стать сыновьями полков. Поэтому вполне естественно, больше всех преподавателей мы уважали военрука. В середине учебного года наш старый преподаватель военного дела заболел и слег в госпиталь, к нам пришел новый военрук. О нем мы знали достаточно много: лейтенант, воевал, ранен. С каким нетерпением мы ждали последнего по расписанию урока… Он очень понравился нам, наш военрук. Мы гордились им, его медалью «За отвагу», его зелеными полевыми погонами на гимнастерке. Он был настоящий фронтовик. И рана у него оказалась тяжелой. Пустой левый рукав гимнастерки лейтенант Ильичев заправлял за ремень. Пусть не обижаются наши учителя, но все мы подражали лейтенанту. В тот день у нас были занятия по ориентированию. Наш лейтенант называл предмет, и мы должны были как можно точнее определить до него расстояние. И вдруг мы увидели, что на пустыре за школой двое в малокозырках и сапогах гармошкой бьют парня из соседнего класса, пытаясь отнять у него присланную с фронта отцом полевую сумку, которой завидовала вся школа. Двое били одного. А мы, двадцать мальчишек, стояли и смотрели, как бьют нашего товарища по школе. Лейтенант, позднее всех увидевший, что происходит на пустыре, глянул на нас с недоумением и, сделав несколько быстрых шагов к дерущимся, голосом, привыкшим командовать, крикнул: — Прекратить! Один из хулиганов обернулся и лениво процедил: — Смотри, вторую руку отобью. И тогда лейтенант побежал. Он бежал легко и упруго, как бегают хорошие спортсмены. Военрук ударил первым, и один в кепке и сапогах гармошкой пластом рухнул на спину. Второй поднял обломок трубы. И тут бросились мы, все двадцать, крича и размахивая схваченными по дороге палками… Потом военрук выстроил нас, прошел вдоль строя и, усмехнувшись, сказал: — Действовали хоть с опозданием, но правильно. Помните, стать солдатом — это не только выучить уставы и овладеть оружием. Не только быть храбрым. Солдат должен быть справедливым и добрым. Тогда только он настоящий солдат. Ясно? Была война. А мы хотели стать солдатами. Позже, много позже, уже надев гимнастерку с погонами, я часто вспоминал слова лейтенанта. Мы все смотрели хорошие фильмы, запоем читали книги, где жили добрые и благородные герои. Мы знали, если можно так сказать, теоретически, что такое дружба, долг, доброта. Апервый наглядный урок доброты преподал нам наш военрук. Тогда, в далеком 44-м, он повел нас в атаку на зло. И именно тогда мы увидели, как оно отступает перед общим усилием людей. Но мы были мальчишки и не понимали, что, может быть, именно в этот день сдали наш первый экзамен на право называться мужчинами. Мы выросли, и я не могу сказать, как ведут себя сейчас в подобных ситуациях мои бывшие одноклассники. Но почему-то удивительно ярко живет во мне воспоминание: школьный двор, пустырь за ним и наш военрук лейтенант Ильичев. Второго мая вечером по радио передали приказ коменданта Москвы об отмене светомаскировки. Я бросился снимать с окон защитные шторы из черной плотной бумаги, а когда снял, то увидел, как загорелись окна домов. Конечно, все высыпали на улицу. Долгих четыре с лишним года город стоял погруженный во мрак, даже в подъездах горели синие лампочки, и вдруг он стал необыкновенно прекрасным. Мы побежали на улицу Горького и с изумлением глядели на ожившие фонари, на троллейбусы, снявшие маскировочные шторы, на машины без ограничителей на фарах. А через неделю, 9 мая, я шел в школу в жутком настроении. Уроки были не сделаны, кроме того, предполагалась контрольная по математике, которую я терпеть не мог. Но не успел я выйти из двора, как встретил нашего соседа дядю Мишу, работавшего в депо на станции «Москва-Белорусская». — Ты куда? — спросил он меня. — В школу. — Отменяется твоя школа, друг. Победа. Германия капитулировала. Объявлен выходной день. Я забежал домой, бросил сумку и помчался на улицу. Почти весь день я шатался по улице Горького. Слушал джаз Леонида Утесова на площади Революции, смотрел, как качают военных. Люди смеялись и плакали. Танцевали и пели песни. Это была стихийная народная радость. Не подготовленная заранее, не ограниченная ровными рядами демонстраций. Это была просто радость. Люди гордились тем, что они выстояли и победили. Они не думали о завтра, этот сегодняшний день был самым главным в их жизни. Когда я вернулся домой, во дворе играл баян, на столе для домино теснились бутылки и закуска. Наконец-то Победа пришла в наши дворы, на наши улицы, в наш город. Сколько времени прошло! Подумать страшно. Ипрошлое постепенно уходит из памяти. Вытесняют его новые события, встречи, радости и горести. Но никогда не забудутся наши темные дворы военных лет, керосиновые коптилки, печки-буржуйки, которыми мы зимой отапливали квартиры, фильм «В небе Москвы» и божественный вкус американской консервированной колбасы, которую мы получали по карточкам, и лейтенант из нашего детства, учивший нас быть мужчинами. И день 9 мая 45-го года — наверно, самый счастливый в моей тогда еще короткой жизни. Вечерние прогулки 50-х годов …Вот уже и новый век скоро, а кажется, что это было вчера… Теперь она снова называется Тверской. А тогда именовалась улицей Горького или Бродвеем. Почему Бродвеем, а не Елисейскими полями или, на худой конец, Маршалковской, я по сей день не знаю. Когда я влился в могучий вечерний поток реки под названием «Брод», она уже носила это имя. Более того, те, кто гулял по ней до войны и во время оной, называли ее все так же — Бродвеем или «Бродом». Видимо, этот центр променада столичных пижонов был назван так в знак протеста против социалистического аскетизма. Была еще одна тонкость. Улица Горького начиналась от угла здания Совета Министров, ныне Госдумы, и тянулась до площади Белорусского вокзала. Последним домом на ней был знаменитый одиннадцатиэтажный, который сохранился и поныне. Но это была просто улица Горького, не вызывавшая никакого интереса у моих веселых современников. Московский Бродвей начинался у кинотеатра «Центральный», много лет украшавшего Пушкинскую площадь, и заканчивался на углу здания Совета Министров. Это была нечетная сторона. Противоположный тротуар со знаменитым кондитерским магазином, популярной забегаловкой под названием «Соки — воды», Моссоветом, Центральным телеграфом, Ермоловским театром и кафе «Националь» никакого отношения к Бродвею не имел. Именно от «Центрального», минуя памятник Пушкину, недавно перенесенный с Тверского бульвара, и текла шумная, нарядная человеческая река. На берегах ее помещался замечательный ресторан ВТО, где царил знаменитый метр, с которого Михаил Афанасьевич Булгаков писал своего Арчибальда Арчибальдовича. У него были две клички: официальная — «Борода», и вторая, пожалованная ему Юрием Карловичем Олешей, — «Жопа в кустах». На какую он откликался охотнее, не знаю. А дальше река текла, естественно, мимо гастронома № 1, в быту — Елисеевского, в который даже зайти было удовольствием необыкновенным. Никогда мы уже не увидим такого обилия высококачественных колбас, рыб, сыров и пирожных. Нынче в Елисеевском тоже полки ломятся, но качество! Раньше все это называлось продуктами, а теперь — «потребительской корзиной». Дальше течение тащило вас вдоль галантерейного магазина, замечательного погребка «Молдавские вина», где торговали вином в розлив и буквально за копейки. Можно было основательно нагрузиться. Как сейчас, я помню узкий пенал торгового зала, маленькую стойку, два или три мраморных высоких столика. Здесь постоянно толпились мхатовские актеры, которых в лицо знала вся страна. Ну а дальше была гостиница, которая сегодня именуется «Центральной», в народе ее звали «Коминтерновской» — там жили со своими семьями борцы за интересы мирового пролетариата — англичане, чехи, болгары, немцы, китайцы, скандинавы. Зайти с улицы даже в вестибюль гостиницы было невозможно. Охраняли ее крепкие ребята в одинаковых шевиотовых костюмах. Все интернациональные борцы стали заложниками кремлевского Пахана. В этой гостинице-общежитии половина номеров была свободной, и не потому, что постояльцы уехали в свои, ставшие социалистическими, страны… Местом их последующего, а часто и последнего жительства становились обжитые МГБ Колымский край и «солнечная» Коми. Но давайте оставим это неприятное здание. Тем более что оперативные машины приезжали за этими несчастными глубокой ночью и к черному подъезду. Теперь, мимо Филипповской булочной, где за зеркальными окнами лакомились мои современники, мы подплываем к ресторану «Астория». В 50-е годы «Астория» потеряла былую славу. А во время войны это был самый популярный коммерческий ресторан. В Москве, как, впрочем, и везде, все продукты отпускались по карточкам. Ты «отоваривал» карточку, получая положенную норму хлеба, жиров, сахара по весьма доступной для всех цене. В коммерческом ресторане было все — от паюсной икры до рябчиков — и стоило это огромных денег. Поэтому гуляли там офицеры-фронтовики, попавшие в Москву проездом на передовую после госпиталя, или командированные на несколько дней в тыл. Дело в том, что жалованье и фронтовые надбавки эти ребята получали на аттестат, то есть их деньги накапливались в финчасти. Они на несколько дней становились богачами. Постоянно кутили в «Астории» торгаши, работники ОРСов, спекулянты с Тишинского и Перовского рынков, ворье и бандиты. Место это было хотя и притягательным, но опасным. Слава об этом ресторане гремела до денежной реформы 47-го года. После нее в Москве заработали все рестораны и кафе в обычном режиме, и вся гулявая публика переехала в купечески роскошный ресторан «Аврора» на Петровских линиях. В «Асторию» по-прежнему приходили только солидные столичные блатари, ценившие традиции. Вели они себя весьма пристойно, но упаси бог затеять с ними скандал! Потом на улице вполне возможно было нарваться на нож. Но двигаемся дальше. Книжный магазин уже закрыт. Вечер. Книги не нужны тем, кто вошел в волны реки под названием «Брод». Памятник основателю Москвы. Я еще тогда обратил внимание, что рядом с ним почему-то не назначали свиданий! Наверное, из-за мрачно-воинственного вида монументального произведения. Угол Советской площади и улицы Горького. Кафе «Отдых». Весьма элегантное заведение. Мы сюда ходили крайне редко из-за его некоторой чопорности. Основными посетителями были весьма респектабельные люди. Правда, позже я узнал, что у этого кафе было и другое название — «Долина слез». Сюда после решающего показа своей ленты приходили кинематографисты. Те, у которых в Министерстве кинематографии на Большом Гнездниковском принимали фильм с отличной оценкой, ехали пить шампанское в «Москву» или «Метрополь». «Отдых» был местом поверженных. Здесь утешали себя коньяком те, чьи картины были закрыты и легли на полку. Именно здесь прощались с постановочными и перспективами дальнейшей работы. В те годы наш кинематограф выпускал в год всего двенадцать фильмов. Об этом печальном кафе прекрасно написал в своем романе «Землетрясение» Лазарь Карелин. У гастронома, который все в миру называли «Кишка», можно было не задерживаться, у «Академкниги» тоже, далее вы попадали к самому модному месту гуляющей Москвы. «Коктейл-холл», или просто «Кок». Когда в стране развернулась знаменитая кампания борьбы с «безродными космополитами» и низкопоклонством перед Западом, начали бороться с засильем иностранщины в родном языке. На это всем указал И. Сталин в своей знаменитой работе «Марксизм и основы языкознания». Теперь в футболе форварды стали нападающими, в боксе раунды — трехминутками, французские булки — городскими. Покойный Илья Григорьевич Эренбург со смехом рассказывал мне, что его друзья объявили негласный конкурс на лучшее название для «Коктейл-холла», в духе последних указаний партии. Победу одержал человек, который придумал наименование «Ерш-изба». Но тем не менее красные электрические буквы, сложившиеся в космополитическое название, продолжали победно светиться на главной улице Москвы. Заметное это было место в жизни тогдашнего московского Бродвея. Здесь пили пунши и шампань-коблеры, коктейли «Маяк» и «Ковбой», «Флип ванильный» и «Карнавал». Играл на втором этаже маленький оркестр, руководил им высокий усатый красавец скрипач, которого все звали Мопассан, он же будущий прекрасный композитор Ян Абрамович Френкель. Через много лет в Ленинграде, где по моему сценарию снимали фильм, а Ян Абрамович писал для него музыку, мы почти всю ночь проговорили о славном «Коке». И увенчанный славой композитор вспоминал о нем с тоской и нежностью. Это место для нас, молодых, было притягательно своей дешевизной. Сдав несколько книг из родительской библиотеки в букинистический магазин, можно было с барышней сидеть там весь вечер. И публика была здесь особая. Писатели, актеры, известные спортсмены и, конечно, артельщики. Это была специфическая категория московских жителей. Несколько лет назад мне до хрипоты один новоявленный экономист доказывал, что теневая экономика появилась у нас вместе с перестройкой. Он обвинил Горбачева и Ельцина, Силаева, Гайдара, Черномырдина и многих других в том, что они породили теневую экономику. Прав он только в том, что раньше такого термина в официальных бумагах ОБХСС не было. Но подпольная экономика существовала с первых лет Советской власти, породившей в стране дефицит товаров. Тогда эти люди именовались артельщиками. Была такая структура — Промкооперация. Ее артели, густо разбросанные по Москве и области, выпускали все, что необходимо человеку: бритвы, ручки, рубашки, шапки, белье и так далее, до бесконечности. Артельщики были люди ушлые. За счет экономии сырья и левых поставок они выпускали неучтенный дефицитный товар, который с ходу расходился в небольших магазинчиках. Понятно, что поставка непланового сырья и реализация продукции не могли обходиться без поддержки чиновников разного ранга. В доле были руководители Промкооперации, Министерства местной промышленности, крупные чиновники из исполкомов и райкомов и, конечно, шаловливые опера из БХСС. Сейчас мы это все именуем коррупцией, тогда в протоколах это называлось: «…вступив в преступный сговор…» Всегда это было в нашей стране. Как говорили урки: «Где капуста — там жди козла». Но тем не менее граждане страны поголовного дефицита носили дешевые рубашки из парашютного шелка, летние брюки из бумажного габардина, меховые шапки из белки и кролика, пальто из драп-велюра. Много хорошего выпускали артели. Московские артельщики были детьми упраздненного Сталиным нэпа. Это был новый класс — предпринимателей. Естественно, что они тоже любили пройтись по московскому Бродвею. Куда девались синие вытертые галифе, хромовые сапоги и френчи-сталинки?! По улице шли солидные люди в дорогих костюмах из «жатки», был в ту пору у нас такой модный материал, пошитых у Зингера или Замирки, а может быть, у самого Лосева. Они не просто гуляли, они показывали себя и своих дам вечерней столичной публике. Потом направлялись в «Аврору» — самый модный по тем временам ресторан — отдохнуть и послушать джаз знаменитого Лаце Олаха. Они всегда занимали левую сторону. Это была богатая, «купеческая» сторона. Артельщики той поры, естественно, не ездили на «мерседесах» и «ягуарах». Они даже 401-й «Москвич» боялись себе купить. Они жили странной двойной жизнью. После широкой гульбы в ресторанах уезжали на снятую «конспиративную квартиру» и там переодевались в старые галифе и френчи. Они смертельно боялись соседей и уполномоченных по подъезду. Они жарили на кухне дешевые котлеты, а, запершись в комнате, на электроплитке разогревали полуфабрикаты из «Националя». Никто не должен был знать об их деньгах, дорогих костюмах, часах и бриллиантах. Но тем не менее именно они, в отличие от нынешних дельцов, поставляли в магазины качественные и, что очень важно, дешевые товары. Ах, московский Бродвей!… Элегантный, денежный, праздничный. Он звал к себе людей. И они шли. Многие, вырвавшись из коммуналок, выходили на эту улицу-реку. Словно стремительные корабли проносились по ней автомобили ЗИС-110 с правительственными кукушками на радиаторе. Но были минуты, когда эта река-улица словно замирала. И все расступались, освобождая дорогу одному человеку. Этот человек… Он часто ходил пешком по «Броду». Высокий, интересный, чуть сутуловатый. Я хорошо помню его в серой пижонистой кепке из букле, какие умели шить только в Столешниковом, и американском плаще цвета маренго. Он шел не спеша, разглядывая толпу, улыбаясь, приветливо кивал завсегдатаям «Брода». И от кивка и улыбки этого человека пробирал холодок. Сам Абакумов, сам Виктор Семенович, генерал-полковник, могущественный министр самого главного ведомства страны сталинской империи, совершал свой вечерний моцион. Он шел спокойно, без охраны. Шел мужественно, ничего не боясь: ни «кровавой клики Тито-Ранковича», ни многочисленных террористов, ни крутых заговорщиков. Шеф МГБ не боялся, поскольку точно знал, что всех их выдумали его сценаристы — специальная группа, которая, словно увлекательные романы, создавала сюжеты заговоров. Многие из них с интересом читал великий вождь, и не просто читал, но, когда считал нужным, пускал в ход, а некоторые, как заговор маршала Жукова и присвоение никем не виденной короны из Норвегии (кстати, до сего времени хранящейся в королевском дворце в Осло), до поры до времени ложились на полку, чтобы возникнуть в свой час. Поэтому Абакумов и не страшился ходить вечером по улице с одним адъютантом, семенящим сзади. Нет, забыл я. На улице Горького, так же как и на Арбате, через каждые пятьдесят метров «в зоне визуального контакта» стояли одинаково одетые люди. Они осуществляли охрану правительственной трассы. Прогулки Абакумова закончились в июле 1951 год. Он был арестован. Один из старых контрразведчиков рассказал мне, что кличка у Абакумова в конторе была «Витька Фокстротист». Что делать, была у министра слабость к танцам. Любил он посетить модный тогда дансинг ресторана «Спорт» на Ленинградском шоссе, дом № 8. Ходил туда, конечно, в штатском и инкогнито. Мужик он был интересный, хорошо одетый, поэтому местные барышни охотно с ним танцевали. Незыблемым авторитетом в этом дансинге слыл приблатненный тридцатилетний господин по имени Алик. Вот с ним-то и произошел у Виктора Семеновича конфликт. Дело кончилось тем, что Алика с его компанией обработали приехавшие через час ребята из МГБ. Поучили в туалете как следует, но не забрали. Оставили на свободе работать на лекарства. А «Спорт» после этого быстро закрыли, и министр начал ездить танцевать в «Шестигранник». Любил поплясать генерал Абакумов, потому что, в сущности, был совсем молодым человеком. Родился он в 1908 году, в рабочей семье, окончил начальную школу и, получив столь фундаментальное образование, пошел работать грузчиком на склад Центросоюза. Парень он был здоровый, работал хорошо, поэтому в 1930 году вступил в ряды ВКП(б). В 1932 году по рекомендации партийной организации был направлен на работу в НКВД, где начал свою службу спецкурьером, потом стал младшим оперуполномоченным. В 1939 году с должности оперуполномоченного СПО (секретный политический отдел) был назначен начальником Ростовского УНКВД. Кто же помог ему навинтить на петлицы ромбы старшего начсостава? Правая рука Берия, комиссар госбезопасности третьего ранга Богдан Захарович Кобулов, начальник СПО. Через год он же помог Абакумову стать замнаркома НКГБ. В том же году он уже начальник Управления особых отделов РККА, которое потом переименуют в ГУКР «Смерш». По распоряжению Сталина Абакумов одновременно занимает должность замнаркома обороны. На новом посту Абакумов почувствовал себя вполне независимым и отдалился от Лаврентия Павловича. Сразу после войны Абакумов стал наркомом государственной безопасности, а его предшественник Меркулов возглавил Госконтроль. Вот тогда и произошел у него конфликт с Берия. Абакумов отказался подписать приемо-сдаточный акт, и Лаврентий Павлович материл его прямо в кремлевских коридорах. Об этом мне рассказывал бывший начальник ФПУ КГБ. Я не буду пересказывать успехи в оперативно-чекистской деятельности генерал-полковника. Об этом написано много и повторяться неинтересно. Арестовали Абакумова после письма Сталину рядового следователя подполковника Михаила Рюмина. Он написал этот донос, спасая себя от гнева всесильного министра, недовольного его работой. Безусловно, не это послужило причиной опалы Абакумова. Влияние на МГБ было необходимо двум политическим партнерам — Лаврентию Берия и Георгию Маленкову. Так бывший министр госбезопасности, генерал, превратился в заключенного № 15 в семьдесят седьмой камере Бутырской тюрьмы. Днем и ночью с него не снимали наручники, а после перевода в Лефортово заковали в кандалы. Его избивали на допросах, не давали спать. На своей шкуре бывший главный чекист страны испытал, что такое «особые условия допроса». Но, как ни старались ставший замминистра МГБ полковник Рюмин и его подчиненные, Абакумов виновным себя не признал и никого по делу не взял. Он просидел под следствием три года. В декабре 1954 года в Доме офицеров Ленинградского военного округа, где в 50-м году приговорили к высшей мере социальной защиты Кузнецова, Попкова, Воскресенского и всех, кто проходил по знаменитому «ленинградскому делу», состоялся суд над теми, кто придумал сценарий несуществующего заговора против великого вождя. Пять бывших руководителей специальной следственной части во главе с Абакумовым предстали перед судом. Но и там Абакумов не признал себя виновным, заявив, что обвинения — это провокация, сфабрикованная Берия и Богданом Кобуловым. 19 декабря 1954 года в 12 часов 15 минут Абакумов был расстрелян во внутренней тюрьме КГБ. При этом присутствовал Генеральный прокурор СССР Роман Руденко. Но тогда мы этого ничего не знали и продолжали гулять по своей любимой улице. Для нас она была самая нарядная и красивая. Мы шли вниз по Горького, на углу у здания Совмина поворачивали обратно и медленно двигались к площади Пушкина. Там — новый разворот и снова к Совмину. Сейчас этот променад, возможно, многим покажется странным, но в те годы в нем был глубокий смысл. В процессе движения люди знакомились с новыми западными модами. Законодателями их на Бродвее считались артисты Большого театра, операторы ЦСДФ и спортсмены. Это была когорта выездных, и тряпки они привозили из своих заграничных вояжей. Днем и вечером здесь гуляли знаменитости. Борис Ливанов и Павел Массальский, невероятно популярные в те годы драматурги братья Тур, короли футбола Всеволод Бобров и Константин Бесков. Я очень хорошо помню, как впервые увидел на Бродвее Константина Симонова. По улице по-хозяйски шел красивый мужчина, одетый в светлый пиджак, на котором золотом переливались три медали лауреата Сталинской премии. В те годы носить их считалось особым шиком. Навстречу нам шла сама удача, воплотившаяся в образе знаменитого писателя. Гуляющая толпа могла показаться однородной только для глаза непосвященного человека. Мы, завсегдатаи, знали, кто к какой компании принадлежит. Их было на этой улице три. Я имею в виду нас, молодых. Одна объединяла приблатненных ребят. В нее входили Юрка Тарасов, Володя Усков, Мишка Ястреб, Сашка Копченый и другие. Они собирались в сквере на Советской площади. Вторая компания была наша. Место встречи — парикмахерская на углу проезда МХАТа и Горького. В нашей компании преобладали в основном ребята, занимавшиеся боксом: Володя Трынов, Валя Сургучев, Юлик Семенов, Артур Макаров, Леша Шмаков. Через несколько лет они станут известными литераторами, режиссерами, актерами. Мы сами ни к кому не приставали, но если «наезжали» на нас, то давали жестокий отпор. С приблатненными сложились вполне дружеские отношения и была негласная договоренность о взаимовыручке. Третья большая компания ни с кем не общалась и жила обособленно. Это номенклатурные дети. Сыновья маршалов и министров, послов и крупных аппаратчиков. Они все, в отличие от нас, учились в престижных институтах и военных академиях. Посторонних в свой круг избранных они не пускали. А они действительно считали себя избранными. С благословения Сталина в стране начинал формироваться новый класс партийно-государственной номенклатуры. Дети этих людей со временем должны были занять командные высоты в стране. Я не называю их фамилий, потому что они ничего не скажут нынешнему читателю. Время беспощадно смыло их из людской памяти. Родители умерли в забвении, сыновья в основном спились. Я уже писал о том, что вдоль Бродвея стояли и «топтуны» из МГБ. Как вытягивались они и даже вроде выше становились, когда медленно полз вдоль тротуара «паккард» Берия! Он тоже не боялся агентов и террористов, такой уж отважный человек был маршал Берия. А тихую езду практиковал он совсем по другому поводу. Полз за его машиной второй «паккард», и сидел в нем полковник Саркисов, начальник личной охраны лубянского маршала. По команде шефа выскакивал он из машины и проводил «оперативно-розыскные действия». Задерживал красивых блондинок. У меня был друг — веселый и щедрый студент-плехановец Боря Месхи. И вот он влюбился. Безнадежно полюбил девушку, которая нравилась всем нам. Она появлялась на «Броде», но только днем и всегда одна. Интересная, изящная, недоступная… Она даже в кино ходила одна или с подругой. Никаких мужчин рядом. Никогда! Мой друг проследил ее. Тем более что это было не очень сложно — она жила на улице Горького. А потом были цветы и попытка знакомства. Все было, что полагается в таких случаях. Но неудачно. Однажды, когда мы стояли у ее дома, к нам подошел веселый парень в модном костюме, взял нас под руку и отвел в переулок. — Ребята, — он улыбнулся широко и добро, — оставьте ее в покое. — Что? — удивился Боря, который был скор и тяжел на руку. — А вот что. — Человек достал из нагрудного кармана модного пиджака алую сафьяновую книжечку с золотым тисненым гербом и тремя буквами — МГБ. Он раскрыл ее, я прочитал и навсегда запомнил: майор Ковалев Игорь Петрович, оперуполномоченный по особым поручениям. — Ребята, я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Она под нашей защитой. Наша прелестная незнакомка оказалась подругой всесильного Берия. Мы все поняли. Да и как не понять, когда почти ежедневно исчезали в небытие наши приятели. Скрипач Алик Якулов, поэт Виталий Гормаш, студент-востоковед Гарик Юхимов, трубач Чарли Софиев. Их имена в танцзале гостиницы «Москва» произносили шепотом. Исчезали и другие. Да разве перечислишь всех, с кем ходил на танцы, пил коктейли и просто гулял по нашему гостеприимному «Броду». Сегодня, когда мы хоть что-то узнали о своем же прошлом, можно легко вычислить, что товарищи наши один за одним становились статистами в очередной пьесе «Театра на Лубянке». Но тогда мы не знали этого и пребывали в неведении и… радости. Нам казалось, что каждый новый день станет для всех необыкновенно счастливым. Парадокс, который можно объяснить только нашей молодостью. Вот так мы жили. Сегодня я часто думаю: когда в моих ровесниках появился страх? И понимаю, что тогда, когда в Елисеевском было все, когда гулял по «Броду» Абакумов и ловил девушек бериевский адъютант. В конце 50-х вся читающая публика увлеклась романами Эриха Ремарка. Он стал для нас неким символом поколения. В 1961 году я с огромным трудом приобрел «Черный обелиск». Первая фраза последней главы романа запомнилась мне своей бесконечной грустью. Но только через много лет я по-настоящему понял ее пронзительную горечь: «Я больше никогда не видел ни одного из этих людей». Я живу в квартире Сталина Когда-то наш дом назывался «Дом правительства». Потом его разжаловали, как, впрочем, и многих его обитателей. Сначала посадили одних, потом тех, кто сажал и занял их квартиры, а позже поснимали с работы и отправили в политическое небытие третье поколение сталинской номенклатуры. После блистательного романа Юрия Трифонова дом наш стал именоваться «Домом на набережной». Сегодня он стоит на страже Замоскворечья, словно старшина-сверхсрочник, увешанный, как медалями, мемориальными досками. Нынче творение архитектора Иофана — только памятник архитектуры, образец конструктивизма тех далеких лет. В 1941 году я жил в доме № 26 по Грузинскому Валу. Немцы неуклонно приближались к Москве. Каждое утро мы, «не уехавшие в эвакуацию» (так говорили в то время) пацаны, бежали на задний двор и собирали все, что выкидывали по ночам перепуганные пламенные партийцы. Портреты и бюсты Дзержинского, Ленина, Сталина, какие-то партийно-политические книги, подшивки газет и журналов. Мне повезло, среди этого мусора я откопал подшивку замечательного журнала «30 дней». Там я прочитал рассказ Б.Левитина «Тайна стен старого Кремля». Суть его была в том, что некий инженер Гаврилов изобрел прибор, который подключался к стене и передавал на киноэкран веками спрессованные события, происходившие у стен Кремля. Чтение это было весьма занятным. Жаль, что не существовало такого инженера и его прибора под названием «историофон». Много чего могли бы спроецировать на киноэкран стены дома № 2 по улице Серафимовича. Особенно 181-й квартиры, где я живу. Когда мы переезжали в эту квартиру после капитального ремонта дома, сосед по лестничной площадке спросил меня: — Знаешь, кто здесь жил раньше? — Нет. — Василий Сталин. Нехорошая это квартира. Сегодня о Василии Сталине говорят по-разному. Особенно летчики. Одни считают, что он был плохим командиром и никудышным пилотом. Другие приписывают ему невероятные подвиги в небе. Шла война, а мы были мальчишками. Мы знали, что сын вождя — военный летчик. Чего только не приписывали мы ему! И необычайные тараны, и десятки сбитых самолетов, и даже бомбежки Берлина. И если бы нас тогда спросили, кто отважнее всех — Гастелло, Талалихин, Сафонов, Покрышкин, — мы не задумываясь ответили бы: «Василий Сталин». Да, именно он. Сын вождя. Устные рассказы о его подвигах обретали в те годы характер эпический. На этом человеке лежал отблеск неземного, божественного величия его отца. Мы их выдумывали и свято верили в это, потому что свято верили в вождя. Как хорошо я помню торжественный голос Левитана, ведущего репортаж с первомайских и ноябрьских парадов на Красной площади: — Первую эскадрилью, пролетающую над площадью, ведет командующий ВВС Московского военного округа генерал-лейтенант Василий Сталин. Значительно позже, в 50-е годы, я видел его несущийся по Москве автомобиль. Белый открытый «хорьх» с красными сафьяновыми сиденьями. Таких машин в столице было две. На одной ездил всесильный начальник сталинской охраны генерал Власик, а на второй — сын вождя. Впервые я увидел его в спортивном зале «Крылья Советов». Шла обычная тренировка. И вдруг кто-то сказал: «Сын Сталина приехал». Мы выскочили в коридор, и я увидел невысокого человека в коричневом кожаном пальто, на которое были нашиты генеральские погоны, в низко надвинутой на глаза летной фуражке. Он посмотрел на нас, разгоряченных после тренировки, улыбнулся и подмигнул. Сталин-младший формировал новый спортивный клуб ВВС и отбирал лучших футболистов, хоккеистов, боксеров. Он очень любил спорт. И сделал много хорошего для спортсменов. О нем всегда хорошо вспоминал мой друг и тренер, знаменитый боксер Николай Королев, много доброго рассказывал Всеволод Бобров. Через десять лет в МУРе я узнал весьма интересную историю. …Дверь была выломана грубо, по-дилетантски. Ни один уважающий себя квартирный вор не оставил бы столько следов. Майор Чванов внимательно оглядел ее, провел пальцами по щербатым вмятинам и спросил эксперта: — Ваше мнение? — Думаю, ломали фомкой или чем-то похожим. Очередная квартирная кража произошла на Беговой улице в доме № 1а. Владимир Федорович Чванов вошел в квартиру, внимательно осмотрел коридор: явных следов не было, да и откуда им было взяться, когда на месте преступления уже работала опергруппа 63-го отделения милиции. Чванов же любил приезжать на происшествие первым, когда нетронутыми оставались мелкие детали. Та самая мелочевка, из которой впоследствии складывается полная картина происшедшего. В комнате — раскрытые настежь дверцы шкафов, вываленные на пол вещи, набросанные в кучу книги, осколки посуды. На стуле в углу сидела хрупкая большеглазая женщина, хозяйка квартиры, известная балерина Суламифь Мессерер. — Я ушла на репетицию… — В какое время? — спросил Чванов. — В одиннадцать. — А вернулись? — В два. — Так точно запомнили время? — Когда я подошла к двери, часы пробили два раза. — Вы ничего подозрительного не заметили? — Кажется, нет. Обычный ответ. Люди, живущие спокойно и тихо, никогда не замечают того, что может показаться подозрительным человеку, ждущему неприятностей. По словам хозяйки, из квартиры пропали два танцевальных костюма, шуба, пальто, костюм мужа, отрезы, несколько золотых украшений и сценическая бижутерия французской фирмы «Тет». — Вещи очень красивые, практически неотличимые от настоящих драгоценностей. Хозяйка замолчала и удивленно посмотрела на дверь. В комнату вошла огромная служебная собака Корсет. Огляделась, словно собиралась сказать: «Вот вы здесь сидите бездельничаете, а я работаю», — и скромно уселась в углу. — Товарищ майор, — доложил проводник, — Корсет след взял, работал заинтересованно, довел до трамвайной остановки. — Скажите, пожалуйста, — повернулся Чванов к хозяйке, — у вас есть чемоданы? — Конечно. — Они все целы? — Сейчас посмотрю. Как он и думал, двух чемоданов в квартире не оказалось. — Вот что, ребята, — сказал Чванов оперативникам, — обрабатывайте жилсектор и их маршрут до трамвая. Я на Петровку, вызову кондукторов. Шесть немолодых женщин с беспокойством поглядывали на Чванова. — Товарищи, — сказал он, — вспомните, сегодня между двенадцатью и двумя садились ли к вам пассажиры с двумя чемоданами? — Садились, — откликнулась одна. — А где вышли? — На Лесной. — А какие были чемоданы? — Богатые такие, светло-коричневые с ремнями. — Опишите, кто держал чемоданы? — Их трое было. Девушка и два парня. Я запомнила спортсмена, который билеты брал. — Почему спортсмена? — Да значок у него на пиджаке, такие все спортсмены носят. — Погодите-ка. Чванов спустился этажом ниже, где висел плакат спортобщества «Динамо», на котором красовались почти все спортивные значки. Стал снимать плакат со стены. — Зачем тебе он? — строго спросил неведомо откуда появившийся замнач ХОЗУ. — Хочу в рамку его вставить, — усмехнулся Чванов. Вернувшись в кабинет, он положил плакат на стол и обратился к кондукторше: — Смотрите внимательнее. Здесь есть этот значок? — Есть! — Она ткнула пальцем в знак «Мастер спорта СССР». Поздно вечером уже дома Чванов подытожил день. Кое-что есть. Два парня и девушка. Один из них среднего роста, блондин, в сером костюме со значком мастера спорта. Через два дня пришло любопытное агентурное донесение. Некто Морозов, инструктор спортобщества «Урожай», в пивной на Лесной улице по пьянке рассказал, что они с дружком готовятся «подломить» богатую квартиру. Разговор этот произошел за два дня до кражи у Суламифь Мессерер. Агенту было поручено отработать связи Морозова. Среди прочих внимание привлек блондин среднего роста, мастер спорта по имени Витя. Чванов не сомневался, что они на верном пути. За Морозовым началось наблюдение. Однажды вечером домой Чванову позвонил ювелир Малишевский: «Владимир Федорович, есть разговор, давайте встретимся». Несколько лет назад Чванов помог этому человеку избежать крупных неприятностей. Встретились у Малишевского. — Смотрите, — ювелир положил перед майором брошь. — Красивая вещь, — усмехнулся Чванов, — но если вы хотите предложить ее мне, то таких денег я за год не зарабатываю. — Она ничего не стоит, дорогой Владимир Федорович, — засмеялся Малишевский, — это отличные «тетовские бриллианты». Чванов насторожился. — Эта брошь мне знакома, я когда-то чинил ее. Принадлежит она Суламифи Мессерер, а ее, как мне сказали, обокрали. — Откуда она у вас? — Моей приятельнице Ане, барменше из «Коктейль-холла», предложил ее купить один из клиентов. Вот она и решила ее оценить у меня. — Я могу встретиться с Аней? — Конечно. Она сегодня не работает. Они встретились на Тверском бульваре. А на следующий день Чванов с оперативниками сидели в «Коктейль-холле» за укромным столиком рядом с лестницей. Часов в семь к стойке подошел молодой блондин. Крепкий, спортивный, со значком мастера спорта на лацкане модного пиджака. Аня подала условный знак. Чванов принял решение «спортсмена» не брать, чтобы не подставить Аню. За ним начали плотно следить. Выяснилось, что он действительно футболист, мастер спорта, нападающий в одной из московских команд, Олег Платонов. На следующий день после тренировки оперативники проследили его до дома на улице Горького. В установленной квартире жил замминистра коммунального хозяйства. Платонов встречался с его дочерью Леной. Платонова взяли при выходе из квартиры замминистра. В чемоданчике обнаружили два отреза, по описанию похожие на краденые. Через два часа Чванов с оперативниками позвонили в дверь этой квартиры. Им открыла моложавая дама. Прочитав постановление на обыск, она закричала: — Да вы знаете, к кому пришли? — Знаю, — устало сказал Чванов. — Где ваша дочь? В коридор вышла миловидная девушка в халате. — Выдайте вещи добровольно, Лена, — предупредил Чванов. А через десять дней, когда уже делом вовсю занимался следователь, в кабинет Чванова ворвался генерал-лейтенант авиации. Чванов взглянул на него и обомлел. Это был Василий Сталин. Совсем недавно Никита Хрущев помиловал его, вернув ордена и генеральские погоны. Сын покойного вождя начал орать с порога. — Товарищ генерал, — сказал Чванов, — я слушать вас не желаю! — Он встал и вышел из комнаты. Через час его вызвал комиссар Парфентьев, начальник МУРа. — Ну что, Володя, испугался? — засмеялся он. — Не успел. — А ты представь, если бы он года два или три назад к тебе пришел. Где бы ты был? Чванов промолчал. Об этом даже думать не хотелось. Но Василий Сталин все-таки добился своего. Футболиста отпустили «по подписке о невыезде», а на суде он получил два года условно. Даже после опалы имя Сталина значило очень много. Генерал Василий помог своему дружку футболисту. Надо сказать, на такой поступок, в его обстоятельствах, был способен не каждый. Наш дом построен весьма интересно. Стены между квартирами настолько тонкие, что можно услышать все, о чем громко говорят в соседней квартире. Очень удобно, учитывая, что в 30-х годах подслушивание осуществлялось чувствительными мембранами. Потом опертехника шагнула вперед, а звукопроницаемые стены остались на «радость» соседям. Когда мы переносили вещи в «нехорошую» квартиру, комендант Женя, ходячая энциклопедия нашего дома, сказал: — Правильно делаешь, что переезжаешь в сталинскую квартиру. В ней ори, танцуй — никто не услышит. — Почему? — удивился я, прожив почти двенадцать лет в другой квартире с соседом-алкашом, бывшим наркомовским сынком. — Пойдем, — предложил Женя. Мы зашли в соседний подъезд, поднялись на пятый этаж и очутились в сопредельной квартире. — Слушай, — сказал Женя. Из-за стены доносился еле уловимый шум, хотя там двигали мебель, матерились грузчики, стучали молотки… Василий Сталин, окончивший Липецкое училище и выпущенный не как все его однокашники лейтенантом, а капитаном, сразу получил квартиру в Доме правительства. В 1941 году, когда в небе шла безжалостная рубка, Василию Сталину повесили очередную шпалу и сделали его инспектором авиации. Кстати, в небе над Москвой дрались сын Микояна, погибший потом в налете на Кенигсберг, и майор авиации Леонид Хрущев. А инспектор авиации весело жил в доме № 2 по улице Серафимовича. В 181-й квартире «Дома на набережной» гуляла самая модная столичная тусовка. Каждый вечер приглашался джаз. Здесь бывали Алексей Каплер, Константин Симонов, известные актеры и футболисты. За стеной проживал соратник Ленина И.Ф. Петров, чудом не расстрелянный на Лубянке. Он написал письмо Сталину, но Поскребышев не стал обременять вождя столь мелким вопросом, и через несколько дней ребята Власика перетащили шмотки Петрова в другой подъезд. В квартиру народного академика въехал управделами ЦК КПСС, он и сделал звукоизоляцию, на наше счастье. О том, как гуляли в моей нынешней квартире, я узнал случайно, как ни странно — в городе Целинограде много лет назад. Итак, Целиноград. 15 мая 1963 года. Ресторан «Ишим». Празднуем мое тридцатилетие. Через пару дней я уезжаю в Москву, проработав в этом городе два года. Ресторан опустел, наступила ночь, только мы с приятелем остались догуливать мой двойной праздник. К нашему столу подсел аккордеонист Леня из ресторанного оркестра. Он родился и когда-то жил в Москве. В 44-м его посадили по 58-10, потом ссылка в Акмолинск, так тогда именовалась столица целинного края, здесь он и осел. — Уезжаешь? — Уезжаю. — Поклонись от меня Москве. Особенно Дому правительства. — Почему ему? — А из-за него я и подсел. Наш джаз постоянно играл на квартире Васи Сталина. Особенно сильно гуляли на Новый год. Там на моих глазах Алеша Каплер заклеил дочку Сталина. Его потом посадили, ну а меня чуть позже забрали, я по пьяни в компании лабухов эту историю рассказал. Тогда я еще не знал подробностей романа, начавшегося в моей будущей квартире. Теперь мне известно о нем гораздо больше. Итак, тридцативосьмилетний известный кинодраматург, автор сценариев «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Три товарища», «Шахтеры», «Котовский», «Она защищает Родину», человек весьма обласканный режимом, влюбился на новогодней вечеринке в десятиклассницу Светлану Сталину. Позже Борис Войтехов, журналист и кинодраматург, человек весьма заметный в московской светской тусовке тех лет, говорил мне, что Каплер действительно был увлечен этой молоденькой девочкой. Это был платонический роман. Алексей Каплер приносил Светлане хорошие книги, в просмотровом зале Комитета по кинематографии показывал американскую классику тех лет. Они гуляли по заснеженной Москве, ходили в театры. Ну, кажется, чего особенного? Если бы не два обстоятельства. Первое и самое главное — это сам вождь. А второе — национальность Алексея Яковлевича Каплера. Вполне естественно, что его предупредили и отправили военным корреспондентом в Сталинград. Вот там-то Каплер и совершил главное преступление. О нем Светлана Аллилуева в своей книге «Двадцать писем к другу» пишет: «…В конце ноября, развернув „Правду“, я прочла в ней статью спецкора А. Каплера „Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда. Письмо первое“ — и дальше, в форме письма некоего лейтенанта к своей любимой, рассказывалось обо всем, что происходило тогда в Сталинграде, за которым следил в те дни весь мир. Увидев это, я похолодела. Я представила себе, как мой отец разворачивает газету. Дело в том, что ему уже было доложено о моем странном, очень странном поведении. И он уже однажды намекнул мне очень недовольным тоном, что я веду себя недопустимо. Я оставила этот намек без внимания и продолжала вести себя так же, а теперь он, несомненно, прочтет эту статью, где все так понятно, — даже наше хождение в Третьяковку описано совершенно точно. И надо же было так закончить статью: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля…» Боже мой, что теперь будет?!» Светлана Аллилуева была права, боясь гнева отца. Каплер не понял намека. Он ослушался, а это являлось тогда самым страшным преступлением. Его арестовали 3 марта 1943 года. Вернемся еще раз к воспоминаниям дочери вождя. «Третьего марта утром, когда я собиралась в школу, неожиданно домой приехал отец, что было совершенно необычайно… Я еще никогда не видела отца таким. Обычно сдержанный и на слова, и на эмоции, он задыхался от гнева, он едва мог говорить: „Где, где это все? — выговорил он. — Где все эти письма твоего писателя?“ Нельзя передать, с каким презрением выговаривал он слово «писатель»… «Мне все известно! Все твои телефонные разговоры — вот они, здесь! — он похлопал себя по карману. — Ну! Давай сюда! Твой Каплер английский шпион, он арестован!» Отец рвал и бросал в корзину письма и фотографии. «Писатель, — бормотал он. — Не умеет толком писать по-русски! Уж не могла себе русского найти!» То, что Каплер еврей, раздражало его, кажется, больше всего…» Алексей Яковлевич Каплер попал в Воркуту. Но Сталину было мало посадить человека. Ослушник должен покаяться, и чекисты заставляют Каплера написать письмо Сталину. Двадцать седьмого января 1944 года Каплер пишет «покаянное» письмо. В марте оно попадает к Поскребышеву, который направляет его Берия. 15 марта Берия затребовал справку о заключенном, и уже 16-го справка была ему представлена. Вот оба эти документа. «Секретарю ЦК ВКП(б) тов. И.В. Сталину от заключенного Каплера Алексея Яковлевича, кинодраматурга, отбывающего наказание в Котласском отделении Гулждс. Дорогой Иосиф Виссарионович! Я осужден Особым Совещанием по ст. 58-10 п. 2 к 5-ти годам испр. труд. лагерей за высказывание антисоветского характера в разговорах с друзьями и знакомыми. Виновным в предъявленном обвинении я себя не признал и не признаю. Вполне возможно, что своим необдуманным поведением, излишней резкостью, преувеличениями, иной раз какой-нибудь сгоряча брошенной фразой я давал возможность любителям клеветы и злостных искажений, из числа своих знакомых, создать материал, направленный против меня. По существу же антисоветских настроений у меня никогда не было. Всю жизнь я из всех сил старался принести пользу Родине и партии большевиков. На мою долю выпало большое, настоящее счастье быть награжденным за сценарии «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» орденом Ленина и Сталинской премией первой степени. Во время Отечественной войны я пытался создать картины, которые бы отвечали задачам великой борьбы. Вышедшие на экран картины «Она защищает Родину», «Котовский», «День войны» и др. — были еще только первым результатом этой моей работы. Только-только началась работа, было у меня огромное множество замыслов, и думается, мне посчастливилось бы создать произведения значительные. К несчастью, работа была прервана арестом. Дорогой, любимый Иосиф Виссарионович! Я глубоко виновен, но не в том, за что осужден. Я виновен в недостойном и глупом поведении, виновен в том, что, будучи щедро награжден и пользуясь в работе высоким доверием руководящих организаций страны, я то что называется «зазнался», вел себя нескромно и непозволительно. Воспользовавшись тем, что после ряда очерков «В тылу врага» («Известия» — март 1942 г.) и «Сердце партизана» («Правда» — июнь 1942 г.) редакция ЦО отнеслась с полным доверием и доброжелательством к моему материалу, я позволил поместить в «Правде» антихудожественное, глупое и возмутительное «Письмо из Сталинграда». Вообще я вел себя недопустимо и как казнюсь теперь за это! Простите меня, Иосиф Виссарионович, простите меня за все! Позвольте мне отправиться на фронт и принять участие в великой освободительной борьбе, которую под Вашим руководством ведет народ! Позвольте мне, пожалуйста, пожалуйста, дорогой Иосиф Виссарионович, умоляю Вас об этом! 27 января 1944 г. А. Каплер». «Совершенно секретно СПРАВКА на осужденного КАПЛЕРА Алексея Яковлевича, 1904 года рождения, уроженца гор. Киев, еврея, гражданина СССР, беспартийного, до ареста работал киносценаристом Всесоюзного Комитета по Делам Кинематографии при СНК СССР. КАПЛЕР А.Я. арестован 3 марта 1943 года Следственной частью по Особоважным делам НКВД СССР, осужден Особым совещанием при НКВД СССР 25 ноября 1943 года за антисоветскую агитацию к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. Из материалов дела видно, что КАПЛЕР А.Я. являлся сыном домовладельца, имевшего собственную швейную мастерскую с наймом 10-15 рабочих. Родная сестра КАПЛЕРА в 1918-19-х г. эмигрировала за границу и с того времени проживала в Германии, а потом во Франции. Сам КАПЛЕР А.Я., являясь антисоветски настроенным человеком, в своем окружении вел враждебные разговоры и клеветал на руководителей ВКП(б) и Советского правительства. В период Отечественной войны КАПЛЕР неоднократно высказывал свои панические и пораженческие настроения и с антисоветских позиций критиковал политику партии и мероприятия органов Советской власти. В 1942-43-м гг. КАПЛЕР поддерживал подозрительную по шпионажу связь с американскими корреспондентами ШАПИРО и ПАРКЕР. В предъявленном обвинении КАПЛЕР А.Я. виновным себя не признал, изобличается агентурными материалами. Справка составлена по материалам следственного дела № 6863. Начальник отдела «А» НКГБ СССР Комиссар государственной безопасности: (Герцовский) 16 марта 1944 года». Покаяние не помогло. Каплер отсидел все пять лет от звонка до звонка. В 1948 году его выпустили и разрешили уехать в Киев к родителям. По тем временам это была великая монаршая милость. Всего одно условие было поставлено бывшему ЗК: в Москву ни ногой, с дочерью Сталина не встречаться. Но жили в этом человеке отвага и некий мушкетерский авантюризм. И Каплер рискнул. В Москве он пробыл день и получил за это пять лет каторги в лагере под Интой. Много позже в одной из наших бесед Алексей Яковлевич сказал: — Не мог я не поехать в Москву. Надоело мне их бояться. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с этим прекрасным человеком. Долго и много беседовать. Смотреть его фильмы, читать прекрасные книги. Каждый месяц он приходил в наши дома, появляясь на голубом экране. По сей день я уверен, что Алексей Каплер был лучшим ведущим «Кинопанорамы». Василий Сталин начал войну двадцатилетним капитаном, а закончил двадцатичетырехлетним генерал-лейтенантом. Александр Иванович Покрышкин рассказывал мне, как Василий Сталин вызвал его, когда он учился в академии, продержал час в приемной и, не здороваясь, сказал: — Будешь моим замом, сразу получишь генерала. Александр Покрышкин, трижды Герой, лучший воздушный боец, отказался. У этого отважного в бою, но очень деликатного в жизни человека чувство самоуважения стояло на первом месте. Он никому не позволял хамить себе, даже сыну Сталина. Правда, после этого он долго не мог получить генеральских звезд. Сын пошел в отца. Был чудовищно злопамятен. Люди, служившие с ним, рассказывали мне о его самодурстве, хамстве и даже рукоприкладстве. Вот что пишет о нем его сестра Светлана Аллилуева: «В 1947 году он (Василий) вернулся из Германии в Москву, и его сделали командующим авиацией Московского военного округа… Жил он на своей огромной даче, где развел колоссальное хозяйство, псарню, конюшню… Ему разрешали все — Власик старался ему угодить. Он, пользуясь близостью к отцу, убирал немилых ему людей с дороги, кое-кого посадил в тюрьму». Посаженными оказались маршалы авиации Вершинин и Новиков. Мне рассказывали старые сотрудники МГБ, что ненависть «принца» умело направлял хозяин Лубянки генерал-полковник Абакумов. Но пьянство не довело Василия до добра. 1 мая 1952 года последовал запрет командования: не использовать авиацию во время парада из-за погодных условий. Но генерал Сталин посчитал этот приказ личным выпадом и приказал поднять две эскадрильи. В результате разбился самолет. Разгневанный папаша снял его с должности и направил учиться в академию Генштаба. Надо сказать, что он ни разу не был на занятиях. Пил на даче со своими приживалками. Продолжал пить и когда умер вождь. Его еле откачали и поставили у гроба. Вполне естественно, что для новых вождей он представлял серьезную опасность. Он много чего мог рассказать о тех, кто пришел к власти в стране. И рассказывал. Поначалу его отправили в отставку. Он продолжал пить и бесчинствовать в кабаках. Двадцать восьмого апреля 1953 года после пьянки с англичанами, которым он поведал массу интересных кремлевских тайн, его арестовали. Военная коллегия приговорила его к восьми годам, припомнив все: гигантское хищение казенных денег, доносы на военачальников, ну и, конечно, передачу секретной информации. Но все же он был сыном вождя, которого тайно почитали те, кто открыто разоблачал покойника с высоких трибун. Через два года Василия из Лефортова перевели в госпиталь, а потом должны были освободить. Но опять понаехали друзья, начались пьянки, и тут он что-то сказал. Только вот что? Весьма компетентный человек поведал мне, что Василий проболтался о чем-то весьма серьезном. И он исчез. Его просто не стало. Не так давно мне удалось найти документ о «железной маске» времен оттепели. Привожу его полностью. «СССР. Министерство внутренних дел. Управление МВД Владимирской области, тюрьма № 2. 15. V. 1956 г. № 1229. гор.Владимир. Совершенно секретно. Экз. № 1. Начальнику Тюремного отдела МВД СССР полковнику тов.Буланову, гор.Москва. Спецсообщение В конце 1955 года в тюрьму № 2 УМВД Владимирской области дважды приезжал зам.нач. следственного Управления КГБ при СМ СССР полковник (кажется) тов. Калистов, где осматривал расположение тюремных корпусов и подсобных помещений. О цели посещения и изучения тюрьмы он сообщил, что КГБ при СМ СССР сочло необходимым поместить в одном из мест заключения особо важного заключенного, которому необходимо создать условия применительно к лагерным, приобщить его к труду металлиста, но чтобы с ним находилось не более 5-7 заключенных с большими сроками. Кто такой этот заключенный, мне было неизвестно, и все мои доводы, что требуемых условий для такого заключенного в тюрьме создать невозможно, оказались неубедительными. В конце декабря 1955 года я был вызван в Тюремный Отдел МВД СССР полковником тов. Евсениным, который мне сообщил, что в ближайшем будущем в тюрьму № 2 прибудет заключенный Сталин Василий Иосифович, а для инструктажа по приемке и размещению этого заключенного направил меня к Начальнику Тюремного Отдела КГБ при СМ СССР полковнику тов.Клейменову. В кабинете тов.Клейменова зам.нач.следственного Управления КГБ при С.М. полковник тов.Козырев дал мне указание, чтобы по прибытии этого заключенного в тюрьму создать ему условия применительно к лагерным, использовать на работе в тюремных механических мастерских вместе с другими 5-7 заключенными, осужденными на большие сроки, и сделать так, чтобы, кто он такой, знало очень ограниченное количество лиц. До прибытия его в тюрьму никому об этом не говорить. Поздно вечером 3 января 1956 года Василий Сталин был доставлен в тюрьму № 2 УМВД Владимирской области на оказавшемся в Москве автозаке УКГБ при С.М. СССР по Владимирской области с их двумя конвоирами. Личное дело заключенного было запечатано в пакете, но в попутном списке и в справке по личному делу была указана подлинная фамилия заключенного и наклеена его фотография. Эти документы конвой вручил ДПНТ тюрьмы лейтенанту тов.Кузнецову, а последний, не зная, как поступить с ним, позвонил ко мне на квартиру, называя его настоящей фамилией. Таким образом, с первого момента прибытия в тюрьму части офицерского и надзирательского состава стало известно подлинное лицо этого заключенного. Необходимо отметить, что во Внутренней тюрьме этот заключенный содержался под № 4 и незадолго до отправки к нам в тюрьму был разнумерован. Во избежание могущих быть неприятностей, чтобы скрыть подлинное лицо этого заключенного по договоренности с ним, ему была присвоена фамилия его последней жены Васильевой — Васильев Василий Павлович, под этой фамилией он значится во всех официальных документах тюрьмы и под этой фамилией ведет переписку с родственниками. Васильев В.П. осужден Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 2 сентября 1955 года по ст. 193-17 п. «б» с применением ст.51 и ст.58-10 ч. 1 УК РСФСР к лишению свободы в ИТЛ на 8 лет. Срок отбытия наказания исчисляется с 28 апреля 1953 года. После соответствующей подготовки заключенный Васильев был помещен в 3-й корпус в камеру совместно с двумя заключенными, осужденными по ст. 58 на длительные сроки заключения, которые уже давно содержатся у нас в тюрьме, нами изучены, один из них наш источник. С этими заключенными Васильев с 16 января работает в механической мастерской тюрьмы, вначале на сверлильном, а затем на токарном станках. Кроме этих заключенных, в мастерской работает 5заключенных из числа хоз.обслуги, осужденных на 5-7 лет ИТЛ. Заключенные из хозяйственной обслуги размещены в корпусе для хозяйственной обслуги. На работе в мастерских Васильев также обеспечен достаточным агентурным наблюдением. В камере Васильев не сжился с одним заключенным, который был переведен в другую камеру. В настоящее время заключенный Васильев содержится в камере только с нашим источником и с ним же он выводится на работу в механические мастерские. К работе заключенный Васильев относится добросовестно, освоил сверлильное и токарное дело. Для изучения токарного и других специальностей металлиста к нему прикреплен высококвалифицированный, до ареста преподаватель ремесленного училища, наш источник, заключенный из хозяйственной обслуги. Заключенному Васильеву зачтено в январе 18 рабочих дней, в феврале 45, в марте 52, в апреле 56 рабочих дней. К заключенному Васильеву приезжает жена в среднем два раза в месяц, им представляется личное свидание, в январе месяце к нему приезжала сестра. Из числа заключенных подлинное лицо Васильева знает работающий в тюрьме заключенный Кальченко. Там он видел несколько раз Васильева, однако заключенный Кальченко это держит в секрете. Кальченко по отбытии срока наказания в конце мая будет освобожден, при освобождении от него будет отобрана подписка о неразглашении на воле подлинного лица Васильева. Из числа личного состава кое-кто догадывается о личности Васильева, однако нами принимаются меры о неразглашении. В обращении с администрацией тюрьмы Васильев ведет себя вежливо. Много читает, физически у нас значительно окреп. Сообщается Вам для сведения. Начальник тюрьмы №2 Управления МВД Владимирской области подполковник (Козик)». Мы начали в те годы говорить много и смело. Мы слушали Ива Монтана, смотрели «Мандат» Н.Эрдмана, спорили о романе В.Дудинцева «Не хлебом единым». Летом 57-го бушевал Международный фестиваль молодежи и студентов. А камере № 18 Владимирского централа сидел «железная маска» Через много лет в Казани на кладбище мне показали могилу генерала В.И.Джугашвили. На памятнике было написано: «Единственному». И думая сегодня о судьбе этого человека, я невольно прихожу к выводу, что в этой стране никогда ничто не менялось и долго еще не изменится, до тех пор, пока мы не узнаем главные кремлевские тайны. Вот и все, что я хотел рассказать об истории моей квартиры. Наш дом, как огромный корабль, неумолимо плывет сквозь время. Остались за кормой времена культа личности, потом оттепели и хрущевского волюнтаризма, весело миновал застой. Бурно покачались на волнах перестройки. К какому же берегу причалит наш неуправляемый корабль? Писатель Александр Малышкин взял к своему трагическому роману о жизненном переломе «Севастополь» печальный эпиграф, созвучный с нашим временем: Мы были моряки, мы были капитаны - водители безумных кораблей. «…Идут на Север срока огромные…» В магазине «Лесная быль» на Сретенке мы купили четыре плетенки раков, а директор знаменитой торговой точки, наш добрый знакомый, позвонил в 40-й гастроном на улице Дзержинского, и мы разжились чудовищным по тем временам дефицитом — чешским пивом. На город опустилось солнечное июньское воскресенье, и сретенские переулки залило радостным светом. Мы выгрузили наше богатство у большого, когда-то доходного, дома в Большом Сергиевском, где жил наш товарищ Володя Казанцев. Мы часто собирались у него в большой коммунальной квартире, потому что Володя жил в громадной тридцатиметровой комнате. Когда-то вся квартира принадлежала его деду, известному инженеру-путейцу. После революции их уплотнили, но, принимая во внимание, что инженер Казанцев слыл крупным железнодорожным спецом, оставили его семье самую большую комнату. Я любил приходить к Володе и разглядывать старые фотографии, которыми были завешаны стены комнаты. Это были портреты его огромной родни. Из темных рамок смотрели на нас мужчины в студенческих тужурках, служивых вицмундирах, офицерской форме. Женщины в платьях с буфами, высокими прическами и обязательным медальоном на груди. Я смотрел на эти прекрасные лица, и казалось, что кто-то из них, как чеховская Ольга из «Трех сестер», скажет внезапно: «…пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас…» Как все-таки прекрасно рассматривать старые фотографии. Рядом с портретом деда в красивой форме инженера-путейца — небольшая фотография отца: гимнастерка, на петлицах три кубаря и саперная эмблема. Он не вернулся в Большой Сергиевский, погиб под Москвой в 41-м. Портрет самого Володи Казанцева в форме штурмана-речника. Он остался один из всей дружной старомосковской семьи. Ее смахнули свинцовые ветры Гражданской войны, репрессий и Великой Отечественной. Наш друг Володя учился в техникуме речного флота и иногда появлялся на улице Горького в красиво сшитой форме с узенькими курсантскими погонами. Получив диплом штурмана, он проплавал на реках положенные два года, уволился, стал писать. Окончил заочно Литинститут, но каждое лето нанимался на одну навигацию на судно. Плавал по Енисею, Волге, Каме, Москва-реке. Осенью возвращался домой и писал неплохие истории из жизни речников. В том далеком июле 70-го он плавал в Московском пароходстве. И его сухогруз стал в столице на ремонт двигателя. Здоровая коммуналка, типично московская, со старыми велосипедами на стене, с сундуками в коридоре, с непременными корытами, висящими в ванной, была пустой. Летом соседи разъезжались по садовым участкам. В те годы это было повальной эпидемией. Раков поручили варить Валере Осипову, который считал себя непревзойденным специалистом в этом деле. Мы с Володей выполняли его указания. Когда аромат варящихся раков стал нестерпимым, в глубине квартиры послышались шаги. На кухню вошел Александр Гаврилович, сосед Володи. — Меня разбудил этот божественный запах. Здравствуйте, друзья. Манера говорить, одеколон «Лаванда» и безукоризненный пробор в седоватых волосах совсем не вязались с его профессией. Как мы знали, он вкалывал обыкновенным литейщиком на заводе «Серп и молот». — Повезло мне, что я в ночную смену работал, — засмеялся Александр Гаврилович, — иначе уехал бы на свой садово-огородный рай и такое пиршество проспал. Возьмете в компанию? Моя доля — две бутылки «Столичной». Когда разделались с первой кастрюлей раков, ряд пивных бутылок поредел и растаяла одна поллитровка «Столичной», когда мы обсудили «Черный обелиск» Ремарка и поспорили о пьесе «Дион» Зорина, причем литейщик-интеллигент поразил нас точностью формулировок и знанием литературы, Александр Гаврилович сказал странную фразу: — Раки, пиво, водка. Беседа душевная, день за окном изумительный. Повезло вам, ребята. В рубашке вы родились. — Не понял, — обсасывая клешню рака, прогудел Осипов. — А чего понимать-то. Вы же все трое с Бродвея, стиляжки московские. — Ну и что? — поинтересовался я. — А то, ребята, не откинь тапочки великий вождь, валили бы древесину или дорогу строили на севере диком. — С каких дел? — засмеялся Валера. — За нами ничего не было. — А это вам неизвестно, было или не было. Да и не интересно это никому. Через семнадцатую вы должны были пойти, через семнадцатую. — А вы откуда знаете? — Он знает, — вмешался в разговор до этого молчавший Володя. — Знаю, если говорю. — Литейщик-интеллигент налил себе водки, выпил, оглядел нас насмешливо. — Ну что ж, извините за компанию, — встал и вышел. — Все, набрался, — усмехнулся Казанцев, — поплыл. — Да кто он такой? — рявкнул скорый на скандал Валера Осипов. — Кто он? — Володя налил себе пиво, — Страшноватый персонаж. Был совсем молодым полковником МГБ. Работал с генералом Влодзимирским, занимался контрреволюционными настроениями в молодежной среде. Когда бериевскую бражку арестовали, его тоже посадили. Он пять лет во Владимирской тюрьме просидел. Вернулся, пошел на «Серп и молот» литейщиком. Профессия хотя тяжелая, но денежная. Сложный, странный человек и страшноватый, конечно. Чуть позже я выяснил, что Александр Гаврилович сам никого не арестовывал и не мучил на допросах, он писал сценарии заговоров. По его заданию агентура разрабатывала намеченных людей и на основании увлечений, разговоров, связей составлялся проект будущего следственного дела. И для всех, кто шлялся тогда по московскому Бродвею, ходил на танцы в рестораны «Спорт» и «Москва», готова была знаменитая семнадцатая статья УК— умысел. Я встречал его потом, когда приходил к Володе. Чекист-расстрига вежливо улыбался мне и мило обсуждал новости столичной культурной жизни. Он смотрел на меня так, словно знал то, что я никогда не узнаю. Я помню многих, с кем гулял по нашей знаменитой улице. Там были разные компании. И со всеми я был в прекрасных отношениях. Регулярно наши приятели исчезали, и по Бродвею, «Коктейль-холлу», «Авроре» ползли слухи, что их посадили. Но мы тогда не знали, кто и за что. Истории об их исчезновении слагались самые невероятные и всегда с уголовным уклоном. Потому что, если бы кто-нибудь сказал, что наши приятели создали антисоветскую организацию или были причастны к шпионажу, мы бы не поверили. Сомнения стали появляться позже и укрепились после смерти Сталина. В ноябре 51-го года мы стояли с моим товарищем Виталием Гармашом у ресторана «Киев» на площади Маяковского. В Центральном театре кукол Образцова закончился спектакль «Под шорох твоих ресниц», театральный шлягер тех лет. Это была пародия на Голливуд, со всеми пропагандистскими аксессуарами, но нас привлекала музыка спектакля. Вполне естественно, что пародия на американскую жизнь шла под прекрасные джазовые композиции. Оговорюсь опять, что после знаменитого письма ЦК ВКП(б) от 48-го года джаз в СССР, как идеологически вредная музыка толстосумов, был запрещен. Я даже знал двоих ребят с Бродвея, трубача Чарли Софиева и саксофониста Мишу, интересного блондина, получившего за свою внешность кликуху «Фриц», которых арестовали за пропаганду чуждой нам культуры. По разным лагерям сидело много джазменов. Даже звезда советской эстрады Эдди Игнатьевич Рознер тянул свой срок где-то в Магадане. Но вернемся к тому ноябрьскому вечеру. Итак, мы стояли у ресторана «Киев», прощались и договаривались о встрече. Виталий обещал дать мне почитать книгу Андрея Белого, которого не переиздавали с 20-х годов, и вполне естественно, что каждая книга стала библиографической редкостью. Виталий Гармаш учился в Экономическом институте на Зацепе, увлекался театром и литературой, писал стихи, которые очень нравились нам. По сей день помню отрывок из лирического стихотворения Виталия: Не мани меня в даль. Не буди меня сказкой обманной, Золотого вина, золотого крыла тишины. Не развеешь ты мне мишурою своею обманной Бесконечные сны, бесконечные желтые сны. Конечно, критики скажут о вторичности, несовершенстве этих стихов. Но нам они нравились, потому что были созвучны с нашим состоянием души. Со стороны Пушкинской неотвратимо надвигался двенадцатый троллейбус. Огромный двухэтажный сарай. Их уже практически сняли с маршрутов, осталось всего несколько машин. Считалось, что такой троллейбус приносит удачу. — Повезло тебе, — засмеялся Виталий, — жди удачу. Значит, через три дня, там же? — На том же месте, — ответил я, — а удачу делим пополам. Я побежал к счастливому троллейбусу, а Виталий пошел к метро. Мы договорились встретиться через три дня у кафе «Красный мак» в Столешниковом… А встретились через сорок восемь лет в Доме кино. Через три дня Виталий не пришел в условленное место, не появился он и на улице Горького. По Бродвею пополз слушок, что его арестовали за какие-то стихи. Одновременно с ним исчезли еще два ярких бродвейских персонажа: Володька Усков и Володька Шорин по кличке «Барон». Они стали персонажами антисоветской пьесы, сочиненной Александром Гавриловичем, впоследствии литейщиком-интеллигентом. В «МК-воскресенье» я опубликовал очерк «Вечерние прогулки пятидесятых годов», где писал о том, что пропал с улицы Горького и сгинул в ГУЛАГе поэт Виталий Гармаш. А через некоторое время получил письмо от товарища своей молодости, мы встретились в Доме кино, и он рассказал мне свою трагическую историю. Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в «Коктейль-холл» и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали, главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше — как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые «процессы», когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле: «А ты кто такой?» — или «большие процессы», когда начиналась драка. Категорию ресторанных драчунов так и называли — «процессисты». Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков: «Авроры», «Метрополя», «Гранд-Отеля». Он предпочитал «Узбекистан», «Арагви», кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве, поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в «Узбекистан». Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. К их столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. — Позвольте присесть с вами? — с легким акцентом спросил он. — Конечно, садитесь, — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми, достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс». Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра, Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии… Тот ноябрьский слякотный вечер он запомнил на всю последующую жизнь. Виталий, не торопясь, миновал кинотеатр «Центральный», прошагал мимо памятника Пушкину; у входа в ресторан ВТО поболтал пяток минут со знакомым джазистом Лешей Рыжим и подошел к Елисеевскому. — Слышь, друг, — обратился к нему невысокий коренастый человек в драповом полупальто. — Я приезжий, как к Центральному телеграфу пройти? — улыбнулся он фиксатым ртом. — Да вот он, на другой стороне, видите, земной шар све… Виталий так и не успел докончить, ему внезапно умело вывернули руку. — Не дергайся, — угрожающе проговорил человек в модной серой кепке-букле. — МУР. Их затолкнули в небольшой автобус, стоящий у тротуара. В машине фиксатый дернулся, вырвал руку и вытащил из-за пазухи пистолет. Один из оперативников ударил его по руке, и оружие упало на пол. Щелкнули наручники. — Будешь дергаться, Хомяк, — сказал один из оперов, — я из тебя отбивную сделаю. Ехали недолго, по Пушкинской улице, к знаменитому «полтиннику» — 50-му отделению милиции. Это была славная точка. Именно сюда со всех центровых ресторанов свозили «процессистов», сюда доставляли задержанных «золотишников» из Столешникова и спекулянтов от многочисленных комиссионных. Виталий уже побывал здесь пару раз после кабацких скандалов, но все кончалось благополучно. Штрафовали и, несмотря на угрозы, писем в институт не посылали. В «полтиннике» работали в общем-то хорошие ребята, и начальник их, подполковник Иван Бугримов, был хоть и громогласен, но к молодежи относился снисходительно, не портил нам жизнь. Виталия отвели в кабинет, где муровский опер в две минуты разобрался, что парень никакого отношения к фиксатому не имеет. — Посиди в коридоре, мы тебя сейчас по ЦАБу пробьем — и гуляй. Виталий прождал в коридоре больше часа. Мимо него пробегали возбужденные люди в форме и в штатском, потом приехал какой-то важный чин в кожаном пальто. Гармаш понял, что сыщики поймали крупную птицу. В коридор вошел опер, занимавшийся им. — Ты все сидишь? — Сижу. — Подожди. — Он скрылся за дверью кабинета и снова появился с паспортом Виталия в руках. — Иди, ты свободен. Только теперь, студент, сначала документы спроси, а потом дорогу показывай. — А кто он? — Бандит, убийца и сволочь. Пойдем, я тебя выведу отсюда. Виталий вышел на улицу и подумал о том, что вполне может успеть в «Узбекистан». Он сделал первый шаг, и из «Победы», стоящей напротив отделения, вышли двое в одинаковых синих пальто и серых шляпах. — Гармаш? — спросил один. — Да. — Виталий Иванович? — Да. — МГБ, — человек в шляпе достал удостоверение. — Быстро в машину и не дергайся. — Что, ребята, — крикнул курящий у входа муровский опер, — опасного шпиона заловили?! Помощь не нужна? — Сами справимся, — буркнула шляпа. Все произошло настолько неожиданно, что Гармаш не успел испугаться. «Победа» въехала в раскрывшиеся железные ворота и остановилась у небольшой двери с глазком. Один из эмгэбэшников нажал звонок, и они вошли. Дверь захлопнулась. На долгие годы. Его вели коридорами, совсем обычными, как в любом учреждении, и люди на пути попадались, похожие на многочисленных советских служащих, они уступали дорогу, и на лицах у них не было любопытства, обычная рутинная скука. Его ввели в большой, ярко освещенный кабинет, в нем было пять человек в штатском. — А, Гармаш, — сказал хозяин кабинета, невысокий худенький человек. Он встал из-за стола, взял в руки тоненькую папку. — Конечно, МУР подгадил нам, но ничего, на тебя и твоих дружков вполне хватит. Во внутреннюю тюрьму его. — За что? — только и смог спросить Гармаш. — А ты не знаешь? К нам просто так не попадают. К нам привозят только контрреволюционеров. Уведите его. Потом Виталий узнал, что этот невысокий человек был полковник Герасимов, начальник особой следственной части УМГБ Москвы. — Все из карманов на стол… Так… Снять пиджак и рубашку… Так… Поднять руки… Рот открой… Да шире, слышишь?… Так… Можешь захлопнуть… Снять брюки и трусы… Так… Раздвинуть ягодицы… Так… Одевайся… Опись готова… Подпиши… Ручка… Деньги… Записная книжка… Часы… Все на месте… Шнурки вынули, галстук и брючный ремень изъяли. Оперативников в шляпах не было, конвоировали сержанты-сверхсрочники в шерстяных зеленых гимнастерках с голубыми погонами МГБ. Ночь в боксе. В каменном мешке, стоя. Затекли ноги, появилось чувство страха. Не от того, что происходит, а от неизвестности. От непонятной тоненькой папки, от слов «контрреволюция», от ощущения своего бессилия. Он все же задремал, стоя, как лошадь, и разбудил его шум открываемой двери. — Смотри, спал, — удивился надзиратель. — Пошли. Ноги затекли, но с каждым шагом они вновь наливались силой. Коридор. Дверь. Лестница вниз. Снова дверь. За ней вторая, решетчатая. Коридор. Железные двери. — Стоять! Лицом к стене! Лязгнул замок. — Заходи. Камера три на пять. Кровать. Параша. Стол. Табуретка. Дверь захлопнулась. Через час принесли завтрак, кашу из неведомой крупы, кусок черного хлеба, кружку якобы чая и два куска сахара. Страна, строящая социализм, не собиралась сытно кормить своих врагов. При шмоне ему оставили сигареты. Две мятые пачки «Дуката», одна полная — десять штук, вторая початая — шесть. Виталий понял первую заповедь — курево надо экономить. Неделю его не вызывали на допрос. Неделю он ел вонючий тресковый суп на обед и непонятную кашу на ужин. Неделю он надеялся, что тот невысокий худенький человек во всем разберется и выпустит его. И эта одиночка и яркий, днем и ночью, слепящий свет здоровенной лампы останутся в прошлом. Однажды дверь открылась и надзиратель скомандовал: — На выход. И опять коридоры, двери и команда стоять. Сержант постучал и доложил: — Арестованный для допроса доставлен. Обычная комната, стол, шкаф, стулья. За столом — молодой человек, в аккуратном бостоновом костюме. — Здравствуйте, Виталий Иванович. Садитесь. Я — ваш следователь капитан Жарков. Он сел. — Хотите курить? Берите мои папиросы. Я знаю, что сигареты у вас кончились. Но в тюрьме есть ларек, при обыске у вас изъяли сто двадцать рублей, на них вы можете покупать папиросы в тюремном ларьке. Сначала давайте запишем ваши установочные данные. Итак, фамилия, имя, отчество, год и место рождения. — Но я же ни в чем не виноват. — Невиновных к нам не привозят. А моя задача — разобраться объективно в этой непростой ситуации. И начался первый, многочасовой допрос. — При обыске в вашей квартире мы обнаружили два ствола, вальтер и браунинг. Это ваше оружие? Следователь положил на стол два пистолета. — Это именное оружие моих родителей. Матери и отца. Вы же видите, на рукоятках еще остались следы наградных пластин. — Значит, не ваше. Так и запишем. Ну а теперь перейдем к вашей активной контрреволюционной деятельности. Первый допрос закончился ничем. Виталий не смог убедить следователя, что все происходящее — чудовищная ошибка, а Жарков не получил вожделенной подписи под протоколом. Следующий допрос начался с вопросов: — Вы знаете Ускова? — Да. — Шорина? — Да. — Левина? — Да. Далее следовало перечисление еще десяти неизвестных фамилий. — Этих не знаю. — Знаете, только не хотите говорить. — Не знаю. И снова в камеру. Два шага до одной стены, два — до другой. Виталий сочинял стихи. Пытался навсегда запомнить их. И они откладывались в памяти, врезались навечно, потом в лагере он запишет их на бумаге. Вопросы, вопросы, вопросы, Зачем, почему и в связи, Кружатся допросов колеса Вокруг лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, Пробили все ночи и дни, И даже лубянские профи Не знают ответа на них. Но в этом Виталий Гармаш ошибался. Офицеры особой следственной части точно знали ответы на все вопросы. И они решили их подсказать двадцатилетнему несмышленышу. Однажды, когда он заснул, его разбудили и повели на допрос. На этот раз Жарков не жал на него. Расспрашивал о жизни, об увлечениях. Читал его стихи, изъятые при обыске. — Ты каких поэтов любишь? — спросил он. — Блока, Есенина, Ахматову… — Вот видишь, любишь поэтов-патриотов, а следствию помочь не хочешь. Жарков взглянул на часы. — Засиделись мы, подъем через сорок минут. Иди в камеру. Он пришел в камеру и провалился в темную пропасть сна. — Подъем! Подъем! Он пытался спать, сидя на табуретке. Но надзиратель регулярно будил его. Засыпал на ходу на прогулке, падал. Дни превращались в кошмары. Начался бред. Он видел на бородавчатых стенах камеры какие-то яркие картинки, похожие на абстрактных животных. Он уже не пугался, не думал ни о чем, все его существо заполнило одно желание — спать. И опять спасали стихи. Которые он бормотал словно в бреду: Каждый вечер полчаса под фонарями, Захлебнувшись болью на бегу, Сумасшедший с дикими глазами Мечется в асфальтовом кругу. Дребезжат, скрипят изгибы водостоков На карнизах. Стынут блики дня, Мечется в зубах у черных окон Человек, похожий на меня. На пятнадцатый день бессонницы, измученного, потерявшего ощущение реальности, его снова вызвал на допрос Жарков. Виталий практически не мог отвечать на вопросы, не слышал их, не понимал. — Подпиши! — кричал следователь. — Подпиши! — Подпиши! И он подписал. Тогда Виталий не знал, что подпись эта была чистой формальностью. И нужна была Жаркову только для отчета перед начальством. Приговор уже был подписан. Однажды, когда он шел с допроса, в коридоре столкнулся с двумя офицерами МГБ. Один из них посмотрел на Гармаша, улыбнулся и подмигнул ему. Это был тот самый корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Андерсон. На заседание трибунала войск МГБ их привезли втроем: Володю Ускова, Володю Шорина и его. Заседание было предельно коротким. За подготовку террористического акта против товарищей Маленкова и Кагановича, за создание антисоветской организации, ставящей целью подрыв советской власти, им дали три статьи УК — 58-10, 58-4, 58-8 через семнадцатую статью УК. Общий срок — 25 лет исправительно-трудовых лагерей и пять лет «по рогам», то есть лишения избирательных прав. Все трое получили одинаково, несмотря на то что Володя Шорин, по кличке «Барон», смог вынести и бессонницу, и побои и ничего не подписал. Позже, когда они вернулись, Усков тщательно скрывал, что сидел как «враг народа», он говорил, что отбывал срок за грабеж с «мокрухой». И Володька Шорин, заядлый охотник и рыболов, сказал мне просто: — Знаешь, Эдик, ненавидел я их сильно, поэтому не боялся. Не сломили они меня. В день приговора Виталий смотрел на трех солидных полковников в глаженых мундирах и не мог понять: неужели эти умудренные жизнью, пожилые мужики всерьез воспринимают происходящее, губят жизнь трем двадцатилетним мальчишкам. Ему, студенту Экономического института, театральному осветителю Володе Шорину и не работающему Ускову. Оказывается, делали они это вполне серьезно. А дальше — два месяца в общей камере внутренней тюрьмы, потом этап, почему-то Владимирская спецтюрьма на одни сутки. И снова этап. В вагонной камере всего трое, несмотря на то что остальные камеры забиты под завязку. Террористов и убийц возили отдельно. Потом знаменитый Степлаг. И каторжный номер на спину и на грудь — СЖЖ-902. Там Виталий встретил ребят, исчезнувших с Бродвея: Юру Киршона, сына знаменитого драматурга, и Алика Якулова, первого лауреата конкурса молодых скрипачей в Праге. Они тоже были очень опасны режиму. Студент Литинститута и выпускник консерватории. Всякое было в лагере. И ужасное и хорошее. Человек приспосабливается ко всему. Работа, БУР (барак усиленного режима), редкие письма и передачи. Я не буду повторяться, о лагерной жизни писали много. — Знаешь, как я узнал, что наступили перемены? — спросил Виталий меня. — Конечно, нет. — Я увидел, как майор, начальник оперчасти лагеря, выносит из кабинета вверх ногами портрет Берия. Вот тогда я понял, что начались перемены. В апреле 1955 года, Гармаш тогда находился в Лефортовской тюрьме, его вызвали и сказали: — Ваше дело пересмотрено, вы свободны. Он вышел в московский апрель, в солнце, в бушевание капели в лагерном комбинезоне со споротыми номерами. Жизнь развела нас, и мы не встретились раньше. Ивот мы сидим в баре Дома кино и Виталий рассказывает мне свою длинную печальную историю. Седой человек, в очках с толстыми стеклами, один из крупнейших наших специалистов-статистиков, а я все равно вижу стоящего у ресторана «Киев» молодого веселого московского парня. Жизнь не сломила его, человек все равно сильнее обстоятельств, хотя обстоятельства эти не всегда добры к нему. Кровавая оттепель На бывшей Пушкинской, а ныне Большой Дмитровке, из здания Совета Федерации густо повалили новые российские сенаторы, похожие на банщиков, вышедших прогуляться в выходной день. Охрана оттесняла прохожих с тротуара, опасаясь за бесценную жизнь областных паханов. Я подождал, когда власть влезет в свои иномарки, и пошел в сторону улицы Москвина, то бишь Петровского переулка, свернул в него и увидел настежь распахнутую дверь подъезда, в котором прожил пятнадцать лет, за вычетом достаточно долгой военной службы и работы на Севере и целине. Я вообще-то не склонен к посещению старых пепелищ. Прошло и кануло. Осталось в памяти собранием смешных и грустных историй. Но все же зашел в подъезд и удивился, увидев, как реставраторы отмыли стены, закрашенные, как я помню, казарменной зеленой краской, и появились на ней рисованые медальоны с виноградом, чашами и еще чем-то неразборчивым. Ремонт в подъезде шел по первому банному разряду, видимо, дом готовили под заселение для новых хозяев жизни. На дверях нашей коммуналки еще оставалась цифра 20, а под ней каким-то чудом сохранился частично список жильцов. «…цкий — 3 звонка» — все, что осталось от меня на этой двери. Я толкнул ее, и она поддалась со знакомым мерзким скрипом. В длинном коридоре два здоровенных мужика волокли какие-то мешки в сторону бывшей кухни. Из дверей комнаты, где когда-то проживал главный хранитель Музея искусств Андрей Александрович Губер, вышел персонаж с повадками бригадира и спросил меня просто и незатейливо: — Тебе чего, мужик? — Понимаешь, жил я здесь раньше. — Понял, — обрадовался бригадир, — решил зайти попрощаться. — Вроде того. — А где твоя комната? — Вот она, — показал я на дверь. — Иди, мужик, посмотри, мы там еще ничего не трогали. Пустая комната показалась мне большой и незнакомой. Два окна, выходящих на север, ниша, где когда-то стоял платяной шкаф, куча мусора в углу. Вот и все, что осталось от моей прежней жизни. Я поселился в этой комнате, когда мне было восемнадцать, и ушел из нее в тридцать три, ни минуты не сожалея об этом. Но все-таки жили в ней воспоминания, голоса ушедших друзей, лица веселых подруг. Здесь, вернувшись из командировки, писал я свои незатейливые очерки, здесь сочинил первый киносценарий и первую книгу. У этого подъезда зимой 57-го я вылез из такси, поднялся по ступенькам и открыл своим ключом дверь. Все, как в фильме «Жди меня», имевшем огромный успех у военной молодежи. Я повесил шинель на вешалку у двери и затащил в комнату два здоровых чемодана, которые у нас назывались «Великая Германия». На достаточно крупную сумму восточных марок, выданных мне при увольнении, я прилично прибарахлился. Я доставал пиджаки и брюки и вешал их в шкаф, когда в дверь моей комнаты постучали и вошел сосед, слесарь Сашка. — Ты приехал? — спросил он. — Как видишь. — В отпуск или совсем? — Вроде совсем. — Значит, в народное хозяйство, — щегольнул он эрудицией. — Именно. — Тогда отдай мне шинель. — А зачем она тебе? — Я из нее куртку сделаю, а то не в чем на работу ходить. — Бери. — А кителек тебе тоже не нужен? — Нужен. — Ну, ладно, — милостиво согласился он, — я пока шинель возьму. Я отстегнул погоны, бросил их в шкаф и отдал соседу шинель. Пока я разбирался с вещами и собирался отправиться на кухню за горячей водой для бритья, именно на кухню, так как в ванной комнате проживала семья из четырех человек местного слесаря-сантехника, ко мне в комнату ворвалась разгневанная мать слесаря Саши. И, словно видела меня только вчера вечером, заверещала: — Ты зачем ему шинель отдал, ирод?! — Так ему не в чем на работу ходить, Ольга Ионовна, — пытался оправдаться я. — Пропить ему нечего, — зарыдала почтенная старуха и удалилась, хлопнув дверью. Вечером, когда я одевался «во все дорогое», как любил говорить мой приятель Рудик Блинов, чтобы отбыть в кафе «Националь», где мои кореша уже накрыли поляну в честь моего возвращения к «мирной» жизни, хлопнула входная дверь, в коридоре повис пролетарский мат, в котором упоминались шпиндель, резец и еще ряд предметов слесарной оснастки. Это вернулся сосед Сашка, видимо удачно продавший мою шинель. Мат прерывался криками Ольги Ионовны, женским плачем и звоном разбитой посуды. Я вышел в коридор, застегивая пальто, и увидел стоявшую у телефона соседку, интеллигентнейшую Раису Борисовну, жену Губера. Она прижала ладонь к щеке и сказала трагически: — И так каждый день. Когда же это кончится? — Проспится и затихнет, — ответил я. — Ой, — сказала соседка, — вы вернулись? Надолго? — Навсегда. — Слава Богу, может, вы его угомоните. Я открыл дверь, вышел на площадку и понял вдруг, что вернулся навсегда. Залогом тому стала моя щегольская шинель, пропитая слесарем Сашей. Я буду рассказывать в этом очерке о времени, которое тогда называли оттепелью. О том, как после сталинской диктатуры интеллигенция мечтала о социализме с человеческим лицом. Лик сей для меня загадочен и по нынешний день, хотя в те годы я в него свято верил. Я не буду поднимать архивы пленумов ЦК КПСС, в которых описывается борьба Хрущева с антипартийной группой. Пусть это делают историки. Много позже я узнал о событиях 57-го года, о сваре на пленуме и Президиуме ЦК КПСС непосредственно от людей, оставивших Хрущеву власть, — маршала Жукова и генерала Серова. В том же году ходили разговоры, что Никита Хрущев в обмен на документы о репрессиях на Украине, где он был в те годы первым секретарем украинских большевиков, отдал хохлам Крым. Я же расскажу о том, что видел в те годы человек далекий от политики и любящий литературу, кино и журналистику. Самое ошеломляющее для меня заключалось в том, что вернулся я практически в другую страну. Я шел по улицам и замечал, что чего-то не хватает. И только через несколько дней понял, что исчезли плакаты с ликом Сталина. Раньше они торчали в витринах каждого магазина и были строго отобраны по тематике. Так, в Елисеевском красовался плакат, на котором седоусые колхозники вручали вождю плоды своего труда. Протягивали снопы пшеницы и корзины с фруктами. В магазинах игрушек Сталин ласково улыбался детям. А в книжном был самый серьезный плакат. Великий мыслитель склонился над столом с ручкой в руке, и все это на фоне монументального сталинского труда «Марксизм и вопросы языкознания». Портреты и скульптуры поверженного вождя стремительно исчезли с улиц и площадей всей необъятной Родины. Я помню единственное последствие исторического ХХ съезда партии, докатившееся до города Галле, расположенного в Восточной Германии. Ночью меня разбудил дежурный по роте и срывающимся от волнения голосом сообщил, что только что в казарму влетел капитан, пропагандист политотдела — была раньше такая должность в вооруженных силах, — и срывает со стены все изображения Сталина. Дежурный доложил, что на всякий случай он поднял отдыхающую смену дневальных и распечатал ружпарк. Я быстро оделся и, ошеломленный этим известием, выдвинулся, как пишут в боевых донесениях, в расположение своей роты. Войдя в ленинскую комнату, я увидел потного капитана Анацкого, который срезал последний портрет вождя со стенгазеты. — В чем дело? — спросил я. Капитан ошалело посмотрел на меня, потом на четверых громадных бойцов рядом со мной и сказал трагическим шепотом: — Сталин — враг народа, его разоблачили на съезде. Завтра все узнаете. Я попросил его остаться, позвонил в штаб, где меня немедленно соединили с замполитом части, который, как ни странно, бодрствовал в это неурочное для политработников время, и он достаточно резко приказал мне не препятствовать работе политаппарата. Дежурный по части, у которого я хотел прояснить обстановку, ответил мне с армейской простотой: — Да пошли они все… Ложись спать, завтра все узнаем. Армия была в те годы практически закрытым государственным институтом. Те, кто служил в Союзе, уходили вечерами в город, могли общаться с разными людьми, получать определенную информацию. Служба за границей полностью отрезала нас от любых новостей, даже письма из дома просматривались военной цензурой. Из всех докладов и решений ХХ съезда до нас донесли главное. Страна вступает в новый исторический этап, и ей хотят навредить поджигатели войны, поэтому надо усилить боеготовность частей и подразделений. Правда, меня мало интересовали партийные разборки, потому что шла подготовка к тактическим учениям, на которые должен приехать генерал-полковник Гречко. Оторванность от тех событий, которые так близко к сердцу принимались в стране, мое мировоззрение, оставшееся на уровне 53-го года, заставили меня по возвращении домой заново постигать сложную науку московской жизни. Тогда я еще не мог понять, что время стремительно и переменчиво. Я уезжал из одной Москвы, а вернулся совсем в другую. Годы, которые я не видел города, изменили его дух и быт до неузнаваемости. Оттепель. Странное слово, перенесенное из романа Ильи Эренбурга на человеческие и общественные отношения. Странное слово. Странное время. Москва заговорила, правда, еще боязливо, с оглядкой. На кухнях, в редакциях, в заводских курилках. Ах, этот свежий ветер! Пьянящий и обманный. Через несколько лет для многих из нас он обернется горем. Дорого заплатило мое поколение за этот в общем-то эфемерный глоток свободы. Но все-таки этот глоток люди сделали, почувствовали вкус свободы. И в этом главная заслуга ХХ съезда и политической линии Хрущева. Я приходил в компании, слушал, о чем спорят люди, и мне становилось не по себе. Раньше за это немедленно волокли на Лубянку, где выписывали путевку на продолжительный отдых в «солнечную» Коми. Люди говорили об ужасах сталинских репрессий, о том, как член Президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева пробовала прекратить выступления возмущенных тяжелой жизнью рабочих московских заводов, осуждали наше вторжение в Венгрию. Они осуждали солдат, не имея никакого представления о том, что такое приказ и воинский долг, о том, что армия живет по другим законам и исповедует другие ценности. Однажды Валера Осипов, тогда уже знаменитый московский журналист, спецкор «Комсомолки», приволок меня в какую-то огромную квартиру на Таганке, где собирались художники, молодые журналисты, поэты. Много пили, много спорили, читали стихи. Мне особенно запомнились вирши, которые прочел Саша Рыбаков, молоденький студент журфака МГУ. Я не помню их все, не помню фамилию автора, хотя Саша называл ее. В память врезалось одно четверостишие, удивительно точно определявшее время, в которое мы жили тогда. О романтика! Синий дым! В Будапеште советские танки, Сколько крови и сколько воды Уплывет в подземелья Лубянки. В этой последней строчке я почувствовал некое предупреждение, которое посылал всем нам неизвестный поэт. Но ощущение это было коротким и стремительным, как вспышка зажженной спички в темной комнате, о которой не стоит долго вспоминать. Все это придет позже. А пока в Москве свершилось три культурных события. Гастроли Ива Монтана, пьеса Николая Эрдмана «Мандат» на сцене Театра киноактера и роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Приезд французского шансонье в страну победившего социализма был похож, как писали в свое время Илья Ильф и Евгений Петров, «на приезд государя-императора в город Кострому». Таких сенсационных гастролей не было в Москве больше никогда. Они были обставлены на государственном уровне. Руководству страны приезд Ива Монтана и его знаменитой жены Симоны Синьоре был необходим, чтобы хоть как-то повлиять на общественное мнение Запада после подавления венгерской революции. Монтан, человек близкий к самой могучей в Европе— французской компартии, должен был доказать миру, что никакого железного занавеса не существует, что общество наше открыто и справедливо, что советский социализм — оптимальное государственное устройство. Визит французского шансонье был обставлен по-царски. Ему были отданы лучшие залы. Наш шансонье Марк Бернес исполнял по радио песню, посвященную французскому гостю, «Когда поет далекий друг». Срочно была издана книжка Ива Монтана «Солнцем полна голова». Наверно, после похорон Сталина Москва не знала такого столпотворения. На сцену выходил киноактер, которого мы знали по нескольким фильмам, шедшим в нашем прокате. Особенной популярностью пользовалась лента «Плата за страх». Он был одет в элегантный твидовый пиджак и свитер. И мы, привыкшие к вытертым фракам и галстукам «бабочка» наших певцов, в восторге глядели на человека, поднявшегося на сцену прямо из зала. Ну и, конечно, его песни, их мелодии после многолетнего концертного аскетизма казались всем подлинным откровением. Сам Ив Монтан был потрясен такой встречей. В одном из своих интервью газете «Монд» он рассказывал, что его поразил концерт в Лужниках, огромный зал, к которому он не привык, и масса людей. Действительно, на концерте присутствовало около десяти тысяч зрителей. Мой старинный друг Жорж Тер-Ованесов, с огромным трудом прорвавшийся на этот концерт, рассказывал мне, что Монтан из зала казался совсем маленьким, но акустика была отличной и голос его звучал превосходно. Зал ревел, спутницы Жоржа умилялись до слез. Одна из них, известная в те годы московская львица Таня Щапова, сказала с придыханием: — Все бы отдала, чтобы получить его автограф. В руках, унизанных не слабыми кольцами, она сжимала заветную книжку «Солнцем полна голова». Жорж вспомнил, что когда-то переплывал под огнем Одер, таща за собой полузахлебнувшегося языка, встал и пошел к сцене. Армейским разведчикам часто сопутствует удача, он встретил администратора концерта, своего доброго знакомца по кафе «Националь», и попросил его помочь получить автограф. — Нет вопросов, — ответил тот и отвел Жоржа за кулисы. В те годы звезд еще не охраняли громадные амбалы из никому не ведомых агентств. Монтан отдыхал в антракте, но встретил моего друга приветливо и с удовольствием подписал книжку. Жорж вернулся к дамам и был, естественно, восторженно встречен. А через два дня в кафе «Националь» мне рассказали, что Тер-Ованесов давно дружит с самим Ивом Монтаном, он принимает его в любое время и выполняет все его просьбы. Оттепель заканчивалась, в газетах замелькали статьи, в которых советский народ осуждал антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и «примкнувшего к ним Шепилова». Даже анекдот появился: «— Какая самая длинная фамилия в СССР? — Примкнувшийкнимшепилов». А Юрий Карлович Олеша, выпив рюмку коньяка за нашим столиком в «Национале», прочитал нам веселое четверостишие: Однажды, выпить захотев, Зашли в знакомый ресторан, Атос, Портос и Арамис И к ним примкнувший Дартаньян. Потом был Международный фестиваль молодежи и студентов. Самый веселый и красивый праздник, который мне пришлось увидеть в Москве. Две недели город жил в праздничном угаре. Люди без всяких установок партийных и комсомольских организаций выходили на площади слушать джаз, петь, танцевать. Это, видимо, и испугало партийных лидеров, гайки начали закручивать сразу после окончания праздника. Позже в Москве пройдет еще один фестиваль, но это будет четко организованное политическое мероприятие, скучное и неудачное. Кстати, во время проведения Московского фестиваля в 1957 году в городе практически не было уголовных происшествий. Никто из гостей не пожаловался на то, что юркие щипачи обчистили карманы, домушники «слепили скок» в их гостиничных номерах, а гопстопники в темных переулках поснимали с иностранцев фирменные шмотки. В чем был секрет этого, мне рассказал начальник МУРа, покойный Иван Васильевич Парфентьев. Те, кто внимательно следит за процессами, происходящими в криминальном мире, могут точно определить, как он эволюционирует вместе с социальными и политическими изменениями в обществе. Конец сталинского режима, амнистия 1953 года, пересмотр целого ряда уголовных дел, облегчение режима содержания в местах заключения не разрядили, а, наоборот, усложнили оперативную обстановку в стране. Как никогда, вырос в те годы авторитет уникального преступного сообщества «воров в законе». В преддверии фестиваля партийные лидеры провели совещание с работниками милиции, где пообещали массовое изъятие партбилетов и снятие погон. Что оставалось делать сыщикам? Парфентьев с группой оперативников собрал на даче в Подмосковье московских «воров в законе» и криминальных главарей близлежащих областей. Комиссар Парфентьев говорил всегда коротко и энергично, употребляя ненормативную лексику. Он разъяснил уркаганам сложное международное положение и пообещал, если они не угомонятся на время международного торжества, устроить им такое, что сталинское время они будут вспоминать, как веселый детский новогодний утренник. Уголовники в те годы свято блюли свои законы и дали слово просьбу сыщиков не только исполнить, но и со своей стороны приглядывать за залетными. Правда, после фестиваля все пошло по-прежнему, но это уже другой рассказ. Никита Хрущев был человеком неожиданным. Запуск первого советского спутника был грандиозным успехом нашего ракетостроения. Новые боевые средства вполне могли донести ядерные головки в любую точку земного шара. Теперь мнение Запада не имело для генсека никакого значения. Яркой иллюстрацией его отношения к международному общественному мнению может послужить дело Пастернака. Сознаюсь сразу, к своему стыду, я в те годы не читал ничего из того, что написал этот великий поэт. Да и где я мог это увидеть? В армейской библиотеке, где стояли поэтические сборники Константина Симонова (которого я, кстати, очень любил в те годы), Николая Грибачева, Анатолия Сафронова… До армии я увлекался запрещенной поэзией Ивана Бунина, Николая Гумилева и полузапрещенного Сергея Есенина. Так что известие о Нобелевской премии и идеологической диверсии я принял на веру. В ноябре меня вызвал главный редактор «Московского комсомольца» Миша Борисов и сказал: — Поедешь в Театр киноактера, там собрание творцов. Будут осуждать Пастернака. Сделай хороший репортаж. — Да я, Миша, должен сделать очерк о Школе милиции. — Твоя школа никуда не убежит. Пастернак сегодня важнее. Я вышел от главного и столкнулся в коридоре с нашим автором, молодым писателем Левой Кривенко. — Ты что, завтра уезжаешь? — спросил он. — Еду на собрание в Театр киноактера. — Будешь писать о Пастернаке? — Такое задание. — А ты знаешь, что Константин Георгиевич Паустовский осуждает кампанию травли Бориса Леонидовича? Паустовский был моим любимым писателем и непререкаемым нравственным авторитетом. — Лева, у тебя есть стихи Пастернака? — Конечно. А ты их не читал? — Он посмотрел на меня, как на воскресшего мамонта. — Пошли, я тебе дам. Всю дорогу до его дома, а жил он напротив редакции, на другой стороне бульвара, он сокрушался: — Ты же любишь поэзию. Гумилева наизусть шпаришь — и не читал Пастернака. Всю ночь я читал стихи и никак не мог понять, за что ополчились на такого прекрасного поэта. На следующий день на судилище я увидел властителей дум, в хорошо сшитых костюмах, которые, брызгая слюной, обливали грязью своего талантливого коллегу. С тех пор я перестал читать книги многих наших авторов, я слишком хорошо помнил, что они говорили осенью 1958 года. Материал я не написал и честно сказал об этом Борисову. Он выматерился, поставил в номер тассовку, а мне сказал: — Мог бы имя себе сделать. Нобелевская премия за 1958 год была присуждена Борису Пастернаку «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». С присуждением высокого отличия Пастернака поздравил телеграммой секретарь Нобелевского комитета Андрес Эстерлинг. 23 октября 1958 года Борис Леонидович шлет ответную телеграмму: «Бесконечно благодарен, растроган, горд, удивлен, смущен». Заметьте, в формулировке о присуждении премии не упоминается крамольный по тем временам роман «Доктор Живаго». Кажется, все наши деятели литературы и искусства должны были бы с радостью принять высокую оценку труда своего коллеги. Но Никита Хрущев воспринял это известие как страшную идеологическую диверсию западных спецслужб. Да и действительно, кто такой Пастернак? Не орденоносец, не лауреат, не секретарь Союза советских писателей. Сидит себе в Переделкино и пишет стихи из дачной жизни. И вдруг ему, а не героям социалистического реализма, как Федин, Марков, Бубенов, Сафронов, такая честь. И началась организованная на государственном уровне травля. Сегодня, когда о деле Пастернака написаны сотни страниц, все почему-то вспоминают цековского идеолога Д.Поликарпова, Г.Маркова, К.Федина, но не они были главными: борьбу с беззащитным поэтом возглавил тогдашний председатель КГБ Александр Шелепин, зять генсека Алексей Аджубей и главный комсорг страны Сергей Павлов. Не так давно я услышал, что Роберт Кеннеди говорил о том, как ЦРУ специально передало материалы на А.Синявского и Ю.Даниэля нашим спецслужбам, чтобы начать еще один виток утихающей «холодной войны». С Борисом Леонидовичем Пастернаком случилось практически то же самое. После присуждения ему Нобелевской премии американский госсекретарь Джон Фостер Даллес выступил с заявлением, что премия Пастернаку была присуждена за отвергнутый в СССР и опубликованный на Западе роман «Доктор Живаго». Вспомните формулировку Нобелевского комитета, — там ничего не говорится об этом романе. Так прекрасный поэт стал разменной монетой в грязной политической игре. В те годы я много ездил по стране. География комсомольских ударных строек была самой неожиданной. Возводили Красноярскую ГРЭС и Братскую ТЭЦ, прокладывали дорогу Абакан — Тайшет, возводили комбинат в Джезказгане. Мы писали репортажи и очерки не просто со строек, это были поля сражения за социализм с человеческим лицом. Люди работали с полной отдачей. ЦК ВЛКСМ докладывал политбюро о новых победах и взятых рубежах. Докладывали обо всем, забывая, в каких условиях живут те, кто брал эти рубежи. Но с точки зрения московских функционеров жизнь на морозе в палатках, балках и вагончиках — это главный признак романтики. В 1959 году я уехал из Джезказгана, интернациональной молодежной стройки. Ездил я туда не за очерком и не за статьей, а за материалами для доклада какого-то босса из ЦК ВЛКСМ. Но именно там ребята-комсомольцы показали мне, в каких отвратительных условиях они живут и какой гадостью их кормят в столовых. А потом показали мне городок болгар-строителей, с прекрасной столовой и свежим питанием. Я исписал целый блокнот, вернулся в Москву и рассказал об этом главному редактору журнала «Молодой коммунист» Лену Карпинскому. Он сказал мне просто: — Тебя за этим посылали? — Нет. — Нужные данные привез? — Да. — Свободен. А через неделю в Джезказгане начались беспорядки, жестко подавленные внутренними войсками. Прошло несколько лет, и на этот раз армия кроваво подавила недовольство рабочих в Новочеркасске. Демонстрацию рабочих расстреляли прямо на площади перед горкомом партии. Эфемерная свобода, чуть забрезжившая в 1957 году, завершилась. В своих поездках на стройки Севера и Дальнего Востока, на целину и в Каракумы я поражался мужеству и трудолюбию людей, приехавших сюда со всей страны не за длинным рублем, а по убеждениям. Я видел, как они вкалывали, подгоняя завершение объектов к определенным датам по требованию партийного начальства. Время то кануло безвозвратно, осталось в далеком прошлом, как моя восемнадцатиметровая комната на улице Москвина (ныне Петровский переулок). Теперь у нас свобода, время никому не ведомых реформ. Но я вспоминаю 57-й год, всеобщую эйфорию и ожидание счастливых перемен. Вспоминаю, как это начиналось и чем закончилось. Не хочется дважды входить в одну реку. А что делать? Сходите на Дмитровку, постойте у Совета Федерации, вглядитесь в лица наших нынешних сенаторов, а потом подумайте, что же нас ждет впереди. Мусор на тротуаре Меня всегда поражала очередь в Мавзолей. Здоровенная гусеница из людей загибалась к Александровскому саду и, несмотря на погоду, истово выстаивала томительные часы, чтобы за полминуты пройти мимо подсвеченного саркофага с тем, что осталось от человека, изменившего мир. Я попал туда случайно вместе с участниками Международного форума молодежи и студентов. Под бдительными взглядами офицеров охраны мы прошли мимо общесоюзного дорогого покойника и вышли на воздух. Надо сказать, что в эту минуту я почувствовал облегчение. Случись это год назад, мне удалось бы увидеть и тело Сталина. Восемь лет на Мавзолее было написано два имени: «Ленин, Сталин». Восемь лет в кругах, близких к политбюро или президиуму ЦК, я уже не помню, как в те годы именовалась эта могущественная структура, шли споры о выносе тела Сталина из главной усыпальницы страны. Естественно, что все происходящее держалось в строжайшем секрете, но тем не менее информация просочилась и на площади начали собираться люди. Одни пришли, чтобы выразить свое возмущение тем, что любимого вождя выносят из Мавзолея, другие — увидеть, как свершится еще один акт справедливости. Но милиция быстро освободила площадь, объявив народу, что вечером начнется подготовка к праздничному параду. Вечером солдаты полка специального назначения КГБ СССР — их почему-то в народе именовали кремлевскими курсантами — вырыли могилу у Кремлевской стены и выложили ее десятью бетонными плитами. Офицеры комендатуры вместе с научными работниками Мавзолея вынули тело Сталина из саркофага и уложили его в обыкновенный дощатый гроб, обитый красной материей. С кителя генералиссимуса спороли золотые пуговицы и вместо них пришили обыкновенные латунные. А по площади в этот момент шла, тренируясь перед парадом, колесная техника. В двадцать два часа прибыли члены комиссии по захоронению во главе с ее председателем Шверником. И ровно через пятнадцать минут тело Иосифа Виссарионовича было предано земле. А по площади, сияя фарами, шли тяжелые машины. У власти были все основания опасаться антиправительственных выступлений. У всех в памяти были живы воспоминания о тбилисских событиях, которые случились в третью годовщину смерти Сталина. Пятого марта в Тбилиси начались студенческие демонстрации. Молодежь шла по улицам, неся портреты Сталина. Власть смотрела на это снисходительно. Действительно, люди идут к памятнику великому вождю на берегу Куры, чтобы отдать ему положенные почести, но с каждым днем ситуация в городе накалялась все больше и больше. Седьмого марта на улицу вышли студенты всех тбилисских институтов и учащиеся школ. «Да здравствует великий вождь товарищ Сталин!» «Не позволим пачкать светлую память вождя!» На следующий день толпа начала захватывать автобусы и автомашины. На площади Ленина шел импровизированный митинг, на котором комсомольцы и коммунисты Грузии поклялись умереть за дело Ленина — Сталина. Толпа устала от демонстраций и разговоров. Эмоциональные кавказцы требовали более решительных мер. Толпа атаковала здание штаба Закавказского военного округа. Спасли его только на совесть сработанные железные ворота и суровые солдаты, подогнавшие к забору БТРы. Но тут кто-то крикнул: «Все к Дому связи!» И толпа ринулась, как и положено, захватывать почту и телеграф. Начали избивать и обезоруживать солдат роты охраны. Те были вынуждены открыть огонь на поражение. Только это и смогло остановить толпу. Ну а дальше все происходило, как всегда. На площади Ленина танки разогнали митинг, подоспевшие воинские части навели надлежащий порядок. Сутки в городе длилось чрезвычайное положение, потом его отменили. Именно этого и опасались отцы народа в день перезахоронения Сталина. Но проходили по площади колесные боевые машины, готовые в любую минуту по команде развернуться и поддержать огнем подразделения милиции, а Москва жила своей обычной вечерней жизнью. «…А город подумал, ученья идут». Пожалуй, 30 октября 1961 года стало завершающим этапом похорон Иосифа Сталина. Итак, восемь лет назад. Четвертого марта 1953 года по радио прозвучало правительственное сообщение от имени ЦК КПСС и Совета министров: «В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве на своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи». И сразу же зазвучала траурная музыка. Позже я выяснил, что сообщение это читал не Юрий Левитан, а Юрий Ярцев. Но голоса их были чудовищно похожи. Или мы просто привыкли к тому, что все самое важное, о чем было разрешено знать рядовым радиослушателям, читал Юрий Левитан. Но в этот день руководство радиокомитета не допустило его к микрофону. Совсем недавно началось дело врачей-отравителей, и, как мне рассказали знающие люди через много лет, великий вождь готовил новую глобальную депортацию. Еврейское население страны должно было отбыть в «телятниках» в Среднюю Азию, на строительство великой сталинской стройки — Каракумского канала. Но в тот день мы ничего не знали и посчитали, что о болезни Сталина нам сообщил Левитан. Москва прилипла к радиорепродукторам. Такое я видел только во время войны, когда зимой 41-го прозвучали слова Юрия Левитана, читавшего сообщение «В последний час». В нем было рассказано о начале нашего наступления под Москвой и о разгроме немецких дивизий. В то время радиоприемники были конфискованы, люди получали положенную информацию из квартирных радиоточек. В нашем подъезде точки эти работали не у всех. Что-то случилось от морозной зимы. Нам повезло, заслуженный репродуктор, похожий на изогнутую почерневшую сковороду, в нашей квартире работал. Соседи пришли к нам, и по сей день я, военный пацан, помню их лица — плачущих от счастья женщин и гордых за свою армию стариков. Как только 4 марта передали правительственное сообщение, в коридоре нашей коммуналки заголосили соседки. Общенародное горе объединило их, отодвинув на время кухонные войны из-за лишней конфорки на газовой плите и бельевых веревок. Когда я вышел на кухню с чайником в руке, то увидел картину всеобщего единения. Три злейших врага в рядок сидели, обнявшись, посередине кухни на старых венских стульях. Они с подозрительным неодобрением посмотрели на меня. Видимо, в этот день я тоже должен был безутешно рыдать. О своем отношении к Иосифу Сталину и его кончине я расскажу после небольшого отступления. Москва. 99-й год. 1 Мая. Тверская. Я подошел к Пушкинской площади как раз в тот момент, когда мимо шла колонна левой оппозиции, густо нашпигованная портретами Сталина. Несли их совсем старые люди, для которых Сталин на всю жизнь остался олицетворением их молодости, Великой Победы, романтики строек, монолитных демонстраций на праздники, ежевечернего дворового единства. Сталин для них был символом военных и трудовых успехов, их гордостью. Все, что сделали в свое время эти мужественные люди на фронте, в тылу на военном производстве, они с радостью приписывали Сталину, таким образом отнимая у себя ощущение победителя. Победил вождь! А они только помогали ему. Но тем не менее не надо осуждать сегодня этих людей. Не надо смеяться над их песнями и тихой радостью общественных шествий. Это они построили фабрики, заводы, комбинаты и электростанции, которыми по сей день торгуют наши новоявленные лидеры, а воздвигнув их, защитили, когда началась война. А потом об их Победу и Труд начали вытирать ноги в газетах и телепрограммах, и они вспомнили о вожде. Сталин над колонной ветеранов — это их протест против нашей неблагодарности. Шла колонна старых людей. И вдруг меня кто-то хлопнул по плечу. Я обернулся и увидел Юру Сомова, человека с удачной судьбой. В свое время, когда мой покойный отец еще не попал под подозрение как враг народа, мы жили на даче в Барвихе. Там я и познакомился с Юрой Сомовым, номенклатурным сыном. Папа его был какой-то крупный чин в Министерстве внешней торговли. — Ты подумай, — засмеялся он, — несут портреты Сталина. Совсем выжило из ума наше старичье. Да когда он умер, этот день стал для меня самым счастливым. Ты это понимаешь? — Нет, — твердо ответил я. — Вся наша компания была счастлива, мы собрались у меня, принесли хорошие пластинки, танцевали, радовались. Мы-то все знаем про эту сволочь. Все, даже больше того, что Никита рассказал на съезде. Я вообще всегда, со школы, был антисталинистом. И я почему-то вспомнил далекий 51-й год. Последнее дачное лето. Юру и его замечательную компанию номенклатурных детей, которым было запрещено не только разговаривать со мной, но и здороваться. Видимо, тогда он стал борцом со сталинизмом. Я знал еще несколько людей, которые говорили о том, что март 53-го стал для них самым счастливым днем. О том, что ненависть к Сталину они впитали с материнским молоком, что, еще будучи пионерами, они чуть ли не готовили заговор против человека, поправшего ленинские нормы. Тогда это было очень современно — говорить о том, что Сталин до неузнаваемости исказил генеральную линию Ильича. В этом его главная вина. Правда, говорили это персонажи в буфете Центрального Дома литераторов, сами они были люди пишущие, достаточно известные, а самое главное — весьма благополучно жившие в годы тоталитарного режима, поэтому я им просто не верил. В 60-е это считалось весьма модным. Когда началась война, я был сопливым пацаном, но как и все мальчишки с нашего двора, свято верил, что Сталин, аки Кутузов, специально заманивает немцев к Москве, чтобы разгромить их. После зимних каникул к нам в класс на один из уроков пришел молодой лейтенант с орденом Красного Знамени. Левая рука у него еще висела на перевязи. Он рассказал нам, как Сталин разгромил немцев под Москвой. Он сам был участником этих боев, стойко сражался, получил немецкую пулю, но говорил почему-то не о стойкости своих бойцов, а о подвиге великого вождя. Сталин сопровождал все наше детство. Когда в школе нам давали на завтрак бублик и конфету, то говорили, что Сталин недоедает, а все отдает детям. Нас настолько приучили к тому, что всему хорошему мы обязаны лучшему другу детей товарищу Сталину, что знаменитый лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» стал для нас нормой жизни. В кинотеатрах мы смотрели «Боевые киносборники», в которых взвод наших бойцов с именем Сталина побеждал несметное количество немцев. «Оборона Царицына», «Сталинградская битва», «Падение Берлина», «Клятва»— все эти фильмы формировали наше сознание. Сталин построил могучую индустрию. Сталин победил в Великой Отечественной войне. Сталин восстановил разрушенное хозяйство страны. Сталин ежегодно снижал цены на товары. Мы знали о сталинских ударах на фронте и верили в сталинские послевоенные пятилетки. Это было похоже на сеанс массового гипноза. Сталин был непогрешим. Виноватыми во всем оказывались только мы. Как в старом цирковом анекдоте: «Весь зал в дерьме, а я в белом костюме». Но вернемся в март 53-го на кухню нашей коммуналки. Не скрою, я был поражен и расстроен до крайности известием о болезни, а потом и о смерти Сталина. Кроме того, что он должен был возглавить крестовый поход против поджигателей войны и победить американский империализм, добиться небывалого роста производства и невиданных урожаев, было еще одно дело, которое мог решить только товарищ Сталин. Я не буду описывать историю моего отца, весьма типичную для того времени. Он служил в военной разведке, его не успели арестовать, он предпочел застрелиться. Два года тянулось следствие. Жить с клеймом подследственного в те годы было не очень уютно. Сталин для меня и моей матери был последней инстанцией. Но как сделать, чтобы письмо попало к нему в руки? И выход был найден. Надо сказать, что маменька моя была дама весьма красивая и светская, знакомых у нее было предостаточно. И выяснилось, что одна из ее подруг, некая Ирина Михайловна, была любовницей секретаря вождя, генерала Поскребышева. Письмо было решено передать ему. В какой момент — в постели, в ванной, за столом, — не знаю, но это было единственной надеждой. И она рухнула. Ушел из жизни человек, вера в справедливость и мудрость которого с детства жила в моем сердце. Больше надеяться не на кого и не на что, и перспективы рисовались мрачные. Видимо, личные неприятности заслонили для меня общенародное горе. Что делать, человек эгоистичен. Через несколько лет, в институте, я смотрел фильм, кажется, он назывался «Город слепых», суть его заключалась в том, что в одну минуту все жители города ослепли. Я помню отрешенные лица на экране, нечеткие движения, протянутые с мольбой о помощи руки. Когда я увидел это, почему-то вспомнил людей на улицах Москвы в день известия о смерти Сталина. Они шли по тротуару, как слепые, толкая друг друга, но на это уже никто не обращал внимания. Горе для всех было слишком сильным, я бы сказал, испепеляющим. Мне рассказал товарищ, писатель Валентин Лавров, что он сам видел, как школьная учительница, у которой в 37-м погибла в лагерях почти вся семья, узнав о смерти Сталина, билась головой о постамент его гипсовой фигуры, стоявшей в школьном коридоре, и рыдала. Поздно вечером я зашел в Елисеевский магазин. За прилавками стояли продавщицы с красными от слез глазами. Покупателей было совсем немного, поэтому три человека с узнаваемыми лицами были особенно заметны. Три звезды МХАТа. Трое самых известных актеров: Ливанов, Грибов и Яншин. С театрально-трагическими лицами они закупали напитки и закуски. Смотреть на них без слез было невозможно. Три театральные звезды являли собой олицетворение людского горя. А через несколько минут я увидел их у машины в Козицком переулке, они, улыбчивые и радостные, грузили в такси коробки и свертки, на их лицах было написано предвкушение веселого застолья. Мой товарищ, неплохой боксер, Коля Мельников в те самые дни находился в лагере в Коми. Он не был врагом народа. Получил срок как уголовник за разбой. На людном в те годы катке на Петровке, 26, он подрался с компанией каких-то ребят, пристававших к его девушке. Коля прилично отделал их. Он был перворазрядник, с боевым весом восемьдесят шесть килограммов. Сначала их за драку отправили в знаменитый «полтинник» — 50-е отделение милиции, где оштрафовали, пожурили и отпустили. А через два дня Колю загребли по новой и предъявили обвинение в разбое. Оказалось, что он весьма серьезно покалечил сына одного из тогдашних министров. Так милый парень Коля стал «зловредным уркой». — Ночью, — рассказал он мне потом, — в барак прибежал Леха, известный московский вор, и заорал: — Урки, мужики! Усатый деревянный бушлат надел! — Врешь! — Точно. Мне дневальный в оперчасти рассказал, он сам по радио слышал. Все, земеля, — Леха обнял Колю, — скоро дома будем. Новый пахан верняком амнистию даст. Потом, на разводе, начальник лагеря официально объявил об этом, вызвав необычайный энтузиазм заключенных. Они ждали амнистии, которая, кстати, была объявлена через два месяца. Прав оказался московский вор Леха. Новый пахан всегда хочет быть добрым. Я в те годы газет, кроме «Советского спорта», не читал. Но на следующий день после известия о кончине Сталина купил рано утром в киоске газету «Правда». Меня привлекла фамилия Константина Симонова на первой полосе. Я запомнил только первые строки: «Земля от горя вся седая…» Начало марта 53-го было морозным. После небольшой оттепели грянуло похолодание, тротуары и мостовые превратились в каток. В обычные дни это было не так страшно. В Москве тогда порядок был строгий. С утра дворники скалывали лед и засыпали все песком. Но в те дни дворники были заняты тем, что помогали милиции заколачивать черные ходы в подъездах и перекрывать проходные дворы. Весь город был перегорожен военными машинами. Грузовики перекрывали улицы, бульвары, переулки. Милиции не хватало, в оцеплении стояли офицеры, слушатели военных академий, курсанты всех московских военных училищ, солдаты частей столичного гарнизона. Рано утром над городом запели гудки заводов, закричали на подъездных путях паровозы и электрички, это был своеобразный сигнал к началу траурных мероприятий. Никогда после я не видел таких всенародных похорон. Вся Москва вышла на улицы. Неорганизованно, стихийно. Я сам наблюдал многотысячные демонстрации тех лет. Но это были мероприятия, четко закованные в административные рамки. Сотрудники МГБ и милиции шли в колоннах, партийные функционеры всех уровней строго следили за их прохождением. Машина власти умела направлять энтузиазм сограждан. В те мартовские дни ничего этого не было. Люди выходили на улицу, брали детей и шли к Колонному залу. Их было очень много. Мне тогда казалось, что на улицы города вышли все, кто жил в Москве. А на вокзалы подъезжали электрички и поезда. Из Дмитрова и Клина, Серебряных Прудов и Зарайска, из Калининграда и Владимира ехали в столицу убитые горем соотечественники, чтобы проститься со своим отцом и кумиром. Я прочел много книг об этом феномене, видел несколько фильмов, поставленных на тему великих похорон, но никто не дал ответа на вопрос «почему». Почему, кстати, многие из тех, кто, рыдая, насмерть давился на Рождественском бульваре и Трубной, через несколько лет с наслаждением втаптывали в грязь своего умершего кумира? У меня тоже нет ответа. Но никто не задумался, что Сталина хоронили всего лишь через 92 года после отмены крепостного права. Может быть, для большинства моих соотечественников смерть вождя ощущалась утратой царя-батюшки — отца отечества. Не знаю и, наверно, не узнаю никогда. Моему другу Юре Гаронкину тогда было восемнадцать лет. Весь их двор пошел прощаться со Сталиным. Была страшная наледь и холод. Толпа зажала их в районе Трубной. По обледенелым тротуарам скользили и падали лошади конных милиционеров, а толпа, не останавливаясь, шла по ним. Кричали женщины, дико вопили растоптанные люди, опрокидывались машины заграждения. Моему другу повезло, он с группой мужчин втиснулся в сломанную дверь подъезда, а потом, сорвав доски на черном ходу, они ушли в проходной двор. Он потерял кепку, шарф, галоши, все пуговицы на пальто, но остался жив. Я слышал крики и рев толпы на Трубной, но, к счастью, не попал туда. Мое передвижение было строго ограничено милицейскими и военными постами. Я помню, как у Столешникова переулка встретил Петра Львовича Рыжей (одного из известных тогда драматургов братьев Тур). Я был хорошо знаком с этим прелестным человеком по самому модному московскому увеселительному заведению — «Коктейль-холлу». Как всегда доброжелательный и элегантный, он, пожав мне руку, сказал: — Тороплюсь на траурное заседание в Театр киноактера. Ждите перемен, юноша, ждите перемен. — Каких? — удивился я. — Хороших для всех, для вас и для меня в том числе. Я тогда не поверил Петру Львовичу, и напрасно. Для меня перемены к лучшему начались уже в конце марта. Но пока я еще предпринимал тщетные попытки пробраться поближе к Колонному залу. В Дмитровском переулке мне повезло, в оцеплении стояли ребята из спортроты МВО, они знали меня и пропустили к Петровке. Как раз в это время проходила организованная колонна одного из московских заводов. Они двигались по улице в промасленных ватниках и куртках — прямо от станков. Шли молча. Только в фильме «Клятва» о похоронах Ленина я видел такие скорбные лица. Но там были актеры, а по Петровке прошагали люди, которых в официальных докладах именовали главным классом страны. И они скорбели искренне и тяжело. Пожалуй, именно это стало для меня главным в событиях тех непонятных дней. Рассказ о том, что на Трубной погибли люди, донес до меня мой товарищ Боря Месхи. Он чудом выбрался из этой давки и дошел до улицы Москвина. Когда я вернулся домой, он ждал меня, собрав в коридоре все женское население квартиры. Рассказ его был эмоционален и живописен. Со свойственным ему грузинским темпераментом он нарисовал страшную картину, а потом показал растерзанное пальто и пиджак. — Это как же, Боря? — поразился я. — А так. Блатари, суки, прямо в толпе карманы выворачивали, шапки хорошие сдергивали, сумки у женщин вырывали. Ну, я одного из них прибил, а его подельник меня «пером» задел. — А ты? — А что я? Толпа поперла, я еле жив остался. Слава богу, успел на машину вскочить. — Какую машину? — Военную. Ими весь бульвар перегородили. Не было бы машин, никто бы не погиб. В 1958 году один из лучших сыщиков страны Игорь Скорин рассказал мне весьма занятную криминальную историю. В дни похорон Сталина он был старшим одной из опергрупп. Днем ему позвонил агент и при встрече рассказал, что сретенский вор Витька Четвертаков, по кличке «Четвертак», организовал шайку, которая начала глушить скорбящих граждан. А через некоторое время Скорину доложили, что в проходном дворе на Рождественском бульваре нашли нескольких раздетых оглушенных людей. Через толпу Скорин с оперативниками с огромным трудом пробрался на бульвар. Вычислить место работы урок Четвертака особого труда не составило. Подъезд дома обнаружили быстро. Технология преступного промысла была проста и незатейлива. Когда толпа особенно сильно напирала, дверь подъезда распахивалась и в вестибюль врывалось человек двадцать. Их отправляли на черный ход, по пути выдергивали дам в дорогих шубах и хорошо одетых мужчин. Их глушили, грабили и выкидывали в соседний двор через лаз в дощатом заборе. Скорин с оперативниками не знали, сколько человек в шайке Четвертака и чем они вооружены. Двоих взяли прямо у лаза в щелястом заборе, когда те тащили в соседний двор очередную жертву. Проведя допрос на месте и предварительно набив разбойникам рожи, сыщики выяснили, что у Четвертака осталось пятеро бойцов, но есть два пистолета, добытых у ограбленных. Вещи и сам Четвертак находятся в подвале, который соединялся с соседним домом. У выхода из подвала посадили трех патрульных милиционеров, а сами ворвались через черный ход. Один из грабителей выстрелил, но его убили на месте, остальные сдались. Витьку Четвертакова задержали милиционеры, когда он со здоровенным узлом пытался уйти через запасной ход. День похорон Сталина стал воистину самым доходным днем для московских карманников. Каждый скорбел по-своему. Отгремел траурный салют. Тело вождя сдали на вечное хранение в Мавзолей. Уехали с улиц военные машины, ушли в казарму солдаты. В стране был объявлен десятидневный траур. Не работали кино, театры, была запрещена музыка в ресторанах. На Мавзолее появилась вторая надпись: «Сталин». Громадная страна еще не знала, что утром проснется в другой эпохе. Рано утром, когда на город начал наползать весенний рассвет, я вышел из дома, миновал Пушкинскую, прошел Козицким и очутился на улице Горького. Народу по раннему времени было немного. Сосредоточенные дворники сгребали на тротуары огромные груды мусора. Оторванные рукава, растоптанные шапки, галоши, резиновые женские боты, обрывки портретов и лозунгов — все это сметали московские дворники в своеобразные мусорные горы. Это был мусор ушедшей эпохи. Но тогда я еще об этом не знал. Разговор за столиком кафе после великих похорон Звонок телефона был неожиданным и резким, как выстрел. Я вскочил. К окнам прилипла темнота, часы показывали шесть утра. — Да? — Спишь? — спросил меня на том конце провода мой товарищ генерал милиции Витя Пашковский. — В некотором роде. А что случилось? — Ничего особенного. Просто хочу сообщить, что концерта ко Дню милиции не будет. — Ну и что? — Думай. И хотя думать было нелегко, потому что мы начали отмечать милицейский праздник накануне, я сразу догадался, что наша великая страна осиротела. Я вышел на кухню, достал из холодильника бутылку чешского пива, огромный дефицит по тем веселым временам, и включил «Маяк». Бодро и радостно диктор сообщил мне о том, что на Челябинском тракторном заводе вступила в строй новая линия, потом мне рассказали, как военнослужащие «ограниченного контингента советских войск в Афганистане» вместе с простыми дехканами посадили первые деревья будущего сада «Дружбы», потом я выяснил все о происках американского империализма в Африке. В заключение я узнал о погоде. Все. Более никакой информации. По музыке определить политическое состояние державы было нелегко. Так как после новостей бодрый голос певца поведал мне и всем остальным соотечественникам, что «вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». Грех говорить, но сообщения о том, что человек навсегда покинул нас, с нетерпением ожидало большинство населения страны, наивно полагая, что со сменой персоналий наша жизнь станет лучше, в то время все пытались угадать имя нового генсека КПСС. Кандидатур было три: Юрий Андропов, Виктор Гришин и Григорий Романов. Разговоры о них не затихали в течение последнего полугодия. Как только заходила речь о бывшем ленинградском вожде Романове, сразу же из достоверных источников появлялась информация о том, что он устроил свадьбу дочери в Зимнем дворце. Сервировал стол царским серебром и сервизами, которые номенклатурные гости, несмотря на их музейную ценность, разбили вдрызг. О Гришине говорили как о короле московской торговой мафии, что, кстати, было не далеко от истины, о его темных делах и пристрастию к золотым вещам. В «белом венчике из роз…», как писал Александр Блок, перед населением представал секретарь ЦК КПСС, бывший председатель КГБ Юрий Андропов. О нем говорили только как о гуманном, умном, высокообразованном человеке, который сможет привести нашу страну, истосковавшуюся по копченой колбасе, к необыкновенному изобилию. Через несколько лет я узнал, что Григорий Васильевич Романов никогда не устраивал гульбищ в Зимнем дворце, а потому не бил музейных сервизов. Что касается Виктора Васильевича Гришина, первого секретаря МГК КПСС, то в тех кухонных разговорах была большая доля правды. А слухи эти через свою агентуру распускали аналитики из КГБ, которые всеми доступными и недоступными путями старались привести на российский престол своего бывшего шефа. Но тогда об этом никто ничего не знал и все, как мессию, ждали пришествия Андропова. И наконец заиграла печальная музыка по телевизору и стране объявили о тяжелой утрате. Приблизительно за восемь месяцев до смерти Леонида Ильича я был в одном доме на развеселой вечерухе. Народу разного набежало видимо-невидимо, благо квартира была огромная. В разгар веселья приехала Галя Брежнева с очередным обожателем. Она решительно атаковала спиртное и через полчаса была весела сверх меры. Я не слышал весь разговор, только фрагмент, но он стоил остального пьяного трепа. — Папа себя неважно чувствует, — сказала дочь генсека, — некоторые радуются, ждут, когда он умрет. Но ничего, положат папу в мавзолей, мы с ними иначе поговорим… Конечно, заявление это можно было списать на пьяный треп советской принцессы. Но по городу уже ходили упорные слухи, что новый сквер напротив памятника Пушкину делают специально для монумента Брежневу. Чудовищными тиражами издавалась «Малая Земля», «Целина» и еще две книги, названия которых вылетели из памяти. Фараоны заранее строили свои гробницы, Брежнев возводил свою пирамиду в народной памяти. И вдруг все это случилось. Трагический голос теледиктора объявил о кончине «пятижды» Героя Советского Союза и Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии в области литературы, лауреата Ленинской премии мира, кавалера ордена Победы и еще семидесяти двух отечественных и зарубежных наград, Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. Много позже мы поймем, что страсть к наградам и званиям была невинной слабостью по сравнению с тем, чем будут развлекаться пришедшие ему на смену вожди. Умер Брежнев, но его эпоха, которую окрестили богатым словом «стагнация», не закончилась, а продолжается в более извращенных формах по нынешний день. Но мы тогда надеялись, что смена руководства ЦК КПСС наконец приблизит нас к социализму с человеческим лицом. Ах, эта старинная русская народная игра под названием «Ожидание доброго царя». По сей день мы с властью играем в нее, забывая, что вожди наши всегда сдают нам крапленые карты. Ночью в Москву входили дивизия Дзержинского и части Московского военного округа. Из близлежащих областей прибывало на великие похороны милицейское усиление. Ритуальное действо готовилось по первому банному разряду. К утру город перегородили переносными турникетами; солдаты, милиционеры, курсанты военных училищ заняли свои места в линейных коридорах. Центр Москвы был перекрыт и оцеплен, а город продолжал жить своей обычной жизнью. Люди сквозь оцепление пытались пробиться в Елисеевский магазин, так как по столице прополз слух, что по случаю траура на прилавок выкинут дефицитные продукты. На пустых улицах уныло стояли солдаты и милиционеры, ожидая, когда толпы соотечественников пойдут на штурм Колонного зала прощаться с ушедшим от нас генсеком. Я ходил по пустому центру и сравнивал все происходящее с похоронами Сталина в марте 1953 года. На Советской площади у памятника Юрию Долгорукому стояла группа людей, одетых в форму советской номенклатуры. Ондатровые шапки, финские пальто, туфли «саламандра». Это были бонзы из ЦК КПСС, им было поручено руководить народным волеизъявлением. Одного из них я знал по веселому ресторану «Архангельское». Мы поздоровались, и цековский деятель по имени Саша спросил меня: — Видишь, как подготовились? — Впечатляет. — Мы не допустим повторения эксцессов, которые были на похоронах Сталина. — А ты уверен, что сегодня будет столько же людей? — Без сомнения. Народ Леню любил. Мы попрощались, и я пошел вниз по пустой улице Горького, вспоминая, как двадцать девять лет назад страна хоронила Сталина. Наверно, я никогда не забуду рыдающих людей с ошалелыми от горя глазами, толпы людей, давящих друг друга, опрокидывающих коней с милиционерами, сбивающих грузовики на Трубной. Весь город пытался прорваться к Колонному залу. Все хотели проститься с идолом, безраздельно господствовавшим над нашими судьбами. Нынешняя власть учла ошибки сталинского аппарата, нагнала войск и милиции. Но никто не торопился проститься с носителем многочисленных Золотых Звезд Героя страны. Мерзли на ветру солдаты и милиционеры, а город жил отдельной от большевистского траура жизнью. Тогда было принято мудрое решение: к Колонному залу начали организованно привозить трудовые коллективы Москвы и области, за прощание с лидером КПСС давали два выходных дня. Об этом мы разговаривали в кафе Дома кино с моим другом — прозаиком и киносценаристом Артуром Макаровым. Кафе по дневному времени было пустым. Самое лучшее время общественного одиночества. Мы пили кофе и вспоминали похороны вождей. Нам пришлось жить при Сталине, несколько дней при Маленкове, при Хрущеве и Брежневе. В кафе вошел наш старинный знакомец фотограф Феликс Соловьев, как всегда элегантный и деловой. Он взял кофе и бутерброды и сел к нам. Так появился третий собеседник. Феликс крутился в кругах партийно-правительственных детей и всегда располагал самой неожиданной информацией. Он поведал нам, что новый генсек Андропов распорядился провести изъятие документов на даче и квартире Брежнева и что дача в Завидове с парком машин и дорогими подарками у семьи покойного отобрана, а вдове предоставлен другой загородный дом. Мы не успели обсудить эту интересную новость, потому что в кафе появился веселый человек Андрюша Чацкий. Кем он был, я не знаю по сей день. Именовал он себя режиссером. Когда я спрашивал о нем у своих коллег, они отвечали неопределенно: вроде да, а вроде и нет. Единственное, что я могу сказать точно, — Андрей любил кино самозабвенно. Он крутился в околокиношном мире. Мире просмотров и фестивалей. Мире киноклуба и искрометных идей. Мире легких, веселых и красивых людей. Никогда серьезно не занимаясь кинематографом, он видел только его праздничную мишуру, не сталкиваясь с тяжелыми буднями. Андрей Чацкий стал некой данностью Дома кино. Бывал он там ежедневно. Стройный, с набриолиненным пробором, с тонкими усиками голливудских негодяев, в темном элегантном костюме, белой рубашке и красивом галстуке. Он появлялся словно в укор кожаным курткам и потертым джинсам режиссеров и операторов. Правда, его немного портила страсть к подозрительным «золотым» перстням, браслетам, часам, зажигалкам, но эту маленькую слабость можно было простить веселому, доброму человеку. Он был широк и гостеприимен. Хотя финансовые дела его, как я слышал, были не очень хороши, тем не менее последнюю десятку он тратил необыкновенно красиво. Но это была внешняя, буффонадная сторона. Андрей немного напоминал знаменитого персонажа из фильма Михаила Ромма «Мечта» — пана Станислава Комаровского. Единственное, что я могу сказать точно, Андрей в те годы был как-то связан с видеобизнесом. Ежегодно в Репино, под Ленинградом, в Доме творчества Союза кинематографистов, в октябре проводился семинар кинематографистов, работающих в жанре приключенческого и научно-фантастического кино. Я, как председатель совета, занимавшегося развитием именно этого жанра, хорошо знал, каких трудов стоило добыть в Госкино несколько западных фильмов для показа участникам семинара. И тут нас выручал Андрей. Он привозил на семинар огромный набор видеокассет с прекрасными французскими, итальянскими и американскими фильмами. Каждый вечер люди шли в организованный Андреем «видеозал» и смотрели хорошее кино. Тогда видеомагнитофоны стоили дороже автомобиля и не все могли позволить себе приобрести их. Видео только входило в нашу жизнь. Уверен, что эти поздние просмотры помогли мне и моим коллегам узнать, что происходило в мировом кинематографе. Не знаю, каким Андрей был режиссером, но организатором он считался первоклассным. У него был весьма необходимый талант находить нужных людей и заводить с ними короткие знакомства. В годы горбачевской трезвости, когда участники семинара изнывали от желания опохмелиться, в его номере страждущие в любое время могли найти стопку водки и бутерброд. Баню ему предоставляли без всякой очереди, а в баре для его друзей всегда имелась подпольная выпивка. Итак, в кафе появился веселый человек Андрюша Чацкий. Он увидел нас, улыбнулся, подошел к столу: — Не прогоните? — Садись. Андрей был верен себе, он раскрыл кейс и вынул из него бутылку коньяка «Енисели» и батон финского сервелата, что по тем временам весьма ценилось. — Давайте, ребята, помянем генсека и выпьем за новые, счастливые времена. Мы выпили и долго еще сидели, споря о том, что ждет нас впереди. Но, не соглашаясь в деталях, мы были едины в главном: наступает новая оттепель, а за ней, возможно, свобода. Это было 14 ноября 1982 года… …Потом немного порулил Андропов, за ним настало безвременье Черненко, началась перестройка, перешедшая в великую колбасную революцию. А там и свобода наступила. Рухнул казавшийся незыблемым отечественный кинематограф. Под его обломками оказались погребенными прежние привычки, дела и увлечения. Не было денег не только на семинары, но даже на производство фильмов. Но все же Дом кино остался единственным местом, где потерявшие работу люди могли за столиком кафе хотя бы поделиться своими замыслами с коллегами. Последний раз я встретил Андрея Чацкого на кинофестивале в 1995 году, он был все так же элегантен и весел. — Помнишь, как мы спорили в ноябре 82-го? — спросил он меня. — Помню. — Не сложилось что-то, — грустно сказал Андрей. …Его убили первым. Через месяц после нашей встречи я утром смотрел по телевизору «Дорожный патруль». Сначала был сюжет о квартирной краже. Тут с кухни донесся запах убегающего кофе. Я бросился туда, а вслед мне комментатор с телеэкрана произнес «…у убитого было найдено удостоверение корреспондента газеты „Криминальная хроника“. Я вбежал обратно в комнату, но на экране полыхал пожар и храбрые бойцы в касках заливали водой квартиру. Удостоверение газеты «Криминальная хроника» заинтриговало меня. Издание это в 1991 году создал я и несколько лет руководил им. Вполне естественно, всех корреспондентов знал хорошо. Зазвонил телефон. — Андрюшу Чацкого убили, — сказал мой товарищ. В 91-м году Андрей пришел ко мне в редакцию и предложил услуги в качестве обозревателя криминальных видеофильмов. Получил желаемое удостоверение и исчез, на этом его сотрудничество с газетой закончилось. Вечером я посмотрел повтор передачи, увидел знакомую квартиру и его труп со связанными руками на кровати. Он был далек от банковского бизнеса, не торговал цветами, металлами и недвижимостью. Все оказалось более прозаичным. Сначала гуляли в ресторане Дома кино, потом в каком-то баре, в компании появились девицы и подозрительные молодые люди. Потом взяли выпивку и поехали к Андрею. Господа налетчики сочли, что нашли богатую добычу. Режиссер, весь в «золоте» — часы, браслеты, цепочки, перстень. Да и деньги легко тратит. Если бы они знали, что деньги эти последние, а цацки туфтовые! Но они не знали. Зато знали, что нынче жизнь человеческая ничего не стоит. И отняли ее. Опоили его клофелином, связали и задушили. Вот так закончилась история веселого щедрого человека, севшего за наш стол 14 ноября 1982 года и верившего в новые, счастливые времена. А 3 октября 95-го года я увидел на экране труп своего друга, убитого кинжалом. Это был Артур Макаров. Мы познакомились в 50-х. В десять лет он остался сиротой, его усыновили родная сестра его матери, наша кинозвезда Тамара Макарова, и ее муж, знаменитый кинорежиссер Сергей Герасимов. Артур приходил к нам в зал тренироваться. Он мог стать хорошим боксером, у него был отличный удар и кураж. Но спорт не очень интересовал Артура, он просто учился драться. В те годы мне частенько приходилось выступать третейским судьей в их разборках с Юликом Ляндресом, впоследствии прекрасным писателем Юлианом Семеновым. Кстати, неприязненные отношения у них сохранялись всю жизнь. Потом Артур уехал в танковое училище, я отбыл постигать военную науку в город Калининград. Встретились мы уже журналистами. Артур закончил Литинститут и работал в АПН. Но скоро журналистика стала тяготить его. Он хотел писать, мечтал о кинематографе. Вспоминаю Львов, весенний прекрасный Львов и свое командировочное одиночество. И бегущую с вечерней улицы в стрельчатые окна моего номера в гостинице кинорекламу «Красные пески». И прочитанную на широком экране фамилию автора сценария — Артур Макаров. Потом были «Новые приключения неуловимых», «Один шанс из тысячи», «Горячие тропы», «Неожиданное рядом», «Золотая мина» и другие. За фильм «Служу отечеству» он был удостоен звания лауреата Госпремии Узбекской ССР. Но кино не было главным в его творчестве. Артур был прекрасным прозаиком. Я помню, сколько шума наделала его первая повесть «Дом», опубликованная Александром Твардовским в «Новом мире». Ленинский ЦК сразу же осудил и автора, и его сочинение. Артур купил дом в глухой деревне Заборовка Калининской области. Он писал прозу, печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Сельская молодежь». Свои криминальные сценарии он переделывал в небольшие повести, которые я печатал в ежегоднике «Поединок». И, наконец, в 1982 году вышла его первая книга «Много дней без дождя». Артур бывал в Москве наездами. Жил в своей Заборовке, охотился как внештатный охотинспектор, гонял браконьеров. И, конечно, писал. Его всегда тянуло к людям неординарным, с судьбами опасными и сложными. Он дружил с сыщиками и браконьерами, судьями и уголовниками. Он изучал внутренний мир своих будущих героев. Он был талантлив и артистичен. За свою рано оборвавшуюся жизнь он, словно артист на сцене, прожил несколько выдуманных. Последние годы перед его смертью мы виделись редко. Артур забросил кино и литературу и занялся бизнесом. Он получил разрешение на табельное оружие, завел шофера-охранника. Он играл кинороль крутого столичного бизнесмена, не зная, что в этом фильме трагический конец. В то утро на экране телевизора я увидел связанный труп моего друга, убитого коллекционным кинжалом. Он сам пустил убийц в дом, хотя был крайне осторожен и подозрителен, но этим людям он верил и, видимо, считал их друзьями. Накрыл для них стол… Они перерыли весь дом, не тронули крупной суммы долларов и наших денег. Не сняли со стены дорогие картины. Они искали что-то другое… Никто из нас, его друзей из прошлой жизни, даже не догадывался, что его фирма «Арт Гемма» занималась огранкой алмазов. Когда-то в своих детективных сценариях Артур писал истории о том, сколько горя людям приносят драгоценные камни. Писал, но почему-то сам забыл об этом. На Электродной улице, в доме № 2 он открыл гранильный цех. Сырье Макаров получал от небезызвестного Бычкова, начальника Роскомдрагмета. Обработанные камни вывозились за рубеж партнерской бельгийской фирмой «Diamond Trust». Хозяином ее был некий Шарль Гольдберг. Возможно, это совпадение, но в 60-е годы я знал фарцовщика «розочками» с такой же фамилией, активно спекулировавшего у магазина «Алмаз» в Столешниковом переулке. Гольдберг попадет в сферу внимания следствия, когда начнется разработка компании «Голден АДА». Но в октябре 95-го об этом еще никто ничего не знал. Следствие по делу об убийстве Артура Макарова пока не дало ничего определенного. Сначала его закрыли. Потом посадили за взятку следователя прокуратуры, который вел дело, снова начали искать убийц… Возможно, через какое-то время Артуру надоели бы все эти дела и он опять бы уехал в свою деревню, к охоте, собакам и письменному столу. Человек, убивший его, наверняка не думал о том, что поднял руку на талантливого писателя. Солнечным октябрьским днем в Доме кино мы прощались с Артуром Макаровым. Прощались с киносценаристом и писателем, а не с «алмазным королем». Поминки были в том же кафе, где за угловым столом спорили о новых временах Андрюша Чацкий, Артур, Феликс Соловьев и я. А в декабре тремя выстрелами в подъезде дома, где была его мастерская, убили Феликса Соловьева. И вновь об этом я узнал из вездесущего «Дорожного патруля». Комментарий был скуп и лаконичен: «В Палашевском переулке в подъезде был убит известный фотохудожник и фотокорреспондент газеты „Ди Вельт“ Феликс Соловьев». Вот тут мне немножко стало не по себе. Третий мой товарищ из того далекого ноября 1982 года пал от руки киллеров. Позднее начальник уголовного розыска района Володя Колокольцев расскажет мне, что киллеров было двое, что стреляли они из «ТТ», потом сели в машину, отъехали несколько кварталов и машину подожгли. Андрюшу Чацкого убили «крысятники», соблазнившиеся золотыми цацками, Артура Макарова убрали его подельники по бриллиантовому бизнесу. А вот за что застрелили Феликса, мне было непонятно. Правда, надо сказать, что он всегда жил на «грани фола», как говорят спортсмены. В 1958 году я сидел со своей барышней в кафе и к нашему столу подошел красивый, элегантный молодой человек в английском твидовом костюме. Барышня познакомила нас, а потом сказала: — Феликс, у тебя чудесный костюм. Достань такой же моему другу. — Сделаем, — засмеялся Феликс. И через несколько дней позвонил и привез костюм из английского твида. Тогда это была большая редкость, и знакомые ребята с некоторой завистью поглядывали на меня. Феликс немного фарцевал. Но делал это аккуратно и с опаской. Имел свою проверенную клиентуру, поэтому особенно не светился. Он достал мне несколько хороших вещей. Потом он начал работать в Управлении делами дипкорпуса, в знаменитом УПДК. Как он туда попал — одному богу известно, работал в посольстве Греции. Мы не были с ним особенно дружны, но встречались достаточно часто. В ресторанах, на каких-то приемах, кинофестивалях. К тому времени Феликс уже стал фотокорреспондентом. Феликс всегда был в центре модной тусовки. Знал целую кучу историй о сильных мира сего, и, что самое любопытное, информация его была предельно точна. Пять лет назад его выставка «Светская Москва» стала событием. Он много и талантливо работал в рекламе. После его смерти знающие люди говорили, что именно это и погубило его. Он решил стать не просто исполнителем, а менеджером. А в бизнесе этом, как известно, законы волчьи. Пожалуй, это была наиболее реальная версия о причинах его убийства. Но год назад на Патриарших прудах я встретил своего старого знакомого по московскому Бродвею. Мы не виделись несколько лет и немедленно зашли в летний ресторан у пруда. Разговор был обычным. О старых знакомых, кто где, кто жив, кого с нами нет. Тогда, в далекие 50-е, Борис был связан с московскими уголовниками, отмотал два срока. Нынче он занимал твердое положение в криминальных кругах Москвы. В разговоре мы случайно коснулись убийства Феликса Соловьева. — Ты думаешь, его погасили за рекламные дела? — Конечно. — Нет, там другое было. Заигрался мальчонка. Снял не того и не с тем, и захотел за этот негатив двадцать тонн зеленых. Вот какую информацию я получил от человека, находящегося в самом центре криминальной Москвы. Пусть эта версия останется на его совести. …Недавно я пришел в Дом кино. Спустился в нижнее кафе. Восемнадцать лет прошло, а столик, за которым мы сидели, по-прежнему стоит в углу. Как и в тот день, в кафе было пусто, я взял кофе и сел на то же место, что и тогда. Странно устроена жизнь. 14 ноября 1982 года мы сидели здесь и спорили об оттепели и свободе, не очень веря, что все это когда-нибудь придет. И вот смотри-ка, пришла эта свобода. А вместе с ней наступило время жестоких. Время крови, беззакония и грязных денег. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
|||||||