 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Громов Дмитрий :: Сименон Жорж :: Лондон Джек Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Гость :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Справочник по реестру Windows XP :: Похищенный кактус :: White Fang :: Жизнь, Вселенная и все остальное :: Романтическая история мистера Бриджертона :: Ярмарка Святого Петра |
Конунг (№2) - Конунг. ИзгоиModernLib.Net / Исторические приключения / Холт Коре / Конунг. Изгои - Чтение (стр. 1)
КОРЕ ХОЛТ Конунг. Изгои  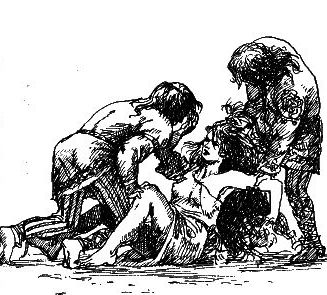 ПРОЛОГ  Я, Аудун с Фарерских островов, верный спутник конунга Сверрира и в добрые и недобрые времена. Я все еще сижу в Ботне в усадьбе Рафнаберг, темнота плотно окутала это забытое Богом и людьми жилье, прилепившееся на высоком уступе обрывающемся в море. Прошло три ночи со дня святой Люции [1], свирепствует зима с морозами и северным ветром. Не думаю, что кто-нибудь из посошников проложит себе путь к этой усадьбе по глубокому рыхлому снегу, этот снег нас спасает. Со мной в Рафнаберге дочь покойного конунга Сверрира, йомфру Кристин, и ее красивая служанка йомфру Лив. На пути из Осло в Бьёргюн мы увидели в устье фьорда смутные очертания корабля посошников, это заставило нас сойти на берег и продолжать путь по суше. Было бы хорошо, если б мы могли пробыть здесь, в Рафнаберге, до начала весны. А тогда мы уедем отсюда, на корабле или на лошадях, и только Сын Божий и Дева Мария знают, удастся ли нам добраться до Бьёргюна. Посошники в Тунсберге, посошники в Осло. Они дорого оценили мою голову, но это не имеет значения, — я священник и воин, единственный свидетель всех тайных подвигов и злодеяний конунга Сверрира, всегда следовавший за ним. Хуже то, что они столь же дорого оценили и йомфру Кристин, не ее голову, а ее юное, нетронутое лоно. Только один человек может спасти ее от позора и бесславного надругательства. Это я. Будь, что будет, со мной и с горсткой моих воинов, готовых умереть за дочь своего конунга. В светлые мгновения я верю, что сын Божий и Дева Мария всегда со мной, но в мрачные мгновения я в этом сомневаюсь. Поддерживает меня и воля покойного конунга, моего близкого друга с незапамятных времен. Трудно сказать, сколько дорог мы прошли вместе по этой стране, пешком, на лошадях, на кораблях, шум скольких битв оглушал нас и сколько тихих часов проговорили мы друг с другом — конунг и единственный свидетель всей его жизни. Со мной несколько живых и один мертвый. Против меня посошники. *** Я взял с собой в Рафнаберг только четверых из моих людей, и еще Малыша, несчастного калеку, который много лет был слугой конунга Сверрира, теперь он служит мне. Два человека стоят в дозоре на западной опушке леса, оттуда на нас могут напасть посошники. Их обоих отличает качество, которое всегда высоко ценилось в войске конунга: между сражениями они не спешат смыть с себя кровь. Двое других сидят в засаде на берегу под крутым уступом, обрывающемся в море. Оттуда в усадьбу ведет тропа. Если посошники нападут с моря, один из них сразится с ними и погибнет, тем временем как другой побежит в усадьбу, чтобы предупредить нас. Эти двое тоже сопровождали конунга из одного конца страны в другой, мы берестеники, ноги у нас обернуты берестой и мы сражаемся, как одержимые, даже если в желудках у нас пусто. Хозяина усадьбы зовут Дагфинн. Я не совсем доверяю ему, но и недругом его тоже не назовешь. Он относится к тем людям, которых Господь одарил прожорливостью больше, чем мужеством. Его бедную жену зовут Гудвейг. Ей я тоже не доверяю. Но оба они здесь необходимы — молча и неохотно, они все-таки кормят и поят моих людей и меня. Лучшие куски баранины я приказываю Малышу отнести йомфру Кристин и ее красивой служанке йомфру Лив. Есть в Рафнаберге еще один человек, это однорукий Гаут. Он один из тех редких людей, что несут на своих плечах ношу прощения. Гаут ходит по стране, чтобы прощать людей. Он верит, что в тот день, когда он простит всех, у него на месте обрубка снова вырастет рука. Разум твой никогда не был велик, Гаут, и кошелек, что ты носишь на поясе, был бы слишком жалкой добычей для уважающего себя грабителя. Тем не менее нынче, в эту холодную ночь, когда мороз, словно лезвие стального клинка царапает кожу, надо признать, что в твоей единственной руке тепла больше, чем в моих двух, и что твое старое изболевшееся сердце выше многих церквей в этой стране. Но и в верности Гаута у меня есть сомнения, которые скорей свидетельствуют о неблагородстве моей души, нежели его. Мы пришли в Рафнаберг на восьмой день после праздника Перстня, который отмечается в честь того, что кровь господа нашего Иисуса Христа была привезена в перстне из Йорсалира в Нидарос. Дни тянутся долго, а ночи еще дольше, я коротаю их, выполняя желание йомфру Кристин: рассказываю ей суровую и вместе с тем прекрасную сагу об ее отце конунге. В своем рассказе я дошел до того дня в далеком прошлом, когда Сверрир выступил на тинге в Хамаре в Вермаланде и с гордо поднятой головой взял на себя предводительство над горсткой изгоев. Через год тяжелой борьбы он был провозглашен конунгом Норвегии. Пока я рассказывал по вечерам йомфру Кристин правду об ее отце, мне не давала покоя одна мысль. Что еще я должен сделать, чтобы защитить ее жизнь и честь? Сквозь кровавое немирье, царящее в этой стране, начинают пробиваться хрупкие ростки другого соперничества. Скупые на слова люди ходят по неизвестным тропинкам между враждующими станами. Рано или поздно это приведет к миру, посошники и берестеники перестанут воевать друг с другом. Я знаю, и не я один, хотя мы и не говорим об этом, что самое дорогое, что мы, сторонники конунга Сверрира, можем отдать за мир — это его дочь, которую он любил больше всего на свете, правда, за одним исключением: свой долг он любил еще больше. Как конунг он должен был добиваться мира в стране. Чтобы достичь этого, он был готов пожертвовать всем, кроме права своих людей и своей мужской чести. Йомфру Кристин этого не знает. Для нее будет лучше, если до поры до времени я ничего не скажу ей об этом. *** Все-таки я не совсем уверен, что посошники не найдут нас здесь, в Рафнаберге, хотя зимние дни коротки, а снег глубок и рыхл. Если они нападут из леса, я схвачу йомфру Кристин, спущусь с ней по тропинке к фьорду и мы уплывем на утлой лодчонке, что привязана у нас на берегу. Если же нападение будет с моря, моим людям придется сразиться с посошниками и пасть, тогда как мы с йомфру Кристин бежим лесом на лошадях, невзирая на снег и мороз. Нынче ночью, пока в очаге пляшет огонь и Малыш спит на полу возле моей постели, мне кажется, что мой умысел можно улучшить одной хитростью, достойной самого дьявола. Если нам придется отсюда бежать, я не смогу взять с собой йомфру Лив. Но нам поможет, если посошники решат, что в руках у них оказалась йомфру Кристин, а не ее служанка. Ведь они не видели дочери конунга, только слышали рассказы о ней, о ее гордой осанке и не бьющей в глаза красоте. Те люди, что ищут сейчас дочь конунга и меня, не имели возможности бывать при дворе ее отца. Если мне удастся придумать, как убедить их, что они нашли именно йомфру Кристин, это поможет нам спастись. Мне пришло в голову — я давно привык находить выход из любого трудного положения, — что девушки похожи друг на друга и лицом и статью. Они одинаково гордо вскидывают голову, и в качестве служанки конунговой дочери йомфру Лив одевается так, как подобает одеваться женщине знатного происхождения. У них есть только одно отличие — маленькое красивое распятие, которое конунг когда-то подарил своей дочери. Теперь она всегда носит его на шее на серебряной цепочке. Об этом распятии я мог бы рассказать целую сагу. Когда конунг Сверрир первый раз увидал свою новорожденную дочь спящей на руках у королевы Маргрет, он сказал: — Она должна носить на груди распятие с изображением Спасителя, оно защитит ее. Я тогда посоветовал конунгу, чтобы он велел изготовить маленькое распятие, похожее на то большое, перед которым мы с ним, молодые священники, молились дома в Киркьюбё на Фарерских островах. Конунг согласился со мной. Сперва такое распятие сделал Хагбард Монетчик, но оно оказалось непохожим. Конунг в гневе сломал его и тут же отправил корабль в Ирландию за известным мастером. Мастер изготовил красивое маленькое распятие, с тех пор оно украшало шею молодой йомфру Кристин и хранило ее от всех несчастий. В глаза страдающего Сына Божьего были вставлены два синих блестящих камешка. Они смотрели на всех, кто смотрел на дочь конунга. Такое украшение могла иметь только дочь конунга. Если посошники обнаружат распятие на шее у йомфру Лив, они примут ее за йомфру Кристин. Откуда бы на нас ни напали, с моря или с суши, я, перед тем, как бежать с йомфру Кристин, сначала убью йомфру Лив и брошу ей в лицо горящие поленья, а терпящий муку Сын Божий с двумя блестящими синими камешками вместо глаз пусть смотрит с укором на воинов, которые, вторгшись сюда в поисках дочери конунга, нашли ее мертвой. Они перекрестятся в страхе, а дочь конунга Сверрира и я будем уже далеко. *** Я бросаю в Малыша башмаком, и он вскакивает. Я прошу его позвать фру Гудвейг. Она приходит с заспанными глазами, рубашка бьет ее по худым ногам. Я велю ей привести сюда йомфру Кристин и ее служанку. Вскоре они приходят, тоже заспанные, я отсылаю прочь Малыша и фру Гудвейг. Молодые женщины стоят передо мной, стройные, с испуганными глазами, они полны ко мне доверия, которому трудно найти отклик в моем злом сердце. В лице йомфру Кристин есть нечто, чего нет у ее служанки. Это ум и надменность, она несет свое происхождение, как дорогое серебряное украшение. Все детство, проведенное в покоях матери, ее учили вести себя так, как положено дочери конунга. Не утруждая себя объяснениями, я говорю им, что йомфру Кристин должна отдать своей служанке серебряное распятие, которое она носит на шее. — Это необходимо, — говорю я. — Мой долг твоего защитника, йомфру Кристин, заставляет меня сделать ради твоей безопасности все, что сделал бы на моем месте сам конунг. Они не задают мне вопросов. Йомфру Кристин послушно снимает распятие и протягивает его йомфру Лив. Йомфру Лив послушно надевает его себе на шею. Потом я их отпускаю. Я смотрю на свои руки: в те годы, что я следовал за конунгом Сверриром, не только руки бывали у меня крови. Но я знаю, что если бы Сын Божий позволил мне вернуться на первое распутье в моей жизни и сказал: Выбирай снова, по какому пути ты пойдешь, моему или конунга? Я и тогда — с меньшей радостью, чем в первый раз, но без колебания — опять пошел бы за конунгом. *** Когда йомфру Кристин оставила меня в тот вечер, чтобы вернуться на ложе, которое она делит со своей служанкой йомфру Лив, я еще долго сидел у очага. Была полночь, в Рафнаберге не слышалось ни звука, кроме шороха ветра, летящего над лесом и морем. Наверное, я задремал, прикрыв усталые глаза рукавом рубахи. Почувствовав, что кто-то стоит у меня за спиной, я вздрогнул и очнулся. Сзади стоял Гаут. Однорукий старик с изможденным, страдающим лицом и глазами, глубину которых я не мог постичь никогда. На плечи у Гаута был накинут его старый, потертый плащ, он как будто куда-то собрался. Я не успел открыть рот, как он сказал: — Господин Аудун, нынче ночью мне показалось, что ты замыслил зло против йомфру Лив? Я вздрогнул, он заметил это и продолжал, словно рубанул топором: — Какой-то голос сказал мне, что ты хочешь ее убить? Он подошел ко мне ближе и, будто защищаясь, поднял свою единственную руку. Тяжелую руку, и вместе с тем необъяснимо нежную. Сколько церквей в нашей стране он поставил этой рукой! Я никогда не видел Гаута таким. Несмотря на мое уважение к нему, он часто внушал мне неприязнь, часто, благословляя его добрым словом, я произносил ему в сердце своем злые проклятия. Но нынче ночью он, по-моему, хотел вцепиться мне в глотку, как лисица в глотку ягненку. Я отступил на шаг. Гаут последовал за мной. Он сказал: — Мне показалось, что ты хочешь убить ее? Я сказал: — Ты Божий человек, Гаут! Помни об этом и не обвиняй ближнего в том, что он готов пролить чью-то кровь. Он сказал: — Не думаю, что эта кровь будет заметна среди той, что ты уже пролил. Я сел, не глядя на него, и жестом пригласил его сесть на табурет рядом с очагом. Но он остался стоять. Мысли летели в моей голове, как сухие листья, подхваченные ветром. Откуда Гаут мог узнать о моем злом умысле против йомфру Лив? Ни она сама, ни йомфру Кристин, если и догадались, что я задумал, не могли рассказать этого Гауту. Они ушли спать в свой покой. Ни Малыш, ни Гудвейг не могли слышать моего разговора с йомфру Кристин и ее служанкой. Кто же сказал об этом Гауту? Бог? Я боролся со своими мыслями, чтобы обрести ясность. Передо мной стоял Гаут, лицо его было угрюмо, не слышалось ни звука, кроме шороха ветра, летящего над лесом и морем. Я вдруг подумал: может, это Дева Мария услыхала мои слова? Может, моя жестокость к йомфру Лив заставила ее уронить слезу, может, она пошла к Гауту и попросила его о помощи? Или это свет всемогущего Бога проник в мою мрачную тайну и открыл ее Гауту?… В молодости я был священником, но теперь это не могло помочь мне. Что ему от меня надо? Ведь это еще не все. Гаут не заставил меня долго ждать: — Господин Аудун, — сказал он, — я знаю, что ты злой человек, но, может быть, твоя доброта все-таки больше моей. Кто-то разбудил меня нынче ночью, когда я спал в хлеву, и сказал: Встань и иди! Я повиновался. Идя по двору, я понял: жизни йомфру Лив угрожает опасность. Я поднял глаза. Я видел только звезды и слышал только ветер. Но кто-то шепнул мне: Ты можешь спасти ее… Я знаю: ты со своими людьми… Ты, я и все остальные продолжаем эту братоубийственную войну в нашей стране! Она унесет и наши жизни. Жизнь йомфру Лив и жизнь йомфру Кристин тоже унесет война. Позволь мне пойти в Тунсберг к посошникам, господин Аудун. Позволь сказать им: Хватит с нас этой проклятой войны между братьями! Мы сейчас в Рафнаберге, с нами дочь конунга Сверрира. Ступайте туда и убейте нас, если посмеете! Мы не обнажим мечей, чтобы защитить свою жизнь! Предстаньте перед Всевышним с кровью дочери конунга на руках. Убейте нас или дайте нам мир… Я знаю, ты и твои люди хотят отдать дочь конунга в жены тому, кто больше за нее предложит. Думаю также, что жизнь йомфру Кристин не такая уж высокая плата за сладость Божьего мира. Но готов ли ты заплатить за это и своей честью?… Он говорил хорошо. Освещенный светом очага, он стоял передо мной, протянув свою единственную руку, точно меч. Я дрожал под его напором, может быть, самом сильном из всех, каким я подвергался за свою долгую жизнь воина. Он сказал: — Господин Аудун! Мне бы хотелось пойти в Тунсберг с твоим добрым напутствием. Но, если понадобится, я пойду и без него. Я мысленно спросил себя: Ты можешь убить его? Но я понимал: нас здесь слишком мало, и мы не сумеем скрыть убийство этого доброго человека. Если и не все любили Гаута, то многие боялись его тягостной доброты. Убить его было бы небезопасно. А далеко ли простирается моя власть над людьми, подумал я. Убьют ли они меня, если я убью Гаута? Конунг Сверрир был умный человек и был куда хитрее многих. Его способность скрывать свое лицо за дымом очага со временем передалась и мне. Я хотел выиграть время и сделал вид, будто размышляю над тем, что сказал Гаут. Он сидел на табурете рядом со мной. Мне казалось, что от его широкоплечей фигуры исходит неистовая сила. Неожиданно я встал и сказал, глядя в его страдающие глаза: — Ты слишком высокомерен, Гаут! Ты веришь, что Всемогущий позволит твоей руке вырасти снова, если ты простишь всех своих недругов. Тебе кажется, что ты избранный, этакий новый Сын Божий. Тот, который установит мир между братьями в этой стране и заставит недругов забыть о своей вражде. Ха-ха! На самом деле ты просто убогий старик, над которым мужчины смеются, а женщины исходят жалостью! Ты собачье дерьмо, и Всемогущий не прикоснется к тебе даже кончиком пальца. Ты хочешь противопоставить свой ум моему, свой ум — уму всех людей. Ты готов рисковать жизнью йомфру Кристин, — и жизнью йомфру Лив тоже, — ублажая себя мыслью: именно я постучусь в дверь посошников и предложу им мир. Но от них ты получишь только немирье. — Нет! — крикнул он. — Да! — крикнул я. — Знаю я таких, как ты. Вы трусливы и высокомерны, вам не доступна правда, которой руководствуются люди. У нас только один путь — мой! Конечно, мы хотим мира. Но сперва мы должны одержать победу в немирье. — Нет! — крикнул он. — Молчи! — заорал я на него. В это время пришел Малыш. Я обернулся и закатил ему оплеуху. Это помогло всем — и Малышу, которому нечего было сказать, и мне. Думаю, это помогло и Гауту. Он застыл с открытым ртом. Потом встал. Я указал ему на табурет. Он сел. — Молчи! — снова крикнул я, он закрыл рот и не сказал ни слова. Я повернулся к Малышу: — Приведи всех сюда! Всех до единого! Стражей, что стоят в дозоре, хозяина усадьбы с семьей, йомфру Кристин с ее служанкой. Я снова ударил его, и он ушел. Я молчал, не спуская глаз с Гаута. Он опустил капюшон плаща на лицо. *** Они пришли все, первым пришел Дагфинн, несчастный хозяин этой усадьбы. Мне было жаль этого человека, ему всегда хотелось есть, но, как правило, еды было мало. Он держал в руке дубовую палку. Это было его оружие, но даже его, если б пришлось, Дагфинн пустил бы в ход нерешительно и без должной силы. За ним пришла Гудвейг, его жена. Широкобедрая, худая, она была похожа на рабыню, но страха она не ведала. Пришла и их дочь Торил. Она была босиком и в нижней сорочке. Я знал, что мои люди неплохо знакомы с ней. Но я не испытывал зависти к ним — меня не привлекали места, где многие уже побывали до меня. Потом пришли дозорные, в эту ночь нас не охранял никто. Это все были берестеники, суровые, молчаливые, с помороженными руками. Я назову по имени только Сигурда, он был сыном того Сигурда из Сальтнеса, который сражался на стороне конунга Сверрира во многих кровавых битвах. Пришедшие стали полукругом перед очагом. Наконец пришла йомфру Кристин со своей служанкой, разбуженные второй раз за эту ночь. Глаза у йомфру Лив были испуганные, йомфру Кристин, напротив, выглядела смелее, чем в прошлый раз, когда была здесь. Я сказал: — Вам известно, что мы останемся в Рафнаберге до наступления весны? Вам известно, что вы останетесь здесь, пока я не скажу своего слова? Я знаю, что могу доверять вам, как Спаситель доверял своим апостолам. Но если среди вас найдется Иуда, он заплатит за свое предательство так, что Божья Матерь заплачет кровавыми слезами. Я отрублю ему руку! Посмотрите на меня! Тот или та, кто предаст меня, протянет руку и я отрублю ее, я или кто-нибудь из моих людей. Вам понятно? Понятно, что тот, кто шел путем конунга Сверрира, видел, как умирают люди, слышал, как они хрипят перед смертью, видел, как насилуют, а потом убивают женщин, не остановится перед тем, чтобы отрубить человеку руку, если он будет к этому вынужден. У каждого из вас две руки. Тот, кто предаст меня, останется с одной. А теперь ступайте. Они повернулись, чтобы уйти. — Постойте! — крикнул я. Они неохотно остановились. Я подошел к Гауту, схватил его за грудки и одним рывком поднял с табурета. Потом заставил его повернуться так, чтобы свет от очага упал ему на лицо, теперь оно было хорошо видно всем. И тогда я сказал тихо, но отчетливо, так чтобы все слышали каждое слово: — У тебя, Гаут, только одна рука. Но ты потеряешь и ее, если изменишь нам. Он шумно дышал. Я оттолкнул его. Взяв меч у ближайшего воина, я ударил им по столу и указал на дверь. Все ушли. И Гаут тоже. Я остался один. Слышался только шорох ветра, тяжелый шорох ветра в его бесконечном полете над лесом и морем. *** Часы шли, я сидел у очага и изредка делал глоток вина, которое Малыш раздобыл для меня две ночи назад. Кожаный мех, с которым я пришел в Рафнаберг, был уже пуст. Но Малыш относится к тем людям, кто угадывает, желания своих хозяев и умеет выполнять их. Он узнал, что у священника в Ботне есть богатые родичи, которые живут в Тунсберге. Говорили, что священник получил от них в подарок вино, привезенное из прекрасной страны франков. Теперь у священника больше не было этого вина. За свою долгую жизнь я часто невольно проникался уважением к Малышу. Он почти не знает Божьих заповедей, но если двери царства небесного окажутся заперты перед ним, он как-нибудь ночью, когда святой Петр задремлет на своем высоком сиденье, сумеет отмычкой открыть их. Неожиданно ко мне входит Малыш. — Гаут исчез, — говорит он. Я вскакиваю, в маленьких хитрых глазках Малыша я вижу страх и презрение. Он достает мне только до пояса, я готов ударить его, и он уже поднимает руку, чтобы прикрыться. Я понимаю, что бить его глупо, и опускаю руку. Гаут исчез?… Значит, моя угроза не испугала его. Он не вернулся в хлев, где спал. Он покинул Рафнаберг. Я быстро соображаю и говорю: — Сигурд должен пойти по его следу! На снегу должны остаться следы, пусть Сигурд приведет его обратно! Гаут упрям, но Сигурд упрямей его. Он успеет догнать Гаута до того, как Гаут достигнет Тунсберга. Я могу послать за Гаутом только одного человека. Их у меня слишком мало. Малыш уходит, чтобы передать мой приказ Сигурду, и я знаю, что этот молчаливый, суровый воин будет гнать Гаута, как собака зайца. Я снова сажусь и пригубливаю кубок, который мне когда-то подарил конунг Сверрир. Но тяжелая тревога не покидает меня, время от времени я встаю и хожу перед очагом. Малыш уже вернулся и теперь спит возле моей постели. Я сажусь и слушаю шум ветра. Делаю глоток вина и замечаю, как меня охватывает жар, от которого дрова в очаге загораются еще сильнее. И опять кто-то появляется у меня за спиной. *** Я медленно оборачиваюсь: это йомфру Кристин в своем синем плаще, накинутом на нижнюю сорочку. Кожаные башмаки надеты на босу ногу, ей холодно. Раньше, когда она приходила ко мне по ночам, чтобы слушать кровавую, но тем не менее прекрасную сагу об ее отце конунге, ее юное лицо выражало надменность и мягкую скорбь. Теперь оно побелело от страха, руки у нее дрожат. Она не в силах справиться со своим голосом: — Мое распятие больше не охраняет меня, господин Аудун!… Не можешь ли ты найти кого-нибудь, кто помолился бы за меня?… Я подхожу к ней, скрещенными руками она прикрывает грудь. — Распятие больше не охраняет меня, теперь оно у йомфру Лив! — говорит она. — Не ведь ты можешь попросить Гаута молиться за меня?… Сегодня ночью ты сделал его своим недругом, и моим тоже. Но моя добрая матушка учила меня, что если за нас будет молиться наш недруг, его молитва скорей дойдет до Бога. — Гаута нет больше в Рафнаберге. — Нет в Рафнаберге?… — Она широко открывает глаза, еще немного и она начнет кричать от ужаса. Я подбегаю к ней, чтобы поддержать, потом подвожу ее к табурету, стоящему у очага, и прошу сесть. — Гаут скоро вернется, — лгу я. — Мы найдем кого-нибудь другого из твоих недругов и попросим его молиться за тебя. Хотя, йомфру Кристин, найти твоего недруга не так-то просто. Я быстро соображаю — надо заставить кого-нибудь из обитателей усадьбы непрерывно молиться за безопасность и здоровье дочери конунга. Но кого? Фру Гудвейг? Она не питает ко мне теплых чувств и к йомфру Кристин тоже. Можно заставить ее молиться на чердаке, где она спит. Но тогда я не буду знать, выполняет ли она свой долг, как положено, и к тому же, заняв чердак, я помешаю Торил вдохновлять моих людей, когда они не стоят в дозоре. — Мы велим фру Гудвейг молиться за тебя. — А если она не захочет, господин Аудун? — Она захочет, йомфру Кристин. Можно заставить фру Гудвейг молиться, стоя на коленях у очага, но ее вид не доставит мне радости — ведь я буду сидеть тут же с кубком вина, которое Малыш раздобыл для меня. Ее тихое бормотание нарушит мой покой. Нет, пусть лучше молится на каменном крыльце, в темноте, на ветру. Тогда она будет в то же время и последним стражем, охраняющим дверь, ведущую к йомфру Кристин и ко мне. Я поднялся на чердак и разбудил фру Гудвейг, она спустилась вниз вместе со мной. — Стань на крыльце на колени и молись за безопасность и здоровье йомфру Кристин, — велел я и дал ей овчину, чтобы подложить под колени, фру Гудвейг с благодарностью взяла ее. — Читай Аве Мария, эта молитва помогает лучше всех других, какие ты знаешь. Будешь молиться, пока я не приду. Наверное, мне понадобиться твоя помощь и в предстоящие ночи. Фру Гудвейг послушно опускается коленями на овчину, в темноте я не вижу ее глаз, но, думаю, особой радости я бы в них не увидел. Потом она начинает бормотать. Я оставляю ее и возвращаюсь в покой, где у очага сидит йомфру Кристин. В ней больше нет ее обычной надменности, только мягкая скорбь. *** Йомфру Кристин сказала: — Господин Аудун, с тех пор, как мы пришли в Рафнаберг, ты был так добр, что много ночей подряд рассказывал мне суровую, но и прекрасную сагу о моем отце конунге. Дочерний долг велит мне знать правду о моем отце. Я высоко ценю твой рассказ — может, ты питаешь излишнюю любовь к словам, но нередко находишь именно те, что нужны. Я была бы благодарна тебе, если бы ты продолжил эту сагу, которую прервал несколько ночей назад. Я сказал: — Йомфру Кристин, твои добрые слова радуют недоброе сердце старого человека. — Господин Аудун, я знаю, что правда, которую ты мне рассказываешь, это только твоя правда и она никогда не станет правдой для кого-нибудь другого, кроме тебя. Ты говоришь о том, что видели твои глаза и вспоминает твое сердце. Но ведь ты единственный человек, который был рядом с моим отцом от дней его юности и до того мгновения, когда он прошел через ворота смерти. Никто, кроме тебя, не имеет права рассказывать правду о конунге, — и меньше всего аббат Карл, которому было поручено написать сагу о нем. Она сидела у очага, сложив на коленях руки, молодая, красивая, такая учтивая, что находила нужные слова даже сейчас, когда ее сердце было переполнено горем, страхом и грустью. И я сделал то, чего не делал никогда прежде: быстро коснулся рукой ее щеки. Потом отошел к волоковому оконцу и взглянул на небо. Там в вышине, выше ветра и темных бегущих облаков раскинулся покров из зимних холодных звезд. И на мгновение, пока у меня за спиной слышалось легкое дыхание йомфру Кристин и бормотание молитв на крыльце, где молилась фру Гудвейг, мне показалось, что между звездами и облаками я различил два лица. Они смотрели друг на друга с горечью, уважением и непримиримой враждой. Одно лицо принадлежало Гауту. В другом я узнал черты конунга Сверрира. Я сказал: — Наш добрый Гаут покинул нас, чтобы посетить посошников, стоящих в Тунсберге, и Сигурд, как собака, идет сейчас по его следу. И твоя и моя судьба, йомфру Кристин, зависит от того, кому из этих двоих Господь явит свою милость. Но помни, что фру Гудвейг уже молится за нас. Она наклонила голову, я видел, что она тоже молится. Я сказал: — В Священном писании говорится, что правда делает человека свободным. В ближайшие ночи, пока мы будем ждать, кто вернется сюда, Сигурд с Гаутом или Гаут с посошниками, моя сага о конунге подарит нам немного свободы, которая должна быть благородным грузом в сердце каждого человека. Мне мало известно о тайных помыслах Господа Бога, йомфру Кристин. Сердце конунга я знаю гораздо лучше. Мы со Сверриром стояли на холме тинга в Хамаре в Вермаланде, где он в первое воскресенье семинедельного поста взял на себя предводительство разбитым войском берестеников. С большого озера тянулись хлопья тумана, и луна, словно корабль из белого серебра, плыла среди облаков. Мы стояли и смотрели на обширную равнину с редким березовым лесом и тяжелыми одинокими елями. Среди деревьев горело полсотни костров.  ИСХОД Вокруг пляшущих языков пламени на снегу сидели люди, неистовые и тихие, здоровые и раненные, у многих в крови были не только руки. До нас долетали гудящие, ворчливые, встревоженные, гневные и хриплые голоса суровых, продрогших и усталых людей. Иногда, словно крик ворона над воющей стаей волков, проносился женский вопль. Где есть воины, всегда есть и женщины, пришедшие к ним по заснеженным тропинкам из домов и затерянных усадеб в надежде, что после того, как они выполнят то, чего от них ждут, они разживутся серебряной пуговицей. Слышалось ржание лошадей, брань и грубый хохот и где-то, — а может, то был только ветер, не знаю, старая память начала изменять мне, — где-то в высоте, в темноте, в тумане, в ночном снежном свечении кто-то пел: Господи, помилуй! Эти люди потерпели поражение при Рэ. С ними был Сверрир — их новый предводитель и будущий конунг, и я — его друг. Воинам было велено собраться вечером на равнине у холма тинга. Завтра утром конунг хотел говорить с ними. До того вечера воины жили на соседних усадьбах. Время было не из легких и для воинов, и для бондов, и для Сверрира, и для меня. Ко мне без конца приходили люди, которые с моей помощью хотели попасть к конунгу, я их не знал, и они требовали больше того, что я мог дать им. Среди них были люди с тяжелыми ранами и легкими царапинами, их изможденные лица были покрыты черными морщинами боли, многие были полуголые, их голени и ступни едва прикрывала береста. Эти дни остались в памяти, как самые тяжелые дни моей жизни. Разве я не был близким другом конунга? Разве не гордился тем, что мой долг служить всем? Я часто чувствовал себя загнанным и до смерти усталым зверем. Где целебные снадобья, которые мы обещали простывшим на морозе людям? Где человек, который должен был варить отвары из целебных трав, где женщина, которая могла бы перевязать их раны? А где пиры, где забитый скот, где одежда, где лошади, где оружие, которое конунг поклялся достать своим людям? Скоро ли оно будет у нас? Когда мы получим оружие, чтобы можно было вернуться и отомстить за свое позорное поражение при Рэ? Где конунг? А ты-то сам кто? Случалось, я убегал от них, чтобы получить хоть небольшую передышку. Я научился кричать: Один из наших умирает!… Я должен бежать к умирающему!… Повсюду были люди, раны, стоны, мороз, смущение, брань и беспорядок. Я мало спал в те ночи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
|||||||||