 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Желязны Роджер :: Кларк Артур Чарльз Популярные книги:: The Boarding House :: По заданию преступного синдиката :: «Фирма приключений» :: Невеста поневоле :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Жизнь Чезаре Борджиа :: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил |
Серенгети не должен умеретьModernLib.Net / Природа и животные / Гржимек Бернхард / Серенгети не должен умереть - Чтение (стр. 14)
Однако Михаэлю пора бы уже за мной прилететь. Я прогулялся еще немножко по окрестности, потом стал наблюдать за стадом гну, пасущимся в долине. Гну явно чем-то обеспокоены, видимо, с ними случилось что-нибудь не совсем обычное. Я настраиваю объективы своего полевого бинокля и подхожу все ближе. В серовато-зеленой траве лежит кто-то светло-коричневый, он-то и привлекает всеобщее внимание этих черных антилоп. Вот одна из них подошла к коричневому комочку и подтолкнула его носом. Комочек зашевелился и неуверенно поднялся на тонкие ножки. Он оказался новорожденным гну, видимо, первенцем этого года. Этот первенец не только для меня, но и для всего стада – настоящее событие. Когда малыш побежал, за ним с любопытством последовало 10 или 15 взрослых гну. Вдруг он упал; самки тут же окружили его со всех сторон, стали обнюхивать и осторожно подталкивать носами. Никто не дотрагивался до него острыми рогами, однако одна из самок то и дело делает угрожающие движения в сторону других, желая их прогнать, – это, видимо, мамаша. Через несколько недель, когда здесь появятся на свет сотни маленьких телят, ни одному гну не придет в голову проявлять к ним такой повышенный интерес, но этот – первый. Однако у первенца, по-видимому, мало шансов на то, чтобы выжить. Поблизости уже стоят четыре гиены и не спускают с него жадных глаз. Когда они подходят слишком близко, один из взрослых гну делает угрожающий выпад в их сторону, но гиены отбегают только на несколько шагов. Эти физи питаются отнюдь не только падалью. Их жертвами становятся многие, очень многие молодые антилопы и газели. Вот так оно происходит в природе. Новички среди работников национальных парков всегда предлагают перестрелять всех гиен, но это нарушит биологическое равновесие в природе. Одно время здесь, в Восточной Африке, начали истреблять всех леопардов. Но после этого сильно размножились бородавочники и павианы, которые начали опустошать поля и огороды местных жителей, причиняя значительно больший урон, чем леопарды, утаскивавшие время от времени лишь какую-нибудь козу. Тогда леопардов снова решили охранять. Но вот уже шесть часов. Михаэль что-то явно не торопится за мной прилетать! Ведь он отлично знает, что солнце здесь садится около семи. Если в ближайшие десять минут он не появится, значит, самолет потерпел где-нибудь аварию. А это в свою очередь означает, что мне придется здесь заночевать. Мне становится несколько не по себе, ведь у меня с собой нет ни спичек, ни карманного фонаря. Кроме того, мои часы показывают, что сейчас как раз новолуние. Но не наша ли «Утка» гудит там, на западе? И действительно, высоко над краем кратера появляется самолет, но только не полосатый, а одноцветный, и кружит он почему-то над облесенными склонами вулканической горы Лемагрут. Меня бросает в жар: уж не потерпели ли наши аварию? Вдруг это спасательный самолет, который их ищет? Но машина спускается внутрь кратера – они явно ищут меня. Я машу рубашкой. Теперь я вижу, что это самолетик марки «Цессна». Меня заметили, но приземляться не собираются. Недалеко от меня самолет сбрасывает коричневый кулек. Я подбегаю к нему, открываю и достаю кусок белой бумаги. На ней написано по-английски: «Михаэль сломал шасси. Он полетел в Найроби. Никто не ранен. Иди в том направлении, в котором полетит сейчас наш самолет». «Цессна» делает вираж, возвращается назад и, поднявшись выше, летит направо, а затем, пролетев прямо над моей головой, поднимается ввысь и наконец исчезает за краем кратера. А вот уже и звука мотора не слышно. Тишина. Ну и ну. Я сажусь на один из ящиков. Интересно, какое направление они имели в виду – первое или второе? Первое означало бы идти на юго-восток. Там, я знаю, расположено озеро, за ним лес, позади которого есть сторожка с двумя постелями. На все 250 квадратных километров, которые занимает кратер, это единственное пристанище. Там я, безусловно, смог бы переночевать, если сумею взломать дверь. Но мне ни разу не приходилось там бывать, а добираться туда, по моим расчетам, не меньше трех часов. Стемнеет же через 20 минут. А в низине, возле озера, обитает много львов – это я сам видел во время наших полетов. Нет уж, спасибо. Я лучше останусь здесь, на голой равнине с высохшей низкой травой. Сюда никакие животные не придут пастись, а следовательно, не придут и хищники, которые на них охотятся. Я могу быть совершенно уверен, что со мной до восхода солнца ничего не случится. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы здесь, в кратере Нгоронгоро, лев или даже леопард напал на человека. Но я уверен также и в том, что целых 12 часов темноты не смогу сомкнуть глаз. К счастью, штатив киноаппарата упакован в старый спальный мешок. Вот в него я и залезу. Только я знаю уже наперед: если где-нибудь поблизости раздастся хруст или шорох, я непременно воображу, что ко мне подкрадывается гиена, а если что-нибудь блеснет, то буду думать, что это глаза льва… Вот был бы я курильщиком, обязательно имел бы при себе спички или зажигалку. Ничего не поделаешь. Насколько возможно, я вытягиваю ножки штатива, расставляю их как можно шире, а сверху набрасываю кусок брезента. Когда я лежу под этим сооружением, у меня возникает ощущение относительной безопасности. Вокруг я раскладываю ящики, алюминиевую посуду, гаечные ключи и другие инструменты: я надеюсь, что если какое-нибудь животное начнет подходить, то запах непривычных вещей его может остановить. Да, немало бы я отдал за то, чтобы быть уже на одну ночь старше! Сколько ночей в своей жизни я уже проспал, сколько провел в кино или за письменным столом, но когда у тебя нечем зажечь огонь, то остается только одно занятие – предаваться размышлениям и считать минуты. До южного, отвесного склона кратера гораздо ближе, чем до сторожки, может быть, час ходьбы. Там, у подножия зеленого обрыва, виднеется несколько деревьев. А под ними что-то есть. Но даже в бинокль отсюда невозможно разглядеть, что именно. Наверное, это всего лишь куст. Но не может ли это оказаться хижиной? У меня в запасе ровно 25 минут до наступления полной темноты. А темнота здесь наступает сразу, мгновенно. Если я сейчас направлюсь к этим деревьям, а потом не найду дороги обратно, то буду плутать в кромешной тьме, совершенно один и невооруженный. Чего доброго, могу зайти в высокую траву или в какой-нибудь овраг, где укрываются хищные животные. А штатив и ящики – это уже нечто, что я могу рассматривать как свое убежище или крепость в этой глуши. Итак, времени терять нельзя, решать надо немедленно. Ровно 12 минут я могу потратить на то, чтобы быстрым шагом пройти по направлению к этой группе деревьев. Потом надо остановиться и решить, что делать дальше. Если я оттуда разгляжу, что это действительно домик, то оставшихся 12 минут мне хватит на то, чтобы до него добраться. Если же нет, я должен без промедления повернуть назад, чтобы благополучно достичь своей «штаб-квартиры». На всякий случай я разворачиваю сверток с гаечными ключами, а газету, в которую они были завернуты, привязываю сверху к штативу: я боюсь, как бы не потерять из виду эту тонконогую штуковину. После этого я отправляюсь в путь, но по дороге все время оборачиваюсь и мысленно отмечаю: «Когда будешь возвращаться назад, ты должен ориентироваться вот прямо на эту вершину горы, виднеющуюся над северным краем кратера». Предательские деревья! Они оказались значительно дальше, чем мне показалось. С собой я захватил только старый спальный мешок и сумку с фотоаппаратами. Иду семимильными шагами и строго слежу по часам. Через 12 минут я останавливаюсь и снова смотрю в бинокль. Деревья едва приблизились. В этом разреженном, прозрачном горном воздухе вечно недооцениваешь расстояния. Теперь я мог бы биться об заклад, что предмет там, под деревьями, всего лишь куст. Но, прежде чем вернуться, я еще раз внимательно осматриваю в бинокль местность. Вот там, налево от меня, виднеются две тонкие вертикальные полоски. Это могут быть только люди. Или зебры: если смотреть на этих животных прямо в лоб, они выглядят точно так же. После некоторых сомнений я решаю, что это, безусловно, люди. Меняю направление и иду к ним. Но тут передо мной возникает песчаный овражек в два-три метра глубиной. Когда я из него вылезаю, то загадочных полосок оказывается уже не две, а три. «Если бы это были зебры, то они вряд ли могли все время стоять ко мне точно анфас» – так я себя уговариваю. А тем временем сумерки все сгущаются, и к тому же приходится пробираться по высокой, до пояса, траве, похожей на тростник. Но под ней, слава богу, сухая земля, а не болото. Теперь я ясно различаю красный огонек. Наверное, костер. На душе у меня становится легче. Это могут быть только масаи. И это на самом деле они: шесть моранов, то есть молодых воинов, и двое мальчишек лет одиннадцати. Они только что согнали на ночь на ровную площадку, покрытую сухим навозом, стадо из 600 овец. Ни забора, ни колючей ограды. Все восемь масаев заняты тем, что вылавливают из стада маленьких ягнят и сажают их в плетеные загоны, стоящие в самой середине этой площадки. Таким способом их, наверное, укрывают на ночь от хищников. Молодой воин огромного роста идет мне навстречу и пожимает руку: – Джамбо (здравствуй)! Я тоже говорю «джамбо». Из того, что этот человек говорит мне дальше, я, разумеется, не понимаю ни слова. Правда, я пытаюсь догадаться. Наполовину по-суахили, наполовину по-английски я объясняю ему, почему я очутился ночью один в степи. Наконец он, кажется, что-то понял, видимо, слово «ндеге». Но потом он оставляет меня одного: ему надо позаботиться о своих овцах. Эти масаи, видимо, каждую ночь сгоняют сюда свои стада. Посреди площадки для ночлега овец воздвигнуто нечто вроде трехстенного сарайчика из сухих жердей. Сверху на него набросано несколько шкур – от дождя. Перед открытой стороной разведен костер. Я, как цапля, перешагиваю через спящих овец, с трудом находя между ними местечко, куда бы поставить ногу. Лавируя в этом море теплых лохматых овечьих и козьих тел, я добираюсь наконец до шалаша. Два подобных сооружения поставлены и у другого края площадки. Я перешагиваю через огонь и сажусь возле полуоткрытого маленького шалаша. Внутри он устлан шкурами и циновками. Все восемь масаев один за другим подходят и садятся на корточки вокруг костра. Они меня о чем-то расспрашивают, но я вынужден только пожимать плечами. По всей вероятности, они хотят меня чем-то угостить, потому что в их разговоре несколько раз повторяется слово «чакула», что на языке суахили означает «пища», «еда», «провизия». Но я отрицательно качаю головой: признаться, я побаиваюсь яств масайской кухни. Чего доброго, они предложат мне попить свежей крови или еще что-нибудь в этом роде. Я показал им кусок хлеба, завалявшийся у меня в кармане, но это их ни в чем не убедило. По знаку самого высокого воина мальчишки притаскивают коричневую короткошерстную овцу. У самого костра ее кладут на спину и связывают ей ноги. Масаи смотрят на меня вопросительно. Что я должен сделать? Просто ума не приложу, чего они от меня хотят. Но тут высокий моран берет свое копье и всаживает его в брюхо животного. Он всовывает копье все глубже и глубже. «Жестоко так медленно закалывать животное», – думаю я, но тут же замечаю, что крови не видно. Оказывается, масаи уже заранее задушили овцу. Кому здесь по-настоящему приходится работать, так это только мальчишкам. Они ошкуривают животное, потрошат его, разматывают кишки. Селезенку, печень и кусочки мяса нанизывают на деревянные шампуры. Один конец такого прута втыкают в землю, другой, на котором надето мясо, пригибают к огню. Высокий моран, приветствовавший меня первым, вытаскивает из брюшины прозрачную пленку, пропитанную нутряным салом. Он показывает ее мне и, без сомнения, спрашивает, хороша ли она. Я содрогаюсь при одной мысли о том, что эту пакость придется есть – все равно, будь то в жареном или вареном виде, но проявляю несвойственную мне трусость и киваю головой: «Да». Масаи смеются; не знаю, чем я себя скомпрометировал. Старший моран протягивает мне прутик с полупрожаренной печенкой. Я беру палочку за два конца и стараюсь отгрызть кусок от этого лакомства. Между прочим, на вкус оно совсем неплохое. Они опять все смеются. Видимо, и у масаев не принято вот так откусывать прямо от целого куска. Один из них вынимает нож и протягивает его мне. Я ем нарочно медленно, потому что знаю, что, как только кончу, мне тут же подадут следующую порцию. Мораны вешают над огнем большой котел и бросают в него куски баранины. Едят они прямо колоссальными порциями, но ведь они и поработали сегодня немало. Поскольку я отказался съесть наполовину сырое баранье сердце, то один из воинов засовывает его в щель между прутьями шалаша, в котором я буду спать: авось я ночью проснусь и съем его. Верзила укладывается рядом со мной ногами к огню и закутывается с головой в свое шерстяное одеяло, которое он днем перекидывает через плечо наподобие римской тоги. Я залезаю в свой спальный мешок и подкладываю под голову сумку с фотоаппаратами. Остальные остаются сидеть у костра. Один из парнишек отрезает бараньи ножки и держит их над огнем до тех пор, пока шерсть и кожа не обугливаются. Наверное, это особое лакомство для масаев: эти косточки они грызут с таким же удовольствием, как мы конфеты или другие сладости. Потом они начинают петь. Одна и та же музыкальная фраза все время поется высокой фистулой, за которой через определенные промежутки следуют две басовые ноты. Разумеется, я не могу понять, о чем поют масаи, но знаю, что они мастера сочинять насмешливые частушки. Так и есть. До меня доносятся взрывы смеха, и несколько раз я различаю слово «ндеге». Так всегда бывает: тот, кто попал в глупое положение, насмешек не оберется! Воин рядом со мной храпит под своим одеялом во всю мочь. Некоторые из овец тоже храпят. Я раньше не знал, что овцы, оказывается, могут храпеть. Большой щенок, которого масаи до этого все время отгоняли прочь, наконец ухитрился пробраться в сарайчик. Он улегся прямо на моих ногах. Ну что ж, так теплее. Проспал я с десяти до без четверти четыре. Просыпаюсь и еще два часа гляжу в звездное небо. Размышляю. Михаэль сейчас в Найроби. Спит, верно, сном праведника в отеле «Нью Стенли» после душа в роскошной кафельной ванной. Но все равно я не хотел бы с ним поменяться местами. Он ведь наверняка расстроен и огорчен, что самолет опять на какое-то время вышел из строя. Но важнее всего то, что ни с ним, ни с пассажирами во время посадки ничего не случилось. Все равно в ближайшие дни нам уже предстоит вернуться в Европу, и до тех пор, пока мы приедем сюда снова, машину сто раз успеют отремонтировать. Хорошо, что ему удалось долететь на ней хоть до ангара. В половине седьмого светает. Я перелезаю через спящих животных, чтобы выйти прогуляться по степи. Но это почему-то выводит из себя тощих собак, охраняющих овец. Я должен оставаться в стаде. Хорошая овчарка не выносит вида отбившейся от стада овцы. Она до тех пор будет лаять и хватать ее за ноги, пока та не вернется назад. Два королевских ворона с белыми воротниками и крепкими изогнутыми, светлыми на концах клювами важно расхаживают среди овец. Одна из маток двинулась прямо на непрошеных гостей, но те и не подумали улететь, только отбежали в сторону. Не без труда овце наконец удается их прогнать. Когда стадо выгнали пастись, один из моранов вызвался проводить меня до «campi», как называют здесь сторожку за лесом. Он никак не может понять, почему я сначала хочу пойти совсем в другую сторону. Вчерашняя группа деревьев служит мне ориентиром, и через три четверти часа мы благополучно достигаем того места, где я оставил свои пожитки. Все цело: и треножник, и чемоданы, и ящики. Один из чемоданов красноватого цвета, и, завидев его издали, масай испуганно схватил меня за руку: – Куфа (мертвый)? Но я успокоил его. Вот как быть со всем этим багажом? Что касается меня, то я бы с удовольствием оставил его там, где он лежит. Ведь все равно в течение дня за мной пришлют какую-нибудь машину, и она все заберет. Но масай считает это разгильдяйством. Он втыкает свое копье в землю, поворачивается и стремительно уходит. Пошел за ослами. Проходит больше часа, я уже начинаю волноваться. Но он вернется, он ведь оставил в залог свое копье. Интересно, что этот моран подумал? Он ведь искренне испугался, вообразив, что кто-то разбился насмерть! Капитан Мориц Меркер, полвека назад изучавший быт и нравы этого народа, много занимался его религиозными обрядами и поверьями. Он писал, например, что масай якобы трижды в день, воздев руки к небу, молятся солнцу. У каждого масая есть свой ангел-хранитель, который его после смерти перенесет в рай. После Меркера никто так скрупулезно не занимался масаями. Однако те, кому приходилось здесь жить в прошедшие десятилетия, не верят в рассказанные ему сказки, так сильно смахивающие на христианские поверья. Вполне возможно, что оруженосец Меркера, поведавший ему обо всем этом, наслушался всяких миссионерских проповедей. Но в одном действительно не приходится сомневаться: масаи верят только в одного Бога. Для них не существует, как для других африканских племен, множества злых духов, которым основной Бог, живущий за облаками, дал власть над маленькими, слабыми людьми. Бог гордых степных воинов не слишком-то заботится о судьбе людей. Единственный вулкан, который в этих местах еще время от времени действует, масаи называют Олдонио Ленгаи, что означает «гора Господня». В загробную жизнь, мысль о которой так утешает многих людей и примиряет их с тяжелой действительностью, масаи не верят. Это они сами нам говорили. Окружной комиссар, которому подчинены масаи этого района, две недели назад нашел молодого воина, страшно изувеченного кафрским буйволом. Ноги у него были сломаны, живот вспорот. Он погрузил несчастного на свой пикап и повез в госпиталь в Арушу. Тряска в автомобиле по неровной дороге наверняка причиняла раненому невыносимые муки. Англичанин видел, как искажались черты юного смуглого лица, но ни одна жалоба не сорвалась с губ масая, он не издал ни единого крика, ни единого стона. Вскоре по приезде в госпиталь он умер. Да, это, безусловно, мужественные люди! Когда масай умирает в своем доме, родня старается еще при его жизни незаметно снять с него все украшения – браслеты, серьги, ожерелья. Если он умрет в них, уже никто никогда не сможет ими воспользоваться. Но обычно каждая жена, каждый ребенок и даже добрые друзья получают что-нибудь на память о покойном. Для тяжело заболевших детей или гостей срочно строят «времянку» вне стен бома, где и ухаживают за ними. Если больные умрут внутри бома, то все домики должны быть сожжены, а вся огромная община должна сняться с места и заново строить другую бома. Оплачивать такое переселение обязаны родственники покойного. Таким образом, помещая больных вне бома, стараются избавить их родню от лишних трат. После смерти масая его братья и жены закалывают где-нибудь за пределами крааля быка, желательно под каким-нибудь деревом. Покойника смазывают салом убитого животного и укладывают в тени головой на восток. Кладут его обычно на бок с поджатыми к животу ногами, левую руку подсовывают под голову, а в правую вкладывают пучок травы и прижимают к груди. К ногам привязывают новые сандалии. Трава в руке олицетворяет у масаев мирные намерения. В первую же ночь гиены и шакалы съедают покойника. Если они его не тронули, это плохое предзнаменование. Известных шаманов или вождей племен иногда хоронят и в земле. Каждый, кто проходит мимо, должен положить на могилу камень, так что вскоре вырастает высокий холм. Все члены семьи покойного бреют себе головы. Имя его никогда больше не должно произноситься. Если покойный носил имя, которое встречается в обыденной речи, например Оль-Онана, что означает «благородный», то его семья больше не имеет права произносить слово «благородный», а вынуждена заменять его каким-нибудь другим, например «польполь», что означает «мягкий». Наконец вернулся мой воин, которого я здесь дожидаюсь, да еще в сопровождении двух других. Они пригнали трех ослов, а ослы, как известно, не торопятся, поэтому на все потребовалось немало времени. Ослы здесь принадлежат женам. Работать этим животным приходится примерно раз в полгода, когда семья снимается с места и перевозит свой скарб в новую бома. Ослам привязывают огромные карманы из заскорузлой кожи. Они такие жесткие, что нам приходится втроем втискивать в них мой багаж. Ремни врезаются в тела бедных животных. Мы отправляемся в сторону дальнего леса. По пути я увидел 17 гиен, собравшихся в тесную кучу, хотя нигде поблизости не было видно падали. Львов, сидящих в высокой траве возле озера, масаи прогнали криками. Львы определенно боятся этих стройных воинов, даже ослы их нисколько не привлекли. Мои провожатые хватают меня за руку и указывают на два облачка пыли вдали. Это два автомобиля, петляющие по степи в нескольких километрах отсюда. Они определенно ищут меня, но почему-то не приближаются. Позже я узнал, что издалека они приняли меня за масая. Мы продолжаем свой путь. Тащимся уже три часа. Солнце печет мне голову, ведь у меня давно нет такой шевелюры, как у Михаэля. Перепрыгивая болотистое место, я не рассчитал, и моя нога по самую щиколотку погрузилась в вязкий серовато-белый рассол. Наконец одна из машин догадалась подъехать. Нам предлагают поесть, но мы отказываемся, а вот воды я выпил почти два литра, и мои масаи тоже. Вместе с главным воином мы садимся в машину, остальные с осликами должны потом подтянуться. Сидящий в машине господин предлагает нам сигареты: я отказываюсь, но масай запускает в коробку всю пятерню, вынимает шесть или восемь штук и после потихоньку сует их мне. Он считает себя чем-то вроде моего сообщника. Я уговариваю его попробовать закурить, но он не знает даже, как это делается. Он зажигает сигарету, но забывает при этом втянуть воздух с другого ее конца. Тут я вспоминаю, что молодым воинам курить запрещается, курят только «старейшины»… Европейцами, сидящими в машине, мой масай интересуется ничуть не меньше, чем они им. Он с интересом трогает прядь седых волос сидящей впереди него пожилой дамы. Потом прикасается к светлым волосам ребенка, сидящего у нее на коленях. Не меньше его занимает и «шерстистый покров» моих рук: он то и дело проводит по нему пальцами, словно гребнем, и улыбается. Его собственная гладкая, словно отполированная, темная кожа лишена всякой растительности. От моих спутников я наконец узнаю, что случилось со всеми остальными. Оказывается, во время взлета самолет одним колесом ударился о какой-то камень. Пассажиры ощутили лишь незначительный толчок, но правой «ноги» самолета как не бывало – ее точно бритвой срезало. Михаэль заметил это только потому, что внезапно открылась дверца. Ему силой пришлось удерживать ее на месте. Но тут, к своему ужасу, он обнаружил, что рядом с его ногой в полу образовалась огромная дыра, сквозь которую видна земля. В нее сразу же ворвался ветер. Одновременно машину резко подбросило вверх, и она стала замедлять свой ход. Если сейчас же не набрать необходимую скорость, самолет моментально рухнет вниз. Рули направления и высоты вышли из строя. Михаэль лихорадочно работал. В такие минуты страх куда-то исчезает, бояться просто некогда – надо действовать. А вот три пассажира, сидящие в вынужденном бездействии, те видели, что на них надвигается смертельная опасность. Но прежде чем они полностью осознали, что им угрожает, опасность миновала, во всяком случае на какое-то время. С помощью дифферента и закрылок Михаэлю удалось снова восстановить равновесие и увеличить скорость. Пот лил с него градом, но теперь он мог хоть вздохнуть и обдумать создавшееся положение. Приземляться на одном колесе – это значит рисковать жизнью. Здесь, в Серенгети, помощи ждать неоткуда. Если машина во время посадки загорится, тушить огонь некому. И для раненых здесь нет ни врачей, ни больницы. Даже в том случае, если люди останутся целыми и невредимыми, ремонт самолета в этой глуши снова затянулся бы на долгие недели, может быть, месяцы, а возможно, его пришлось бы разобрать на части и увезти. Горючего было полно, машина еще уверенно держалась в воздухе, хотя и летела не так быстро, как хотелось бы. Михаэль решил лететь в Найроби. Прежде всего он низко пролетел надо мной и бросил мне записку. Но его отец в это время дремал на солнцепеке и едва приоткрыл глаза. Он не заметил даже, что у самолета осталась всего одна нога. В такие моменты сыновья могут проклясть даже собственных отцов. Бензина на этот перелет потребовалось немало, но, когда машина добралась до Вильсоновского аэродрома, баки были еще наполовину наполнены. Михаэль опасался, как бы горючее не вспыхнуло во время удара корпуса о землю. Поскольку его нельзя было вылить, он еще полчаса кружил над аэродромом, чтобы истратить бензин. Три месяца назад здесь погиб один летчик, опылявший инсектицидами поля против саранчи. Сразу же после старта он вынужден был приземлиться с полными баками недалеко от аэродрома, загорелся и погиб во время этого пожара. Михаэль оглянулся. Лица трех его пассажиров были бледны и серьезны. Там, внизу, на земле, люди играли в теннис, на пруду кто-то катался на лодке и упражнялся на водных лыжах. Хорошо бы уже твердо стоять обеими ногами на земле и чтобы эта опасная посадка с одним колесом была позади! Герман вспомнил про большую батарею для питания кинокамеры. Она была наполнена серной кислотой, которая при неудачной посадке могла разлиться и разъесть людям кожу… На всякий случай он выбросил ее за борт. Это были долгие полчаса, когда Михаэль кружил над аэродромом. Подлетая, он радировал о том, что с ним случилось, так что внизу уже стояли наготове кареты скорой помощи, две красные пожарные машины, суетились представители прессы, а все летное поле окаймлял бордюр из зевак. Наконец бензин кончился. Михаэль спланировал вниз, пролетел над посадочной дорожкой, накренив машину слегка вправо, потом постепенно опустился на уцелевшее колесо и ехал на нем некоторое время по асфальту; только когда самолет совсем замедлил свой бег, он накренился и повернулся вокруг своей оси. Это была совершенно виртуозная посадка! Ни вторая нога не обломилась, ни крыло не помялось. Тем не менее с быстротой молнии подъехали пожарные машины и покрыли пеной весь самолет, не обращая никакого внимания на протесты Михаэля. Вот тут-то все четверо почувствовали страшный упадок сил. Они даже не были в состоянии отвечать на вопросы журналистов. Михаэль только спросил своих спутников: – Помните, когда мы кружили над аэродромом, то все время пролетали над кладбищем? Правда ли это или мне только показалось, что там были вырыты четыре свежие могилы? Оказывается, все их заметили, но никто не решался сказать об этом вслух, пока самолет был еще в воздухе. На этот раз мы еще дешево отделались и в воздухе, и в кратере.  Глава четырнадцатая ПРО МУХУ ЦЕЦЕ 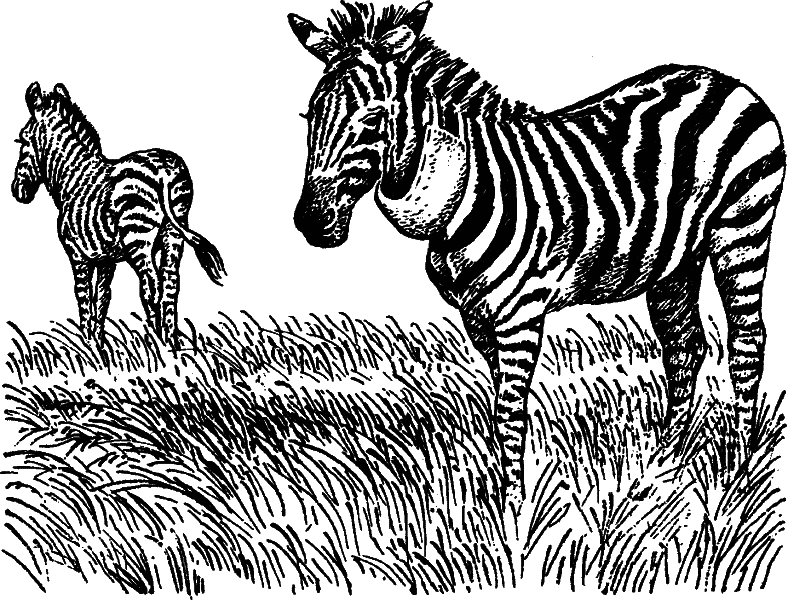
Мы рассказали вам, как бегали наперегонки с антилопами, играли с носорогами; мы познакомили вас и с трубящими страусами, и с влюбленными зебрами, но об одном из самых важных животных Серенгети мы чуть не забыли упомянуть. Хотя оно широко известно и пользуется дурной славой, тем не менее ни в одной книжке об Африке вы не найдете о нем каких-либо подробных сведений. А между прочим, это животное – единственный защитник слонов и зебр в тех случаях, когда человек пытается отобрать у них родину. Я имею в виду муху цеце, этого переносчика сонной болезни и болезни нагана. Так называемый коридор, то есть западная часть национального парка Серенгети, куда откочевывают наши огромные стада во время засухи, заражен мухой цеце. Если бы не это обстоятельство, там давно было бы полно деревень и ферм или же масаи пасли бы там свой рогатый скот. – У тебя прямо какая-то слоновья кожа, – уверяет меня Михаэль. Дело в том, что когда я во время езды раздетый по пояс сижу на радиаторе нашей машины, то к моей спине непременно прилипнут 10, а то и 15 этих кровососущих насекомых. Из кабины их хорошо видно, но дотянуться до них и прогнать невозможно. Сам же я ровно ничего не чувствую, мне даже не щекотно, потому что я давно ко всему привык. Когда мы проезжаем через какую-нибудь рощицу или речную долину, бывает, что вся машина в мгновение ока битком набивается этими мухами. Мне кажется, что жертву свою они находят отнюдь не при помощи обоняния: они просто-напросто преследуют любой крупный двигающийся предмет. Поэтому-то их так и привлекают автомобили. Однажды нас окружила целая туча мух – штук 150, если не больше. Они долго преследовали нашу машину. Когда я вылез и немного прошелся пешком, ни одна из них не обратила на меня никакого внимания; автомобиль был гораздо больше, а следовательно, и привлекательнее для них, чем я. Порой они стараются сесть даже на вращающиеся колеса. Муха цеце не больше нашей обычной комнатной мухи. Цеце водятся только в Африке, больше нигде в мире. Их там 20 видов. Муху цеце легко можно отличить от всех других. Обыкновенные мухи, в том числе и наши европейские комнатные, ползая или сидя на чем-нибудь, складывают свои крылья на спине таким образом, что они несколько расходятся косо в стороны, как веер. А муха цеце складывает крылья плотно – одно поверх другого, наподобие ножниц. Поэтому ее совершенно невозможно спутать с какой-либо другой мухой. Если посмотреть в лупу (а у кого зрение острое, даже без нее), то на каждом крыле мухи цеце можно различить маленькую секиру: прожилки расположены таким образом, что посередине получается что-то вроде маленького топорика. Кроме того, у этих мух щупальца покрыты перьеобразными ворсинками, но это уже детали. Во всяком случае они настоящие «африканцы» и в любом другом месте чувствуют себя плохо. Двадцать миллионов лет назад они водились и в Америке, но сейчас, когда их вместе с какими-нибудь товарами затаскивают на самолетах в Бразилию, они там не приживаются. Во всяком случае до сих пор не приживались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|||||||