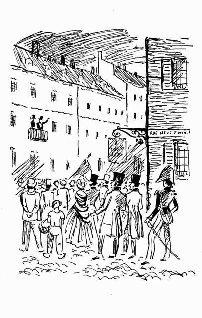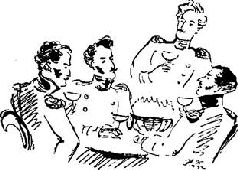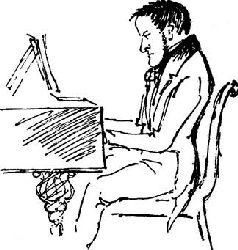ЛЕОНИД ГРОССМАН
ЗАПИСКИ Д’АРШИАКА МОСКВА
ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕРИЯ
? ЗАБЫТАЯ КНИГА ?
Издательство «Федерация»
1931
*
ПУШКИН В ТЕАТРАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ
Брокгауз-Ефрон 1926
*
КАРЬЕРА Д’АНТЕСА
Москва
Журнально-газетное объединение
1935
__________________
МОСКВА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1990
Вступительная статья Владимира Шацкова
Составление М. М. Френкель
Иллюстрации Н. Кузьмина
Оформление художника А. Семенова
МЕРА РОМАНА
«Разве хорошие произведения нуждаются в предисловии?» – спрашивает посол Великобритании в третьей главе «Записок д'Аршиака». Оброненная фраза остается без ответа – вполне очевидно, что граф Нессельроде, к которому она обращена (а вместе с ним и автор романа), молчаливо согласны со сказанным. Однако, вопреки собственному мнению, Леонид Гроссман дважды напишет предисловие к своему безусловно неплохому произведению – в 1930 и 1960 году. А между этими датами будут издания в Лондоне и Нью-Йорке, Варшаве и Праге, в буржуазной Риге, в Харькове, Москве. Наверное, ясно, что безынтересные романы не пользуются одинаковым успехом в столь разных местах. И все же… предисловия понадобились.
Внутренние посылы к писанию романов и предисловий различны. Писатель обрекает себя на долгий и тяжкий труд, чтобы поделиться с людьми частью чужой биографии, которая его удивила и потрясла. Автор предисловия заставил себя сесть за стол, чтобы ответить на длинный реестр еще не заданных, а только возможных вопросов то ли невежественного, то ли криводушного критика.
«Записки д'Аршиака» воспринимаются как подлинные мемуары. Многие остаются при убеждении, что пролистали неподдельную «петербургскую хронику». Придумав автора, Гроссман настолько вошел в его душу и плоть, что в 1960 году (через тридцать лет после первого издания!) нечаянно обмолвился в своем втором (ненапечатанном) предисловии: «…я ни в чем не изменил и формы этого м е м у а р а» (разрядка моя. –
В. Ш.).Вспоминая за д'Аршиака, друга и родственника Дантеса, он не мог оставаться Леонидом Петровичем Гроссманом, родившимся в конце другого века, в 1888 году, в семье одесского врача. Не мог он и оставаться юристом, каким был по образованию, чтобы судить секунданта убийцы Пушкина по
5
законам иного общества. И то и другое было поставлено ему в вину.
Суд критики над романом Гроссмана напоминает костюмированные суды над Онегиным и Печориным, происходившие на рабфаках и ликбезах. Если бы он избрал «автором» не секунданта Дантеса, а секунданта Пушкина, роман был бы иным. Это понимали и обвинители, и праздная публика. Однако обвинения были произнесены, а формулировки заточены.
«Героизация» Дантеса (который был не более, но и не менее порядочен, чем светская «чернь»). Причисление Пушкина к латинской культуре (как будто он не был воспитан на классических образцах и служение музам – а не социальным классам – было ему в тягость). Искажение иконного лика (хотя Пушкин гримасничал и тем самым наверняка искажал свои «тропининские» черты, по признанию всех современников).
В итоге «Записки д'Аршиака» Гроссмана и книга Вересаева «Пушкин в жизни» (которая еще ждет своего полного переиздания) оказались на одной скамье подсудимых, а после этого в одной зоне нарочитого умолчания. Как на выставке ВДНХ мог быть только один образцовый ботинок (даже не пара!), так мог быть один выставочный философ, один выставочный художник, один выставочный поэт. В этом смысле Пушкину не повезло. Именно в России, где о нем написано больше, чем о ком бы то ни было, но чаще всего в жанре жития, а не исповеди, в порыве восхваления, а не сопереживания, не соучастия.
«Мера романа – человеческая биография или система биографий». В этой принадлежащей Мандельштаму формулировке хочется подчеркнуть слово «человеческая». Жизнеописание полубога или земного героя, обожествленного людьми, имеет равное право на существование, однако при любой, самой захватывающей фабуле оно не будет романом. Высвечивая основную идею личности?, оно просто обязано отсекать все случайное, лишнее, привнесенное суетой, что нередко мешает проникнуться смыслом жизни другого человека даже его близким.
Тому, кто хочет понять идею личности Пушкина, лучше открыть книгу «Пушкин» из серии ЖЗЛ того же Леонида Гроссмана. Тому, кто хочет понять глубину личных переживаний поэта, стоит погрузиться в историческую детальность «Записок д'Аршиака». Ведь даже обращаясь к Евангелию, кто-то чаще перечитывает главы о воскресении Христа, а кто-то – о крестных муках.
_______________
? В платоновском смысле: как замысел Творца, полно или частично проявляемый в земном существовании.
6
Соблазнительно отнести непонимание очевидного различия жанров профессиональными литераторами (а вместе с тем и появление «защитных» авторских предисловий) единственно к условиям сталинского режима. Однако даты явно не совпадают: двадцать девятый – до, шестидесятый – после. Можно говорить о преддверии, можно рассуждать о последствиях, но ни то, ни другое не объясняет схожее возмущение по поводу статьи Владимира Соловьева, охватившее российскую публику задолго до «Д'Аршиака».
Исходя из принципов своей веры, Соловьев высказал соображение, что Пушкин убит собственным нехристианским, упорным и нераскаянным стремлением совершить убийство?.
Требовать, чтобы религиозный философ рассматривал дуэль в других терминах, невозможно никакому сколько-нибудь объективному оппоненту. И все же требования были предъявлены, автор осужден (слава богу, лишь общественным мнением), а статья Соловьева «Судьба Пушкина» (1897) нашла своего издателя лишь спустя почти столетие.
В свои девять лет, которые ему исполнились к моменту выхода «Вестника Европы» со статьей Соловьева, Гроссман, разумеется, не мог иметь собственного мнения о нашумевшей работе. Но будь он и старше на целый гимназический курс, всей методикой преподавания российской словесности (по сути своей не изменившейся и теперь) он был обречен оказаться на стороне хулителей и ругателей великого философа. Житейское практически исключено из отечественных жизнеописаний, и дурная привычка единственно к «житийному», каноническому восприятию заставляет нас подозревать в святотатстве любой человеческий интерес к писательской биографии.
Передаваясь от поколения к поколению, этот единственный подход настолько укоренился, что, вспоминая ушедших современников, мы невольно следуем житийным образцам схоластических учебников. Такое ритуальное выхолащивание происходило с биографиями Сергея Есенина и Владимира Маяковского и продолжается нынче с Николаем Рубцовым, Александром Вампиловым, Владимиром Высоцким.
Чтобы прийти только к мысли о дозволенности документально проследить трагические метания Пушкина в последний год его жизни, Гроссману было мало освободиться от ученических представлений и стать самостоятельным исследователем (к работе над романом он приступил уже будучи автором пя-
_________________
? Ср. у Гроссмана: «Пушкин неожиданно встал перед нами, как беспощадный враг. Его воля к убийству рвалась из каждой строки его письма» («Записки д'Аршиака», гл. 6, часть 6).
7
титомного собрания сочинений, в которое вошли лишь историко-литературные произведения). Ему пришлось испытать подлинное потрясение, встретив в Дантесе не пустейшее «созвездие маневров и мазурок», не просто ловца «счастья и чинов», каким он хрестоматийно изображался, а весьма одаренного, многообещающего, подверженного сильным страстям человека, как о нем отзывались современники, и в том числе сам Пушкин. Оказалось, что ревность поэта не была беспричинной, хотя бы по отношению к несомненным достоинствам соперника, и трагическая развязка на Черной речке – не просто незатейливая ловушка сановных злопыхателей, в которую так легковерно и слепо попался один из умнейших людей своей эпохи.
«Философия начинается с удивления». Эта фраза произнесена Аристотелем в «Поэтике», и притом в те времена, когда понятие философии еще совпадало с понятием искусства. Роман Гроссмана начался с удивления исследователя, когда его прежние представления о лицах, замешанных в пушкинской дуэли, оказались развеянными непреложным свидетельством документов. Отсюда и выбор «автора» – д'Аршиака, – чья честность и порядочность подтверждены ближайшими друзьями Пушкина и чья примиренческая позиция позволяла общаться с обеими сторонами. Отсюда и ожидание столь же сильного потрясения у читателя, и попытка защитить свое право художника на отход от канона в первом предисловии 1930 года.
Нетрудно представить единодушное возмущение многопартийной (и все же традиционно политизированной) российской критики, появись роман Гроссмана в дореволюционное время. Насколько же более шумной и праведной должна была стать и стала реакция оскорбленной критики тридцатых годов, уже прошедшей начальную школу классовых чисток. «Когда борьба классов становится единственным и общепризнанным событием… акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа» ?. Обращение к роману, к человеческим биографиям, да еще в связи с именем Пушкина, было в то время не только смелым, но и наивным шагом, лишний раз говорящим о чистоте помыслов автора, если бы в этом сказалась нужда и сейчас, при четвертой попытке советского издания (которое намечалось еще при жизни Гроссмана, почти тридцать лет назад, в 1960 году). Именно ему было предпослано второе авторское предисловие, где Гроссман, по сути дела, соглашает-
_______________
? Примечательно, что это суждение Мандельштама, высказанное в 1922 г., обнародовано лишь в 1987 г., да и то в разделе «Примечаний» (О. Мандельштам. Слово и культура. М., Советский писатель, 1987, с. 285).
8
ся с критическими окриками, уверяет, что будто бы отказался от «портретирования Дантеса, поскольку иные из читателей усмотрели в этом героизацию убийцы Пушкина», и тем самым горько признается, что не очень верит в читателя «первой оттепели».
Более того, Гроссман взялся за редакторские ножницы, но они, по счастью, дрогнули в его руке, и правка оказалась минимальной. «Это был своеобразный и очень одаренный юноша», – говорит д'Аршиак в первой главе. Гроссман вычеркивает слово «очень». «Лицеисты обожали его», – упрямо продолжает двоюродный брат Дантеса. «Лицеисты любили его», всего лишь «любили», – пробует возразить Гроссман. И так далее, меняя «пленительный» на «находчивый», сравнения с северными богами на схожесть с тевтонскими рыцарями, выкидывая слова Жуковского? и даже цитату из последнего письма Пушкина о волнении его жены перед «великой и возвышенной страстью».
Гроссману не удалось окончательно испортить собственную рукопись, и поэтому роман не увидел света в 1960-м. Однако история первого издания имеет печатное продолжение. Следуя за Владимиром Соловьевым, Гроссман считал, что судьба Дантеса кончилась с его выстрелом в первого певца России. Блестящая одаренность не дала плодов, и долгая жизнь (он умер в 1893 году) оказалась разменянной на бессмысленные и не всегда чистоплотные политические интриги. Быть может, заглавие статьи Соловьева «Судьба Пушкина» подсказало Гроссману название его работы «Карьера д'Антеса», которая составляет неразрывное целое с «Записками д'Аршиака».
Представляя читателю этот официально «забытый» роман вместе с продолжающим его исследованием о Дантесе, издательство остановилось на первой, неискаженной редакции «Записок». В объяснение этого выбора, и только для этого, написано новое предисловие.
Владимир Шацков
_______________
? «Если бы его (Пушкина. –
В. Ш.)вовремя отпустили в Европу, его гений достиг бы небывалых размеров и жизнь бы его была спасена».
9
Трагический эпилог жизни Пушкина – такова главная тема исторического романа, названного автором «Записки д'Аршиака». Рассказ здесь ведется от имени молодого французского дипломата, принимавшего участие в знаменитом поединке 27 января 1837 года в качестве одного из секундантов.
Виконт д'Аршиак, атташе при французском посольстве в Петербурге, как друг и родственник Жоржа д'Антеса, убийцы Пушкина, был посвящен во все тайны дуэльной истории, а как дипломатический представитель Франции он тщательно изучал петербургские правительственные круги, высшее общество и двор Николая I. Это дает возможность автору развернуть обстоятельства последней дуэли Пушкина на фоне императорского Петербурга тридцатых годов, изображая события и нравы эпохи с точки зрения европейского политического деятеля, заинтересованного крупными государственными людьми и характерными общественными явлениями тогдашней самодержавной России.
Рассказ в предлагаемой хронике развертывается по линии подлинных событий тридцатых годов на основе актов, мемуаров, газет и писем эпохи. О самом д'Аршиаке до нас дошло немного свидетельств. Но в общей сложности они дают достаточно отчетливое представление о нем. Все знавшие д'Аршиака неизменно говорят о прямоте и благородстве его характера, о его уме и незаурядной образованности. Историки последней дуэли Пушкина не раз отмечали, что современники д'Аршиака отзывались о нем с величайшими похвалами, единодушно подтверждая, что он глубоко уважал и ценил Пушкина. Достаточно известно свидетельство
В. А. Соллогуба, который в ноябре 1836 года, полу чив от Пушкина инструкцию насчет условий «самого беспощадного поединка», с замирающим сердцем отправился во французское посольство. «Каково же было мое удивление, – рассказывал он впоследствии, – когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он сам всю ночь не спал: что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела»…
– Мы предотвратим, может быть, большое несчастье, – заключил свои соображения об отмене дуэли секундант д'Антеса, снова подчеркивая свое глубокое понимание значения Пушкина для России.
Соллогуб был живо тронут этой культурной чуткостью и душевным тактом своего собеседника. «Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью», – отмечает он в своих воспоминаниях.
Таковы и прочие свидетельства современников. Дочь историка Мещерская-Карамзина сообщает в своих письмах, что д'Аршиак воздавал высокую хвалу героическому облику Пушкина. Александр Тургенев заносит 30 января 1837 года в свой дневник запись о беседе с д'Аршиаком: «Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы назвал он «parfait»
1. Но слова его (Пушкина) о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у д'Аршиака возможность примирить их». Таким образом, до самого конца секундант д'Антеса не терял из виду возможности примирить противников. Наконец, свое письмо-протокол Вяземскому д'Аршиак заканчивает указанием: «В продолжение всего дела спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны». Необходимо ответить, что ближайшие друзья Пушкина – Вяземский, Жуковский, Данзас, Александр Тургенев – не изменили после 27 января своего доброго отношения, к д'Аршиаку, как бы признавая этим безукоризненность всей его роли в дуэльной истории.
Таков общий моральный облик интересующего нас французского дипломата. Но из различных свидетельств выступает также и круг его разнообразных умственных интересов. Из записей Александра Тургенева видно, что он вел с д'Аршиаком беседы на серьезные политические и культурные темы. Различные государственные напра-
____________________
1безукоризненным
(фр.).
12
вления в России – русская и немецкая партии, речи Гизо, французский театр и парижские салоны – все это проходит в их разговорах. Не лишено характерности, что в момент, когда потребовалась для выборов Баранта в Петербургскую Академию наук записка о его научной деятельности, Александр Тургенев обратился не к советнику или секретарям посольства, а к младшему сотруднику атташе д'Аршиаку. Он, очевидно, был наиболее близок к научным интересам посла Баранта, известного писателя, ученого, блестящего историка и видного литературного исследователя.
Значительно позже – через семь лет, в ноябре 1843 года – Ал. Тургенев, встретившись с д'Аршиаком в одном из ресторанов Парижа, вступил с ним в беседу о петербургских событиях 1836-1837 годов и в тот же вечер занес в свой дневник, очевидно со слов своего собеседника: государь не любил Пушкина
1. Д'Аршиак, видимо, и в этом вопросе с безошибочной проницательностью определял подлинное положение вещей, столь тщательно скрытое от многих других свидетелей последней дуэли Пушкина.
На основе таких исторических свидетельств, но с необходимым развертыванием скудных фактических показаний современников воссоздана личность д'Аршиака в предлагаемой повести. На правах исторического романиста автор применил к этому второстепенному персонажу минувшей трагедии обычный прием свободной разработки прошлого. Но в ней он исходил из точных показаний источников и строго намечал границы воображению свидетельствами исторических документов.
Нам показалось заманчивым вести рассказ о смерти Пушкина устами европейского дипломата, который мог свежим и острым взглядом наблюдать ход тогдашних петербургских событий. Лучше других д'Аршиак мог понять и истолковать поединок на Черной речке как одно из отдаленных проявлений тогдашней общеевропейской политической жизни. Представитель либеральной Франции тридцатых годов, прошедшей через две революции, он должен был критически отнестись к главнейшему оплоту легитимизма и реакции – петербургскому
____________________
1Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. II, 1928, с. 470. Пользуемся случаем отметить, что в нашей работе мы весьма многим обязаны этому прекрасному исследованию.
13
двору, правительству и высшему классу, сыгравшим столь печальную роль в гибели первого русского писателя.
Путешественник-иностранец, в служебные обязанности которого входило изучение нравов и характеров чужой страны, должен был развернуть дуэльные событья на фоне петербургского общества тридцатых годов, а в качестве члена французского посольства он, естественно, стремился сочетать выводы своих наблюдений с общей картиной политического быта тогдашней Европы.
Это значительно углубляет и, думается, правильно расширяет значение знаменитой дуэли, вводя ее в круг тех западноевропейских событий, с которыми она была невидимо и явственно связана. Не одно только столкновение индивидуальных интересов и личных страстей служило стимулом катастрофы, но и сложное сплетение противоборствующих общественных, сословных и партийных сил, неожиданно прорвавшееся наружу благодаря независимой и непокорной личности вовлеченного в их ход великого поэта.
Свои петербургские мемуары д'Аршиак направляет, по замыслу автора, известному французскому писателю Просперу Мериме, высоко ценившему творчество Пушкина и живо интересовавшемуся его личностью и судьбою. Убежденный поклонник прозы и враг стиха, Мериме примирился с поэзией благодаря Пушкину. И. С. Тургенев свидетельствует, что автор «Кармен» решался признавать творца «Цыган» величайшим поэтом в присутствии самого Виктора Гюго. Лирические стихотворения Пушкина он считал «эллинскими по правде и чистоте» и в некоторых отношениях даже ставил нашего поэта выше Байрона. Как раз в конце сороковых годов Мериме приступает к серии своих переводов из Пушкина – в 1849 году он публикует французский текст «Пиковой дамы», в пятидесятые годы появляются в печати «Цыганы» и «Выстрел», затем «Анчар», «Пророк» и друг. В этом живом и творческом интересе Мериме к Пушкину находит себе оправдание наша гипотеза о беседе французского писателя с тем лицом, которое в Париже сороковых годов полнее всего могло осведомить его о трагической судьбе любимого русского поэта.
Обращение к Мериме служит, впрочем, только некоторым обрамлением к основному изложению. Эта во-
14
ображаемая установка повествования д'Аршиака определяет отчасти общий принцип композиции «Записок», сочетающих, согласно обычной формуле такого рода произведений, историческую правду с романическим вымыслом. Автор стремился на всем протяжении рассказа не жертвовать первою во имя второго, стараясь найти точную линию пересечения двух основных элементов исторического романа – Dichtung und Wahrheit
1. В основу хроники положены подлинные события, воссозданные нередко по неизданным архивным материалам, но свободно разработанные в целях оживления одной из самых печальных страниц русской истории.
Декабрь 1929
____________________
1Поэзия и действительность
(нем.).
15
ЗАПИСКИ Д'АРШИАКА
Господину Просперу Мериме,главному инспектору исторических памятников, члену Академии надписей и изящной словесности, литератору.
Париж, 3 февраля 1847 года.
Дорогой друг,
вы, вероятно, помните, что год тому назад за обедом у Тортони вы задали мне вопрос, как мог я принять участие в убийстве одного из величайших поэтов всемирной литературы? Мне вспоминаются ваши слова о строгом вкусе этого замечательного мастера, его неутомимом стремлении к совершенству и великолепной простоте его лирических строф. Я не забыл и прочитанный вами превосходный перевод одного из его стихотворных фрагментов на классическую латынь, единственно способную, по вашим словам, передать на драгоценном материале римских поэтов несравненную мощь подлинника:
At vir virum
Misit ad Antchar superbo vultu
1.
Я затруднился тогда ответить непосредственно на ваш большой и трудный вопрос и, если помните, предложил изготовить особый мемуар, в котором памятные события моего петербургского пребывания были бы приведены в систему и могли бы пролить некоторый свет на таинственный эпилог вашего любимого поэта. Труд мой закончен, и я посылаю его на ваш суд.
____________________
1Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом.
16
Приступая к его чтению, вспомните, прошу вас, знаменитые слова, сказанные Наполеоном Гете, при их встрече в Эрфурте: «Политика – вот трагический рок наших дней». История столь прошумевшей дуэли останется непонятной, если мы оторвем ее от общего хода больших политических сил нашей сложной и бурной эпохи.
Пока это еще недостаточно понято людьми нашего поколения. За десять лет, прошедшие с этого печального события, мне приходилось неоднократно беседовать со многими русскими о причинах дуэли, участниках ее и различных обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших знаменитое столкновение. Александр Тургенев, Андрей Карамзин, госпожа Смирнова, Яков Толстой, ваш друг Соболевский – все эти лица, близко знавшие и любившие Пушкина, передавали мне, вместе со своими личными мнениями, установившиеся на их родине суждения о январском поединке 1837 года.
Современники этой трагедии, естественно, ищут непосредственных виновников события и называют определенных лиц. Голландский посланник Геккерн и его приемный сын Жорж д'Антес, отмеченные обвинением самого Пушкина, вызывают единодушное осуждение. Их считают обычно единственными авторами разыгравшейся трагедии. Вокруг этих имен создается вполне понятная легенда, превращающая средних представителей своей среды в замаскированных извергов, неудачно прикрывших своими орденами и титулами преступные и кровавые замыслы.
Я не собираюсь ни защищать их, ни ослаблять долю их действительной вины и участья в событии. Но я хотел бы установить подлинное лицо убийцы Пушкина. И мне кажется, что, по некоторым обстоятельствам, мне это нетрудно будет сделать.
Я был послан в 1835 году в Россию с особым поручением изучать, в виду военной возможности, петербургское общество, верхний слой которого на моих глазах и сыграл столь плачевную роль в гибели своего знаменитого поэта. Не знаю, было ли ясно для его представителей, но это совершенно очевидно для меня, что весь этот круг, взятый в целом, выполнял при этом огромный план одной великой исторической борьбы. Отдельные лица явились только случайными, полусознательными и необходимыми исполнителями верховной воли обширного и замкнутого международного сословия, представленного в Петербурге лишь частью так называемой общеевропей-
17
ской аристократии. Петербургские Нессельроде, Строгановы, Уваровы, Голицыны, Орловы, а вместе с ними, конечно, и Геккерны, и фон Либерманы, и ди Бутера, как и возглавлявший всех их император Николай, представляли единую сплоченную силу, повсеместно стремившуюся к удержанию господства и власти в своих слабеющих руках.
В те дни европейская реакция, запуганная в свое время Великой французской революцией, была снова до полусмерти устрашена июльским переворотом в Париже. С начала тридцатых годов представители и служители тронов тесно смыкаются во всей Европе, собирая свои скудеющие силы для решительного сражения с новой вольницей, призванной повсеместно смести их. После Франции Бельгия, Польша, Португалия, Неаполь – все угрожает этой отмирающей власти мятежами, восстаниями, казнями и гибелью. И обреченное сословье, привыкшее раболепствовать перед Бурбонами, Габсбургами и Романовыми, по мановению своих венценосных повелителей в ужасе бросается душить всякое проявление независимой творческой мысли. В сущности, жертвой этой воинствующей ненависти и пал Пушкин.
Поединок 27 января 1837 года был одним из отдаленных проявлений этой великой всеевропейской борьбы.
В России, где все запаздывает на полстолетья, я еще застал в тридцатых годах картину дореволюционной Франции. Наверху – старый, вымирающий, но еще достаточно цепкий деспотический слой, уже получивший несколько грозных уроков от фрондирующей гвардии, внизу – подавленное, но уже поднимающее голову третье сословие, исполненное свежих нерастраченных сил, презирающее титулы и состояния, окрыленное мечтами о свободной, разумной и счастливой жизни всех.
Великий поэт нации, принадлежавший по рождению к высшему дворянству, в час борьбы не мог остаться в его рядах. Он стал выразителем идей молодого поколения и, как лорд Байрон, бросился в ряды защитников и завоевателей будущего.
И, несмотря на внутреннюю борьбу, обычно свойственную поэтическим натурам, он до конца остался заклятым врагом того придворного круга, который и отомстил ему казнью на Черной речке. Мне прекрасно известно, что в самый момент его смерти он был признан главарем русской оппозиции и возбудителем революционного движения.
18
Таков был голос правящих кругов, дипломатии и придворной знати. Сам император велел сжечь все рукописи поэта, отмеченные духом вольности, и сослал его труп в глухую ночь в далекий монастырь, боясь повторения в Петербурге знаменитых похорон генерала Ламарка, превратившихся в жестокую антиправительственную демонстрацию.
И власть в этом случае не ошиблась в оценке революционного облика Пушкина. Недаром она так настойчиво и упорно требовала от него выражений преданности и отречений от вольнодумства. Жестокие законы жизненной необходимости и повышенная впечатлительность художника заставляли подчас поэта идти на уступки. Но ему не удавалось выдерживать до конца эту роль верноподданного. Его мятежная природа и свободолюбивая мысль прорывались сквозь все оковы и бросали свой угрожающий вызов господствующим силам его эпохи. Они не оставались в долгу, и упорная борьба с этим опасным возбудителем умов длилась годами, пока наконец перед двумя барьерами смертельного боя не стали с одной стороны закоренелый легитимист, слуга Бурбонов, любимый паж герцогини Беррийской, международный роялист д'Антес, с другой – русский поэт, прославлявший всеевропейскую вольность и слагавший гимны всем революционным кинжалам Запада.
Кто не знал, что Пушкин восхищался в молодости жестом Лувеля, заколовшего герцога Беррийского, а д'Антес был обласкан в юности вдовою убитого – знаменитой Марией-Каролиной, принцессой Обеих Сицилий?
Таковы были подлинные соотношения сил в день дуэли в петербургском обществе, в европейских салонах, быть может, во всей текущей главе всемирной истории.
Говорю это как участник события и отчасти как государственный деятель. Мое родство с великим Сен-Симоном научило меня всматриваться в глубокие истоки исторических событий. Там, где хотели видеть только трагедию ревности, разыгрывалась великая драма столкнувшихся политических сил современности. История, как всегда, самовластно вершила судьбами и жизнью отдельных лиц.
Как турист и писатель, я сохранил у себя материалы для моей ненаписанной книги «Путешествие в Россию». Это – заметки, наброски, вырезки из газет и журналов. Как дипломат, я имею доступ к архивам французского посольства в Петербурге – его депешам, донесениям,
19
меморандумам и протоколам. Как близкий родственник д'Антеса, я могу свободно пользоваться обширным собранием его фамильных документов. Все это помогло мне восстановить во всей точности эту минувшую историю, в которой судьба заставила меня участвовать.
Я оказался случайным свидетелем гибели одного великого поэта, павшего жертвой скрытой и яростной борьбы сил в современном европейском обществе. Во всем сочувствуя ему, я волею обстоятельств был отброшен в стан его убийц.
Вот почему рукопись, которую я посылаю вам, является для меня отчасти исповедью. Но главная моя задача не в этом. Я хочу обстоятельно ответить на ваш вопрос и показать вам подлинное лицо многоглавого убийцы Пушкина. Это объяснит вам и степень моего участия в предсмертной истории поэта.
Вы простите меня, дорогой Мериме, если в дальнейшем я буду касаться известных вам международных фактов и борьбы партий в Европе. Это, повторяю, неизбежно, ибо трагическое событие, о котором я поведу рассказ, было следствием столкновения великих и неудержимых токов истории, вовлекавших в свое роковое течение отдельных лиц, целые сословия, общества и государства.
Примите же на свой беспристрастный суд этот правдивый исторический мемуар и разрешите его автору всемерно рассчитывать на вашу обычную благосклонность и неизменное снисхождение к нему.
Виконт д'Аршиак,
директор департамента Восточной Европы
министерства иностранных дел.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С престола пал другой Бурбон…
Пушкин. 19 октября 1831
I
Летом 1835 года произошел крутой поворот в моей дипломатической карьере.
В этот год, как всегда, король отправился 28 июля на парад войск парижского гарнизона и Национальной
20
гвардии Сены в честь трехдневной революции, даровавшей ему престол старших Бурбонов.
Истекало пятилетие с момента его воцарения. Теперь он мог, наконец, считать свою власть упроченной и свою династию установленной во Франции. Правда, крайние партии еще глухо бурлили в редакциях и клубах и террористические покушения не прекращались. Но зато за границей авторитет новой власти необычайно возрос. Недавнее охлаждение иностранных дворов к парижскому правительству сменилось теперь всеобщим признаньем. Если не считать далекой и все еще упорствующей России, европейские державы единодушно приняли в сношениях с королевскими представителями обычный тон дипломатической вежливости. Сам Меттерних сменил надменный холод своих недавних нот на достаточную почтительность к преемнику Карла X.
О вооруженном вмешательстве северной коалиции уже не могло быть и речи. Сквозь дымку надвигающихся политических событий можно было предвидеть бракосочетание наследного принца французов с юной австрийской эрцгерцогиней. А этот кровный союз Орлеанов с Габсбургами мог бы обеспечить «королю баррикад», как его называли роялисты, полноправное вхождение в сонм помазанников божьей милостью. И тогда борьба мнений вокруг его трона улеглась бы, и сам непреклонный император Николай был бы вынужден склониться перед торжественным освящением новой парламентской монархии апостолическим величеством древнейшего европейского трона.
Так мыслили в Тюильри. И несмотря на некоторые тревожные сведения о возможных выступлениях республиканцев, празднества пятой годовщины воцарения Луи-Филиппа I протекали спокойно и стройно.
Нарядно и бодро протянулись вдоль разукрашенных бульваров живые изгороди парижских полков. Под прямыми лучами июльского солнца, окруженный сверкающим штабом маршалов, принцев крови, адъютантов и министров, сам король с театральным величием гарцевал вдоль развернутых легионов, поднося по временам свою белую перчатку к пернатой треуголке с трехцветной кокардой.
Обрамленное шелковистыми бакенбардами, его одутловатое лицо с неподвижной улыбкой и ярким румянцем приветливо склонялось к человеческим толпам,
22
встречавшим раззолоченных всадников гулкими криками: «Да здравствует король!»
А пока процессия неторопливо, как герольды в опере, двигалась по главным проездам Парижа, направляясь от площади Мадлен к Бастилии, – в одном из угловых домов бульвара Тампль, против самой решетки Турецкого сада, в жалкой квартирке на третьем этаже, какой-то смуглый силач с красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, устанавливал на подоконнике перед спущенной шторой непонятный и грузный предмет.
То было сильное огнестрельное оружие невиданного типа. На дубовой наклонной подставке особым приспособлением были связаны в один смертоносный узел двадцать четыре ружейных ствола, плотно заряженных картечью. Эта небольшая адская машина, способная уместиться в дорожном чемодане, обладала боеспособностью целого взвода стрелков.
Канонир этого необычайного орудия с последней точностью наводил дула на свободное русло мостовой, по которой предстояло проехать королевскому кортежу. Он, очевидно, рассчитывал охватить процессию самым гибельным косым огнем сверху и с этой целью упорно и напряженно искал математически строгий угол линии прицела. Наконец он решительно и крепко завинтил свою комнатную батарею и начал сыпать мушкетный порох на полки стволов.
Момент приближался. Издалека уже доносился гул войск, подымавших по кварталам раскаты своих приветственных кликов. Приподняв край шторы, человек в красном шарфе уже мог заметить на углу улицы Шарло вспыхнувшую золотом шитья и орденов сплошную движущуюся группу военных; уже можно было явственно различить одиноко гарцующего впереди всадника под высокой шляпой с белым плюмажем. Смуглый механик метнулся в заднюю комнату, проверил морской канат, прикрепленный к окну в пустынный дворик, вернулся к своему орудию и решительным жестом опустил в карманы своей куртки кинжал и кастет. Затем он быстро зажег мохнатый фитиль и припал глазами к расщелине своей шторы,
«Да здравствует король!», «Да здравствует Луи-Филипп!» – гудело и росло, подкатываясь к завешенному окну, зловеще таившему за зеленой шторой неведомый аппарат смерти. И король, довольный приемом парижского населения, возбужденный своей верховой прогул-
23
кой, все радостнее и веселее кивал своим синим ротам, неутомимо расточая с высоты танцующего коня ласковые жесты, взгляды и улыбки.
Конная группа королевского штаба приближалась к углу улицы Фоссэ дю Тампль, когда резкий грохот оглушительной стрельбы внезапно разорвал воздух. С высоты невидимого редута неслась беспорядочная трескотня ружейной пальбы, словно прерываемая гулкими раскатами орудийных взрывов.
В одно мгновенье разукрашенный бульвар принял облик поля сражения. Картечь свистела в воздухе и прыгала по камням мостовой. Крики боли и вопли панического отчаяния поднялись невообразимым гулом со всех сторон. Испуганные лошади вздыбливались, пронзительно ржали, неслись и сбрасывали всадников. Со всех сторон падали окровавленные люди, и у самых копыт королевского иноходца несколько маршалов и флигель-адъютантов лежали бездыханными или умирающими.
Улица была усеяна трупами. На мостовой у самой обочины тротуара билась в предсмертных судорогах белокурая девушка, почти ребенок, с трагически искаженным лицом и расширенными от ужаса глазами.
Из-за оконной шторы на третьем этаже противоположного дома валили густые клубы черного дыма…
Через полчаса во всех концах Парижа с ужасом говорили о безвестном террористе, решившем одним выстрелом уничтожить королевскую фамилию.
Около пятидесяти человек было убито и ранено адской машиной Джузеппе Фиески (имя его вскоре было установлено). Но страшный корсиканец не рассчитал удара. Обрызганные кровью случайных жертв, головные всадники кортежа – Луи-Филипп с двумя сыновьями – пронеслись крупной рысью вдоль каштанов Турецкого сада.
II
В тот же день король созвал чрезвычайное заседание совета министров. Все юбилейные празднества были отменены. Палата пэров, превращенная в верховный трибунал, на другой же день открыла свои судебные действия.
Партии всколыхнулись и стали ожесточенно перебрасываться взаимными обвинениями в организации страшной бойни. Легитимисты утверждали, что Фиески – рес-
24
публиканец, выполнявший 28 июля указания революционного комитета. Недаром дом на бульваре Тампль был некогда занят одной из якобинских секций. Республиканцы, в свою очередь, распространяли слухи, что на стене комнаты с адской машиной были вычерчены лилии Бурбонов вокруг лозунгов «Да здравствует Генрих V!».
Официальный «Moniteur», стремясь внести спокойствие в общество, понизить разгар партийных страстей и предотвратить гражданские распри, опровергал эти обвинительные домыслы партий. Но весь политический мир Франции глубоко всколыхнулся от внезапного покушения, и яростные словесные битвы бросили друг на друга карлистов, орлеанистов, республиканцев, сенсимонистов и все их бесчисленные ответвления и органы.
Покушенье Фиески вызвало крутой перелом во внутреннем управлении страной. Палаты в спешном порядке провели реформу судов, усилив их полномочия по политическим делам. Знаменитые сентябрьские законы отменили свободу печати.
Одновременно сказался поворот и во внешней политике. Для обуздания крайних партий необходимо было во что бы то ни стало добиться окончательного признания королевского правительства северными державами – оплотами государственного порядка и врагами анархии. Сближение с Россией, по-прежнему отказывавшей в признании Луи-Филиппу, выступало как неотложная задача.
Уже в середине сентября стало известно, что старый друг нашей семьи, знаменитый историк барон Проспер де Барант, один из самых влиятельных пэров Франции, назначается послом в Санкт-Петербург. Секретари петербургской миссии были выбраны самим министром. Барант предложил мне сопровождать его в качестве атташе при посольстве.
Я всегда мечтал быть писателем-дипломатом. Образ Шатобриана, сумевшего так блистательно совместить литературную и политическую славу, прельщал меня, как и многих моих сверстников. Изучать по его следам неведомые племена и чудесную географию для дорожных писем и ученых путешествий представлялось мне самым завидным поприщем.
Вот почему привлечение к петербургскому посольству чрезвычайно обрадовало меня. В то время входили в моду дипломатические депеши нового типа. Вместо делового протокола полномочные посланники писали литера-
25
турные отчеты о нравах страны, быте высшего общества и характерах виднейших государственных деятелей. Европейские политические канцелярии гордились сотрудниками, блиставшими выдающимися литературными дарованиями и сообщавшими своим правительствам статистику или придворный календарь в остроумной и живописной форме путевого журнала.
Я чувствовал определенное призвание к этому жанру. Воспитанный на французских авторах восемнадцатого века, я рано увлекся красочной прозой романтиков. Две литературных манеры скрестились в моем сознании, чтобы выработать новый тип повествования. Мне хотелось совместить ясность и точность прозрачной прозы Вольтера с окрашенной взволнованностью романтических поэтов. Острота и отчетливость контуров не исключала, казалось мне, многоцветной искрометности всей картины. Я верил, что латинскую строгость очертаний можно совместить с пестрой колоритностью восточных сказочников.
Этим принципам стиля, казалось, вполне соответствовала наша новейшая политика с ее точными программами и бурным ходом событий. За последнее сорокалетие Франция видела дюжину политических смен. Можно ли верить в стойкость и прочность режимов? Не правильнее ли с мудрым спокойствием Монтеня погружаться в книги философов, забывая о битвах форума?
Я приходил понемногу к выводу, что важны не формы правления, а люди, их маски, их жесты, их интриги, их споры, их борьба за власть. Текущая история представлялась мне материалом для художественных воплощений, захватывающей драмой современного человечества.
Детали и неприглядная обстановка слагающихся международных событий менее занимали меня. Партии и программы, интриги и статистика, фантастическая принадлежность к определенному крылу палаты, безусловное согласие с передовой статьей известного листка – все это было мне мало свойственно. Мне были дороги широкие и большие течения современной истории – общий ход революционных волн, которые в течение полувека не переставали омывать и сотрясать Францию. Вот почему последняя революция не отбросила меня в эмиграцию, а обратила к служению нации, освобожденной от старой вымирающей династии.
Вопреки традициям моей семьи, отличавшейся всегда легитимистскими убеждениями, я решился служить но-
26
вой Франции, вышедшей из Июльской революции. По предложению Баранта я написал, в виде испытания, мемуар на тему «О значении ущерба, нанесенного Венским конгрессом Датскому королевству, за его приверженность Бонапарту». Вскоре затем я был принят в число младших сотрудников министерства иностранных дел.
После двух лет случайных и неопределенных поручений я неожиданно получил – двадцати четырех лет от роду – заметное дипломатическое положение при первом европейском дворе. В числе немногих лиц, предназначенных с осени 1835 года представлять «короля милостью революции» Луи-Филиппа I при дворе грозного северного самодержца, находился, по точному обозначению официального протокола, и младший архивариус отдела политических работ Лоран-Арнольф-Оливье-Демье де Сен-Симон виконт д'Аршиак.
Таково было мое полное наименование. Оно обозначало и земельные владения нашего рода на Нижней Шаранте в старом Аршиаке, и наше родство с двумя носителями прославленных имен Франции: пышным вельможей семнадцатого века – герцогом Луи де Сен-Симоном, оставившим свои знаменитые мемуары о придворной жизни Людовика XIV, и отважным мечтателем о новом устроении человечества на основе справедливости – графом Анри де Сен-Симоном, провозгласившим среди политического хаоса начала столетия великую необходимость создать для блага самого многочисленного и самого обездоленного класса современной Европы новую религию труда, науки и братской солидарности.
III
16 ноября официальный «Moniteur» сообщал:
Королевским приказом господин барон де Барант, пэр Франции, назначен посланником короля французов при его величестве императоре Российском.
На другой день мы были приглашены к председателю совета министров и министру иностранных дел герцогу Брольи на чрезвычайное совещание. Я впервые наблюдал руководителя внешней политики Франции в ответственном и трудном выступлении.
Наш премьер – философ и мечтатель. Герцог Брольи женат на дочери мадам де Сталь и, видимо, перенял от
27
своей тещи пристрастие к отвлеченному мышлению. В управлении страной он теоретик и систематик. Власть над людьми он считает величайшей безвкусицей и, кажется, охотно бы отказался от своего поста. Либерал в эпоху реставрации, он, как верный ученик доктринеров, стал теперь консерватором. Англоман, он хочет в Париже казаться вигом. К людям он относится с вежливым презрением, несмотря на христианский уклон своей философии. Он горд, спокоен и холоден. Такие люди всегда нравились мне, быть может потому, что сам я на них нисколько не похож.
Высокий, сухой и величественный, герцог Брольи обратился к нам с деловым напутствием:
– Ввиду исключительной важности миссии, возлагаемой обстоятельствами времени на санкт-петербургское посольство, – начал он, – я должен оттенить перед вами, господа, два основных момента в сложном вопросе о нашем отношении к России. Первое – необходимость для нас рассеять недоброжелательство императорского кабинета к новой либеральной Франции, рожденной двумя революциями. Задача огромной трудности, которую, впрочем, нельзя признать непреодолимой.
Он откашлялся, как перед большой речью в палате, и строгим тоном поученья продолжал:
– Мы прекрасно знаем, что император Николай считает Июльскую революцию величайшим оскорблением, какое когда-либо было нанесено наследственным династиям. Нам известно, что польская армия была в свое время мобилизована для военной экспедиции в Париж, что царь открыто заявил себя защитником Карла X, с которым Россия, как вам известно, была в союзе. Июльская революция, как мощная реакция против идей Священного союза, посягает на те основы политического могущества русского самодержца, которые в течение целого десятилетия облачали его страну неограниченной диктатурой в Европе. Отсюда нескрываемая враждебность к нам этого монарха и всего высшего слоя русского общества, беспрекословно принимающего в вопросах политики мнения своего суверена.
Герцог Брольи, как искусный оратор, сразу поставил перед нами свою тему под острым углом.
– Вы можете заключить отсюда, – продолжал он, – какие трудности стоят на вашем пути. Вам придется постоянно и упорно преодолевать их, отнюдь не стремясь к излишней интимности двух дворов, но неуклонно налаживая нормальные взаимоотношения двух правительств.
28
Премьер-министр сделал внушительную паузу, предвещавшую развитие главного тезиса его речи.
– Но такова только первая задача, стоящая перед французским посольством в Петербурге. Трудность ее чрезвычайно повышается вторым, и главным, нашим заданием – препятствовать успеху русской политики на Ближнем Востоке и не допускать захвата императором Николаем Константинополя и проливов. Стремление его повторить над Турцией эксперимент разделов Польши встретит с нашей стороны, как и со стороны Англии, энергичное сопротивление. Я затрагиваю очень сложную военную проблему, господа, и я вынужден напомнить вам беспримерную речь, которую царь только что произнес в Варшаве.
Заведующий отделом славянских земель сделал небольшое экспозэ октябрьской речи императора Николая к польским депутатам.
Оказывается, проездом через Варшаву царь наотрез отказался выслушать представителей города, под предлогом «избавить их от излишней лжи». Сам он обратился к делегатам польской нации лишь для того, чтобы заявить им, что всякая мечта о независимой Польше навлечет на них неслыханные бедствия.
– Я приказал воздвигнуть цитадель с пушками, обращенными на ваш город, – закончил он, – и я заявляю вам, что при малейшем признаке возмущения Варшава будет разгромлена до основания, и не я, поверьте, займусь ее восстановлением…
– Я перехожу к главнейшему пункту нашей беседы, господа, – провозгласил Брольи, слегка приподняв брови и руку, как бы призывая нас к сугубому вниманию. – Не будем тешиться иллюзиями: наше вооруженное столкновение с Россией совершенно неизбежно. Произойдет ли оно через год или через двадцать лет – к нему нужно готовиться сегодня же.
Мы насторожились. Все почувствовали, что деловое напутствие главы правительства затронуло какую-то большую историческую тему.
– Нам необходимо не только неутомимо собирать сведения о военном и гражданском быте русской империи, но иметь исчерпывающую и цельную картину современного состояния России во всех ее слоях и укладах. Нам нужны отчетливые и полные характеристики нравов, мнений и сословных взаимоотношений этой рабовладельческой страны. Вот почему для этой исключительно важ-
29
ной миссии король остановил свой выбор на вас, господин барон, – обратился он к Баранту, – высоко ценя ваше блистательное перо историка.
Барант с признательной улыбкой наклонил свою серебрящуюся голову.
– Мы приветствуем привлечение вами в свиту посольства молодого виконта д'Аршиака, – премьер приветливо взглянул на меня, – ибо старшим чиновникам нашего министерства известно его увлекательное «Путешествие в Голландию». Мы будем ждать из Петербурга обстоятельных депеш о самых разнообразных сторонах русской жизни во всех ее живых и характерных особенностях. Для вашей наблюдательности и литературного рвения открывается широкое поле деятельности, и мы надеемся, что с вашей помощью Российская империя, вечно угрожающая, далекая и неведомая, перестанет быть для нас тем сфинксом, пред взглядом которого до сих пор беспрекословно склоняется Европа.
Совещание наше было закончено. Барант, окруженный своей петербургской свитой, отдавал нам в соседнем зале последние распоряжения.
– Мы оставляем Париж через неделю. Будьте готовы, господа. Приведите в порядок все бумаги. Запаситесь шубами и меховыми сапогами. Перечтите путешествия в Московию Корба и Флетчера – они очень поучительны. Не забудьте Карамзина! Захватите рекомендательные письма к представителям русской знати. Вспомните всех своих родных и знакомых в Петербурге – это очень важно! Без этого нам не завоевать ни русского общества, ни его грозного повелителя.
Последнее указание Баранта заставило меня задуматься. Я невольно отдался воспоминаниям моей ранней юности.
IV
В Петербурге уже около трех лет жил мой кузен и школьный товарищ Жорж д'Антес.
Это был своеобразный и очень одаренный юноша. Мы были с ним почти однолетки, воспитывались вместе в старинном лицее Бурбонов, где я сблизился и подружил с ним.
Тонкий, с нежным, почти девичьим лицом, Жорж пленял не только изящным обликом, но еще более своим
30
веселым нравом. Он рано проявил особый дар непринужденной светской шутки, и разговоры с ним превращались обычно в забавный поток каламбуров, анекдотов и острот. Лицеисты обожали его, как прекрасного товарища, девицы нашего подрастающего круга были от него без ума.
Это рано сообщило ему черты какой-то детской избалованности, от которой он никогда не мог освободиться впоследствии. Он был очень способен, но немного ленив, отличался быстрой сообразительностью, живостью ума и прекрасней памятью. Свободно импровизируя свои ответы профессорам, он внешним блеском, непринужденностью речи, находчивостью и остроумием часто прикрывал отсутствие точных и верных знаний.
Он был первым по фехтованию, танцам и гимнастике, из наук же интересовался только историей и географией. Охотно мечтая о путешествиях, государственной службе и военных подвигах, он рано выказывал себя страстным роялистом, следуя, очевидно, каким-то фамильным преданиям: мой дядя Жозеф-Конрад, отец Жоржа, занимал в палате депутатов место среди крайне правых. Отражая, по-видимому, воззрения своих старших, мой сверстник с большим пренебрежением говорил о якобинцах и карбонарах, с восхищением заявляя о своей преданности трону и готовности положить жизнь за королей Франции.
Не удивительно, что по окончании лицея Жорж д'Антес сделал попытку вступить в пажеский корпус Карла X. Это могло сразу приблизить его ко двору и облегчить пути к военно-политической карьере. Недостаток вакансий в этом строго замкнутом питомнике вельмож заставил его удовлетвориться Сен-Сирской военной школой. Здесь, в соседстве Версаля с его королевскими преданиями и замке времен Людовика XIV, мой юный роялист впервые проявил себя. Я был свидетелем одного из его первых триумфов.
В июне 1830 года состоялся обычный инспекторский смотр сенсирцев. На этот раз годичному торжеству придавалось особенное значение. Только что открылись военные действия против алжирского бея.
Причины войны были, как всегда, многообразны и таинственны. Королевское правительство стремилось усилить свое влияние и мощь за счет контрибуций и постоянной добычи африканских шелков, кож, шерсти и металлов. Карлу X были необходимы также военные успехи, чтобы круто повернуть вправо курс внутренней поли-
31
тики. Лавры победоносной кампании могли позволить ему нарушить неприкосновенность хартии.
И вот, в конце мая, французский флот оставил Тулон! Огромная армия под общим командованием военного министра должна была высадиться на африканском побережьи.
Всюду только и было толков что о войне. Ускоренный выпуск Сен-Сирской школы носил характер правительственной демонстрации. После обычного парада предстояли разнообразные «олимпийские игры» – состязание сен-сирских воспитанников в различных военных упражнениях: фехтовании, стрельбе, гимнастике.
Ввиду особого значения этого смотра военной молодежи среди разгорающихся батальных действий, на празднестве присутствовали представители королевского дома – сам дофин Луи-Антуан, герцог Ангулемский, со своей сухопарой супругой, знаменитой дочерью Людовика XVI, и вдовствующая невестка наследника, молодая герцогиня Беррийская в сопровождении своего подростка-сына.
Принцесса Обеих Сицилий Мария-Каролина, ставшая женою герцога Беррийского, пользовалась в то время особенной известностью. Чуждая строгому этикету последних Бурбонов, она окружила себя молодой и веселой свитой, в которой находила полное утешение своему раннему вдовству. Ее празднества, поездки и приемы славились во всей Франции.
Всем было памятно, как в феврале 1820 года, при выходе из оперы, был заколот кинжалом рабочего Лувеля ее муж дюк де Берри, младший сын престарелого дофина и вернейший претендент на французскую корону. Через семь месяцев вдовствующая герцогиня в присутствии всех чинов гвардии рожала наследника французского престола, причем с изумительным самообладанием разрешила перерезать пуповину лишь после того, как принадлежность ей новорожденного была засвидетельствована двадцатью гренадерами и одним маршалом Франции.
Так родился герцог Бордоский, граф Шамборский, прозванный Генрихом V и ставший впоследствии знаменем французских легитимистов.
В те дни его имя еще не вызывало политических страстей. Толстый нарядный мальчик, весьма мало озабоченный вопросами престолонаследия, был чрезвычайно заинтересован турниром сенсирцев. Он, видимо, унаследо-
32
вал от матери ее вкус к различным упражнениям в силе и ловкости. Герцогиня, как известно, отлично скакала верхом, стреляла из ружья, фехтовала в мужском костюме, мастерски владела пистолетом. Она знала толк в лошадях и любила появляться в сопровождении крупных борзых, легавых или шотландских овчарок.
Не удивительно, что из королевской ложи внимательно следили за развертывающимся зрелищем.
Всеобщее
внимание было захвачено своеобразным стрельбищным состязанием. Среди различных способов проявить свое искусство стрелкам было предложено также упражнение с живой мишенью. То был особый вид модной тогда голубиной охоты. Для каждого стрелка спугивалась большая стая голубей, с правом для состязающегося сделать двенадцать выстрелов в разлетающихся птиц. При быстроте прицела и действий это иногда удавалось. Но обычно пестрая голубиная гоньба, испуганная ружейными выстрелами, панически разлеталась и исчезала из поля зрения охотника задолго до его последнего выстрела. Трудность состязания заключалась и в разноцветном оперении каждой стаи, и в различьи пород, среди которых обязательно имелись турманы, т. е. кувыркающиеся в воздухе летуны, катящиеся с высоты, подобно шару, почти до самой земли, чтобы снова стремительно взлететь по вертикали на огромную высоту.
Эта беспрерывная подвижная пестрядь в воздухе не переставала рябить в глазах охотника и сильно понижала шансы попаданий.
Уже почти весь отряд отборных стрелков прошел перед барьером открытого тира, но даже счастливцы имели пока не больше двух-трех подстреленных птиц.
Таково было состояние турнира, когда к барьеру подошел Жорж д'Антес. В толпе товарищей прошел ропот сочувствия: он уже успел завоевать себе репутацию одного из лучших стрелков Сен-Сира.
Все насторожились. Раздался громкий хлопнувший звук спугивания стаи, и огромный, живой и разноцветный букет, словно трепеща бесчисленными лепестками, всплыл из-за заслона посреди лужайки и начал растворяться в воздухе. Шелковистое оперенье гонных голубей отливало на солнце своими белоснежными, сизыми, алыми и фиолетовыми тонами. Безрассудные катуны уже начинали низвергаться с высоты, кувыркаясь через голову и сливая в сплошное пестрое пятно свое центробежно вращавшееся оперенье, когда почти без перерыва разда-
33
лись первые выстрелы Жоржа. Медленно расплывавшаяся стая словно вздрогнула, шарахнулась, взметнулась и в торопливом ужасе смертельной опасности устремилась в стороны и ввысь.
И вот белая птица, быстро трепетавшая своими крыльями по зеленому фону дальних лесов, словно рассыпалась целым облаком серебристых перьев и мертвым комком свалилась в траву. Вот вслед за нею ярко-красный шар вращающегося турмана остановился, и птица, пылавшая на солнце своей безумной и закономерной игрой, низверглась в поросли лужайки. Вот свалился матовый черный грач, вот под острым углом неожиданно преломился стремительный полет сверкающей свинцово-синей птицы.
Я
оглянулся. Ефрейтор едва успевал передавать Жоржу заряженные ружья, с такой быстротой он разряжал их и протягивал руку за следующим. Еще два-три удара, и Жорж спокойно оперся о свой карабин. Все двенадцать зарядов были выпущены. Егерь уже нес с поля трофей победы, целую связку убитых голубей, под дружные аплодисменты юнкеров, офицеров и зрителей.
Жорж с торжествующим видом протянул руку за своим трофеем и, высоко подняв свою пернатую связку, понес ее к королевской ложе. Здесь, преклонив колено, он опустил еще теплую добычу к ногам герцогини Беррийской. Через несколько минут начальник школы генерал Менуар провозглашал, что первый приз по труднейшему стрельбищному состязанию завоевал ученик младшего курса Сен-Сирской школы Жорж-Шарль д'Антес. Герцогиня с улыбкой, полной восхищения, протягивала победителю большой чеканный кубок – награду за победу – и, явно любуясь красавцем стрелком, произносила ему какие-то ласковые слова.
Затем, обернувшись к генералу Менуару, она громко сказала:
– Вот какие воины нам нужны для борьбы с Гуссейном-пашой.
Это была красивая человеческая группа. Седеющий начальник сенсирцев, высокий и плотный в своем парадном мундире, стройный и юный Жорж, радостно возбужденный своей победой, и между ними маленькая хрупкая женщина с загорелым лицом неаполитанки, раскосыми глазами, небрежно вздернутой верхней губкой и великолепными рыжими волосами венецианского отлива, заколотыми большим золотым гребнем.
34
По всей ее маленькой фигуре была разлита раздражающая чувственность южанки и какая-то капризная страстность, кружившая головы всем придворным ее свиты. Недаром Шатобриан назвал ее впоследствии итальянской канатной плясуньей. Она действительно широким жестом актрисы или фокусника раздавала с высоты своей ложи призы победителям.
Жорж с горящими глазами и радостным лицом возвращался к своим товарищам, высоко поднимая над головой сверкающий на солнце кубок. В ореоле своих белокурых волос, колеблющихся от ходьбы под открытым небом, он шел опьяненный одержанной победой, полученной наградой, кликами юнкеров, рукоплесканьями трибун и улыбкой восхищенной герцогини. Это был триумфатор и завоеватель, уверенно и бодро шагающий вперед к новым трофеям и победам. И только рукава его белоснежного мундира были местами покрыты свежими пятнами и влажными брызгами крови. Темные струйки еще сбегали с его нарукавных отворотов, словно предсказывая этому будущему конквистадору земных успехов, что все наши победы или завоевания – славы, денег, власти, женщин – это только безостановочное шествие сквозь прерванные жизни к новым бестрепетным и смертельным ударам.
Это хищное празднество смутило меня. Свежая кровь обладает свойством притягивать к себе взгляды и словно держать их в своей власти. Я долго не мог отвести глаз от этих белых обшлагов с тонкими позументами и блестящими пуговицами, обильно залитыми кровью вольных и прекрасных птиц, так беспечно и бессмысленно убитых…
На другой день в приказе по Сен-Сирской школе, после извещения о результатах состязаний, сообщалось, что получившие накануне три королевских приза удостоились особой милости герцогини Беррийской: они зачислялись в состав ее личных пажей.
Так начиналась придворная карьера Жоржа-Шарля д'Антеса.
* * *
Он вступил на политическое поприще в трудное время. Победы в Африке готовили бурю в Париже. Д'Антесу недолго пришлось присутствовать в почетной свите герцогини, сопровождая ее на охоту и прогулки. Через
35
два месяца Тюильри было оцеплено баррикадами, и сен-сирские юнкера выступили на защиту белого знамени.
Наступила та бурная пора жизни д'Антеса, которая рано выработала из него политического деятеля особого типа, какие создаются обычно в смутные эпохи государственных переворотов, заговоров и мятежей. Это те отважные, решительные и самонадеянные люди, которые непреклонно верят в успех и стремительно идут к намеченной цели, опрокидывая по пути все препятствия. Они любят риск, крупную игру, опасные комбинации, возбуждающую атмосферу необычайных и угрожающих приключений. Они бывают пленительны и беспощадны. Окружающие служат им только средством для достижения их целей, и ко всем людям они одинаково подходят с непроницаемой бронзовой маской.
Через несколько недель после сен-сирского празднества королевская власть во Франции зашаталась. Жорж д'Антес отважно ринулся в свое первое боевое крещение на защиту бурбонских лилий. От веселых состязаний и упражнений в ловкости ему предстояло теперь перейти к настоящей смертельной борьбе. Уже не связку подстреленных турманов, а мятежные трехцветные знамена восставшего Парижа нужно было сложить пажу герцогини Беррийской к ногам его королевы.
V
Я хорошо помню эти дни. На пятницу 30 июля были назначены мои первые экзамены. Уже две недели, как я усиленно готовился к моей первой встрече с профессорами. Мы сидели по целым часам с моим товарищем по факультету Жюлем Дюверье, читая сборники старинных законодательных актов или же рассказывая поочередно историю политических конгрессов от Мюнстера до Вероны.
Мой школьный товарищ был необычайно привлекателен и своеобразен. Он принадлежал к так называемой «церкви сенсимонистов». С большим увлечением излагая доктрину учителя, он утверждал, что вся политика есть наука о производстве, что общество нужно организовать научно, что власть должна принадлежать ученым, художникам и работникам.
В нем самом, несмотря на тяжелую костную бо-
36
лезнь, сделавшую его с детства инвалидом, было много артистически изящного. Костыли не нарушали своеобразной прелести его внешнего облика. Он носил костюм сенсимонистов: бархатную шапочку, белый шарф, небрежно падающий концами на плечи, короткий синий редингот, сильно вырезанный книзу, белый жилет, черный пояс и узкие белые брюки.
Этот живописный наряд напоминал костюм эпохи Возрождения. И сам Жюль Дюверье, с его большими сияющими глазами и гладкими падающими волосами, подстриженными почти у плеч, сильно походил на известный флорентийский портрет молодого Рафаэля.
Он принадлежал к новой республиканской молодежи, и все воззрения его были смелы и неожиданны. Помнится, за три дня до назначенного экзамена, в понедельник 26 июля, мы изучали декреты Национального собрания. В бурной истории этого учреждения мне понравилось одно из первых заявлений жирондистов, смело потребовавших, еще в монархическую эпоху, чтобы титулы «государя» и «величества» были заменены более конституционным званием «короля французов»…
– Это пустой либерализм,- с ноткой холодного осуждения произнес Жюль.
– Не должны ли все мы стремиться к вольнолюбивости? – удивился я.
– Мы все должны служить новой силе – индустриализму, – с глубокой убежденностью произнес мой друг. – Необходимо противопоставить политическим фразам либералистов всю энергию действующего и производящего общества…
Эта была одна из тех поражающих мыслей, которые излагал подчас Дюверье, исходя из какой-то неведомой мне обширной и всеобъемлющей системы.
– Но кто же тогда будет управлять обществом? Не короли же? И не парламент?
Но Жюля нельзя было сбить или смутить такими вопросами.
– Вся светская власть – производителям, вся духовная – ученым, – отвечал он. – Ты хочешь знать, как будет устроено будущее общество? Оно будет индустриализовано, то есть охватывать всех производящих работников. Этот класс был до сих пор на последнем плане в нашем феодальном обществе, – он займет теперь первое место, отбросив назад военных, законоведов и собственников. Власть в новом мире будет при-
37
надлежать только разуму и труду. Мыслители и ученые заменят прежнюю религию отречения новым учением о жизни и ее творческих силах. Деизм уступит место физицизму, религии точных знаний, объединенных завоеваниями физики. Отрицательная и бездеятельная заповедь христианства: «не причиняй зла другому» – будет заменена положительным и действенным принципом; «каждый должен работать». И соединенные усилия трудящегося человечества, направляемые великими вождями точной науки, преобразят нашу планету и откроют новую историческую эру…
Мой маленький флорентиец, произнося свою проповедь, был прекрасен. Казалось, говорил не экономист и не историк, а поэт, доводящий смелый замысел социального реформатора до степени образного видения.
– Будущее человечество, – продолжал он, встряхивая свои шелковистые пряди и устремляя на меня глубокие пылающие взгляды, – будущее человечество, организованное для разумного труда, пророет каналы и туннели, воздвигнет мосты и арки, скует земной шар стальными путями, доведет технику до сказочной мощи, соединит материки и превратит всю нашу несчастную, скорбящую и болеющую землю в райский сад с волшебными чертогами. И все люди, населяющие эти подлинные поля блаженных, будут объединены великой взаимной любовью, чувством глубокого сострадания, ощущеньем всемирного братства…
Меня невольно увлекали эти вдохновенные и стройные мысли, которые отец мой выслушивал подчас с чувством снисходительного скептицизма, называя их пустыми утопиями. Философские прения Жюля с отцом представляли для меня особый интерес по странному контрасту их взаимной личной привязанности и резкой противоположности их политических воззрений. В этот день неожиданные события должны были открыть между ними ряд особенно напряженных дебатов.
VI
Из-за нашей системы усиленных занятий Дюверье оставался у меня обедать, а иногда и ночевать. В тот день, выйдя к столу, мы застали за ним отца вместе с его старым другом, известным роялистом маркизом Фуассак ла Туром. Оба они были взволнованны и с
38
большим оживлением обсуждали последние известия «Moniteur».
Я с детства знал Фуассака и привык к нему. Это был старичок с высоким блестящим лбом и длинными пушистыми волосами, покрывавшими своими серебрящимися прядями высокий ворот его синего фрака. Верный старинным модам, он перевязывал у колен тонкими шелковыми ленточками свои короткие панталоны, никогда не изменяя белому цвету чулок и серебру больших квадратных пряжек на лакированных башмаках. Яшмовая овальная табакерка с миниатюрой Марии-Антуанетты стала неизбежной принадлежностью его беседы, постоянно вращаясь средь его пальцев, неожиданно раскрываясь перед лицом его собеседника или же с треском захлопываясь в заключение гневной фразы о бонапартистах, республиканцах или дурных советниках короля.
В последнем пункте маркиз Фуассак нередко расходился с моим отцом, который был «ультра», то есть крайним роялистом, и не допускал никакой критики ни короля, ни его министров. Принадлежность к партии трона предполагала, по его мнению, безусловное одобрение всех действий верховной власти. «Только такое совершенное и беспрекословное подчинение еще может спасти Францию», – постоянно повторял он.
Маркиз же, любя политику во всех ее разнообразных проявлениях, не мог отказать себе в удовольствии критически разбираться в мероприятиях правительства. Он считал, что дурные министры были причиной наших «несчастий восемьдесят девятого года», и отстаивал право королей на личную систему правления и неограниченные полномочия.
Вот почему каждое выдающееся событие текущей политики неизменно вызывало между ними живой обмен мнений. Так было и на этот раз.
– Это неслыханно! – негодующе восклицал Фуассак, комкая газету и снова заглядывая в нее, – свобода периодической печати отменяется, палата депутатов распускается, избирательные законы недействительны… Ведь это намеренный вызов революции!
– Король знает, что он делает, мой дорогой маркиз, и, поверьте, знает это получше нас с вами. Неужели вы думаете, что у него недостаточно войск, чтобы подавить уличные беспорядки в Париже?
– Король знает, но этого не знает Полиньяк, подсказывающий ему эти опаснейшие меры. Знаете ли вы,
39
что журналисты подписали сегодня возмутительное воззвание, в котором осмеливаются оспаривать законность королевского правительства?
– Маршал Мармон одной батареей успокоит все парижские редакции, – невозмутимо отвечал мой отец.
– Вы шутите, виконт? Вы хотите братоубийственной бойни на улицах Парижа? Вы успели позабыть девяносто третий год?
– Это меры необходимой защиты против врагов алтаря и трона. В минуту угрозы государственному порядку они должны быть применены.
Мы с Дюверье заинтересовались этой беседой и подняли скомканный «Moniteur». Официальный отдел газеты открывался манифестом:
Мы, Карл, милостью божьей король Франции и Наварры, – всем, кто увидит настоящее, шлем поклон.
По докладу нашего совета министров мы приказали и приказываем следующее…
Мы быстро пробежали знаменитые ордонансы. Конституционная хартия действительно была грубо попрана. Старый Фуассак был прав: это звучало вызовом революции.
– Да здравствует республика! – восторженно воскликнул Дюверье.
– Ну, до республики еще далеко, – с нескрываемой строгостью заметил мой отец.
– Увы, – вздохнул Фуассак, – кажется, не так далеко, как вы полагаете. Снова повторяются непоправимые ошибки короны…
– Вы решаетесь осуждать короля, маркиз?
– Я осуждаю дурных советников монарха. Увы! Король повторяет ошибки своего несчастного брата…
И старый роялист меланхолически раскрыл свою табакерку с миниатюрой последней французской королевы…
– Напротив, – с жаром заявил отец, – я нахожу, что сегодня он начинает по-настоящему царствовать! Мы наконец слышим голос власти…
– Он призывает к государственному перевороту, к гражданской войне, к резне в Париже, – не унимался Фуассак. – Вы увидите, что все мы будем висеть на фонарях…
И портрет Марии-Антуанетты с сухим треском защелкнул табакерку.
40
На другой день события разрастались. Мы забросили книги и решили пройтись по революционному Парижу.
Маневрирование войск еще не препятствовало свободному движению пешеходов. Огромная толпа скоплялась на бульваре Капюсин у здания министерства иностранных дел, требуя выдачи Полиньяка. В нескольких местах были разбиты и разграблены лавки оружейников.
Первым был очищен известный магазин на улице Ришелье под вывеской:
ЛЕ-ПАЖ
Оружейник короля
Кто не знает этой подписи знаменитого мастера по гладким стволам охотничьих карабинов и граненым дулам дуэльных пистолетов? Толпа ринулась в его лавку. И вот восьмидесятилетний старец снова, как сорок лет назад, в дни первого великого восстания на Бурбонов, добровольно отдает мятежным парижанам свое оружие и заряды…
На улице Нев-Сен-Марк перед редакцией республиканского «National» выстроились отряды жандармов и взвод солдат.
Толпа густой массой окружала здание редакции, подняв головы к балкону, у перил которого с холодным и спокойным лицом стоял молодой оратор, поразивший меня своим изысканным костюмом – черным рединготом, белым жилетом и лакированными сапогами.
– Это главный редактор газеты, Арман Каррель, – шепнул мне Жюль. – Любопытный характер: он республиканец из гордости и не любит уличной черни…
У Армана Карреля энергичная мужественная фигура. Он служил в войсках и сохранил военную выправку. С черным хлыстиком в руке, он напоминает молодого кавалериста. Лицо его отважно и надменно. Целая волна густых вьющихся волос поднимается над его чеканным лбом. Брови сурово сдвинуты, глаза глядят прямо и дерзко. Он напомнил мне римские бюсты в вестибюле Бурбонского лицея – Муция Сцеволу или Кая Гракха.
– Граждане! – раздавалось с балкона, – агенты умирающего правительства, преступно нарушившего хартию, потребовали от нас сдачи наборов и типографских машин. Мы решительно отказали. Жандармы ре-
41
шили взломать двери редакции. Ни один ремесленник не согласился пойти на эту гнусную работу. И вот представители короля приводят к народной редакции взломщиков и воров из тюрем, с помощью которых они хотят надеть намордник на свободное мнение свободной французской нации. Ответим же им баррикадами, граждане, дадим отпор неслыханному насилию над мыслью и словом!
А пока он говорил, двери взламывались, и через широкие окна первого этажа можно было видеть, как жандармы рылись в ящиках редакции, а в соседнем типографском помещении опечатывали прессы, опустошали наборные кассы и разбрасывали свинцовые тексты.
Часть толпы ринулась на защиту республиканской редакции, другая человеческая волна хлынула вниз к площади Пале-Рояля, где слышна была перестрелка.
Мы устремились туда же. Здесь группа рабочих остановила омнибус и опрокинула его. Образовалась первая баррикада. Откуда-то тащили мешки и бочонки для укрепления этого революционного форта. Из мостовой извлекались булыжники.
Навстречу нам двигался революционный отряд в странном вооружении. Только что артиллерийский музей на площади Фомы Аквинского был занят восставшими. И вот аркебузы Карла IX и копья Франциска I, мушкеты с фитилем эпохи кардинала Ришелье, алебарды, щиты и даже шлемы Готфрида Бульонского – все виды французского оружия, накопленные старой династией, были пущены в ход для ее свержения.
Смеркалось. Где-то запылало казенное здание. В дальних улицах раздавались раскаты одиноких выстрелов.
Мимо нас кучка людей с гневными призывами к свержению Бурбонов пронесла труп старика, с беспомощно болтавшимися конечностями. Он только что был убит в одной из перестрелок с отрядом правительственных войск.
Необычен был весь облик чинного королевского Парижа, взъерошенного пикетами и баррикадами. Но все это были только подготовительные действия, прелюдия к нарастающей революции.
Ночь прошла в глубоких потемках. Часть фонарей была разбита, фонарщики не вышли со своими факелами на вечернюю работу. Париж, погруженный в глубокий сумрак, молча готовился к решительной битве.
42
VII
В среду 28 июля мы действительно воочию увидели революцию. По мостовым двигались рабочие и студенты с криками: «Долой Бурбонов! Да здравствует свобода!» С памятников, казенных вывесок и дилижансов срывали знаки королевских лилий. Над городской думой и башнями Нотр-Дам тревожным и призывным вестником новой эры развевались трехцветные знамена революционных армий. Из окон и с балкона мы могли видеть перспективу бульваров и отдаленные проемы площадей, кипящих толпами. «Долой министров! Долой королевские ордонансы! Да здравствует хартия!» – раздавалось целый день по улицам и площадям Парижа.
В этот день маршал Мармон, которому король поручил защиту столицы, вызвал вспомогательные войска из Сен-Дени и Версаля. Сен-сирские юнкера, узнав о революции в Париже, присоединились к версальскому гарнизону.
Вечером на площади Людовика XV, где расположились бивуаком сенсирцы с колонной отступающего генерала Сен-Шамана, я разыскал Жоржа. Верный паж герцогини Беррийской готов был положить жизнь за свою даму. Он верил в конечную победу белого знамени и не придавал значения частичным поражениям. В этот день две колонны маршала Мармона были разбиты инсургентами. Только одной удалось прорваться к думе и занять здание. Правительственные войска потеряли свыше двух с половиной тысяч. Весь запад Парижа был в руках восставших.
На другой день все было решено. Так как Париж представлял собой почти сплошное поле сражения, мы с Жюлем покорились уговорам отца и следили с балкона за передвижением двух противоборствующих сил.
Победа явно доставалась восставшим. Уже к полудню на часовой башне Лувра развевалось революционное знамя. Вскоре, совершенно измученный невыносимой жарой, битвами, событиями и преследованием толпы, к нам ворвался Жорж д'Антес, каким-то чудом избежавший народного гнева. Он пробрался к нам в чужом плаще, прикрывшем его военную форму.
Оказывается, армия Мармона в паническом беспорядке отступила к Елисейским полям после того, как Казимиру Перье удалось возмутить часть королевских войск. Старик Фуассак с негодованием и горечью пере-
43
давал прозвучавшие сегодня в думе слова Лафайета о низложении королевской фамилии. И действительно, под нашими окнами проходили народные колонны с криками: «Да здравствует республика!»
– Дело короля еще не проиграно, – взволнованно говорил Жорж. – Правительство переедет в Тур, соберет верные войска и двинет их на Париж. Пора якобинства безвозвратно прошла для Франции. Потомки Генриха IV сумеют привести нашу родину к счастью и новой славе. Мы высоко взовьем поникшую орифламму Франциска I и Жанны д'Арк!
Старики рукоплескали Жоржу.
– Он будет замечательным оратором, – говорил отец, – мне нравится убежденность и воинствующая непрерывность его пафоса.
Жюль отважно спорил с Жоржем, горячо доказывая ему, что новое человечество охотно отдаст всех королей и дворян за одного ученого или рабочего.
Фуассак возмущенно разводил руками. Отец с сокрушением покачивал головой…
Наше маленькое общество отражало различные политические оттенки, разделявшие в то время взволнованное общественное мнение Франции. Оба старика, при некоторых различиях в их убеждениях, ждали полного поражения революции и укрепления на престоле Карла X. Друг мой, Жюль Дюверье, разделял мнения левых партий и ждал падения ненавистной монархии для установления республики трудящихся. Считая, как и он, что Бурбоны покрывают Францию бесславием, я все же верил в молодые силы третьего сословия, из рядов которого выдвинулось за последние десятилетия столько выдающихся адвокатов, ученых, публицистов, поэтов и драматургов. Я увлекался речами Тьера, Гизо, Одилона Барро, стихами и театром романтиков.
Наконец, как бы смыкая наш тесный круг, из рядов младшего поколения выступал юный сенсирец, неожиданно связанный с поколением стариков своей безусловной приверженностью к «скипетру Людовика Святого». Он, кажется, действительно готов был в те дни пролить кровь за воцарение Генриха V и особенно за «регентшу Франции» – Марию-Каролину, герцогиню Беррийскую.
Так в политических дебатах, под аккомпанемент гулких выстрелов, разносившихся по улицам Парижа, протекал этот памятный вечер.
44
* * *
Когда в самый полдень, под палящими лучами июльского солнца, королевские солдаты в панике бежали от Лувра к Триумфальной арке, у одного из окон на углу улиц Риволи и Сен-Флорентен появилось бесстрастное лицо сухого и величественного старца.
Это был умнейший из европейских дипломатов, слуга пяти режимов, герой Венского конгресса, восьмидесятилетний Талейран.
Долгим взглядом проводил он бегущие в беспорядке войска. Затем, повернувшись к своему секретарю, отчетливо произнес:
– Запишите, что 29 июля 1830 года в двенадцать часов пять минут пополудни Бурбоны перестали царствовать во Франции.
VIII
Утром 30 июля народ толпился на всех перекрестках, читая огромные плакаты.
Я вышел, чтобы узнать последние известия.
Афиша, никем не подписанная, начиналась заявлением, что Карл X не может вернуться в Париж: он пролил кровь народа. Затем в коротких повелительных фразах перечислялись заслуги герцога Орлеанского, который всегда стоял за дело революции, отважно сражался в рядах республиканских армий под Жемаппом и победоносно носил в огне трехцветную кокарду. Воззвание заканчивалось заявлением, что герцог присягнет хартии, защищающей права всех граждан, и получит корону из рук самого народа.
Афиша прочитывалась прохожими с молчаливым удивлением. Герцога Орлеанского, видимо, мало знали и совсем не ценили.
А между тем события неслись с головокружительной быстротой. Казалось, календарь еле поспевал за ними. В ближайшие же дни мы узнали, что герцог Орлеанский принял звание главного правителя королевства. Городской совет в прокламациях к жителям Парижа провозглашал, что король, попытавшийся потопить в крови законные вольности французских граждан, перестал царствовать во Франции.
Вечером 2 августа весь Париж читал письмо Карла к герцогу Орлеанскому, подписанное ночью в Рамбуйе.
45
Мой кузен,
я слишком глубоко огорчен бедствиями, которые сокрушают мои народы и могут угрожать им в будущем, чтобы не искать средств для предотвращения их. Я принял поэтому решение отречься от короны в пользу моего внука, герцога Бордоского.
Дофин, разделяющий мои чувства, также отказывается от своих прав в пользу своего племянника.
Вам надлежит поэтому в качестве главного правителя королевства провозгласить восшествие на престол Генриха V.
На другой день история прочертила в летописях Франции отчетливую грань: по словам Шатобриана, Бурбоны направились в изгнание в третий, и последний, раз.
Жорж д'Антес решил сопровождать членов королевской фамилии до того пакетбота, который должен был переправить их в Англию.
Отец мой пытался удержать его.
– Я исполню мой долг телохранителя короля, – отвечал он с непоколебимой стойкостью. – Отец мой оберегал в девяносто первом году последний отъезд Людовика XVI в Варрен, – я буду стражем его брата в таких же обстоятельствах. Я спасу Франции ее законного короля.
Когда через несколько дней мы получили от него особым и таинственным образом краткое сообщение, что он на пути в Шербург сопровождает низложенную королевскую семью, во Франции уже был новый король – Луи-Филипп I.
9 августа во дворце Бурбонов герцог Орлеанский принес присягу либеральной партии и получил из рук четырех маршалов, лишь пять лет перед тем короновавших в Реймсе Карла X, корону, скипетр, меч и палицу правосудия.
Открывался новый период в истории Европы.
Кто нас ведет, венки свивая,
Стезею славы и побед?
То вольность, вольность мировая,
То седовласый Лафайет…
Так распевал Париж знаменитые куплеты, пока видоизменялись все его топографические обозначения: площадь Людовика XV снова получила имя площади Революции, улица Карла X становилась улицей Лафайета, а «29 июля» сменяло на угловых дощечках имя гер-
46
цога Бордоского. Всюду тщательно стиралась память о печальных годах реставрации.
Отец мой и старый Фуассак ла Тур замкнулись в молчаливой и угрюмой оппозиции к новому правительству Июльской монархии, Жюль Дюверье ушел в революционные кружки бороться за будущую республику. Жорж д'Антес, получив бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, уехал к отцу в далекий и тихий Сульц.
* * *
Пять лет прошло с этих исторических дней. С тех пор я не видел Жоржа. До нас доходили неясные слухи о нем. Передавали, что он остался верен герцогине Беррийской и даже сопровождал ее в Вандею в 1832 году с целью вызвать восстание и произвести государственный переворот в пользу старших Бурбонов. Вскоре после разгрома легитимистов он уехал в Германию, а затем каким-то образом очутился в Петербурге, где быстро и уверенно продвигался по лестнице светских, служебных и придворных успехов.
Отец раздобыл мне его адрес. В Петербурге меня ждала встреча с товарищем детских лет, резвым школьником Бурбонского лицея, первым стрелком сенсирцев, последним пажем герцогини Беррийской и верноподданным некоронованного короля Генриха V.
IX
В конце ноября мы оставляли Париж. Большой дилижанс нового типа увозил по северным шоссе семью посла и нескольких его ближайших сотрудников.
В первом купе расположились супруги Барант, во втором – дочери барона и сын его Эрнест, тот самый, который пять лет спустя имел дуэль с поэтом Лермонтовым из-за княгини Щербатовой. Третье купе занимали младшие сотрудники посольства: я расположился в нем с двумя секретарями.
Все указания Баранта были мною выполнены. Рекомендательные письма, меховые вещи и маленькое собрание книг о мореплаваниях и сухопутных странствиях в Московию заполняли мои чемоданы.
В последние недели перед отъездом я успел прочесть несколько латинских описаний с пространными и наив-
47
ными заглавиями, вроде «Первое путешествие для открытий с тремя кораблями, отплывшими под начальством сэра Гуга Виллоби, в котором он умер, а Московия была открыта кормчим майором Ричардом Ченсельром в 1553 году». Я с любопытством изучал старинные географические карты и тонкие гравированные изображения островов, гаваней и крепостных стен. Несколько новейших историков дополняли мою дорожную библиотеку.
В серое осеннее утро мы выехали из парижской заставы. Не без грусти покидал я этот чудесный город, где в течение нескольких лет так жадно впивал в себя очарования высшей умственной цивилизации.
Литературные салоны стареющей Рекамье и вечно юной Виргинии Ансло, первые бурные представления романтических драм, выступления на раутах Сен-Жерменского предместья модных молодых авторов – Сент-Бева, Сю и Бальзака, – вот Париж моей молодости! Он отливал всеми оттенками ученой и художественной мысли: публичные лекции высокомерного Гизо, свободные и острые беседы завсегдатаев кафе Тортони и кулис Комедии, оперный театр, одушевленный новейшими композициями Обера, Россини и вулканического творца «Роберта-Дьявола», магнетические имена Гризи и Тальони, – все это сплеталось для меня в сплошное празднество новейших идей, смелых артистических завоеваний, изящных нравов и увлекательной жизни.
Мои личные вкусы, как и мое независимое положение в свете, давали мне возможность бывать в самых разнообразных кругах парижского общества. Роялистские связи отца вводили меня в строгие монархические салоны. Перед самым моим отъездом я был представлен знаменитой в политическом мире «посланнице», княгине Ливен, родной сестре русского государственного деятеля графа Бенкендорфа. Меня всегда тепло принимала известная госпожа Свечина, лучшая подруга семьи петербургского вице-канцлера Нессельроде. У этих представительниц европейской олигархии я впервые наблюдал то беспредельное благоговение перед властью неограниченного монарха, которое так характерно для высшего круга императорской столицы.
Но я бывал и в противоположном стане. Родство с великим Сен-Симоном и дружба с Жюлем Дюверье открывали мне доступ к общенью с республиканцами, у которых я научился понемногу относиться критически ко
48
всем учреждениям старой европейской государственности.
И, наконец, я посещал поэтические кружки. Я постоянно бывал
в литературной гостиной прелестной графини Бельжойозо, где царили литераторы во главе с Альфредом Мюссе и где впервые я услышал от молодых романтиков неожиданную мысль о трагической судьбе поэта в новом европейском обществе.
– Неужели лирики стали менее нужны человечеству? – спросил я однажды Альфреда де Виньи.
– Поэты нужны будущим поколениям, которые ставят им памятники и переносят их прах в пантеоны. Современники же забавляются тем, что травят и преследуют великих мечтателей. Вспомните Чаттертона.
Виньи заканчивал в то время драму об этом несчастном английском поэте восемнадцатого века, которого обычная вражда общества к мятежному гению довела до самоубийства.
– Судьба его принадлежит всем эпохам, – продолжал мой собеседник. – Поэты всегда одержимы воображеньем. Как бы мощно ни было построено их сознанье, с какой бы широкой памятью и зорким вниманьем ни оценивали бы они действительность, фантазия всегда господствует над их мыслью. И это неизменно препятствует их общению с людьми. Мечта необычайно повышает их впечатлительность, и житейские треволнения, еле затрагивающие других, ранят их до крови. Обычное для всех разочарованье в окружающих повергает их в глубокое унынье, в мрачное отчаянье, в угрюмое одиночество, из глубины которого они бросают свой негодующий вызов современному обществу. Вот почему с неизбежной беспощадностью оно отвечает им смертными приговорами.
Впоследствии я не раз вспоминал эти слова поэта. Сама действительность вскрыла передо мною их глубокий смысл и печальную правдивость.
Итак, мне приходилось почти юношей подчиняться своей судьбе дипломата и, может быть, на долгие годы покидать лучший из городов с его театрами, салонами, ресторанами, публичными лекциями в просторных амфитеатрах Сорбонны и клокочущими балами в переполненных залах Оперы.
Что ждало меня в стране гипербореев? Не безумно ли было оставлять жемчужные туманы над Сеной и се-
49
рый шелк дождливых дней Парижа для сизой мглы арктического круга и немощной бледности полярных ночей? Но раздумывать было поздно. Призывно звучал рожок нашего почтальона, и даль неведомых странствий неудержимо влекла к себе.
X
Маршрут наш лежал на Готу, Берлин и Митаву.
Путь наш пролегал по многим достопримечательным местностям. Мы видели древние крепости, прославленные героическими осадами, и пустынные равнины, отмеченные историческими битвами. Мы осматривали Лютценское поле сражения, где пал Густав-Адольф, и Лейпцигскую долину, где потерпел свое непоправимое поражение Наполеон. В Готе нам показали комнату, где ночевал после печальной битвы народов разбитый император.
Мы задержались в Веймаре. Барант, посвятивший долгие годы переводу Шиллера, хотел видеть придворный театр, где
впервые ставились его любимые исторические трагедии. Нас повели и к скромному домику руководителя этой сцены – к жилищу знаменитого поэта и министра Гете, лишь незадолго перед тем скончавшегося…
В середине декабря мы были в Берлине. Нас изумили здесь опрятность и прямолинейность улиц, строгость и чистота широкой липовой аллеи, замкнутой Бранденбургскими воротами с их грузной бронзовой квадригой. Мраморные статуи пяти полководцев Семилетней войны на Вильгельм-плаце подчеркивали тот общий военный облик прусской столицы, который за последние десять лет настолько усилился.
В Берлине нас принял давнишний приятель Баранта, знаменитый ученый и министр Александр Гумбольдт, только что вернувшийся из Парижа к своему двору. Это был долголетний гость Франции, поклонник ее ума и открытый друг Гей-Люссака и Араго.
За последние годы ему приходилось не раз выполнять у нас важные дипломатические поручения своего короля. Когда после июльского переворота прусский посланник в Париже, барон Вертер, совершенно растерялся, туда был послан Гумбольдт, мигом уладивший щекотливое положение вещей. В министерских кругах остри-
50
ли, что великий натуралист быстро успокоил страдания молодого Вертера.
Помнится, я залюбовался неправильной и мощной головой этого гениального мыслителя. Шекспировский лоб высоким фронтоном поднимался над выпуклыми аркадами бровей, из-под которых фосфорически вспыхивали прозрачные и зоркие глаза, словно отсвечивающие всеми искрами его неистощимого разговора.
Несмотря на близость ко двору, Гумбольдт в беседе с нами не скрывал горечи своих раздумий о текущем. Во многом он, видимо, разделял воззрения своего покойного брата, встретившего, как известно, с горячим энтузиазмом первые речи Мирабо.
– Европа вооружается, – услышали мы от великого мыслителя, – уроки вашей славной революции ничему не научили ее. В Петербурге вы увидите то же, что и в Берлине, – войска, войска и войска… Они нужны для новых перетасовок многострадальной карты нашего старого материка, для сплоченной борьбы северного абсолютизма с французскими идеями. Как будто можно остановить ход истории. Она, как всегда, постоит за себя, но ценою каких жертв и потрясений!… Мы еще строим пока в Берлине музеи и открываем новые кафедры, – но надолго ли? В Европе становится душно, меня снова тянет в бескрайные пространства Азии и Америки… Вокруг нас пустеет… Лучшие люди гаснут в глубокой грусти от всего происходящего, с великой тревогой за будущее европейского человечества.
И знаменитый член всех академий мира взглянул на портрет величественного старца с огромными, ясными и горестно вопрошающими глазами.
– Так уходил от нас недавно мой друг Гете, – произнес он в заключение своей речи.
И на несколько мгновений его искрящиеся глаза потухли, и квадратный подбородок погрузился в белый галстук, слегка прикрывающий тонкую орденскую ленту с эмалированным крестообразным знаком.
XI
После Берлина общая картина нашего путешествия резко изменилась. Прежняя столица Пруссии, Кенигсберг, расположена в унылой и бедной местности. Восточная Пруссия – печальная и скудная страна, пустынная
51
и бесплодная. Здесь начинаются те бесконечные сосновые леса, которые тянутся почти сплошной полосой до самого Петербурга.
В своих любопытных путевых записках Марко Поло говорит, что Московия представляет собою равнину, покрытую лесами и пересекаемую большими реками, обильными рыбой. По его наблюдению, леса – это великие крепости, оберегающие Московское государство. Этими бесконечными естественными укреплениями нам пришлось ехать целую неделю.
За это время я успел прилежно изучить французский томик истории Карамзина, недавно лишь переведенный. Выпуклые характеристики древних князей и царей московских как бы служили мне введением в современный императорский Петербург.
Чтобы несколько развлечься от однообразных и унылых пейзажей, мы устраивали иногда в нашем купе деловые заседания, подготовляя предстоящую дипломатическую работу. Барант помещался в нашем отделении, и мы сообща просматривали бумаги, намечали проекты общих выступлений, обсуждали планы предстоящей трудной задачи – завоевания петербургского двора и общества. Нередко Барант, отвлекаясь от дел, рассказывал нам о различных случаях своей государственной деятельности или сообщал свои острые и живые размышления об истории поэзии или искусстве дипломата.
Это был удивительный собеседник. Широкий политический опыт, участие в крупных событиях нашей эпохи, близость ко многим историческим фигурам последних десятилетий европейской истории – все это сочеталось у Баранта с замечательным даром образного изложения. Знаток поэзии и сам несомненный художник, он не рассказывал, а поистине показывал свою тему. Люди и вещи, казалось, оживали под его многокрасочным словом, охваченным какой-то внутренней взволнованностью. Он умел не только пластически оформить минувших героев и отошедшие события, но придать им в своей живописи то драматическое движение, которое сообщало им законченную и стройную прелесть, свойственную произведениям искусства. Можно было слушать часами, как этот старый дипломат излагал свои беседы с Наполеоном и Талейраном или же описывал места своих служебных назначений – Мадрид и Варшаву, Парму и Рим. Старинные европейские города возникали перед нами со своими остроконечными профилями, закипали пестрыми
52
толпами, высылали к своим балконным решеткам неведомых и заманчивых чужестранок. Романтические эпизоды личных воспоминаний сплетались с громкими политическими событиями, и, казалось, страницы истории развертывали перед нами минувшую жизнь во всем ее свежем цветении и буйном трепетании.
– Историк должен стремиться к изображению, а не к анализу, – отвечал обычно Барант на все наши восхищения его рассказами. – Без этого факты высохнут под его пером, он будет торопиться извлечь из них выводы и расположить их согласно общей точке зрения. Их жизненность улетучится. Смеющийся и живописный облик страны уступит место точным контурам географической карты: вы сможете узнать правильное расположение и точную поверхность данной области, но не будете иметь о ней никакого представления…
Я навсегда запомнил приведенное однажды Барантом изречение Квинтилиана, представляющее, по его мнению, девиз всякого историка: пишите для самого рассказа, а не для доказательств.
Я решил следовать исторической и литературной школе Баранта, вполне отвечавшей моим слагавшимся вкусам. Уже в дилижансе я набрасывал в свою кожаную тетрадь путевые впечатления и пытался облечь в живую и законченную форму некоторые раздумья, сомненья и предчувствия.
XII
Перелом в моей жизни произошел в тяжелую и трудную годину. Год от рождества Христова 1836 был несчастен для Европы. Лето отличалось необыкновенной засухой, поля сгорали, речки пересыхали, жители городов изнемогали от недостатка воды. Судоходство по Сене почти совершенно прекратилось, дворцовые водовозы разъезжали по изнывающим окраинам. Холера-морбус пожирала население всего южного побережья. Тулон, Марсель, Ливорно и Афины были опустошены страшной болезнью. С конца лета над Европой повисла Галлеева комета, затмевавшая своим светящимся телом созвездие Ориона и возвещавшая, по народным представлениям, новые бедствия.
Предсказания досужих волхвов усугубляли общую тревогу. Госпожа Ленорман, как возрожденная Кассанд-
53
pa, пророчила нашествия, мятежи, казни, крушения тронов…
В такой момент я покинул Париж для неведомой и таинственной России. Если бы я был суеверен, я мог бы усмотреть в этом сочетании дурных знамений некоторое личное предостережение. Ведь само назначение мое в Петербург, в сущности, возникло из кровавого побоища на бульваре Тампль… Не подстерегает ли меня на новых путях неведомая катастрофа?
Но, к счастью, я достаточно воспринял от моих учителей скептическую мудрость великой энциклопедии, чтобы не придавать значения этим случайным гороскопам текущей истории. Я был преисполнен веры в успех моей новой деятельности и с молодой убежденностью в благополучии будущего стремился в резиденцию царей…
Мы быстро приближались к нашей конечной цели. Вопреки указаниям некоторых путешественников, нам пришлось менять в дороге самый способ передвижения. Папский нунций ко двору Ивана Грозного, Антоний Поссевин, говорит в своих записках о России, что ватиканский посол может доехать до самой столицы Московии в своем римском экипаже, так как на всем пути он не встретит ни морей, ни высоких гор.
Очевидно, этот старинный иезуит ездил в теплое время. Нам же пришлось в Митаве оставить наш дилижанс. Возки, поставленные на полозья, еще легче и бодрей понесли нас по глубокому, рыхлому снегу. Лошади, почтальон и путешественники одинаково испытывали радость близкого завершенья их пути.
И вот однажды утром вдалеке, на гладкой равнине, в бледных лучах январского солнца перед нами стали выступать из розового курева очертанья шпилей, глав и куполов. Из темных срубов предместий, из полосатых шлагбаумов и будок призрачным узором вырастал и вонзался в грузные небеса неведомый и торжественный город.
Что ожидало меня за его оградой?
Сердце на мгновенье сжалось грустью. Но я не имел времени предаваться раздумьям. Триумфальные ворота, с шестеркой вздыбленных коней на гребне гранитной арки в медной одежде, уже открывали нам путь в императорскую резиденцию. И вот заскрипели опускные бревна, загрохотали цепи, заверещали блоки, и чиновники столичной заставы, не требуя обычных подорожных, с глубоким благоговением перед знатными путешествен-
54
никами, пропустили за городскую черту посланника короля французов с его свитой.
Мы были наконец у цели наших странствий.
ГЛАВА ВТОРАЯ
…cette grande et sublime passion ?.
П у ш к и н. Письмо барону Геккерну,
26 января 1837 года
I
Петербург великолепен и мрачен. Таким он показался мне при первом въезде, таким он сохранился навсегда в моем воспоминании.
Город русских императоров носит черты торжественной властности в стиле классического Рима, но только на фоне унылой и суровой природы, нарушающей своими тусклыми красками блеск атрибутов всемирного владычества. Каски, щиты и копья легионариев, рассыпанные по фризам дворцов и решеткам скверов, покрываются на целые месяцы густыми снеговыми шапками или тонут в мглистом тумане болотистых побережий Финского залива. Черные чугунные скакуны уныло стынут в желтых треугольниках казенных фронтонов, а белые крылатые гении беспомощно протягивают в утреннюю муть свои венки и пальмовые ветви. Вода, во всех направлениях обтекающая кварталы города и незримо размывающая его гранитные подножья, придает ему обличье самодержавного Амстердама. А вечные дожди отлагаются зловещими пятнами сырости на его пышных лепных фасадах и медленно растворяют фигурный алебастр его карнизов и архитравов.
И в довершение печальных контрастов этой искусственной столицы – огромное тяжеловесное и нарядное скопище дворцов, храмов, арок и колоннад опоясано грязными окраинами с их унылыми пустырями и нищими лачугами, угнетающими своей заброшенностью и беднотой.
Но при беглом обзоре город поражает своими размерами и убранством. Бесконечные улицы, огромные пло-
____________________
?Эта великая и возвышенная страсть
(фр.).
55
щади, прямые каналы, необычайный простор Невы, пышные купола и золотые стрелы башен, бронзовые колесницы и дорические капители – все это придает русской столице строгий и горделивый вид. Здесь всюду чувствуется жезл военного повелителя, превратившего свое обиталище в каменный лагерь, но не успевшего придать ему под слезливым северным небом прочность и завершенность мощных крепостных сооружений.
В утренний час, когда мы въезжали в Петербург, город был охвачен своеобразным оживлением. Во всех направлениях проносились курьеры и фельдъегеря, двигались караулы, маршировали военные части, растерянно торопились в свои департаменты чиновники, суетливо мелькали бесчисленные серенькие люди, покорные, озабоченные и запуганные. Где-то невидимо таились силы, приводившие в вихревое движение этих несчетных исполнителей чьей-то железной и неодолимой воли.
Эта прямолинейность, строгость и геометричность всей планировки города придает ему четкий, торжественный и пустынный вид. Как от всякой чрезмерной рассчитанности, от него веет холодной скукой. В римских атрибутах его чугунных решеток и каменных арок воплотилась бесстрастная жестокость восточных повелителей. Ужасающий лик безжалостного администратора, бросившего в финские трясины несокрушимые основы своей резиденции, до сих пор зловеще отпечатлен на ней. Это город для военных, царедворцев, сенаторов, чиновников и высшей государственной жандармерии. Это огромный и нарядный каменный ящик для самых страшных пружин правительственной машины.
Но это не город для поэта. Художник-фантаст, созерцатель образов, живописец слова, краски или звука должен без оглядки бежать из-под этих архитравов, перистилей и квадриг. Для артиста Петербург – страшное место. Мне всегда казалось, что этот гранитный палладиум императорской власти разобьет вдребезги каждого мечтателя, неосторожно забредшего в его неумолимый круг.
II
Оправившись с дороги, я решил первым делом повидаться с моим юным родственником. Я тотчас же отправил ему записку на Невский проспект в квартиру нидерландского посланника.
56
Через два часа, звеня палашом и блистая каской, ко мне с радостным смехом входил мой кузен.
Более пяти лет я не видел Жоржа.
Я расстался в 1830 году с неоперившимся юношей, почти школьником, тоненьким, белокурым и нежным. Меня встречал статный воин, окрепший в своих скитаниях, неожиданно представший предо мною во всем поразительном блеске своей мужественной красоты.
Я
не мог скрыть своего восхищения. Д'Антес, как оказывается, приехал ко мне прямо с развода в парадной форме императорского всадника. Он поразил меня роскошью своих сверкающих доспехов, облекавших его гибкую фигуру ослепительными покровами металлического костюма и венчавших его выточенную голову рыцарским шлемом с литым серебряным орлом.
Лицо его возмужало и как бы отлилось в свои законченные формы. Скульптурная голова с удлиненным и безукоризненным овалом, высоким золотящимся тупеем и пышными зачесами к вискам была поднята высоко с каким-то молодым и радостным задором. Голубые, совершенно прозрачные глаза, обрисованные с тою же отчетливостью, что и все черты этой на редкость законченной наружности, бросали прямо на собеседника играющие лучи беспечной удали и безудержного веселья. Его прежняя тоненькая и длинная фигура напрягла теперь свои крепкие мышцы и довела их до атлетической мощи и гладиаторской гибкости. Из-под гладкого панциря с чешуйчатыми краями выступали могучие плечи, а мускулистые молодые руки были крепко облиты белым сукном мундира. Театральная форма царских кавалеристов с ее искрометными украшениями эполетов и полированным золотом кирасы сообщала стану этого петербургского гвардейца какую-то легендарную прелесть.
Я вдруг почувствовал, что Жорж д'Антес воспринял и выразил богатое северное наследие своей именитой родословной. По женской линии в его жилы влилась широкой струей кровь всевозможных титулованных фамилий старой Германии, уходящих своими корнями к рыцарским орденам крестоносцев. По отцу его род восходил к Далеким выходцам с острова Готланда и терялся в туманных дебрях старинных шведских генеалогий. Я почувствовал, что во внешности его не было ничего французского, южного, галльского или романского. Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его профиля, и стальные
57
отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. Мне вспомнились витязи или боги норманнской мифологии с прозрачными глазами цвета морской воды и светлой гривой северных конунгов. И пока он стоял передо мною, лучезарный и ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардой эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам.
После первых приветствий, восклицаний и быстрых взаимных расспросов Жорж рассказал мне обо всем, что произошло с ним с момента нашей разлуки. Это была повесть о необычайных приключениях, отважных поисках славы, неожиданных встречах и поразительной игре счастливых случайностей и чудесных совпадений.
III
Он начал с августа 1830 года.
Пять карет, увозивших Бурбонов из Франции, докатились, под эскортом горсти телохранителей, до Шербургской гавани. Парусный бриг был готов к отплытию, и верный паж герцогини Беррийской расстался со своей дамой.
Он произнес на прощанье торжественную присягу легитимистов:
– Клянусь сделать все, что в моих силах, для восстановления и охраны законности и признаю за членами регентства право отнять у меня жизнь в случае предательства с моей стороны.
Получив вскоре бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, Жорж д'Антес вернулся на родину, в свой глухой и тихий Сульц.
Дядя Жозеф-Конрад поддерживал прочные связи с легитимистами. В Сульце знали все, что происходило при дворе низложенных Бурбонов.
Карлу X был предоставлен старинный шотландский замок Голи-Руд, в окрестностях Эдинбурга. Этот пасмурный дворец, занавешанный дождями и туманами, напоминал о печальной судьбе обитавших в нем некогда Стюартов. Жизнь потекла здесь замкнутая и томительная.
58
Привыкшая к балам, к празднествам, к веселому окружению своей свиты, герцогиня Беррийская изнемогала в изгнании. Она горела желанием вернуть утраченную корону своему сыну. И вот уже весною 1831 года в маленький приморский городок Англии начинают тайно паломничать французские легитимисты. Здесь изгнанная герцогиня завязывала первые узлы грандиозного политического заговора.
Еще по пути в Шербург д'Антес узнал, что в июльские дни она явилась к Карлу X в мужском костюме, с двумя крохотными пистолетами за поясом, предлагая бежать в Вандею и поднять там народное восстание. Ее уговорили следовать в Шербург для отплытия в Англию. План нового шуанского движения в Вандее или Бретани был отсрочен. Теперь наступал момент для его осуществления.
Страстная душа итальянской авантюристки настойчиво требовала реванша и слепо верила в победу. Она во что бы то ни стало хотела стать французской регентшей, подобно своей знаменитой соотечественнице Катерине Медичи. Во всяком случае, как и та, она, кажется, была готова на новую Варфоломеевскую ночь, лишь бы возвратить престол своему сыну. Воспоминания о Вандее не переставали волновать ее…
И вот зимой 1832 года Жорж д'Антес особым путем, через путешественников и таинственных посетителей, стал получать вести о своей честолюбивой повелительнице. В шифрованных письмах она сообщала ему о партии преданных ей сторонников, которые решили ближайшей же весною поднять южные провинции Франции, двинуться на север, захватывая власть в крупных городах, и, наконец, овладев Парижем, провозгласить низложение Орлеанов и воцарение Генриха V под регентством его матери.
Весной Жорж д'Антес в величайшей тайне оставил Сульц и явился на условленное свидание в Италию. При дворе герцога Моденского жила инкогнито главная заговорщица, собирая своих преданнейших сторонников.
Жорж услышал от вождей движения, тесно связанных с парижским комитетом карлистов, что все было подготовлено для переворота и политический заговор вызрел для своего осуществления. Вандея, по их словам, бродила и мечтала свергнуть узурпатора, Бретань глухо клокотала и ждала переворота. Иностранные дворы были готовы всячески содействовать новой реставрации.
59
«При малейшем успехе герцогини ее поддержат», – заявил император Николай тайному посланцу легитимистов. Голландия и Португалия, заклятые враги Луи-Филиппа, обещали снабдить его противников оружием и деньгами после первой же победы. Необходимо было во что бы то ни стало добиться успеха.
По мнению вожаков, достаточно было герцогине показаться народу, чтобы во главе молчаливо преданных войск двинуться на Париж и снова занять престол Капетингов.
Д'Антес с передовым отрядом сторонников герцогини оставил Тоскану и отправился в Вандею подготовлять движение. Необходимо было всюду рассеять прокламации «Марии-Каролины, регентши Франции».
В конце апреля корабль особого снаряжения перевозил заговорщиков с итальянского берега на побережье Марселя. Ночью был брошен якорь в глухой местности невдалеке от города. Герцогиня, закутанная в мужской плащ, высадилась на пустынном берегу. Часть ее свиты двинулась к городу и соединилась с местными роялистами. Марсель должен был подняться как один человек, – но он не поднялся. Неудачу объяснили трудностью развернуть восстание в большом портовом городе, переполненном полицейскими и шпионами.
Решено было двинуться в глубь деревень, на запад, к океану, в надежную Вандею и, может быть, прорваться дальше на север, в преданную Бретань.
«Раскройте врата счастью Франции!» – гласило торжественное воззвание к населению. Но врата не раскрывались. Народ не торопился проливать свою кровь за правнука Генриха IV.
Необходимо было ускорить события и дать сражение. Горсточка смельчаков сделала отчаянную попытку, и вооруженное столкновение двух партий наконец состоялось.
Бои под Шеном и Пенисьер решили дело. Роялисты были разбиты наголову. Герцогиня Беррийская бежала и скрылась в Нанте.
Остальное мне было известно и без Жоржа. Хитроумному Тьеру за 500 тысяч удалось купить секрет ее пребывания, и в ноябре она была арестована и заключена в укрепленный замок.
Политическому перевороту суждено было завершиться громким скандалом. В январе обнаружилось, что арестованная герцогиня беременна. Правительство Луи-Фи-
60
липпа поторопилось разгласить этот неожиданный факт, столь чреватый политическими последствиями. Левые газеты открыто заговорили о срыве государственных планов герцогини. Некоторые листки иронизировали на тему о любвеобилии итальянки. Редактор республиканского «Corsaire» был вызван на дуэль журналистом правого лагеря. Арман Каррель в своем «National» вызвал к барьеру двенадцать легитимистов и, выйдя на поединок, был тяжело ранен. Началась эпидемия дуэлей, охватившая всю Францию. Карлисты шли в бой за герцогиню, республиканцы – во имя революции. Казалось, в политической жизни страны утверждались нравы Вальтер Скотта.
Мода на дуэли была в то время в полном ходу.
Вызовы, барьеры, секунданты, Ле-Паж и Кухенрейтер… Мы начинаем теперь понемногу отвыкать от этого театрального обычая, стоившего жизни стольким горячим головам. В то время из военной среды поединки перешли в литературные круги, своеобразно окрашивая мирные нравы старых редакций. Стреляться стало модным явлением для журналистов и поэтов. Бретерство считалось в те годы одним из признаков одаренной натуры. Оно открывало возможность прославиться и придать блеск общественного удивления своему имени. Ведь обыватели, дельцы и филистеры не выходили к барьеру. Для этого нужен был героизм, свойственный творческим натурам. И опасная мода стала косить головы поэтов.
К этой печальной теме мне еще придется вернуться.
Неизвестно, к чему бы привели эти бесчисленные поединки, если бы 26 февраля официальный «Moniteur» не поместил бы письма самой герцогини с категорическим заявлением о том, что она тайно обвенчалась во время своего пребывания в Италии.
Взрыв негодования в легитимистских салонах, ирония и смех в орлеанских кругах. «Она прибыла во Францию требовать трона, ей пришлось просить фартук кормилицы», – острили политические противники. Но опытные карлисты решили действовать энергично: дипломаты и банкиры их партии заключили союз, чтоб «спасти честь герцогини».
И вот появляется на сцену мелкий политический авантюрист, некий граф Гектор Луккези-Палли, который всенародно подтверждает, что с лета 1832 года он тайно обвенчан с герцогиней Беррийской.
Этим объявленным браком регентша Франции спасала свою женскую честь, но утрачивала навсегда все права на французский престол. Ее историческая роль была сыграна до конца. Ей снова пришлось рожать в присутствии многочисленных свидетелей и затем подчиниться приказу Луи-Филиппа и навсегда удалиться за пределы Франции.
В июне 1833 года парусный корвет «Агата» доставил герцогиню с новорожденным младенцем в порт Палермо.
Так кончилась политическая жизнь Марии-Каролины-Фердинанды, принцессы Обеих Сицилий.
Пылкие сторонники регентши Франции не могли служить графине Луккези-Палли. Поклявшись в непоколебимой верности Генриху V, они рассеялись по иностранным армиям и дворам.
IV
К этому времени Жорж уже был в Сульце. После несчастных и бессмысленных сражений под Шеном и Пенисьер он, как и большинство сторонников герцогини, обеспечив ей безопасность в Нанте, скрылся.
К осени он уже был на родине. Здесь он провел два года в бездеятельности, обреченный на плачевную праздность политического изгнания. Полный сил, способностей и энергии, он скакал по полям и стрелял в окрестных рощах, в промежутках уныло слоняясь по тихим улицам и площадям старинного прирейнского городка с его зубчатыми башнями, крепостными стенами, готической ратушей и вековым капуцинским монастырем.
По временам он вел безотрадные беседы со своим отцом. Старик был глубоко потрясен падением Карла X, новым режимом журналистов в Париже и крупными ударами, нанесенными его родовому богатству революцией 1830 года.
Соседом д'Антесов по их эльзасскому поместью был герцог Баденский. Однажды Жорж встретился у него с принцем Луккским. Они вместе охотились, объезжали лошадей, занимались фехтованием.
– Как жаль, что вы прозябаете в вашем глухом Сульце, – сказал однажды Жоржу его новый знакомый, – почему бы вам не пройти военной школы в Пруссии? Я в добрых отношениях с прусским королем, хотите, я напишу ему о вас?
62
Предложение итальянского князя было обсуждено на семейном совете. Мой дядя Жозеф-Конрад, скорбевший о бездеятельной молодости своего одаренного красавца сына, решился на разлуку и высказался за его отъезд. В то время французы, верные Бурбонам, удалялись в Голландию, Пруссию, Австрию или даже в Россию, где занимали подчас высокие посты в войсках или администрации. Преданья старой эмиграции еще не иссякли, и воспоминания о зарубежных успехах роялистов были свежи. Жорж д'Антес решился вступить на этот испытанный путь. Он имел знатных родственников в Берлине и даже в Петербурге. Преданность законной монархии обеспечивала ему благожелательный прием при обоих дворах. Он решил искать счастья в чужих краях.
Герцогиня Беррийская, не прекращавшая переписки со своими сторонниками, обещала д'Антесу просить своего низложенного тестя поддержать перед «коронованными братьями» интересы верного защитника старой династии.
И вот ранней осенью 1834 года, с письмом герцога Луккского в руках, д'Антес явился к сыну прусского короля.
– Вы, может быть, думаете, – сказал ему принц Вильгельм, – что отец мой может делать все, что ему вздумается. Наши военные регламенты суровы, и никто не вправе нарушать их. В прусскую армию вы можете вступить лишь нижним чином, то есть унтер-офицером, но не то в России. Мой зять, император Николай, полновластен, и даже военная дисциплина склоняется перед его самодержавной волей. Я не сомневаюсь, что он окажет милостивый прием роялисту, пострадавшему за верность трону. Я дам вам к нему письмо.
Д'Антесу пришлось подчиниться совету принца Прусского. С некоторой тревогой он решил продолжать свои поиски счастья в далеком Петербурге.
А между тем жизнь продолжала сплетать по пути его эпизоды и приключения, достойные фантазии Анны Редклиф.
В скверное время, в осеннюю распутицу, почти без средств, прижимая к сердцу письма своих знатных покровителей, д'Антес снова пустился в путь.
Шли непрерывные дожди, дули пронзительные северные ветры. Ветхий дилижанс заливало водой и продувало дорожным сквозняком. Избалованный солнечным
63
Сульцем, Жорж захворал. В Любек он приехал совершенно больным. Не будучи в состоянии продолжать путешествие, он занял тесный номер в большой любекской гостинице с позолоченной вывеской «Город Гамбург», где лихорадил и бредил совершенно один, без спутников и родных, почти без денег. Какое дурное предзнаменование! Не отказаться ли от дальнейшего следования в Петербург? Не вернуться ли в Берлин?
В это время, по пути из Гааги в Петербург, в любекскую гостиницу заехал один знатный путешественник.
То был королевский нидерландский посланник при русском дворе, один из последних отпрысков древнего голландского рода баронов фан Геккернов де Беверваард. Получивший французское образование, служивший в молодости при Наполеоне, а впоследствии даже принявший католичество, барон Луи-Борхард фан Геккерн был большим поклонником Франции. Фамилия моего кузена, прочитанная им в списке постояльцев, оказалась ему знакомой и возбудила в его памяти довольно отчетливые фамильные предания. Знаток европейских родословных, он живо заинтересовался молодым и знатным французом, томившимся в заезжем трактире ганзеатического города. Он выразил пожелание познакомиться с ним.
С первых же бесед обнаружилась их общая принадлежность по женским линиям к старинным германским родам. В отдаленных сплетениях фамилий Нассау и Гацфельдов можно было найти совпадающие ветви, связывающие степенями свойства фан Геккернов с младшими представителями баронской фамилии д'Антес. Во всяком случае, посланник принял в Жорже живейшее участие, задержал свое дальнейшее путешествие, пригласил врачей и с материнской нежностью выходил его. Кузен мой с чувством глубокой растроганности передавал мне, с какой самоотверженной заботливостью ухаживал за ним этот видный государственный деятель, блиставший при первом европейском дворе.
Как только Жорж оправился, посланник с любезностью светского человека и щедростью вельможи предложил ему продолжать путешествие вместе. Он настоял на том, чтобы его новый друг совершил переезд в каюте первого класса, и даже вызвался покрыть расходы по билету, стоившему добрую горсть голландских червонцев.
В средних числах октября они заняли каюту на пиро-
64
скафе «Николай I» и через три дня прибыли в Кронштадт, уже связанные чувством самой тесной близости.
Барон Геккерн обещал Жоржу свою широкую поддержку при его вступлении в петербургский свет.
Между тем письма знатных покровителей Жоржа были доставлены по назначению. Государь отдал распоряжение допустить сен-сирского юнкера, достойно сражавшегося за французского короля, к офицерскому экзамену при военной академии.
Таким образом, Жорж д'Антес вступил в петербургскую жизнь под высоким покровительством Бурбонов и Гогенцоллернов, под крепкой защитой представителя нидерландского короля, при заочном благожелательстве императора Николая. Не удивительно, что он двинулся по пути успехов гигантскими шагами.
– И вот уже скоро два года, – закончил свой рассказ д'Антес, – как я зачислен корнетом в кавалергардский полк, состоящий под шефством самой императрицы. Паж герцогини Беррийской был признан достойным вступить в телохранители ее величества. Я отличен за смотры и маневры высочайшим благоволением, принят ко двору, бываю в лучших домах Петербурга, обласкан товарищами и начальниками. Дела мои в блестящем состоянии. Ты застаешь меня накануне повышения в чине. Вспомни, что иностранцам в русской армии случалось достигать высоких степеней. Мне кажется, я на пути к ним. Кто знает, друг мой, быть может, тебе суждено стать в будущем родственником российского фельдмаршала!…
V
Между тем смеркалось. Мы отправились обедать в ресторан Дюмэ. Желая продолжать нашу интимную беседу, мы сели не за табльдотом, а в стороне, за отдельным столиком. Бутылка шампанского в белой салфетке сейчас же появилась на столе.
– Это обычай русских, – сообщил мне д'Антес. – Здесь без шампанского не садятся за стол. Я думаю, что в России потребляют больше этого вина, нежели Шампань его производит.
Ресторан наполнялся посетителями. За табльдотом усаживались представители сановного, военного и богатого Петербурга, ценившие тонкую кухню и кулинарное
65
искусство нашего соотечественника. Д'Антес от времени до времени приподнимался и раскланивался. Это нисколько не мешало продолжению нашей беседы. Она даже приняла за бокалами играющего вина более задушевный характер.
Всегдашний повеса и вечный хохотун, кузен мой любил рассказывать о своих похождениях и победах. Я навел разговор на эту тему.
Жорж весело расхохотался и с горящими глазами стал посвящать меня в историю своих русских похождений.
– Петербург полон соблазнов,- с увлечением рассказывал он. – Северные морозы разжигают кровь и кружат голову. Здешние женщины ленивы и чувственны, как гаремные затворницы. Они капитулируют при первой осаде…
Я заметил, что, когда д'Антес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку.
– Ты, как всегда, ни в чем не знаешь поражений,- заметил я.
Неожиданно лицо Жоржа омрачилось. С необычной задумчивостью он посмотрел на меня, перевел затем свой взгляд на бокал и долго следил за легким ходом возносящихся искорок светлого напитка.
Наконец, отпив глоток, он произнес:
– Знаешь ли, Лоран, после сотни легких побед я, наконец, чувствую себя побежденным. Впервые в жизни я, как глупый мальчишка, бессилен подчинить себе обстоятельства и добиться торжества.
– Это действительно невероятно. Но кто же она?
Он ближе придвинул стул и, почти перегнувшись через скатерть, стал вполголоса говорить мне:
– Представь себе олимпийскую богиню в наряде знатной дамы наших дней. Она высока и изумительно стройна. Талия девически тонка и колеблет, как стебель, пышный и мощный торс великолепно расцветшей женщины. На нежной и хрупкой шее голова Юноны, но не властной и гордой, а кроткой и застенчивой. Этот контраст восхищает, преисполняет тебя состраданием и может свести с ума.
Он отпил из своего бокала и с горящими глазами продолжал:
66
– Описать эту торжествующую красоту невозможно. Представь себе лицо с овалом безупречной чистоты в раме из шелковисто-густых локонов, с огромными сияющими глазами, словно вбирающими в себя, как алмаз, все лучи, чтобы вернуть их с удесятеренной силой.
Д’Антес внезапно прервал свою речь. Он быстро поднялся, опустил руки и порывистым движением повернул свою слегка приподнятую голову к входной двери. Взгляд его приветливо и бдительно скользил по каким-то новым посетителям, проходившим по залу.
Я обернулся. Вдоль столов шагали двое военных. Сухой и высокий генерал, с характерным выражением немецкого командира на гладко выбритом бесстрастном лице, с коротко подстриженными усами, благосклонным, но сдержанным кивком ответил Жоржу. Это был командир кавалергардов, барон Георг фон Грюнвальд. Спутник его, командующий гвардейским конным полком Бреверн, веселою улыбкою отвечал д'Антесу.
Командир конногвардейцев славился своим живым и общительным нравом.
Кто из нас мог подумать, что через год этот благодушный полковник вынесет смертный приговор беспечному поручику д'Антесу?…
– Но больше всего изумляет в ней, – продолжал свое признание д'Антес, – сочетание строгой красоты с наивным, страдальческим выражением лба, глаз, светлой и чуть грустной улыбки. В этом классическом совершенстве черт есть нечто жалобное, почти детское. Эта ослепляющая женщина в полном расцвете своей молодости кажется бесстрастной, как ребенок, и чистой, как девственница. От нее веет холодом мраморной статуи. И это может окончательно лишить рассудка.
Д'Антес преобразился. В нем ничего не оставалось от обычной легкой шутливости и веселой разговорчивости. Он был действительно весь охвачен «великой и возвышенной страстью», как выразился впоследствии, в трагическую минуту смертельного расчета, один гениальный наблюдатель его романа.
– Кто же она? – невольно сорвался у меня вопрос.
Он снова задумался.
– Нет, я не назову ее имени. Когда-нибудь узнаешь.
– Ты поступаешь как рыцарь. Я не буду расспрашивать тебя. Но – провозглашаю молчаливый тост, как в средние века.
68
Я поднял бокал. Жорж радостно взглянул на меня, чуть-чуть чокнулся и допил свое вино.
И вот мелодия страстного и безнадежного признания возникла внезапно из моих раздумий. Отбивая серебряным ножом такт по хрусталю бокала, я тихо-тихо, почти шепотом произнес мотив любовной каватины из модной тогда «Сомнамбулы»:
L'alma mia nel tuo sembiante
Vede appien, la tua scolpita ?…
– Что за изумительный слух! – раздалось за моей спиной. – Да познакомьте же меня с вашим приятелем, д'Антес.
У нашего стола стоял человек не совсем обычной наружности: безукоризненный костюм, ослепительное жабо, высокие воротнички и слегка прикрытый обшлагом орден обнаруживали в нем важного сановника. Но, вопреки моде высшего круга, волосы его были довольно длинны и всклокочены, как у поэта.
– С величайшим удовольствием, ваше сиятельство, – отвечал д'Антес.
И, назвав меня незнакомцу, он не без труда произнес его сложную славянскую фамилию:
– Граф Михаил Виельгорский, гофмейстер его величества, один из первых музыкантов Европы.
Граф присел к нашему столу.
– Вы из Парижа, дорогой виконт? Ну, расскажите же мне об опере и концертах. Ну, что Гризи? Что Тальони? Фанни Эльслер? Что готовит Мейербер? Давно ли вас навещал Паганини?
В качестве постоянного посетителя Большой Оперы я мог легко рассказать петербургскому меломану о наших премьерах и знаменитостях. Он с жадностью выслушал мой рассказ о последних триумфах Рубини и Лаблаша. Я сообщил ему о подготовке Большим театром новой оперы Мейербера – «Гугеноты». «Говорят, это сильнее «Роберта-Дьявола», – закончил я свою рецензию.
– Слава богу, и мы не отстаем от Европы, – сообщил мне петербургский меломан, – вы можете услышать у нас и «Возмущенье в Серале», и «Фенеллу».
____________________
?Душа моя в твоем лице
Видит полностью твое изваянье…
(ит.)
69
– При первом случае почту за долг посетить петербургский балет.
Виельгорский, прощаясь, пригласил меня на выступление своего квартета.
– Вы услышите, правда, варварское исполнение гениальных европейских компонистов,- заметил он,- но все же приходите послушать наш скифский концерт.
VI
Д'Антес повез меня к себе знакомить со своим приемным отцом.
– Ты мне так описал твою красавицу, что я берусь узнать ее без всяких указаний, – заметил я.
– Едва ли, – усомнился Жорж, – петербургское общество славится красивыми женщинами…
– Пари на дюжину шампанского…
– Идет.
– Условие: я угадываю до трех раз; если я ошибусь и на третьей красавице, – я проиграл пари.
– Принимаю.
Мы быстро неслись по Невскому. Мимо нас, летя навстречу, промелькнули в облаке снежной пыли маленькие санки, запряженные вороным рысаком. За дородным кучером пронеслась пасмурная фигура в тяжелой кирасирской каске, с развевающейся по ветру серой пелериною форменной шинели с бобровым воротником.
– Император! – благоговейно шепнул д'Антес.
Я впервые увидел знаменитый выезд Николая в одноконку.
Сани быстро домчали нас. Геккерны жили при голландском посольстве на Невском проспекте. На дубовых дверях золотой лев сотрясал правою лапою меч, а левою вонзал связку стрел в лазурное поле герба. Две первые комнаты были отведены под канцелярию и архив, остальная, довольно просторная, квартира почти сплошь представляла собою музей редкостей.
Голландский посланник был известным коллекционером. Еще подростком, по обычаям своей страны, он собирал тюльпаны и славился обладанием редчайших луковиц и драгоценнейших цветочных экземпляров. Юношей, служа во флоте, он любил скупать в чужестранных портах оружие, утварь или украшения необычной формы. В родовом замке Беверваардов в комнате молодого барона
70
накоплялись понемногу ятаганы, бумеранги и стрелы, пестрые блюда и кувшины, зеленовато-золотистые бокалы венецианского стекла, застежки, бусы и четки с константинопольских базаров.
Когда юный барон Луи уезжал в Стокгольм секретарем нидерландского посольства, парусное королевское судно увозило с собой тяжелые баулы, наполненные редкостными трофеями этого жадного собирателя. С тех пор коллекции фан Геккерна не переставали расти и следовать за ним по местам его службы, пока наконец они не превратили его петербургскую квартиру в настоящую кунсткамеру.
Все это я узнал от Жоржа. Приехав в посольство, он проводил меня в кабинет своего отца и представил как близкого родственника и друга детства.
Барон Луи фан Геккерн де Беверваард, несмотря на свой малый рост, был пропорционально сложен и отличался своеобразной грацией. В его манере было много мягкой и медлительной вкрадчивости. Маленькие руки необыкновенной белизны и тщательной выхоленности были словно созданы для округлых и ласковых жестов. Несмотря на характерную бородку голландских моряков, словно растущую на шее из-под галстука, в его правильном лице было много женственного. Отчетливость некрупных черт, красивая очерченность рта, свободного от всякой растительности, тонкие брови, бледность щек – все это придавало его облику некоторую тепличную изнеженность. Только холодные глаза светились умом и волей. Мне показалось, что его маленькая голова с незначительным выступом над затылком придавала его гибкой фигуре какой-то змеиный извив.
Первая же беседа с бароном убедила меня в его остроумии и умении вести живой разговор. Он любил сопровождать свои образы комическими каламбурами, покрывая свои остроты несколько монотонным смехом. Большой знаток видных европейских фамилий, он представлял собою как бы живой «Готский альманах».
С первых же слов он установил родство д'Аршиаков с графской и герцогской ветвью Сен-Симонов и поразил меня осведомленностью в старинных французских родословных.
– О, Франция – моя вторая родина, – заявил барон, – мы с вами и географически и духовно родственны. Ведь помните, еще Наполеон признал Голландию
71
«наносом французских рек», а наш старый Амстердам – третьим городом своей империи. У него был вкус, не правда ли? Вы ведь можете об этом судить: говорят, вы побывали на моей родине.
Я рассказал Геккерну о моей прошлогодней поездке в Гаагу с особым поручением к его главе – министру Верстолку. Я восхищался природой и архитектурой его страны. Я говорил ему о моем восторге перед статуями готических ратуш и расписными витражами старых фламандских соборов.
– Я покажу вам некоторые образцы пленившего вас искусства, – сказал мне Геккерн.
И он повел меня показывать свои коллекции.
На массивных шкафах резной работы были расставлены бронзовые фигуры, группы из севрского бисквита или слоновой кости, фарфоровые вазы и эмалевые табакерки. На густых восточных коврах было развешано оружие. Стены были покрыты застекленными эстампами и пастелями, над которыми висели большие полотна в золотых рамах.
В картинной галерее барона преобладали пейзажи его родины и портреты его соотечественников. Хорошо знакомые мне дюны и каналы, озера и лагуны, водяные и ветряные мельницы, сваи и шлюзы, высокие многоэтажные крыши с блестящими иглами и выгнутые мосты над недвижными струями Шельды выступали предо мной из бронзы и точеного дерева фигурных обрамлений.
Но еще замечательнее было портретное собрание барона Геккерна. Во второй комнате я увидел ряд мужских изображений, одиночных или групповых, погрудных или во весь рост, прославивших во всем свете старинных фламандских мастеров. Хирурги и зубные врачи, бургомистры и гильдейские старшины, органисты и скрипачи, придворные, воины и штатгальтеры Оранского дома выступали передо мной во всем разнообразии своих обликов, причесок и костюмов.
Я любовался умными лицами анатомов в черных шляпах с нависшими полями и горделивыми мановениями полководцев, гарцующих под лепными сводами триумфальных арок, с маршальскими жезлами в протянутых руках. Из дымчатого сумрака портретных фонов выступали вельможи в охотничьих костюмах, с большими гладкими собаками, прильнувшими к колену, или мальчики в белом шелку, с попугаями на светлой замше перчаток. Барон называл мне имена неизвестных художни-
72
ков из Лейдена и Утрехта, из Амстердама и Гаарлема. И прелесть этих изображений, казалось, усиливалась от необычайного звучания чужестранных имен: Яна ван Скоорля, Гаверкорна ван Рийсеники или Иооса ван Кресбеека.
Картинное собрание барона поразило меня. Какое разнообразие типов и характеров! Но, всматриваясь в эту обширную галерею персонажей, я невольно обратил внимание на отсутствие среди них обычных фигур – Леды с лебедем, Клеопатры с нильской змейкой, богородиц и Магдалин, королев и куртизанок. Я сообщил мое наблюдение барону.
Он слегка поморщился.
– Что может быть прекраснее мужественной красоты? Какая превосходная строгость и четкость, какая гибкость мускулатуры и стремительность членов. Взгляните на этого Ахилла с челом, окованным каской, или на этого пажа в ломких отсветах лионского шелка. Ессе homo! Обнаженный, он кажется воином, готовым для боя. Все на своем месте, ничего лишнего. А все эти вздутые припухлости и рыхлые формы моделей Рубенса – к чему они? Вы скажете – для деторождения и кормления, – пожалуй. Но для красоты – никогда.
73
Он подошел к своему письменному столу и взял с него портрет своего приемного сына. Д'Антес был изображен на нем в белом мундире и сверкающей кирасе кавалергарда. Он поднес эту миниатюру к небольшому полотну ван Вениуса, изображающему Иоанна Крестителя.
– Какое сходство. И в обоих случаях какая смелая красота! Взгляните на эти плечи…
Я согласился с бароном. Старинному голландскому художнику пришла фантазия изобразить евангельского предтечу не в виде сурового аскета, а в образе жизнерадостного юноши. Казалось, Жорж д'Антес, совлекший с себя ослепительные доспехи кавалергарда, беспечно глядел на нас из коричневых тонов старого полотна, с легкой улыбкой воздевая воздушный тростниковый крест над грубой овечьей шкурой своей пастушеской одежды…
Впоследствии я узнал происхожденье богатых коллекций барона Геккерна. Собирая материалы для моей книги о России, я наткнулся на пачку любопытных документов. То были счета торговых фирм, запросы таможенного ведомства и отношения департамента внешней торговли. Из этой служебной переписки непререкаемо явствовало, что полномочный и чрезвычайный посланник короля нидерландского вел довольно крупные коммерческие дела. Пользуясь в качестве «аккредитованной дипломатической особы» правом получать беспошлинно разные посылки из-за границы, Геккерн выписывал в огромном количестве всевозможные предметы роскоши, дорогие напитки и художественные редкости, доставлявшие ему крупные барыши. Несколько больших иностранных магазинов на Невском и первые столичные трактиры состояли тайными контрагентами барона, наживаясь на его беспошлинном товаре и обогащая самого оборотистого дипломата.
Из Амстердама, Лондона, Парижа, Гавра и Любека на Невский проспект, в нидерландское посольство, доставлялись многопудовые ящики с оружием и редкостями. Сюда текли огромные партии ликеров, шампанского, рейнвейна, парагвайского бальзама и киршвассера. Хрустальные, фарфоровые и серебряные вещи, цельные свертки материй для обивки экипажей и мебели, часы, табакерки и бронзовые шандалы направлялись через голландскую миссию в склады столичных купцов. Для художественных коллекций барона и для лавок петербургских антиквариев выписывались древние японские вазы, китайский фарфор, индийская бронза, картины в массив-
74
ных рамках, редкая мебель. Из некоторых счетов было видно, что парижские парфюмеры, портные, перчаточники и обувные мастера доставляли Геккерну свои жилеты, шелковые чулки, фраки, туфли, халаты, духи и помаду.
Но при всем благоволении к барону Геккерну самого вице-канцлера Российской империи, таможенное ведомство становилось иногда в тупик перед невообразимыми размерами грузооборота нидерландской миссии.
Я видел любопытное отношение департамента внешней торговли министерства финансов в департамент внутренних сношений министерства иностранных дел с тревожным запросом петербургской таможни. Директор растерянно сообщал подлежащему учреждению, что -
…на пароходе «Александра» привезен на имя г. нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком НВ Н. № 1 и что по досмотру сего ящика при доверенном от г. посланника оказались в нем: 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и 137 штук салфеток таковых же, не обрубленных, новых, весом всего налицо 13 пуд. 30 фун., к привозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кои оставлены в таможне впредь до разрешения.
Ведомство графа Нессельроде распорядилось выдать голландскому посланнику все запретное содержимое вскрытого ящика.
Таким образом, влиятельный представитель европейской державы, один из виднейших членов петербургского дипломатического корпуса, отпрыск знатной титулованной фамилии втихомолку занимался широкой контрабандой при благосклонном попустительстве российского вице-канцлера.
Золотой лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом поле герба, украшавшего дубовую дверь голландского посольства, служил, в сущности, вывеской тайной торговой организации, строившей свои балансы на крупнейшем государственном беззаконии.
Действия, за которые обыкновенный член петербургских купеческих гильдий мог быть наказан кнутом и сослан в Сибирь, доставляли барону Луи-Борхарду фан Геккерну богатство, связи, влияние и все проистекающие отсюда блага общественных почестей и завидной известности.
75
VII
Мы вошли в комнату д'Антеса. Над диваном были развешаны по ковру пистолеты старинных и новейших систем с гладким деревом, перламутром или слоновой костью на тяжелых рукоятках. На иных из них золотом по черни змеилась подпись Ле-Пажа, оружейника короля. Над столом висел большой портрет молодой женщины с узкими глазами, вздернутым носом и полуоткрытым ртом. Я сразу узнал изображение герцогини Беррийской.
– А где же портрет Карла X? – спросил я, улыбаясь.
– Я не карлист. Я – ан-ри-кен-кист ?, – раздельно произнес д'Антес. – Это нужно различать. Карл X отрекся от престола во имя своего внука Генриха V. Я беспрекословно исполняю его волю: я верноподданный юного принца и слуга его матери, регентши Франции – Марии-Каролины.
– Вот мой король, – закончил он, указывая на скульптуру, украшавшую его камин.
Я подошел ближе. Это была конная статуэтка графа Шамбора, герцога Бордоского, которого молодое крыло легитимистов называло королем Франции Генрихом V. У зеркала висела раскрашенная карикатура из парижского юмористического листка, изображающая остроконечную голову Луи-Филиппа в виде огромной улыбающейся груши.
– Это моя любимая мишень, – весело заявил Жорж.
И, сняв со стены особого типа хлыст-пистолет, он выпустил несколько зарядов в рисунок «Charivari», безошибочно насаживая пулю на пулю.
Геккерны убедили меня провести с ними вечер. Они ждали двух-трех друзей.
Вскоре приехали однополчане Жоржа: Трубецкой, Бетанкур и Полетика. Все это были видные кавалергарды. Ротмистр Адольф Бетанкур-и-Молина, по отцу испанец, по матери англичанин, был сыном известного инженерного генерала. Князь Александр Трубецкой, несмотря на свою молодость, уже был штаб-ротмистром. Это был тот самый Трубецкой, который вскоре прославился сво-
____________________
?Так называли себя сторонники Генриха V (Henri-Quint).
76
им романом с знаменитой танцовщицей Тальони. Он разъезжал вслед за ней по всей Европе, появлялся в театрах Вены, Парижа и Лондона, заслужил гнев государя и чуть ли не был исключен из кавалергардов. В то время его страсть к балету еще не переходила обычных для петербургской молодежи границ.
Наконец, полковник Полетика, самый старший в компании, мало походил на военного и держал себя скромнее и тише всех. Его называли «божьей коровкой». Это нисколько не мешало ему весьма успешно увеличивать свое благосостояние. Передавали, что в польский поход 1831 года он умело завладевал не только вещами товарищей, но даже походными палатками. Главное его достоинство, как я узнал от д'Антеса, была молодая жена, кружившая головы всему кавалергардскому полку.
По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток. В серебряную миску была поставлена сахарная голова, налит и зажжен ром. Кавалергарды черпали ковшиком пылающую влагу и разливали ее по стаканам, роняя в стекло огненные синие капли.
Пока они готовили свое пылающее питье, Геккерн усадил меня в своем кабинете и стал беседовать со мной о Петербурге и дипломатическом корпусе.
– Ваше положение, дорогой виконт, как представителя революционной Франции, при петербургском дворе не легко. Дипломаты, аккредитованные при здешнем дворе, принадлежат почти сплошь к враждебной вам школе. Сам русский вице-канцлер – верный и преданный слуга Меттерниха. Представители иностранных держав при русском дворе – почти все прошли меттерниховскую школу и остались ей верны. Я не исключаю и себя из этого числа.
Во время разговора он часто брал со своего письменного стола небольшое ручное зеркало в черепаховой оправе и пытливо рассматривал свое лицо в различных поворотах. Иногда он невольно переводил свои взгляды на миниатюрный портрет Жоржа, стоящий перед ним на его рабочем бюро. После небольшой паузы он задумчиво произнес:
– Поговорим о другом. Вам, как брату и другу Жоржа, я должен раскрыть свои заботы. Я хотел бы, чтобы вы мне помогли своим влиянием на него. Не скрою, я привязался к нему всем сердцем, и в моей одинокой жиз-
77
ни он неожиданно создал теплое ощущение семейственности. Я полюбил его, как мать, боготворящая своего взрослого сына и способная мучительно ревновать его к каждой любовнице. И в этом отношении ваш кузен доставляет мне немало горьких минут. Я вспомнил исповедь д'Антеса.
– Его женолюбие и легкомыслие, – продолжал Геккерн, – могут вызвать тяжелые неприятности для нас обоих. Скрепя сердце я простил бы ему каких-нибудь актрис и танцовщиц, эти минутные и незаметные интрижки – неизбежное зло молодости. Но у него стремление к прочным связям с женщинами высшего света, и даже придворного круга, а это чревато крупными и непоправимыми осложнениями. Он не думает о тех скандалах, которые и отдаленно не должны касаться нашего имени.
Я поинтересовался узнать, имеет ли барон в виду какой-нибудь определенный случай.
Он с сокрушением кивнул головой.
– Представьте себе, что он вздумал увлечься одной светской женщиной, весьма заметной в обществе и при дворе. Должен сознаться, что нельзя не одобрить его вкус, – это, вероятно, первая красавица в Европе, – но нельзя же жертвовать женщине своим именем, своей карьерой, быть может, всем своим будущим. Все это бесконечно огорчает меня, и я хочу просить вас, как ближайшего друга моего сына, удержать его от этого безрассудства и вернуть его снова к нашей счастливой и замкнутой семейной жизни вдвоем. Я верю в силу вашего влияния на него.
После всего, что я слышал от Жоржа, я не очень полагался на свое воздействие. Но я пообещал барону поговорить с моим кузеном.
Посланник был явно взволнован нашей беседой. Он взял со стола флакон богемского стекла и, смочив крепкими духами кончики пальцев, прикасался ими к вискам. Он жадно вдыхал испарения граненого хрусталя, словно стремясь слегка одурманить себя смешанным запахом тубероз и нарциссов.
Из соседней комнаты раздался шум голосов. Жженка была готова, меня приглашали отведать питье.
Свечи были погашены. Ваза пылала голубым огнем, отсвечиваясь в блестящих украшениях мундиров…
Кавалергарды за пылающими стаканами вели товарищескую беседу. Меня поразил узкий круг их тем и незна-
78
чительность их интересов. Полковая жизнь, лошади, обмундирование, карточная игра, в лучшем случае театр, как место встречи с великосветскими красавицами или неисчерпаемый питомник одалисок из состава кордебалета, – вот что питало их беседы. Они жаловались на невыносимую требовательность к военным брата царя – великого князя Михаила Павловича, жестокого фронтовика, напоминавшего в припадках гнева своего безумного отца. Бетанкур рассказывал, как недавно великий князь перед фронтом войск обругал последними словами командира дивизии, подавшего в тот же день в отставку. Театрал Трубецкой восхищался постановкой нового балета «Возмущение в Серале»:
– Представьте, балетмейстер завербовал целую армию юных мавританок, вооруженную огнестрельными взглядами, конгревовыми улыбками, белым оружием плеч и рук…
Барон Геккерн входил к нам от времени до времени, внося с собой смешанный запах тубероз и нарциссов и оживляя беседу острыми замечаниями. К концу вечера он подсел к столу с маленьким томиком в руках.
– Какое прекрасное место в мемуарах Иона Хиосского, друга Софокла!
И он стал читать:
– «Я встретился с поэтом Софоклом в Хиосе в то время, когда он в качестве стратега плыл в Лесбос. Был
79
он за чашей вина любителем шуток и увлекательным собеседником. Во время вечернего пиршества он обратился к отроку-виночерпию и сказал ему: «Хочешь, чтоб я пил с удовольствием?» – «Конечно», – ответил мальчик. «Тогда подноси мне чашу медленно и медленно же уноси ее». Мальчик еще сильнее покраснел, и Софокл заметил своему соседу: «Как хорошо сказал Фриних:
На ярко-пурпурных ланитах пылает огонь вожделенья…»
Мальчик хотел мизинцем удалить перышко с поверхности влаги, Софокл же сказал ему: «Лучше сдунь его, чтобы не замочить пальца». А когда мальчик наклонился к чаше, он приблизил чашу к своим устам, чтоб этим самым приблизить его голову к своей. Когда они были совсем близко, он обнял его рукой и поцеловал. Тут все со смехом стали рукоплескать, громко выражая свое удовольствие, что он так ловко залучил мальчика. «Я учусь стратегическому искусству, друзья, – ответил Софокл, – ведь Перикл говорит про меня, что я стихи писать умею, а начальствовать войском – нет. Но, кажется, эта стратагема вышла удачной…»
Место вызвало всеобщее одобрение. Жорж, как бы в ответ на прочитанный отрывок, поднес широкий бокал с горячим ромом барону, который вслед за ним отпил глоток и влажными от напитка губами прикоснулся влюбленно к щеке д'Антеса.
VIII
В воскресенье 29 декабря чрезвычайный и полномочный посол его величества короля французов барон де Барант был принят государем императором и имел счастье поднести Е. И. В. свои верительные грамоты.
«
Journal
de
Saint
-
Petersbourg
».
IX
Передо мной копии дипломатических депеш Баранта из Петербурга в Париж к герцогу Брольи. Приведу из них некоторые отрывки, сообщающие ряд сведений о первой поре нашего пребывания в русской столице.
80
королевское посольство Председателю совета министров
франции
Герцогу Брольи
в Петербурге.
от барона де Баранта.
31 ДЕКАБРЯ 1835 г.
На 29 декабря мне была назначена аудиенция у императора для вручения верительных грамот.
Я предполагал произнести при этом несколько если не торжественных, то по крайней мере официальных слов, но царь принял меня в своем кабинете один на один. Лишь взошел я, как увидел себя возле него, и тотчас же он заговорил со мной в тоне весьма стремительной беседы. Его напористая речь не дала мне возможности сказать то, к чему я готовился.
Разговор постоянно велся такой, какой он желал. В его речах господствует стремление рассеять «ложное мнение» о русском правительстве. Он часто распространялся о своем миролюбии, но, впрочем, довольно холодно отозвался о покушении Фиески. Желание во что бы то ни стало понравиться сильно заметно в нем. Так, например, во время аудиенции он часто брал мою руку и с чувством ее пожимал. Он заявил, что придет к моей жене, и выказал живой интерес по поводу легкой простуды, схваченной ею в пути. Этому любезничанию не следует придавать особенного значения.
Мое первое знакомство с императором Николаем вполне подтвердило то, что мне не раз приходилось слышать о нем: это, несомненно, очень умелый актер. Недаром русский царь большой театрал и тратит огромные средства на содержание своих трупп. Говорят, в молодости он сам охотно исполнял роли в комедиях, операх и балетах. Бдительно следя за успехами русской сцены, он учится у знаменитого трагика Каратыгина тонким изменениям мимики, движений и голосовых интонаций, как Наполеон в свое время учился у Тальма носить императорскую мантию и восходить на тронные ступени. Его странные рукопожатия во время беседы со мною, его елейные речи о миролюбии и счастии народов при ежедневных смотрах войск и подготовляющихся экспедициях на Кавказ и Турцию; его манера поднимать плечи вверх и воздевать глаза к небу, – все это непререкаемо обнаруживает его актерскую природу, которая особенно сказывается в сношениях с иностранными дипломатами. Мы должны постоянно помнить и иметь в виду, что с нами ведется тонкая и рассчитанная игра, за эффектными приемами которой нам надлежит зорко рассматривать
81
подлинный облик вещей, намерений и действий. К этому и будут направлены по мере сил и возможностей все мои старания…
С.-Петербург, 10 января 1836 года.
Вчера я видел государя на одном празднестве; он довольно долго беседовал со мной, но исключительно о картинах Эрмитажа, которые я осматривал поутру.
Картинное собрание государя – предмет его особенной гордости. Император Николай считает себя знатоком искусств и безошибочным ценителем живописцев. Он собственноручно разбирает кладовые Эрмитажа и по своей военной привычке категорически определяет школы, эпохи или авторов. Хранители музея, видные профессора живописи и археологи пробуют иногда со всей почтительной робостью восстановить историческую истину. Но царь не допускает возражений: итальянец, признанный им почему-либо фламандцем, отправляется на долгие годы в отдел нидерландского искусства и соответственно числится в списках галереи.
Это еще далеко не худшее, что допускает в области художественных сокровищ деспотизм царя. Он беспощадно истребляет все, что может напомнить ему нелюбимых людей или неприятные исторические эпизоды.
Недавно он осматривал собрание скульптур Гудона, сохранившееся в Эрмитаже. Подойдя решительным шагом к собранным статуям, он подверг их быстрому осмотру.
Перед ним, высоко подняв голову и бестрепетно устремляя вперед свой пытливый взгляд, Бюффон в завитом парике слегка приоткрывал рот, словно собираясь произносить речь о минералах, птицах или могучей власти человеческого слова.
На тонкой колонке высился бюст Марии-Антуанетты. Окутанная в широкую мантию с лепными лилиями по металлу ткани, небрежно роняя с плеча тяжелые складки горностая, с туго затянутыми у висков волосами, в высокой прическе с розами и ниспадающим мягким локоном у горла, она вздымала на длинной и гибкой шее свою узенькую голову с выпуклыми глазами и переломленным горбинкою носом. Кажется, наш славный ваятель вложил в эту статую всю парадность своего резца.
И, наконец, в просторной робе, с перевязью на мягких волосах, спокойно опустив свои сухие пальцы на
82
подлокотни широких кресел, по ободу которых латынь художнических мастерских начертала «Goudon fecit ? 1781», с высоты своего постамента презрительно, издевательски и невозмутимо смотрел на императора Николая, насквозь пронзая его своим мраморным взором, король Вольтер.
Царь решил померяться с философом стойкостью своего зрения. Он остановился и долго всматривался в смеющиеся морщины, в светлый лоб и дерзостный, как обнаженный кинжал, взгляд мыслителя.
О чем думал этот запоздалый созерцатель неразгаданной улыбки? О переписке ли своей бабки с этим неутомимым корреспондентом всех европейских знаменитостей, об истории ли Петра, написанной этой цепкой рукою, или, может быть, о судьбе стоящей рядом Марии-Антуанетты, склонившей некогда по воле вольтерианцев свою хрупкую шею под топор 1793 года?
Но только царь неожиданно вздрогнул, быстро отвел свои неподвижные глаза от саркастической маски писателя и, отвернувшись, отдал сдавленным голосом приказ:
– Истребить эту обезьяну!
Кто-то из вельмож догадался отправить этот шедевр портретной скульптуры в подвалы дальнего дворца.
Не вынося напоминаний о бесчисленных любимцах Екатерины, император изгнал из своих галерей все портреты ее знаменитых фаворитов, хотя бы и принадлежавшие кистям славнейших русских или иностранных мастеров.
Но беспощаднее всего поступил владелец Эрмитажа с произведениями польского искусства. В последние два-три года в Петербург в большом количестве привозятся драгоценные коллекции, секвестрованные в Варшаве, Гродно, в поместьях и дворцах польской знати. Беспощадный в своей мстительной ненависти к Польше, государь предает сожжению все, что относит к национальному искусству своих поверженных врагов. Портреты нескольких поколений Потоцких, Замойских и Сапег, работы Виже-Лебрен или Лампи, складываются в костры и безжалостно уничтожаются. Я видел любопытный рапорт одного из эрмитажных реставраторов, сообщающих по начальству, что «портреты, картины, фигуры и прочие вещи, привезенные из Варшавы в 37 ящиках, по высочай-
____________________
?Сделано Гудоном
(лат.).
83
шему повелению истреблены и сожжены, за исключением одного портрета императора Александра I». Таким образом, реставраторов здесь употребляют на разрушение художественных сокровищ, а сам великодержавный меценат являет в своих приказах по художественному ведомству примеры неслыханного вандализма.
1
февраля 1836 года.
…Любопытно наблюдать, до какой степени Россия осталась чуждою всей эпохе реставрации Бурбонов. Лавки и гостиные переполнены портретами Наполеона, гравюрами его сражений, изображениями его маршалов. Поклонение его гению здесь еще более в ходу, чем у нас; начиная с императора до самого простого офицера, никто не говорит о нем без удивления.
Это, к сожалению, не определяет отношения правительства к современной Франции. Пораженный Июльской революцией как неслыханным оскорблением королевской власти, император получил из Парижа в эпоху польского восстания новую глубокую рану, которая год от году растравлялась статьями «Journal de Debats» и прениями камер.
Свою ненависть к Франции царь не всегда считает нужным скрывать. Когда обсуждался недавно вопрос о проведении железных дорог в России по проекту австрийского инженера Герстнера, Николай заявил:
– Если для работ потребуются знающие и опытные иностранцы, пусть Герстнер их выписывает, но чтоб отнюдь не было между ними ни одного французского подданного! Этих господ мне не нужно.
Между тем петербургское общество сохраняет свои старинные симпатии к Франции. Мне приходилось не раз удивляться изумительному распространению парижских литературных новинок в русском обществе. Не удивляешься, встречая всюду последние книги Гюго или Бальзака, но менее известные в Европе Жюль Жанен, Альфонс Карр, Сент-Бев и Стендаль находят также своих читателей. Сам император, поощряя запретительные меры Уварова против французской литературы, говорят, зачитывается романами Поль де Кока. Меня уверяли, что он так восхищен этим изобразителем гризеток, что Пален из Парижа доставляет ему оттиски новых произведений этого писателя еще до появления их в печати.
Таким образом, ненависть царя к Франции нисколько
84
не распространяется на создания ее занимательной литературы.
Но в остальном он неумолим. Одно очень осведомленное лицо уверяло меня сегодня, что у Николая есть своя навязчивая идея – войти еще раз в Париж, во главе русских войск, и открыть новую реставрацию Бурбонов.
Де Барант.
X
– Надевайте ваш фрак, д'Аршиак, я познакомлю вас сегодня с моим старинным другом, – сказал мне вскоре после нашего приезда Барант.
– Кто же это, барон? – полюбопытствовал я, изъявляя, впрочем, полную готовность сопровождать его куда угодно.
– Видите ли, тридцать лет тому назад я был послан Наполеоном в Испанию. И вот в загородном королевском дворце Ильдефонсе я познакомился с русским полномочным министром при испанском дворе, молодым бароном Григорием Строгановым. К нему-то я и хочу повести вас. В его зале сегодня концерт знаменитого петербургского квартета. Мы, вероятно, встретимся там с вице-канцлером Нессельроде.
Я попросил посла рассказать мне подробнее о своем мадридском приятеле.
– В то время это был неотразимый сердцеед. Его любовные победы сплетали вокруг его имени легенду о возрожденном Дон Жуане. Сам лорд Байрон увековечил его имя и его образ непобедимого обольстителя в своей знаменитой поэме. Вы помните, может быть, строфу «Дон Жуана», в которой донна Джулия в доказательство своей беспримерной верности заявляет своему ревнивому мужу, что даже граф Строганов не мог ее прельстить:
The Count Stroganoff I put in pain… ?
Жена португальского посланника в Мадриде Джулия да Эгга бросила мужа, семью и блистательное положение в Испании, чтоб не разлучаться с петербургским посланником. Она последовала за ним в Россию, несмотря на то что Строганов был женат и даже имел нескольких детей.
____________________
?Граф Строганов, которому я причинила боль…
(англ.)
85
Долгие годы пришлось ждать лиссабонской посланнице, чтоб ее возлюбленный получил возможность сочетаться с ней законными узами. За это время она родила ему дочь Идалию, ставшую теперь женою полковника Полетики.
– Я, кажется, познакомился с ним у д'Антеса, – припомнил я.
– Очень возможно. Они ведь сослуживцы по кавалергардскому полку. Идалия Полетика – одна из модных женщин Петербурга.
Я узнал от Баранта, что этот престарелый донжуан принадлежит к роду знаменитых русских солепромышленников, завоевавших Сибирь и финансировавших московских правителей в годины смут. За эти заслуги перед государством Строгановы подлежали только личному царскому суду, имели право строить города и крепости, лить пушки и пользоваться особым законодательством в своих безграничных вотчинах. Один из последних отпрысков этой фамилии представлял Российскую империю при дворах Швеции, Испании и Турции.
С любопытством вступал я в гостиную этого байроновского героя, потомка именитых купцов, посланника при трех державах и друга российского вице-канцлера.
Я увидал на фоне белоснежных пилястров и зеркальных стен исторические лица петербургских администраторов.
О мой предок Сен-Симон! О великий портретист царедворцев и воинов Людовика XIV! Вручи мне свою кисть и одари меня своим искусством запечатлевать в слове жирные маски вельмож и худощавые профили полководцев.
Под знаком твоим хочу открыть я свою галерею.
Портрет первый.
Дряхлеющий донжуан. Спинной хребет истощен и, надломившись, клонит поседелую голову, изможденную усердным служением Киприде. Глаза слепнут и слезятся. Пенистый галстук струится своими кружевами по черному обшлагу бархатного сюртука, но дрожащая рука цепко хватается за набалдашник трости, и неуверенно движутся по коврам и паркетам хилые ноги подагрика, некогда так легко и быстро летевшие на бесчисленные свидания под листву мадридского Ретино или под навесы галатских кофеен.
Женщины перестали привлекать его, но у него осталась еще одна идея, одна мания, один кумир. Честь! Родовая честь! Рыцарская честь! Кастильская честь… Во
86
имя этого призрака он, обманувший стольких женщин и столько государств, принесет родного сына на заклание и обрушит проклятья на голову дочери. Зато он и считается верховным жрецом российской аристократии, ее Нестором и патриархом, первым судьей всех карточных и альковных столкновений, глубочайшим знатоком всех правил дворянской чести.
Таков член государственного совета, бывший посланник в Стокгольме, Мадриде и Константинополе, недавний кандидат в министры иностранных дел, прежде барон, а теперь граф Григорий Строганов.
Портрет второй (парный к предыдущему). Пятидесятилетняя женщина с лицом совершенно увядшим, но с открытой шеей и в модной бальной прическе. Вся в драгоценностях, одета необычайно моложаво; любит яркие кричащие тона. Превосходно танцует качучу, несмотря на морщины и дряблость всей мускулатуры. Это мадридская знаменитость, донна Джулия да Эгга, дочь португальца Педро д'Альмейда-Ойенгаузен, ныне же петербургская матрона Юлия Петровна Строганова. Она легко приняла и носила с полной беспечностью фамилию российских солепромышленников, заменившую ей знатные наименования португальских грандов и испанских гидальго.
Старшая ее дочь была крещена именем одной из католических святых, влиятельных в Испании. Ее звали Идалия Мария.
Это третий портрет моего раута, а по значению его оригинал для дальнейшего хода моей повести выступает на передний план.
Идалия Полетика принадлежит к типу тех живых, подвижных и разговорчивых женщин, которым свойственны обычно рискованные похождения и смелые светские интриги. Южный темперамент превращает их жизнь в богатую эротическую эпопею, а личные столкновения заставляют их сплетать сложные и таинственные комбинации, в которых находят себе выход их честолюбие, вражда, ненависть, а подчас и жестокая мстительность. К такому типу женщин принадлежали Катерина Медичи, Елизавета Английская и Марина Мнишек. Ближе к нам я мог бы назвать герцогиню Беррийскую.
Но побочная дочь графа Строганова не имела широкой арены государственной деятельности для развития своих тонких политических способностей. Ей пришлось довольствоваться тесным кругом великосветского Петер-
87
бурга и кавалергардского полка, где, несмотря на свое плоское лицо и бесцветные глаза, она одерживала бесчисленные победы или же искусно заплетала тайные нити своих домашних заговоров. Сам командир кавалергардов Грюнвальд не ушел из ее сетей. Она славилась острым умом, бойкой речью и злым языком.
У Строгановых уже были в сборе их друзья – Нессельроде, Геккерн с д'Антесом, прусский посол фон Либерман. По привычке всей своей жизни, Строганов вращался в среде дипломатов и министров.
В ожидании концерта обсуждалась последняя злоба дня. Только что знаменитый поэт Пушкин напечатал в одном московском обозрении уничтожающий памфлет на министра народного просвещения Уварова. Темой послужила нашумевшая история с опечатанием шереметевского имущества.
Оказывается, недавно опасно заболел один из богатейших русских людей, молодой граф Шереметев, дальний родственник Уварова. Министр поторопился распорядиться об охране наследственного имущества умирающего миллионера. Эта беззастенчивая поспешность вызвала осужденье даже в кругу петербургской знати. Когда в комитете министров Уваров на чей-то вопрос отвечал, что у Шереметева «скарлатинозная лихорадка», обер-камергер Литта своим зычным голосом бросил ему в лицо: «А у вас лихорадка стяжания»… Тот побледнел и промолчал. Дело приняло вскоре совершенно скандальный оборот. Шереметев выздоровел и спокойно снял меры охраны со своего имущества.
Поэт нашел здесь благодарный материал для политической сатиры. Он написал ее в латинском вкусе, в виде оды на выздоровление знаменитого римского богача – Лукулла… Барант попросил Строганова перевести ему этот обличительный гимн.
Мы действительно услышали убийственный памфлет. Поэт беспощадно заклеймил циничного корыстолюбца, сравнив его с вороном, падким к мертвечине (в стихотворение искусно введено меткое слово камергера Литты о «лихорадке стяжания»). В монологе скупца, опечатывающего кассы умирающего богача, есть несколько уничтожающих стихов о жизненных привычках Уварова.
Ода, как и автор ее, стали предметом всеобщего обсуждения, и мы узнали много любопытного о состоянии русской журналистики, о цензурных правилах и, наконец, о личности знаменитого русского поэта.
88
– Пушкин – младший чиновник министерства иностранных дел, – сообщил нам Нессельроде, – и, сознаюсь, пятно на персонале нашей коллегии. Он вступил в нее лет двадцать тому назад в чине коллежского секретаря и с тех пор не получил ни единой награды. А между тем его сотоварищи по Лицею успели достигнуть высоких постов: Горчаков, например, первый секретарь в Вене, или барон Корф, исправляющий обязанности статс-секретаря. Способные и добропорядочные чиновники.
– Почему же Пушкин так отстал от них? – поинтересовался Барант.
– Якобинец, – кратко и выразительно отвечал министр, широко раскрыв глаза за толстыми круглыми стеклами. – Опаснейший вольтерьянец. Достаточно сказать, что его учителем в Лицее был родной брат Марата.
Министр произнес это имя шепотом непреодолимого отвращения. Жена его изобразила на своем лице испуганный гнев.
– Он не успел оставить школьную скамью, – продолжал вице-канцлер, – как проявил себя с самой предосудительной стороны. Он позволил себе высмеивать возмутительными стихами действия верховной власти.
Снова гнев и испуг на лицах супругов Нессельроде.
– Когда же кожевенник Лувель заколол герцога Беррийского, Пушкин осмелился показывать в театре портрет убийцы с надписью «Урок царям».
Долгая пауза ужаса.
– Но урок был дан опасному вольнодумцу: покойный император решил сослать его в Соловки или в Сибирь. Только заступничеству влиятельных друзей он обязан служебным назначением на Юг. Мой коллега по управлению иностранными делами Каподистрия послал новому начальству Пушкина обстоятельную бумагу, в которой с чрезмерной, на мой взгляд, мягкостью характеризовал этого ярого вольтерьянца. Как только я вступил в единоличное управление коллегией, я немедленно же исключил Пушкина за распутство.
Ровную речь министра прорезала жесткая нотка властности.
– И что же? Правительству вскоре стало известно, что только ссылка помешала ему выйти на Сенатскую площадь в позорный день 14 декабря, когда кучка ничтожнейших проходимцев решилась колебать судьбы Русского трона.
На лицах вице-канцлерской четы непостижимое сме-
89
шение чувств: возмущение проходимцами и благоговение к трону.
– Только безмерное великодушие нашего императора вместе с мыслью Бенкендорфа о том, что народное имя Пушкина следует привлечь на свою сторону, отнюдь не бросая его в стан врагов правительства, кое-как прикрепили этого неугомонного рифмача к достойному существованию. Милости царя к нему безграничны, но он чудовищно неблагодарен и, конечно, не в состоянии изменить своей бунтарской природы. Это памфлетист по призванию,- он никогда не успокоится, он всегда будет изощрять свое сомнительное остроумие на пасквилях против почтенных государственных деятелей.
Я следил за Нессельроде во время его речи. Он говорит медленно, методически, закругленно, словно читает доклад в комитете министров. Внешность вице-канцлера совершенно не соответствует его высокому званию, выдающемуся положению в правительстве и громкому европейскому имени. Это маленький человечек с птичьей головой и крохотными лапками.
У него крупный крючковатый нос, весьма напоминающий клюв, большие круглые очки с толстыми стеклами и широкое лицо. Все это придает ему заметное сходство с филином или совою. Только чувственные губы выдают его пристрастие к жизненным наслаждениям и тонкой гастрономии.
Ростом и лицом русский вице-канцлер сильно напоминает Тьера. Это такой же «карманный министр» или «сладострастный гном», как острили сен-жерменские аристократы над главным сподвижником Луи-Филиппа.
Но еще выразительнее фигура вице-канцлерши. Это матрона лет пятидесяти, с телосложением солдата и вспухшим лицом, преисполненным неодолимой надменности. Щеки ее, отвисая, оттягивают уголки рта, что придает ей вместе с выпуклыми глазами явное лягушечье выражение. Она пользуется неограниченным авторитетом в петербургском обществе, при дворе и в самой императорской семье. Это в значительной степени вызвано ее непримиримой ненавистью ко всякому либерализму. Благодаря ее личным связям и положению мужа она является живым центром русской реакции и как бы представляет в Петербурге европейскую контрреволюцию.
Все это сообщает ей непомерное самомнение и презрительную надменность к окружающим. Я узнал впоследствии, что среди русской придворной знати, чрезвычайно
90
падкой на деньги, графиня Нессельроде выделялась необычайным любостяжанием. Известное корыстолюбие Уваровых и Чернышевых бледнело перед алчностью этой придворной дамы, прослывшей в Петербурге страшнейшей взяточницей. Недаром была она дочерью известного министра финансов Гурьева, которого Пушкин назвал в одной эпиграмме грабителем.
К беседе о Пушкине графиня не осталась равнодушной.
– Меня всегда изумляет, – изрекла она высокомерно и непререкаемо, – почему этот опаснейший бунтовщик, этот скверный, развратный и злой человек, которому не место в Петербурге, состоит еще при дворе великодушнейшего из монархов.
– Поэтам разрешается быть вольтерьянцами, – тонко заметил Барант.
– Если он вольтерьянец, то с ним и надлежит поступить, как с Вольтером, которого герцог Шабо де Роган велел избить палками. Удивляюсь, как эту меру еще не догадались применить к Пушкину.
Иностранные дипломаты – Геккерн и фон Либерман – не принимали участия в разговоре о Пушкине. Я заметил, что они осторожно не вступали в обсуждение этой деликатной темы, впрочем, внимательно слушая говоривших. Когда же разговор принял более острый характер, они сели в стороне и стали беседовать на свою любимую тему – о владетельных княжеских домах и знатных родах Европы. Прусский посол обстоятельно излагал различие между линией Гогенцоллернов-Зигмарингенов и Гогенцоллернов-Гехингенов. Геккерн в ответ с любезной обстоятельностью устанавливал разные направления генеалогических ветвей Роганов-Рошфоров и Роганов-Шабо.
Старая Нессельроде между тем продолжала свою политическую речь:
– Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за этим поджигателем. При первой же возможности он покажет свои когти. Это злейший враг монархического принципа и старой европейской аристократии. Он готов был бы всех нас вздернуть на фонари…
– Подождите, графиня, – с необычайной живостью вставила Идалия Полетика, – вы увидите, что он сам сорвется прежде, чем сумеет кого-нибудь утопить…
Глаза ее вспыхнули недобрым огоньком. «Видно, поэт
91
задевает не только государственных сановников», – подумалось мне.
Когда нас пригласили в концерт, из угла гостиной до меня еще доносились звонкие созвучия составных фамилий Эстергази де Таланта, Колонна ди Шарра и Клари унд Альдринген. Это послы Нидерландов и Пруссии продолжали состязаться в своих познаниях европейских родословных.
XI
Мы переходим в концертный зал.
На высокой эстраде несколько пультов. Груды нот и гнутое дерево струнных инструментов. Огромное флюгель-фортепьяно с высоко поднятой лаковой крышкой. Меж колонн два портрета: Бах и Глюк. Четыре музыканта исполняют квартет Моцарта.
Это знаменитый в Петербурге ансамбль Виельгорского.
Над клавишами рояля я узнаю меломана, представленного мне в ресторане Дюмэ. Он увлечен исполнением своего аллегро и с замечательной быстротой и легкостью носится пальцами по слоновой кости инструмента.
Буря заключительных аккордов. Рукоплескания, поклоны. Виельгорский приветливо выслушивает мои похвалы.
– Я учился в Париже, – отвечает он мне. – Ваш знаменитый Керубини приобщил меня к тайнам контрапункта. Я познакомился впоследствии в Вене с величайшим из симфонистов мира – Бетховеном, но я не изменил моей французской школе.
Виельгорский объездил всю Европу и говорит на всех языках. Самые знаменитые из иностранных композиторов, певцов и пианистов с ним лично знакомы. Он вводит их обычно в столичный, круг. Дом его считается в Петербурге академией музыкального вкуса, откуда расходятся по всей России творения модных немецких мастеров: Герца, Мошелеса, Маурера, Фильда и Калькбреннера.
– Вы услышите сейчас французскую музыку – увертюру «Фра-Диаволо», – сообщает мне дальнейшую программу вечера петербургский меценат.
На эстраду всходит его младший брат – виолончелист Матвей Виельгорский. Он пробует смычком свой знаменитый «Страдивариус». Стареющий и убежденный
92
холостяк, он шутя называет любимый инструмент своею женою.
Начинается соло на виолончели. Я занимаю место рядом с д'Антесом. Искрометная фантазия Обера сменяет строгую гармонию германского композитора.
Под звуки «Фра-Диаволо» в концертный зал входит незнакомка в сопровождении советника австрийского посольства.
Чистота славянского облика заметно утончена в ней типом знатной европейской женщины. Огромными сияющими глазами следит она за музыкантом, видимо, совершенно зачарованная блестящим каскадом звуков, сыплющихся из-под его смычка. Алмазная фероньера чуть-чуть колеблется над ее тонкими, слегка приподнятыми бровями, придающими всему ее облику характер наивной удивленности. Я долго всматриваюсь в это лицо, источающее лучи непередаваемого очарования. И чем дольше я смотрю на него, тем явственнее узнаю женщину, нарисованную мне недавно д'Антесом в его страстном признании за бокалом шампанского у Дюмэ.
Я наконец наклоняюсь к нему.
– Делаю первый ход: я узнал твою даму.
Д'Антес с удивлением взглядывает на меня.
– Ты был так красноречив, – продолжаю я, – что по твоему портрету я без труда узнаю оригинал.
Движением головы и глаз я указываю ему на вошедшую незнакомку.
Жорж весело смеется.
– Я, кажется, выиграю пари, – заявляет он. – Нет, верь мне, ты решительно ошибся. Это только моя добрая знакомая, графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посла. Ты, конечно, будешь в числе обычных посетителей ее раутов. Я тебя сейчас представлю ей.
И пока Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации, д'Антес продолжает тихо говорить мне:
– В одном ты не ошибся. Это, конечно, одна из первых петербургских красавиц. Она кружила голову императору Александру и всем европейским монархам. Когда муж ее был посланником при короле неаполитанском, ее имя даже вошло в знаменитую итальянскую поговорку: «Vedere Napoli, la Fiquelmont e morire!» ?. В Петербурге она служит одним из украшений придворных балов. И все же она решительно бледнеет и гаснет при появлении другой…
____________________
?Увидеть Неаполь, Фикельмон и умереть!
(ит.)
93
В это время смычок виртуоза оборвал на высшем подъеме бешеного темпа последние звуки финала. Мы прошли вдоль кресел, и д'Антес представил меня жене австрийского посла.
Разговор ее приятен и жив. Она любит Париж, следит за французской литературой, знакома лично со всеми европейскими знаменитостями.
– Как жаль, что концерт помешает мне подробно расспросить вас о семье графа Апонии. Но не заедете ли вы ко мне, виконт, пораньше в четверг, когда еще не все соберутся на раут? Мы спокойно побеседуем с вами о наших общих друзьях.
Я принимаю приглашение. С семьей австрийского посла в Париже я был действительно близко знаком. Я мог подробно рассказать петербургской посланнице о знаменитых балах и танцевальных завтраках ее парижского друга.
94
Третий номер программы. Маленький полный пианист с рыхлым лицом и печальными глазами поднимает с клавишей необычайные вариации, в которых странно переплетаются русские народные песни с дразнящими темами польских танцев.
Это молодой композитор Глинка, оперу которого
«Иван Сусанин»готовит к постановке Большой Каменный театр. Мы внимательно вслушиваемся в заунывные мотивы глухой северной тоски, прерываемые возбужденным звоном мазурок и вызывающим топотом краковяка.
«Скифский концерт» впервые приоткрыл мне в глубоких сугробах медвежьей страны великий оазис искусства. Я говорю об этом Виельгорскому и молодому русскому композитору.
– Вы правы, – отвечает мне Глинка, – в России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать…
XII
Как опытный и долголетний дипломат, барон Геккерн в первой же беседе со мною правильно определил положение нашего посольства при царском дворе. Представители революционной Франции, мы чувствовали свое одиночество в официальном Петербурге. Но личные качества и славное имя Баранта обеспечивали нам почетный прием в салонах и дворцах, где мы были всегда желанными гостями. Петербургское общество, столь чуткое к Парижу с его модами, литературой и театрами, чествовало нас как представителей законодательной нации и великого города.
Состав петербургских послов сильно обновился незадолго до нашего приезда. В ноябре 1835 года сюда прибыли новые представители европейских дворов – посол Великобритании лорд Дэрам, прусский посланник фон Либерман, чрезвычайный и полномочный министр короля Обеих Сицилий с длинным и пышным наименованием: князь Джорж Уильдинг ди Бутера э ди Радоли. Последнего мы хорошо знали по Парижу, где он занимал до октября 1835 года тот же пост при французском Дворе.
Это были в большинстве случаев люди восемнадцатого века, для которых политика представлялась высшим развлечением утонченных умов, увлекательной и сложной игрой нескольких одаренных представителей евро-
95
пейской знати. Географическая карта служила им превосходной шахматной доской для остроумных комбинаций и находчивых ходов. Создавать новые соотношения границ из борьбы династических интриг представлялось для этих стареющих кавалеров лучшей заменой галантных приключений и соблазнительных азартов ландскнехта. Конгрессы с их политическими дебатами заменяли им салоны с их литературной болтовней. Упорное стремление оградить монархический строй от грозной революционной опасности обращало их всех к государственной системе Меттерниха. В кругу петербургских дипломатов мы были единственными представителями свободной школы великого Талейрана.
Наиболее близок нам был посол Англии, лорд Дэрам, из группы радикалов. Это была сильная и своеобразная фигура на мрачном фоне самодержавного Петербурга. Он прославился резким обличением принудительных мер против чартистов. Его считали непримиримым врагом абсолютных монархий. Английское министерство поручило ему вскрыть перед конституционной Европой опасность, грозящую ей со стороны России.
Это был человек скептического и желчного ума с меткой и острой оценкой лиц и событий. Петербургский двор относился к нему с величайшим вниманием.
«Намедни, на придворном балу, – писал Барант в одной из своих депеш, – могло показаться, что праздник устроен императором для английского посланника: столько расточено ему любезностей и предупредительности…
Чем более я присматриваюсь к политическому, положению России, тем более вижу, каким весом и значением пользуется здесь Англия. Помимо страха, который внушают ее эскадра и морские экспедиции, единственный род войска, способный непосредственно напасть на русское могущество, -
нужно принять во внимание, что почти вся торговля в ее руках, что ее навигация в русских портах вдесятеро больше нашей, что вывоз сырого материала, единственный источник богатств, производится англичанами»…
Вот почему русское правительство с такой тревожной бдительностью следило за всем происходящим в Англии и даже подозревало лорда Пальмерстона в намерении сжечь Кронштадт.
Впрочем, умеренный тон лондонских ораторов в зимнюю сессию 1836 года несколько успокоил император-
96
ский кабинет и сильно упрочил положение лорда Дэрама. Мы не могли не порадоваться этому: в официальном кругу царской столицы это был, несомненно, наш самый искренний друг.
Его отношение к нам разделял отчасти австрийский посол Фикельмон. Несмотря на различие политических программ, он был близок Баранту как француз, историк и писатель. Предки его вступили еще при Марии-Терезии в австрийские войска, но сохранили свое французское подданство. В его речах скрещивались парижанин с германцем: он любил в живой и острой беседе передавать общие размышления о судьбах Европы. Он писал большой труд о «Психологии истории», что не мешало ему поставлять для салонных спектаклей фривольные водевили. Я читал его трактат «О системе Гельвеция» и смотрел на его домашнем театре «Утро молодой вдовы».
В нашем посольстве ценили австрийского посла – его вкус к преданиям старой Франции, его острое слово и политический такт. Барант любил обсуждать с ним свои текущие научные труды.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.