 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Желязны Роджер :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Кларк Артур Чарльз :: Чехов Антон Павлович :: Картленд Барбара :: Говард Роберт Ирвин :: Андреев Леонид Николаевич :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Свободные навсегда :: Рассказ о семи повешенных :: Две башни :: Агнесса. Том 1 :: Этот мальчик :: Джентльмен с Медвежьей Речки :: Бурый волк :: Конструктор С. И. Мосин :: Вечный огонь страстей |
Этюды об ученыхModernLib.Net / Публицистика / Голованов Ярослав / Этюды об ученых - Чтение (стр. 6)
Но когда началась война – вспомнили. Бездарность Базена и Мак-Магона обернулась в столице волной дикого шовинизма. Мальчик превратился в «боша» – немецкую свинью. Ему было только 12 лет, но он уже понимал, как это страшно. Можно преследовать человека за его бога – он сам выбрал его. Можно преследовать за убеждения – он сам пришёл к ним. Но если ты родился немцем – никакие молитвы богам и никакие клятвы вождям ничего уже не поправят, а разве ты виноват в этом? Потом, уже взрослым, он думал, что у него две родины: Франция и Германия. А у него не было ни одной… Гавр, парусник с беженцами, робкая, с оглядкой ещё немецкая речь, белые английские берега. Через несколько месяцев отец уговаривает Рудольфа оставить голодающую семью и ехать к дяде в Германию, ехать в Аугсбург учиться. И он едет. С 13 лет он лишается если не материальной, то моральной поддержки, которую даёт семья. Самостоятельность дисциплинирует и сушит его. Он педантичен, щепетилен, скромен и упрям. В нём вызревает хорошее немецкое усердие. Может быть, от одиночества стал он первым учеником реального училища, а потом политехнической школы, был обласкан заезжим профессором и приглашён в Мюнхен в Высшую техническую школу. В Мюнхене весной 1878 года и случились эти сорок пять роковых, всю жизнь определивших лекционных минут, когда профессор Линде – творец холодильников – рассказывал о термодинамическом цикле великого Сади Карно, об удивительном процессе, сулившем превратить в полезную работу до 70 процентов теплотворной способности потребляемого топлива. На полях студенческой тетрадки Рудольф быстро отметил тогда для памяти: «Изучить возможность применения изотермы на практике». Написал для памяти, ещё не зная, что это программа на долгие годы, содержание всего будущего бытия. Дух Карно преследует его как привидение. Он уже видит свою машину, он описал её даже в брошюре; наконец, он получил патент на свою мечту. Он научится управлять сгоранием, доведёт сжатие в цилиндре до 250 атмосфер, откажется от водяного охлаждения, угольная пыль будет питать его мотор, но главное – он обратит в металл, в явь изотерму Карно. Это была его программа. Он не выполнил ни одного её пункта. Всё оказалось сложнее. И если Дизель уже тогда мог представить себе, как трудно получить высокое давление, как сложно заставить гореть угольную пыль, то он не знал тогда, как трудно получить деньги от Круппа, как сложно заставить других загореться его идеей. Иногда он приходил в отчаяние, находя утешение лишь в мелодиях любимого Вагнера. Он писал жене письма-крики: «…я могу все перенести, что думают обо мне, невыносимо только одно, когда считают тебя глупцом!» И он продолжал работать. Он вставал очень рано и спал немного после обеда, искусственно превращая сутки в два максимально насыщенных рабочих дня. В июле 1893 года он сделал опытный двигатель. На первых же испытаниях на куски разлетается индикатор, и Дизель чудом остаётся живым. Протокол испытателей гласил: «Считать, что осуществление рабочего процесса на этой незавершённой машине невозможно». Невозможно? Он сжимает зубы и идёт дальше. 17 февраля 1894 года начались испытания новой, переработанной машины. Дизель не заметил её первого холостого хода, увидел только, что старый Линден, слесарь-монтажник, вдруг молча стянул с головы промасленный картуз. В этот миг родился дизель. Теперь он жил лихорадочной жизнью торгаша. Пузатые чемоданы с пёстрыми наклейками недолго простаивали в чулане. Нюрнберг, Берлин, Бар-ле-Дюк, Фабри, Лейпциг, Гент. Смесь триумфального парада с рыночной суетой. Он чувствовал себя победителем. «Я настолько превзошёл все до меня существующее в деле машиностроения, что могу смело утверждать, что иду в голове технического прогресса…» Съезды, обеды, речи, роскошная вилла в Мюнхене, нефтяные прииски в Галиции, три миллиона золотых рублей, заработанных в один год… Но он не сделал обещанного: его двигатель потреблял не угольную пыль, на что рассчитывали большие хозяева Рура, а жидкое топливо. С высот своего триумфа он не замечал, как сходились над его головой копья великой войны, войны Угля и Нефти. Дело росло как снежный ком, а покоя не было. Бесконечные намёки, выпады, наскоки: «Дизель ничего не изобрёл… Он лишь собрал изобретённое…» Спасаясь от злых шепотков, он мечется в своём новом автомобиле по Европе, не в силах нигде остановиться, не в силах работать дальше. Две триумфальные поездки в Америку. Опять банкеты, спичи… В этом шуме и гаме он тихо спросил у Эдисона: – Вы думаете когда-нибудь о смерти? – Я занимаюсь делом, а не метафизикой, – ответил американец. Как измучен, издёрган, затравлен и как в то же время спокоен этот высокий, безукоризненно одетый, красивый, уже седеющий в свои 55 лет человек в строгом пенсне, строго восставшем белоснежном воротничке, строгом галстуке! Вот он с группой инженеров на борту «Дрездена». Они плывут в Лондон. Отличный ужин. Отличная сигара. Спутники проводили его до каюты. Он пожал им руки: – Покойной ночи. До завтра. Утром в его каюте обнаружили нетронутую постель, а в дорожной сумке – золотые часы, с которыми он никогда не расставался. А два дня спустя в устье Шельды флиссингенские рыбаки нашли труп хорошо одетого человека. Они подняли его и поплыли домой. Но море словно озверело. Рыбаки были тёмными людьми и подумали, что Шельда не хочет отдавать им своей жертвы. И они бросили труп в волны. Так навсегда исчез Рудольф Дизель. А дизели – остались…  Николай Жуковский: «ТАМ, ВПЕРЕДИ, ИДУТ МОЛОДЫЕ И СИЛЬНЫЕ» 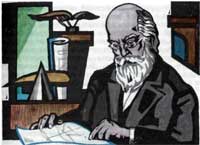 Николай Егорович Жуковский первое занятие в Императорском Высшем Техническом училище провёл в январе 1872 года – ему как раз исполнилось 25 лет – и с этого момента как-то душевно укрепился, успокоился, поверил в себя. Он учился не то чтобы плохо, скорее хорошо, но нелегко. Покинув ребёнком отцовское именьице Орехово под Владимиром, он быстро взрослеет в пёстрой сутолоке Москвы и решает непременно стать инженером, как и «папашенька» – так ласкался он в письмах к отцу. Скудные средства родителей никак не позволяли ему учиться в Петербургском институте путей сообщения, о котором мечтал, и против воли своей пошёл он в Московский университет, не любя его, страшась и робея. Он не метался в выборе пути и быстро понял, что словесность и языки не его стихия. Математика, астрономия и физика были проще, логичнее – и потому вызывали его любознательность, быстро подмеченную учителями. Жуковского вовлекают в математический кружок знаменитого профессора Н. Д. Брашмана, в большой квартире которого затевались нешуточные научные баталии, но Николай слишком зелен ещё для этих споров, сидит слушает, встревает редко. Всякому молодому таланту нужна поддержка и внимание, а Жуковский как бы безразличен к короткому знакомству с университетскими наставниками. Да, их споры увлекают его, есть и свои симпатии, но не более. Во всяком случае, к моменту окончания университета, как и прежде, захвачен он мечтами о Петербурге, об инженерном дипломе. Он поступил в желанный свой институт, но учёба не пошла, самочувствие скверное, провалил экзамен по геодезии и вовсе расклеился. Никогда Жуковский не был таким усталым, пустым и старым, как в эти самые молодые свои годы. Пишет другу из родного Орехова в Петербург: «…Занимаюсь я теперь вообще мало, есть у меня некоторые математические книги, но как-то плохо они читаются…» «Практиком механиком я выйду едва ли, ну да может быть, удастся где-нибудь читать по этому предмету». «Имея разные планы насчёт своего будущего, не знаю, что именно удастся». «Первые лишние месяцы думаю ничего не делать, а там займусь диссертацией…» Проходит год, но тему для этой диссертации он так и не может выбрать. Потом преподаёт в женской гимназии и, наконец, училище – начинается Жуковский. Я рассказываю об этом так подробно, чтобы ещё раз показать, сколь это сложный и неповторимый процесс – формирование личности большого учёного. Ведь по всем данным педагогики и психологии, казалось бы, давно надо было поставить крест на этом красивом высоком парне, два года лениво бродящем с ружьём по владимирским перелескам в не понятной никому маете. И кто бы поверил тогда, что это о нём скажет будущий его ученик, академик Л. С. Лейбензон, такие слова: «Нельзя сказать, что есть школа, созданная Н. Е. Жуковским; правильнее – есть много школ, много научных направлений, созданных гением Жуковского, гигантскому уму которого впервые после Галилея удалось объять грандиозную науку – механику во всей её совокупности». Николай Егорович не знал в трудах своих взлётов и падений. Он ровно и размеренно шёл к вершинам мировой своей славы. Год от года, как могучее дерево, наращивал он кольца научного авторитета. Он многогранен, но не разбросан, быстр, но не тороплив. В нём не было внешней суетной одержимости. В Париже, куда приехал он знакомиться с новинками в механике, бродил по Лувру, часами сидел у фонтанов. Отдыхал? Но кто знает, что виделось ему в звонких струях Тюильри? В Москве пошёл с дочкой в театр, но вдруг среди спектакля встал, уехал, дома, не отрываясь, писал. И первая мысль, подарившая миру великую формулу подъёмной силы крыла, пришла ему в Кучине, на зимней тропинке у речки Пехорки. Очевидно, он не работал, только когда спал. И в трудах, подробных, сухих, не допускающих никакой лирики (говорят, в юности он писал стихи!), очень «деловитых», и в большой его, тяжёлой фигуре (которая так смешно не вязалась с тонким, как у ребёнка, голосом), в красивой голове с высоким лбом и какой-то гордой бородой было что-то солидное, уравновешанное. «профессорское». Такой независимый в науке, он был страшно зависим в жизни. Мать, дожившая до 95 лет, женщина властная, трудная, с причудами, всегда определяла его быт. В молодости не позволила жениться на кузине Сашеньке, а ведь как она нравилась ему! Потом он полюбил другую женщину. Очень непростая была история. Надя вышла замуж, но вернулась к Николаю Егоровичу. И тут мать не поняла трудного счастья сына и снова начала, все ломать, пугать его бракоразводным процессом. И испугала. А уже дети были, и так тяжело, что его Леночка и Серёжа носили не его фамилию. Очень любил дочь – красавица, умница. Величайшим горем его жизни было пережить Лену – в 26 лет сгорела она от скоротечной чахотки. Надя умерла в 34 года. И Серёжа тоже умер совсем молодым, лишь на три года пережив отца. Можно завидовать его гению, но не его жизни… Поверив в революцию, он пережил с ней самые трудные годы. Второй инсульт настиг его в новогоднюю ночь 1921 года. Накануне очень просил устроить ёлку, нарядную, со свечами, говорил: «…я подремлю и о деревне подумаю. Хорошо теперь там. Рябина, наверное, ещё не осыпалась. То-то теперь раздолье снегирям…» Он прожил ещё два с половиной месяца и умер перед рассветом 17 марта 1921 года. Владимир Ильич Ленин назвал Жуковского «отцом русской авиации». Николай Егорович ни разу не летал на самолёте, но он дал жизнь этой новой отрасли техники. Он воспитал плеяду выдающихся специалистов. Он оставил им мечту многих лет своей жизни – институт, раскрывающий тайны полёта человека в небо, – ЦАГИ. Дал жизнь, воспитал и оставил наследство – он был хорошим отцом. 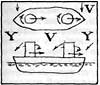 Иоганн Кеплер: «Я ИЗМЕРИЛ НЕБЕСА…»  О Кеплере надо писать трагедию, и стихи, и большой роман – об этом гениальном астрономе и суеверном протестанте, сыне «колдуньи», нищем гордеце, великом штурмане океана звёзд, разгадавшем законы движения планет. Вся жизнь его, с первого крика и до последнего вздоха, казалось, протестовала против того, чтобы он стал учёным, ни в каком из начинаний своих не находил он благоприятной поддержки судьбы. Недоносок, обречённый на гибель в день своего рождения, чудом выжил. 6-летний мальчик, брошенный родителями в бреду оспы, остался жить. В 13 лет он умирал в третий раз; все думали, что он умрёт, но он не умер. Этот хилый, подслеповатый человек не хотел уйти из мира, не совершив предначертанного ему. Его родители словно специально вытравливали из него пытливость живого ума. Отец, этот почитавший себя дворянином грубиян, без славы пропавший под турецким ятаганом, наёмник, всё-таки успел вытащить 7-летнего сына из школы и сделать служкой грязного кабака. Мать, нищее детство которой прошло у тётки, сожжённой за колдовство, не умевшая писать и читать, пропахшая за стойкой дешёвым вином, в мокром фартуке, – что могла дать она этому нелюбимому, бледному существу? Братья – солдат и оловянник, чему могли научить они, кроме ругательств? Единственное светлое воспоминание юности – сестра Маргарита, и она вскоре вышла замуж за человека, быстро сделавшегося его врагом. Дом Иоганна – этот придорожный кабак, где разврат был перемешан с молитвами, его земля – унылые швабские поля, в которых он изнурил своё вечно голодное тело. Его любовь – это цепь несчастий, его семья – это потные флорины в кулаке, трижды отмеренные и рассчитанные. Он женился в 26 лет по любви, но жена заставила его предъявить унизительно доказательство «благородства» своего происхождения, и он, сгорая от любви и стыда, мчался в Вюртемберг за наследными справками. Он бережёт эту женщину и делает все для её спокойствия, но дом превращается в ад, когда она бьётся в припадках эпилепсии. Он нежно любит своих ребятишек, но трое его детей умирают, а вскоре сходит с ума и умирает жена. И второй его брак не назовёшь счастливым. Как привидение, преследует его неотступно мысль о деньгах. «Касса пуста, и жалованья не дают», – писал он. А через год: «Я теряю время при дверях казначейства, напрасно стою перед ними, как нищий». Среди научных трактатов Кеплера есть одна совершенно необычная работа. В 1609 году он пишет фантастический рассказ «Сновидение, или Лунная география» – первое в новоевропейской литературе художественное произведение о полёте в космос. Форма «сна» лишь художественный приём: Кеплеру хочется рассказать своим читателям о том, каким видится ему мир Луны, её горы, леса, её обитатели. Это опоэтизированное научное сочинение не знает равных себе и расходится в списках ещё до публикации по всей Европе. Враги Кеплера распускают слух, что все это не выдумка, что герой «Сна» Дюракотус и есть сам Кеплер, который действительно летал на Луну. А помогала ему в этом богопротивном деле его мать. И вот мать обвиняют в колдовстве, ей грозит смерть, и он несколько лет хлопочет, и сует взятки, и пишет лицемерные письма. Перед нами тягостная вереница дней, озарённых кострами инквизиции XVI века, страшных дней лицемерных покаяний, которые прошёл Галилей. Всю жизнь словно слышал он шёпот своей злой судьбы: исчезни, утони в вине, налети на пьяный нож, умри, ляг здесь в этот придорожный чернозём, сгинь, – а он шёл, полз, продирался сквозь этот шёпот, тянулся из мрака к свету своих звёзд. «Он умер, – писал один из его биографов, – от истомления, печали и бедности 58 лет в Регенсбурге в 1630 году». Его многочисленные дети получили наследство: 22 флорина, 2 рубашки, 57 экземпляров «Эфемерид» и 16 экземпляров «Рудольфовских таблиц». «Сны» опубликовали уже после его смерти. А человечеству он оставил в наследство три закона Кеплера, которые сегодня изучают во всех школах мира, – три монолита, на которых вечно будет покоиться планетарная астрономия. Кеплер написал множество работ. Это удивительные сочинения, где фанатизм и мистика соседствуют с откровениями, с непостижимыми озарениями гения. Он, первый из людей постигший великую логику движения планет, пишет: «Бог может повелеть явиться новому светилу во всяком месте и во всякое время». «Наблюдения над течением этих светил, – пишет он о кометах, – не заслуживают внимания, потому что они не возвращаются». И тут же совершенно правильно оценивает расстояния до них и объясняет природу ко-метных хвостов. Он, составивший множество гороскопов, которые становились подчас главным средством его существования, откровенно говорил: «Люди ошибаются, думая, что от небесных светил зависят земные дела». С астрологией у него отношения сложные и запутанные. Своей популярностью его гороскопы обязаны ещё и удивительной чуткости и наблюдательности их автора. Он пишет: «Тот астролог, который предсказывает некоторые вещи по небу, не учитывая характера, души, разума, силы, телосложения того, кому он должен предсказать, поступает неправильно». Он понимает, что астрология стоит где-то у границ мошенничества, но успокаивает себя: «Астрология – дочь астрономии, хотя и незаконная, и разве не естественно, чтобы дочь кормила свою мать, которая иначе могла бы умереть с голоду». Сколько денег получал он за свои гороскопы, я не знаю. Знаю только, что самый подробный, самый интересный для потомков не дал ему ни гроша: 26-летний Иоганн Кеплер составил гороскоп самому себе. Удивительный этот документ – исповедь без начала, никак не названная и оборванная на полуслове, – хранится сегодня в Ленинграде, в архиве Академии наук СССР. Несколько страниц, из которых ни одна не перечёркнута, но сколько раз на этих страницах он перечёркивает сам себя! Первая фраза гороскопа несколько высокопарна и заносчива. Впрочем, может быть, такой её делает обращение к самому себе в третьем лице: «Человеку этому на роду написано проводить время главным образом за решением трудных задач, отпугивающих других». В своём гороскопе Кеплер словно специально демонстрирует всю противоречивость своей натуры, cтремительность перемен своего настроения и ту особую мучительную нервозность, которая определяла всю его натуру. Вдруг начинает хвалить себя: «Выступая оппонентом на диспутах, он всегда утверждал лишь то, что действительно думал. Описывая свои открытия, он всегда привносил в чистовой вариант нечто новое по сравнению с черновиком. Математику любил превыше других учёных занятий». Потом перечисляет все свои, к тому времени ещё не столь многочисленные научные заслуги. А через несколько страниц сравнивает себя с собакой, утверждает, что напоминает дворнягу и по телосложению, и по прожорливости, и по тяге к заискиванию, и даже по гневливости своей. Что ни слово в гороскопе, то вопрос. Пишет: «…если бы ему выпала судьба идти на военную службу… то показал бы себя храбрецом». И рядом: «Храбрость в жизни, преисполненной опасностями, чужда ему». Говорит о себе: «Ему присущи ярость, хитрость, бдительность…» А на другой странице пишет о своей «скромности, богобоязненности, верности, честности, изяществе». Клеймит себя: «Торопливость и страстность, которую я назвал вредной, приводят к тому, что этому человеку случается высказывать суждения прежде, чем он успевает их обдумать! Поэтому в разговоре он часто допускает вздорные замечания, и ему никогда не удавалось экспромтом хорошо написать письмо». Но тут же спешит все объяснить, обелить себя, словно кто-то властно требует его реабилитации: «Но стоит лишь внести незначительные исправления, как всё становится превосходным. Он так складно говорит и хорошо пишет, будто успел все продумать заранее. Но пока он говорит и пишет, ему на ум непрестанно приходят новые соображения либо относительно слов, предметов, выражений или приводимых им доказательств, либо о новых планах и о том, не следовало ли умолчать о тех вещах, о которых он говорил…» Кеплер пишет, что «ему присуща безудержная тяга к лукавству, обману и лжи», но говорит, что «пользуется репутацией человека набожного», отмечает: «набожен до суеверия». И опять вновь и вновь бесконечная череда этих странных оправданий. Перед кем он оправдывается? Перед суетными и завистливыми современниками? Или перед богом? А может быть, перед нами, потомками? «Свойственное ему дружелюбие считают признаком недалёкого ума, его обходительность принимают за чрезмерную доверчивость, набожность – за склонность к суеверию, весёлый нрав – за глупость, справедливый гнев – за приступ бешенства». Когда читаешь гороскоп Кеплера, никак не можешь отделаться от мысли, что автор задумал во что бы то ни стало влюбить читателя в героя. Ясно ощущаешь: Кеплер хочет понравиться. И даже его самобичевания, даже чернящие его слова самокритики в конечном счёте предполагают читательские симпатии за его откровенность. Вслушайтесь: «Даже непродолжительное время, проведённое без пользы, причиняет ему страдания. Вместе с тем он далёк от того, чтобы упорно сторониться человеческого общества. В денежных делах он почти скуп, в экономии – твёрд, нетерпим к мелочам и всему, что ведёт к напрасной трате времени. Тем не менее он питает к работе непреодолимое отвращение, столь сильное, что часто лишь страсть к познанию удерживает его от того, чтобы не бросить начатое. И всё же то, к чему он стремится, прекрасно, и в большинстве случаев ему удавалось постичь истину». И при всех этих несовместимых противоречиях он, как всякий великий человек, тонко чувствует истину, точно угадывает момент её явления и не ошибается в неожиданных и категоричных оценках своей работы. «Жребий брошен, – писал он после открытия своего третьего закона. – Я написал книгу, мне безразлично, прочитают ли её современники или потомки, я подожду, ведь ожидала же природа тысячу лет созерцателя своих творений». Горельеф Иоганна Кеплера украшает стену Государственного музея космонавтики в Калуге. В дни, когда на площадях сжигали ведьм, великий ясновидец написал: «Предвижу корабль или паруса, приспособленные к небесным ветрам, и найдутся люди, которые не побоятся даже пустоты межпланетного пространства…» Альберт Эйнштейн, назвавший Кеплера «несравненным человеком», писал о его судьбе: «Он жил в эпоху, когда ещё не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы. Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения! Сегодня, когда этот научный акт уже совершился, никто не может оценить полностью, сколько изобретательности, сколько тяжёлого труда и терпения понадобилось, чтобы открыть эти законы и столь точно их выразить». Может быть, именно в судьбе Иоганна Кеплера так близко, как нигде больше, сошлись в невидимом бою, сбились в молчаливой схватке мрак средних веков и свет зарождающейся классической астрономии, математики, физики. Может быть, именно потому, что стоял он на границе мрака и света, так тягостно глубоки тени его жизни. 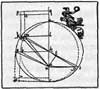 Николай Коперник: «В СЕРЕДИНЕ ОРБИТ – СОЛНЦЕ»  В Польше, на родине гелиоцентрической системы мира, стоит обелиск, на котором написано: «Остановившему Солнце, сдвинувшему Землю». Короток список людей, сделавших для человечества так много… Высокий, крепкий, румяный, с копной вьющихся волос, быстроглазый – как не шла ему унылая одежда каноника! Человек этот, с молодых лет до глубокой старости носящий духовный сан, был опаснейшим врагом церкви Дальновидная в своём коварстве, беспощадная в защите своих интересов, она совершила роковую для себя ошибку: проглядела каноника Вармийского, не поняла, какой чудовищной силы заряд подвёл Коперник под фундамент веры. Только этим можно объяснить, что человек, которого Ф. Энгельс причислял к титанам «по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учёности», революционер, каких немного в истории науки, непостижимо счастливым образом избежал тех горестей и бед, готовых неминуемо, казалось бы, обрушиться на него с ватиканских холмов. Лютер, один из кровожаднейших монстров средневековья, и то отзывается о Копернике с каким-то снисходительным ворчаньем: «Этот дурак хочет перевернуть все астрономическое искусство…» У Бруно отняли жизнь, у Галилея честь, а Копернику, в общем, даже не угрожали. Недоумевали, критиковали, даже высмеивали в балаганных комедиях, но что такое шутовской колпак в сравнении с холодным полом застенка Галилея, с горячим хворостом костра Бруно! Спохватились, ан было уже поздно, великая «ересь» его размножилась невероятно, завладела умами прочно – не выбить, не выжечь. Проглядели Коперника, который перевернул не «астрономическое искусство, а основы веры», который, по словам Ф. Энгельса, «бросил вызов церковному авторитету в вопросах природы». Лишь через 73 года после его смерти главная книга его жизни «Об обращении небесных сфер» была «впредь до исправления» внесена инквизицией в список запрещённых книг. Характер рисует узор судьбы. Коперник совсем не похож на Бруно и Галилея. Весь в себе. «Я никогда не искал рукоплесканий толпы, – писал он, – я изучал то, что для неё никогда не будет предметом уважения и одобрения, и никогда не занимался вещами, которые она одобряла». Не искал сторонников, не рвался в спор. Однако, если спор возникал, без пафоса, жеста и позы, с неколебимым упорством стоял он на своём, и самые страстные уговоры, как волны о скалу, разбивались о его немногословную тяжёлую убеждённость. Он мало интересовался мнениями других. Одинаково улыбался, когда хвалили и когда порицали, и в улыбке этой было какое-то презрительное равнодушие. Он позволяет себе даже над собой слегка иронизировать – не помню, чтобы кто-либо из философов позволял себе это. Он пишет: «Мне пришло в голову, наперекор привычному мнению математиков и, можно сказать, наперекор здравому смыслу, осмелиться вообразить себе некоторое вращение Земли». А, может быть, эта ирония – своеобразная защита, скрытый манёвр, оберегающий его детище? Но в то же время Коперник – человек открытый, откровенный. Он никогда не интриговал, был лишён всяких суетных страхов по поводу возможного непризнания его приоритета. Никогда не стремился пропагандировать свои идеи, обрести единомышленников, привлечь учеников. Младший из четырёх детей, Николай плохо помнил отца. Воспитывал его дядя Лукаш Вагенроде, каноник, а затем епископ. Человек властный, угрюмый, неукротимый в страстях человеческих и политических, прозванный «чёртом» и тевтонскими рыцарями, и польским королём, имел он в жизни едва ли не единственную нежную привязанность – племянника, которого баловал в молодые годы, которому помогал до самой своей смерти. Это ведь дядя устроил так, что уже в 24 года стал он каноником, а проще сказать, человеком праздным и обеспеченным. Ведь собор в Фромборке – целое маленькое государство с хозяйствами, охотничьими угодьями и рыболовными заводями, которыми управлял капитул и доходы с которых полюбовно делили между собой немногочисленные каноники и прелаты. Это дядя дал ему образование сначала в школе святого Яна, потом в Краковском университете, дядя его послал в Италию доучиваться. Италия на рубеже XVI века, Италия волшебных творений зрелости Леонардо да Винчи и молодости Микеланджело. Италия, открывшая для себя Платона и переосмыслящая Аристотеля, увлечённая поисками великих откровений прошедших веков и устремлённая в сказочный полет Возрождения. В этой Италии прожил Коперник десять лет. Он должен был изучать каноническое право в Болонье, а изучал все, кроме канонического права: живопись, математику, астрономию, философию, греческий язык. Диплома в Болонье не получил и нимало от того не расстроился. Всю жизнь был он удивительно равнодушен к дипломам, званиям, чинам и наградам. Из Болоньи он переселяется в Рим и опять занимается совсем не тем, что нужно капитулу. И вот капитул призывает его в лоно своё, а уезжать ему из Италии крайне не хочется, постоянно просит он отсрочек и, получив их, занимается юриспруденцией и медициной в Падуе и Ферраре. Десять итальянских лет превращают молоденького, несколько избалованного своим благополучием каноника в серьёзного исследователя, в человека разностороннего и широкообразованного. Совсем недавно обнаруженные документы, например, убеждают, что он был незаурядным экономистом. Три рукописи Коперника, относящиеся к первой четверти XVI века, излагают его взгляды на возможные пути стабилизации денежных отношений в Польше. По мнению специалистов, Коперник находился в авангарде современной ему экономической мысли. Да, это человек разносторонний и широкообразованный, но весь он словно пропитан жгучим ядом сомнений. Вместе со знаниями привёз он из Италии в родную Вармию, на берега холодной Балтики, неукротимую потребность к постоянному критическому переосмысливанию незыблемых истин – зерна своих «ересей», выпестовал их, не спеша вырастил, не торопясь собрал урожай. В маленькой башне крепостной стены, окружавшей собор в Фромборке, прожил он тридцать лет – одинокий задумчивый человек. Мягкий чёрный силуэт его являлся иногда ночами среди строгих линий средневековой готики: он наблюдал звезды. Коперник не воспринял призывов Леонардо к опыту, его нельзя назвать исследователем. Он, великий астроном, ничего не открыл в небе. Он искал там лишь подтверждений своей правоты. Гелиоцентрическая система мира не была его великим озарением. За сотни лет до Коперника говорили и писали о неподвижности Солнца и вращении Земли. Сотни не объяснённых птолемеевской системой фактов в течение многих веков скапливали в своих фолиантах звездочёты Греции, Италии, арабского мира. Многие чувствовали: что-то не так, путает Птолемей. Но как? Как все связать-увязать? Как набраться духу, чтобы сказать: а ведь все совсем не так, как считали до сих пор… Лет за тридцать до издания своей великой книги он рассылает в разные страны рукописные копии своеобразного конспекта будущего сочинения «Николая Коперника о гипотезах, относящихся к небесным движениям, краткий комментарий». (Рукописи эти считали безвозвратно потерянными и только в 1878 году вдруг нашли одну в венских архивах, а три года спустя – другую, в Стокгольме.) Он был уже стар, когда решил напечатать главный труд своей жизни. Никаких сомнений в своей правоте у него не было. Он писал со спокойным достоинством: «Многие другие учёные и замечательные люди утверждали, что страх не должен удерживать меня от издания книги на пользу всех математиков. Чем нелепее кажется большинству моё учение о движении Земли в настоящую минуту, тем сильнее будет удивление и благодарность, когда вследствие издания моей книги увидят, как всякая тень нелепости устраняется наияснейшими доказательствами. Итак, сдавшись на эти увещания, я позволил моим друзьям приступить к изданию, которого они так долго добивались». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||