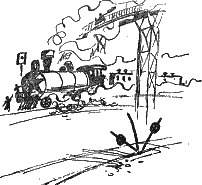Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в рабство ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе зачерпнутый из жизни великий возвышенный гимн красоте, правде, счастью.
Ф. Дзержинский. «Письма»
На платформе гимназиста встретил сонный бородатый кучер в плаще из клеенки. Было раннее утро, моросил мелкий дождь. Гимназист надел шинель в рукава, спрятал под полу книги и пошел за кучером через станцию на маленькую, обсаженную акациями площадь. Возле станции стоял желтый английский фаэтон. Лошади были хорошие, гнедые, в лаковой сбруе, с наглазниками. Кучер сел, расправил вожжи, щелкнул английским бичом — лошади сразу же пошли упругой рысью. Фаэтон мягко покачивался на рессорах. Гимназист поднял куцый воротник шинели, нахлобучил фуражку на глаза и задремал.
Фаэтон остановился у двухэтажного дома с террасой и крытой стеклянной галереей. У крыльца стоял сам хозяин, гладковыбритый человек с водянистыми выпуклыми глазами.
— Рад вас видеть, — сказал он, пожимая пальцы гимназиста своей мягкой и влажной рукой. — Очень рад приветствовать вас в своем доме.
Хозяин помолчал. Здесь гимназисту следовало ответить, что он тоже очень рад. Но гимназист ничего не ответил.
— Так вот, — снова заговорил хозяин, — директор вашей гимназии мне чрезвычайно рекомендовал вас, господин Дзержинский. Он говорил мне о ваших замечательных способностях, о вашем удивительном упорстве, о вашей воле… Должен предупредить: мой сын — ваш будущий ученик — существо хоть и милое, но крайне избалованное.
— Да, я слышал, — ответил Дзержинский.
— Живем мы просто, — продолжал хозяин, — придерживаемся английских порядков. Встаем рано, ложимся тоже рано. К столу собираемся по гонгу, смокинг не обязателен…
— У меня нет смокинга, — перебил Дзержинский.
— Как? Совсем нет?
— Совсем.
Хозяин махнул рукой.
— Пустяки, — успокоил он, — ерунда. Одним словом, идите отдыхайте: комната вам приготовлена, завтрак по гонгу. Игнат, проводите.
Лысый лакей повел Дзержинского наверх. Поднимаясь по лестнице, он с неодобрением глядел на заплатанные башмаки гостя. Когда дошли до комнаты, Дзержинский сказал:
— Спасибо. Вы мне не нужны.
— А разобрать багаж пана?
— У меня нет багажа.
— А как пан будет принимать ванну?
— Я моюсь сам.
— А кто подаст пану платье?
— Я одеваюсь сам. Спасибо.
Лакей объяснил, где расположена ванная комната, потоптался с минуту и ушел.
Дзержинский разложил на столе книги, пришил к шинели оторвавшуюся пуговицу и вымылся в ванне. Потом причесал гребенкой легкие, тонкие волосы, открыл томик стихов Мицкевича и стал читать.
В десять часов на террасе внизу ударил гонг. Это означало, что завтрак подан. Дождь кончился. Над большим, в английской моде, парком проступило голубое небо. Дзержинский спустился вниз.
Когда он проходил крытой стеклянной галереей, к крыльцу подъехал на высокой рыжей кобыле хозяин дома. Лицо его выражало злобу, губы были сжаты.
— Это чудовищно, — сказал он, увидев Дзержинского. — Сегодня ночью у меня украли трех племенных быков. Все три быка убиты и освежеваны на моей земле, в двух верстах от имения. И вы думаете, люди голодны? Ничего подобного! Это месть. Они мстят мне. Что ж, посмотрим!
Бросив в угол перчатки и хлыст, он ушел мыться, а Дзержинский отворил дверь на террасу. Тут уже было довольно много народу. Хозяйка дома, белокурая, еще красивая женщина, подала Дзержинскому руку и спросила, чаю ему или кофе. Он попросил чаю и сел рядом со своим будущим учеником, круглоглазым мальчиком. Мальчик болтал ногами и косо поглядывал на Дзержинского.
— Ну, — спросил у него Дзержинский, — как тебя зовут?
— Стась, — сказал мальчик.
— Весело тебе живется?
— Ничего, так себе, — ответил Стась.
— Говорят, ты плохо учишься?
— Плохо, — сказал Стась. — Да ведь мне, собственно, и незачем хорошо учиться. Я пойду в офицеры — всего и делов. В гвардию пойду. Рост у меня хороший…
— Стась, не болтай ногами, — сказала с другого конца стола мать Стася.
— Вечные замечания, — сказал Стась, — с ума можно сойти. Вы тоже мне будете делать замечания?
— Нет.
— Почему?
— Ты мне не очень нравишься.
— Почему? — с испугом спросил Стась. — Ведь вы со мной почти что не говорили. Может быть, я как раз очень хороший…
Дзержинский промолчал.
Молодой офицер, брат хозяйки дома, несколько раз пытался заговорить с Дзержинским. Дзержинский отвечал однообразно: да или нет. Офицер шепнул сестре:
— Однако этот учитель… Характер!
Позавтракав, Дзержинский и Стась пошли в парк.
Распускалась сирень, с каждой минутой становилось все жарче, густо гудел шмель.
— Вы еще учитесь в гимназии? — спросил Стась.
— Учусь.
— Интересно там учиться?
— Не очень.
— Почему?
— Потому что самому главному там не учат.
— А что это главное?
— Вырастешь — узнаешь.
— Что-то вы какой-то странный, — сказал Стась, — серьезный, серьезный, а глаза у вас веселые. Давайте посидим.
Они сели на влажную скамью.
— Хорошо у нас, правда? — спросил Стась.
— Нет.
— Да почему же? Смотрите, какой цветник!
— Мне не нравится.
— Как вы можете так говорить? — сказал Стась. — Ведь это неприлично. Мама меня учила, что если я в гостях или в обществе и если меня спросят про что-нибудь, нравится мне или нет, то я должен ответить: очень нравится.
— А если не нравится?
— Все равно.
— Значит, соврать?
— Подумаешь, — сказал Стась, — соврать! Все врут. Вот, например, мой папа терпеть не может нашего дедушку, маминого папу, а потому, что дедушка миллионер, мой папа так перед ним и рассыпается. А я сам слышал, как он сказал про него: «Вот поганый старик». Чтобы я пропал, если вру. Хотите, поедем кататься верхом? У меня свои лошади есть, мне дедушка подарил. Чудные.
Дзержинский с веселым любопытством глядел на Стася.
— Ну что вы все смотрите? — спросил Стась. — Ей-богу, даже странно. Ух, я чуть не забыл. Почему я вам так не понравился?
— Сказать?
— Скажите.
— Потому, что ты барчонок. Это очень противно.
— Что ж тут противного?
— Потому, что ты нескромен. Это тоже очень противно. Очень противно также и то, что ты хвастаешься лошадьми, имением — всем тем, что создано вовсе не твоими руками…
— Ну, папиными! — воскликнул Стась.
— И не папиными.
— А чьими же?
— Во всяком случае, не твоими, не папиными и не дедушкиными. Чего ж тут хвастаться? А ты еще из-за этого не желаешь учиться, не хочешь умнеть. Кто ты таков? Барчонок, избалованный, развязный, не в меру болтливый, пустой хвастун… Мне жаль тебя.
— Почему жаль? — уныло спросил Стась.
— Потому, что у тебя все есть, — продолжал Дзержинский. — Тебе не о чем мечтать. На лошади покататься? Пожалуйста, — выбирай любую. На лодке? — вон их сколько. Все к твоим услугам. Ты даже не знаешь, как приятно мечтать и добиваться.
— Что-то вы мне говорите очень печальное, — сказал Стась. — Мне еще никогда никто такого не говорил.
Жизнь в имении шла однообразно, по раз навсегда установленному порядку. После завтрака все расходились — кто в парк, кто в лес за речку, кто в комнаты. Отец Стася шел к себе в контору заниматься делами. Мать раскладывала пасьянс. Гости — молодой офицер, два лицеиста и толстая рыжая женщина Ангелина Сергеевна — играли в крокет, купались. После второго завтрака все спали. После обеда долго пили кофе, под вечер ехали кататься верхом. Перед сном, при свечах, играли в карты. Любили все английское, плакали над печальными книжками, жалели больных собак и кошек, с восторгом читали стихи. Отец Стася иногда любил спеть старинный польский романс, голос у него при этом дрожал. Но про крестьян и батраков здесь иначе не говорили, как «хамы», «быдло», «разбойники». Мать Стася била свою горничную по щекам, а братец ее, молоденький поручик, однажды на глазах у всех полоснул денщика хлыстом по лицу только за то, что плохо была затянута подпруга у коня. Говорили прислуге «вы», но в людских комнатах было тесно, водились клопы и тараканы, бани для батраков не существовало вовсе. Штрафы со служащих и с рабочих брались такие, что ежедневно по нескольку человек приходили к террасе, становились в пыль на колени и молили «простить» и «не пускать по миру». Но не было случая, чтобы отец Стася «прощал».
— Мое слово свято, — говорил он, — и порядки мои тверже самой твердой стали. Еще провинитесь — еще оштрафую, а сейчас идите с богом.
И, глядя вслед уныло плетущимся людям, добавлял:
— Я вас перекрушу. Не на такого напали.
Дзержинский присматривался, прислушивался. На третий день после своего приезда, под вечер, он вдруг ушел за речку в село.
Было тихо, пахло дымом, в селе брехали собаки. Долго пришлось ждать парома. На речку спустился легкий туман. К перевозу, мотая локтями, подъехал рябенький мужик, слез с худой лошаденки и, похлопывая ее по костлявому крупу, сказал:
— Паровоз — ей кличка. Верно, подходящая?
— Почему же паровоз? — улыбаясь спросил Дзержинский.
— А исключительно потому, что она худая. Силы в ей никакой. Один пар. Вот и называется паровоз. А вы откуда? С экономии?
— Да.
— В село?
— Да.
— Побьют, — сказал мужик. — Это уж верно. Нехорошо там, в селе.
И, сложив руки рупором, он закричал через речку:
— Дай перевоз! Паровоз едет!
Потом подергал за канаты. Но парома не было.
— Спят небось, окаянные, — сказал мужик. Постепенно Дзержинский выведал, что в селе каждый день собираются сходки, и вот по какой причине: с неделю назад крестьянский скот потравил пшеницу, принадлежащую отцу Стася: помещик арестовал коров, овец и коней и потребовал выкупные, невиданные даже в этих местах: по три рубля за овцу, по пяти, — за корову и быка и по десяти — за коня. Денег таких, разумеется, у крестьян не было. На то, что помещик «простит», никто, конечно, не надеялся. Помещик же пообещал, что если деньги не будут внесены в семидневный срок, он возьмет арестованный скот в свое собственное стадо.
— Грабеж среди бела дня, — говорил рябой мужичок. — Сами посудите, господин хороший, у кого такие деньги есть. Шутка сказать — три рубля за овцу. А ребята в селе без молока, продавать нечего, время горячее, рабочее, коней тоже нет. Народ, конечно, стервенеет. Ну и произошла шалость.
— Какая шалость?
— А вы что, не слыхали? — недоверчиво спросил мужик.
— Не слыхал.
— Да бычков хозяйских тюкнули, — сказал мужик. — Свели с экономии в овражек — и поминай как звали. Ха-арошие бычки были.
— Про это я слыхал, — сказал Дзержинский. — Из батраков кто-нибудь?
Мужик усмехнулся.
— Ишь ловкий, — сказал он. — Нет, брат, хотя я и негодящий человек, наболтал тут тебе, но лишнего не скажу. Кто да кто? А я почем знаю.
В воде заполоскал канат, паром двинулся с той стороны. Мужик влез на своего коня, погладил его и спросил:
— А вы кто же будете, господин?
— Прохожий, — сказал Дзержинский. Паром мягко стукнул о глинистый берег…
В селе действительно было «нехорошо». У околицы пиликала гармошка, кто-то подплясывал, плакала женщина, доносились пьяные голоса. Дзержинский подошел ближе. На бревнах возле хаты лежал человек с окровавленным лицом. Оказалось, что в село только что приезжал управляющий имением, требовал выкупных денег, грозил. Доведенный до бешенства крестьянин Сигизмунд Оржовецкий бросился на управляющего, тот выстрелил из револьвера и ранил Оржовецкого в щеку. Толпа потащила управляющего с лошади, управляющий поднял коня на дыбы, еще раз выстрелил и удрал.
Врача поблизости не было, фельдшера тоже. Кровь из раны хлестала, жена Оржовецкого плакала и прикладывала к ране землю, стараясь унять кровь.
— Тряпки нет чистой? — спросил Дзержинский. — Да перенесите его в хату. Что он тут лежит! И голову повыше.
Он сам взял Оржовецкого сзади под мышки, приподнял и велел рябому мужичонке взять раненого за ноги. Раненый застонал.
— Каты,
чтоб вы света божьего не видели! — закричала старуха, мать Оржовецкого.
В хате его положили на широкую скамейку. Дзержинский ножницами остриг ему бороду и стал при свете керосиновой лампешки рассматривать рану. В хате сделалось тихо, только плакала старуха мать.
— Пустяковая рана, — сказал Дзержинский. — Сейчас мы ее потуже затянем, и кровь остановится. Сорочку какую-нибудь порвите…
Кровь действительно быстро остановилась. Раненый перестал стонать. Старуха мать пришла в себя и удивленно спросила:
— Вы что же — лекарь? А такой молоденький.
Завязался разговор. С улицы пришел длинный всклокоченный человек и сказал, что будто бы назавтра приедут из города каратели и будут каждого десятого пороть. Никто не поверил, длинного подняли на смех.
— А мне что, — говорил он, — за что купил, за то и продаю. Только те бычки нам повылезут через бок. От посмотрите.
Мужчины вышли из своих хат, сели на бревна, закурили трубки. Настроение было тревожное. Несмотря на поздний час никто не спал.
— В экономии много работает людей из села? — спросил Дзержинский.
— Та человек две сотни есть, — сказал из темноты чей-то бас.
— И сейчас работают?
— Тем кормятся.
Чей-то звонкий голос сказал со злобой:
— Не бычков надо было резать, а кого другого.
— Двести человек завтра не должны выходить к помещику на работу, — сказал Дзержинский. — Если они не выйдут, работы остановятся и помещик начнет уступать. Двести человек — большая сила в экономии. Некому будет поить коней, доить коров, выгонять скот, работать в поле…
— Я ж давно говорил, — опять сказал звонкий голос, — я ж давно говорил. Вот он, умный человек, советует, то и я советовал.
Начали спорить. Кривой старик сказал, что это не годится, что это вроде бунта.
— А что плохого в бунте? — спросил звонкий голос.
Теперь Дзержинский разглядел этого парня со звонким голосом. Он был молод, немного курнос, брови у него были неровные, с изгибом, глаза упрямые, блестящие.
Спорили долго.
Когда взошла луна, возле дома раненого Оржовецкого собрался сход и постановил: на работу к помещику завтра не выходить, а кто пойдет, того поймать и запереть в амбар на замок.
До парома Дзержинского провожало человек шесть крестьян.
Опять пиликала гармошка. Ян — так звали парня со звонким голосом — шел рядом с Дзержинским, посмеивался, пошучивал, потом тихо спросил:
— Значит, бастуем?
— Откуда вы знаете это слово? — спросил Дзержинский.
— Оттуда, откуда и вы. — Усмехнувшись, он добавил — Я в городе работал, на фабрике. Потом машина три пальца оттяпала, выгнали. Вернулся домой. Было время — и я бастовал.
У перевоза попрощались. Дзержинский крепко пожал искалеченную руку парня, обещал наведываться в село.
Когда Дзержинский вернулся, на террасе еще играли в карты, а из залы доносились звуки и тенорок хозяина, певшего с дрожью в голосе:
Облекся мир волшебной дымкой,
Ничто в саду не шелохнет.
Но чу! Волшебной невидимкой,
Скрываясь, соловей поет…
— Кто идет? Остановись! — крикнул подпоручик, тасуя карты. Дзержинский остановился.
— Откуда вы? — спросила хозяйка, вглядываясь в темноту парка. — Гуляли? Идите к нам, у нас очень весело.
Дзержинский поднялся по ступенькам на террасу. Здесь были новые люди: становой пристав, еще не старый человек с апоплексической шеей и с золотыми зубами, и чрезвычайно аккуратного вида молодой офицер с длинной, как огурец, головой и очень белыми короткопалыми руками.
Подпоручик представил Дзержинского гостям:
— Учитель моего племяша.
Офицер щелкнул шпорами и сказал, пришепетывая:
— Лемешов.
— Подзенский, — сказал пристав, сверкнув золотыми зубами, — очень приятно.
Из залы на террасу вышел хозяин, взял Дзержинского под руку.
— Слышали новость? Чуть моего управляющего не убили.
— Да, я слышал, — неторопливо ответил Дзержинский, — но вы уже приняли меры.
Он кивнул на офицера и пристава.
— Пришлось вызвать роту, — сказал хозяин.
На одну секунду глаза их встретились. В темных зрачках гимназиста блеснул огонек и тотчас же погас. Он поправил рукой легкие, рассыпающиеся русые волосы, поклонился и, сказав, что ужинать не будет, ушел к себе. Окно в его комнате было открыто, лампа не горела, из парка тянуло свежестью и крепким, холодным запахом распускающейся сирени.
Не зажигая огня, Дзержинский лег на подоконник и долго смотрел на тяжелые купы деревьев, на поблескивающие под ровным светом полной луны луга, на неподвижную воду пруда… Все было тихо, неподвижно, спокойно.
Так он пролежал долго — до самой зари, а когда небо на востоке посветлело и спустилась роса, он встал, накинул шинель и, стараясь не скрипеть половицами, вышел из дому, отправился на молочную ферму экономии.
Было четыре часа. Обычно в это время из села в экономию уже идут один за другим батраки, но сейчас дорога была пустынна.
Возле фермы Дзержинский встретил управляющего. Немец приветливо снял шляпу, но лицо у него было озабоченное и невеселое.
— Нехороший день, — сказал он, — совсем нехорошее начало.
— А что? — спросил Дзержинский.
— В экономии — ни души, — сказал немец, — не вышли на работу. А те батраки и батрачки, что были, снялись и ушли к себе в село. Как вам это нравится?
— Мне это очень нравится, — серьезно ответил Дзержинский.
Немец поморгал, потом решил, что гимназист шутит, и засмеялся, качая головой.
— Никакого порядка нет, — сказал он. — Русских мужиков надо пороть. И русских, и польских, и литовских. Солеными розгами. Тогда будет хороший порядок.
— А вы не боитесь, что вас убьют? — спросил Дзержинский.
Управляющий достал из заднего кармана кожаных штанов большой плоский пистолет, подбросил его и, схватив за ствол, сказал:
— Ха! Как это называется? Семизарядный и бьет человека навылет. До свидания.
Он пошел к дому, а Дзержинский проводил его глазами и зашагал на ферму. У ворот молочной фермы, как возле казармы или порохового склада, стоял часовой с ранцем, со скаткой, с винтовкой.
— На военном положении ферма? — поинтересовался Дзержинский.
— Так точно, — стрельнув по сторонам озорными карими глазами, сказал солдат. — Бунта опасаются. А какой бунт? Я сам с этих мест, народ наш тихий…
— Пороть, говорят, будут? — спросил Дзержинский.
— Кого?
— Крестьян.
— Пороть?
— Ну да.
Солдат со злобой плюнул, потом сказал:
— Наше дело маленькое. Кого надо, выпорем. Прикажут — родного отца пороть будем. Служба!
Присев на скамью возле ворот, он поставил винтовку между ногами и свернул махорочную самокрутку. Потом, вкусно затянувшись дымом, спросил:
— Не из студентов часом?
— Нет.
— А из кого?
— Из гимназистов.
— Так, — задумчиво сказал солдат. — А чего рано ходите?
— Не спится.
— Чего же вам не спится?
— Вот вы людей сегодня будете пороть, — сказал Дзержинский, — какой же тут сон!
— А вам-то что?
Дзержинский сел рядом с солдатом на скамью.
Из всех батраков и батрачек, работавших в имении помещика, пришли в это утро на ферму только трое: глухонемой Артемий, страшной силы человек, крикливая пьяница-солдатка Зоська и тихий, со сладким голосом и голубыми глазами, нечистый на руку Пандурский. На скотном дворе творилось нечто небывалое: мычали недоенные коровы, ревели быки, которых некому было поить, блеяли козы. Недоенных коров не решались гнать на пастбище, а доить было некому. Быков следовало выгнать в поле, но трусливый Пандурский боялся свирепых, да еще непоенных животных, устрашающе гремящих цепями. Выпустили овец, те рванулись из ворот и, глупо блея, без пастуха побежали по дорожке к парку. Обычно стадо гоняли три-четыре пастуха, сейчас не было ни одного. Ворота в парке оказались открытыми — овцы тотчас побежали декоративной дорогой, специально сеянной травою. Из дому кинулись за овцами горничная, старик лакей и поваренок Фомка, но в эту минуту в парк ворвались один за другим четыре быка, неизвестно кем выпущенные из сарая. Горничная завизжала, овцы помчались по клумбам, разбился на куски огромный стеклянный шар, украшавший цветник. Подпоручик выскочил на террасу в белье, с револьвером и, не разобрав толком, что случилось, стал палить по овцам. В одной шинели выскочил становой, решил, что по парку мечется бешеный бык, сорвал со стены английский охотничий карабин и наповал свалил лучшего быка фермы — племенного, два раза премированного. Стась, забравшись на стол, таращил круглые глаза и кричал дурным голосом:
— Бей! Круши! Бей! Ломай!..
Наконец выскочил на крыльцо хозяин дома, схватил себя за голову и простонал:
— О, идиоты!..
Кто-то прыскал матери Стася в лицо водой, подпоручик хохотал, становой разводил руками и говорил:
— Простите великодушно, я спросонья никогда ничего не понимаю.
Как обычно, в десять часов утра Дзержинский сел заниматься со Стасем. Несмотря на то, что и учитель, и ученик были взволнованы, занятия шли удовлетворительно. Стась прилежно, высунув язык, решал задачи, но изредка бегал к окну и сообщал:
— Быка еще не убрали.
Потом вдруг хохотал и говорил:
— Вы бы видели, что там делалось! У меня до сих пор болит живот от смеха. А папа сказал, что этот день довел его до белого каления. Феликс Эдмундович, что такое бе-ло-е ка-ле-ние, а?
Днем становому подали рессорную коляску, и он уехал в село чинить суд и расправу, то есть выяснить, кто именно «тюкнул» трех помещичьих быков. С собою он взял двух стражников — бородатых, угрюмого вида мужиков с бляхами — и двенадцать человек солдат понадежнее. Вернулся он довольно скоро, выпил рюмку водки и сказал, оскалив золотые зубы:
— Выпорем соколиков завтра при всем честном народе.
— Нашли? — спросил подпоручик.
— Да разве найдешь! — ответил становой. — Спущу шкуру с каждого десятого — перестанут небось колобродить.
Дзержинский сидел бледный, покусывая губы. У Ста-я горели щеки. Мать Стася вздохнула.
— Это ужасно, это ужасно. Надо быть милосердными.
— К кому милосердными? — грубо спросил подпоручик. — Домилосердствовались до открытого разбоя — радуйтесь!
Второй завтрак прошел в молчании. Офицер с головой, напоминающей огурец, вдруг прокашлялся и сказал, что его солдаты могут с вечера заняться всеми хозяйственными работами по имению.
— Они у меня молодцы, — говорил он, ставя точки там, где их вовсе не полагалось. — Славные ребята. Я их не мармелажу. Военных нельзя нюнить. Слуги отечеству. Царю слуги. Дрессированные, как обезьяны. На смотру имел благодарность. Бригадный генерал благодарил. Нет, с капустой. Не ем.
После завтрака Дзержинский пошел в село, но недалеко от реки, в поле, встретил Яна.
— Завтра будут пороть, — сказал Дзержинский, — а сегодня на работы станут солдаты. Подослали бы в роту кого побойчее.
— Уже посланы.
— Ну и что?
— С ночи послали. Разговаривают.
— Поосторожнее бы надо.
— Сейчас сам туда пойду, — сказал Ян, — может, кого из виленских там встречу… А ночью мужики наши в лес подадутся. Черта их там найдешь. Бурелом такой — одни медведи гуляют. Пересидят пока что. Солдаты небось не век здесь торчать будут.
Легли на траву возле дорожки. Ян закурил.
— Надоело, — говорил он, глядя в голубое, ясное, высокое небо, — живем хуже зверей. Управляющий помыкает, приказчик помыкает, сам помещик помыкает. Люди мы или нет? Или мы, может, вовсе и не люди? Как это — пороть! Как это так: почтенного мужика и, здрасте, пожалуйста, драть как сидорову козу. Может, я с ума сошел? Может, все это мне привиделось?
Он сел, далеко забросил окурок и лающим от волнения голосом сказал:
— Всех под корень истребить надо, все крапивное семя извести. Или, может, убить станового?
— Другой на его место найдется, — сказал Дзержинский, — а делу повредишь. Чего-чего, а жандармов у царя покуда что хватит.
Постепенно, час за часом, пустел дом. Дворня, имеющая в селе родню, задами, так, чтобы не попасть на глаза хозяевам, уходила за речку. Ушел хромой повар Иосиф, ушла кухарка, ушли два конюха, поваренок Фомка и помощник садовника. Незадолго до обеда на террасу явился садовник, старый, всеми уважаемый Ядрек. Держа в руках картуз и низко наклонив кудрявую седую голову, он сказал, что уходит по приказу общества.
— Какого общества? — бледнея от бешенства, спросил помещик. — Что вы все, с ума посходили?
— Никак нет, не посходили, — твердо ответил Ядрек. — Но как я сам есть крестьянин, то иду до крестьян. С ними у меня праздник, с ними у меня горе.
— Больше можешь не являться! — крикнул отец Стася.
— Слушаю, пане.
Низко поклонившись, старик ушел, и все долго молча смотрели на его удаляющуюся спину в ярком вязаном жилете.
— Пане учитель…
Дзержинский повернул голову.
Посмеиваясь углом рта, подпоручик медленно говорил, обращаясь не то к Дзержинскому, не то к своему соседу — становому.
— Наш друг пан Дзержинский, я вижу, очень доволен. Уж не первый раз я наблюдаю за ним. Пану Дзержинскому так нравятся наши затруднения, что он даже не спит по ночам. Представьте себе, управляющий сказал мне, что встретил пана учителя сегодня в четыре часа утра возле молочной фермы… А? Как вам это нравится? Может, наш учитель — революционер?
Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если бы Стась, сидевший на балюстраде террасы, не сказал вдруг тихим, испуганным голосом:
— Мам, пожар!
Поручик подбежал к балюстраде. Остальные бросились в парк. Слева от дома, за клумбами, к ярко-голубому небу поднимались густые черные столбы дыма.
С матерью Стася началась истерика. Подпоручик, цепляясь шпорами, метался по террасе и кричал:
— Люди, люди, пожар! Люди!
Но никто не шел. Дом был пуст. Старик лакей Игнат, один оставшийся от всей дворни, спал в своей комнате, напившись вишневки. Солдаты были далеко: караулили границы имения.
— Надо верхового в село, — сказал становой. — Седлайте, господин Дзержинский, лошадь, скачите в село.
— Никуда я не поеду, — ответил Дзержинский. — Какой дурак поедет сюда выручать из пожара этакого помещика?
— Что-с?
— То, что слышали.
Никто не понимал, что происходит. Наконец на лошади примчался управляющий и сказал, что горит коптильня и занялась сыроварня, дал коню шпоры и по клумбам умчался созывать солдат. Отец Стася сидел в соломенном кресле, бледный, как полотно, обмахивался шляпой и говорил:
— Всему конец, всему конец.
Солдаты шли на пожар неохотно, поодиночке, посмеиваясь и переговариваясь друг с другом. Долго искали ключи от пожарного сарая, а когда управляющий сказал, что надо ломать замок, белозубый солдат с родинкой возле рта ответил усмехаясь:
— Что вы, ваше благородие, такой замок ломать…
— Ломай, скот русский! — заорал управляющий, наступая на солдата конем. — Застрелю собаку!
Солдат вдруг блеснул глазами, поднял над головой лом и крикнул:
— Осади!
Потом, швырнув ломик о землю, отошел в сторону и, вытирая руки, сказал:
— Сам ломай, я тебе не слесарь.
И тотчас же затерялся среди других солдат, косо поглядывающих на управляющего.
Когда выкатили наконец пожарные бочки, оказалось, что нет шлангов, а когда нашли шланги — стали искать ведра. Коптильня уже догорала: с грохотом обрушилась крыша, пламя на мгновение взвилось высоко вверх, потом начало лизать стенку сыроварни…
К вечеру хватились глухонемого Артема. Его нигде не было. Становой решил, что Артем поджег коптильню и убежал, и повел следствие. Оказалось, что никуда Артем не убегал, а просто-напросто пошел спать в коптильню, настлал себе сена, уснул с трубкой в зубах. Горячий пепел высыпался из трубки, загорелось сено. Артем проснулся в огне, выскочил из пылающей коптильни и прыгнул в пруд. Волосы и одежда на нем сгорели. Нашли его в крапиве за сараем, он упал там без памяти. К ночи глухонемой умер.
Сыроварня медленно догорала. Солдаты нехотя таскали воду, без толку лили ведро за ведром в раскаленные уголья. Управляющий, с почерневшим за день лицом, сам запрягал тележку — ехать в дальние экономии за поденщиками. Коровы до сих пор стояли недоенные, коней из жалости поили солдаты, в доме не было даже воды, — мыться бегали на пруд. Лемешов, командир роты, говорил становому:
— Ничего не понимаю. Коров доить вдруг не умеют. Фельдфебеля умеют, а солдаты нет. Никого. Не соберешь. Дисциплина падает с каждым часом. Уже двоих солдат по морде бил. Ничего. Никакого порядка.
Собрались в кухне у Яна, затворили окно и завесили рядном. Ян зажег маленькую лампочку, поставил угощение — тарелку творогу, молоко и щербатые чашки. Из новых были: приехавший на побывку в родные места слесарь из Вильно Марлевский — с ним Дзержинский не раз встречался в городе; сельский учитель Янушевич; машинист из экономии Маслов и, наконец, солдат из роты Лемешева, здешний, сын кузнеца Акимов. Марлевский приехал утром, и его сразу же закрутили события. Это был невысокий, коренастый человек с залысинами, с круглым лбом и с маленькими умными глазами. Небольшими глотками он прихлебывал молоко и слушал Дзержинского, изредка поглядывая на него с одобрением, и, как бы соглашаясь, иногда наклонял крутолобую голову. Маленький Янушевич жадно курил; глаза его под лохматыми бровями поблескивали, он барабанил по столешнице и часто говорил: