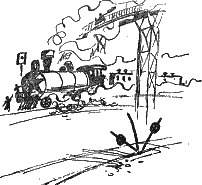Рассказы о Дзержинском
ModernLib.Net / Отечественная проза / Герман Юрий Павлович / Рассказы о Дзержинском - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Герман Юрий Павлович |
|
Жанр:
|
Отечественная проза |
|
-
Читать книгу полностью (350 Кб)
- Скачать в формате fb2
(170 Кб)
- Скачать в формате doc
(148 Кб)
- Скачать в формате txt
(140 Кб)
- Скачать в формате html
(168 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|
Юрий Герман
РАССКАЗЫ о ДЗЕРЖИНСКОМ
ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ
ЖИТЬЁ.
РЕШАЮЩЕМУ—
СДЕЛАТЬ БЫ ЖИЗНЬ С КОГО,
СКАЖУ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ—
«ДЕЛАЙ ЕЁ
С ТОВАРИЩА
ДЗЕРЖИНСКОГО».
В. В. МАЯКОВСКИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НАКАНУНЕ
РЕПЕТИТОР
Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в рабство ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе зачерпнутый из жизни великий возвышенный гимн красоте, правде, счастью.
Ф. Дзержинский. «Письма»
На платформе гимназиста встретил сонный бородатый кучер в плаще из клеенки. Было раннее утро, моросил мелкий дождь. Гимназист надел шинель в рукава, спрятал под полу книги и пошел за кучером через станцию на маленькую, обсаженную акациями площадь. Возле станции стоял желтый английский фаэтон. Лошади были хорошие, гнедые, в лаковой сбруе, с наглазниками. Кучер сел, расправил вожжи, щелкнул английским бичом — лошади сразу же пошли упругой рысью. Фаэтон мягко покачивался на рессорах. Гимназист поднял куцый воротник шинели, нахлобучил фуражку на глаза и задремал. Фаэтон остановился у двухэтажного дома с террасой и крытой стеклянной галереей. У крыльца стоял сам хозяин, гладковыбритый человек с водянистыми выпуклыми глазами. — Рад вас видеть, — сказал он, пожимая пальцы гимназиста своей мягкой и влажной рукой. — Очень рад приветствовать вас в своем доме. Хозяин помолчал. Здесь гимназисту следовало ответить, что он тоже очень рад. Но гимназист ничего не ответил. — Так вот, — снова заговорил хозяин, — директор вашей гимназии мне чрезвычайно рекомендовал вас, господин Дзержинский. Он говорил мне о ваших замечательных способностях, о вашем удивительном упорстве, о вашей воле… Должен предупредить: мой сын — ваш будущий ученик — существо хоть и милое, но крайне избалованное. — Да, я слышал, — ответил Дзержинский. — Живем мы просто, — продолжал хозяин, — придерживаемся английских порядков. Встаем рано, ложимся тоже рано. К столу собираемся по гонгу, смокинг не обязателен… — У меня нет смокинга, — перебил Дзержинский. — Как? Совсем нет? — Совсем. Хозяин махнул рукой. — Пустяки, — успокоил он, — ерунда. Одним словом, идите отдыхайте: комната вам приготовлена, завтрак по гонгу. Игнат, проводите. Лысый лакей повел Дзержинского наверх. Поднимаясь по лестнице, он с неодобрением глядел на заплатанные башмаки гостя. Когда дошли до комнаты, Дзержинский сказал: — Спасибо. Вы мне не нужны. — А разобрать багаж пана? — У меня нет багажа. — А как пан будет принимать ванну? — Я моюсь сам. — А кто подаст пану платье? — Я одеваюсь сам. Спасибо. Лакей объяснил, где расположена ванная комната, потоптался с минуту и ушел. Дзержинский разложил на столе книги, пришил к шинели оторвавшуюся пуговицу и вымылся в ванне. Потом причесал гребенкой легкие, тонкие волосы, открыл томик стихов Мицкевича и стал читать. В десять часов на террасе внизу ударил гонг. Это означало, что завтрак подан. Дождь кончился. Над большим, в английской моде, парком проступило голубое небо. Дзержинский спустился вниз. Когда он проходил крытой стеклянной галереей, к крыльцу подъехал на высокой рыжей кобыле хозяин дома. Лицо его выражало злобу, губы были сжаты. — Это чудовищно, — сказал он, увидев Дзержинского. — Сегодня ночью у меня украли трех племенных быков. Все три быка убиты и освежеваны на моей земле, в двух верстах от имения. И вы думаете, люди голодны? Ничего подобного! Это месть. Они мстят мне. Что ж, посмотрим! Бросив в угол перчатки и хлыст, он ушел мыться, а Дзержинский отворил дверь на террасу. Тут уже было довольно много народу. Хозяйка дома, белокурая, еще красивая женщина, подала Дзержинскому руку и спросила, чаю ему или кофе. Он попросил чаю и сел рядом со своим будущим учеником, круглоглазым мальчиком. Мальчик болтал ногами и косо поглядывал на Дзержинского. — Ну, — спросил у него Дзержинский, — как тебя зовут? — Стась, — сказал мальчик. — Весело тебе живется? — Ничего, так себе, — ответил Стась. — Говорят, ты плохо учишься? — Плохо, — сказал Стась. — Да ведь мне, собственно, и незачем хорошо учиться. Я пойду в офицеры — всего и делов. В гвардию пойду. Рост у меня хороший… — Стась, не болтай ногами, — сказала с другого конца стола мать Стася. — Вечные замечания, — сказал Стась, — с ума можно сойти. Вы тоже мне будете делать замечания? — Нет. — Почему? — Ты мне не очень нравишься. — Почему? — с испугом спросил Стась. — Ведь вы со мной почти что не говорили. Может быть, я как раз очень хороший… Дзержинский промолчал. Молодой офицер, брат хозяйки дома, несколько раз пытался заговорить с Дзержинским. Дзержинский отвечал однообразно: да или нет. Офицер шепнул сестре: — Однако этот учитель… Характер! Позавтракав, Дзержинский и Стась пошли в парк. Распускалась сирень, с каждой минутой становилось все жарче, густо гудел шмель. — Вы еще учитесь в гимназии? — спросил Стась. — Учусь. — Интересно там учиться? — Не очень. — Почему? — Потому что самому главному там не учат. — А что это главное? — Вырастешь — узнаешь. — Что-то вы какой-то странный, — сказал Стась, — серьезный, серьезный, а глаза у вас веселые. Давайте посидим. Они сели на влажную скамью. — Хорошо у нас, правда? — спросил Стась. — Нет. — Да почему же? Смотрите, какой цветник! — Мне не нравится. — Как вы можете так говорить? — сказал Стась. — Ведь это неприлично. Мама меня учила, что если я в гостях или в обществе и если меня спросят про что-нибудь, нравится мне или нет, то я должен ответить: очень нравится. — А если не нравится? — Все равно. — Значит, соврать? — Подумаешь, — сказал Стась, — соврать! Все врут. Вот, например, мой папа терпеть не может нашего дедушку, маминого папу, а потому, что дедушка миллионер, мой папа так перед ним и рассыпается. А я сам слышал, как он сказал про него: «Вот поганый старик». Чтобы я пропал, если вру. Хотите, поедем кататься верхом? У меня свои лошади есть, мне дедушка подарил. Чудные. Дзержинский с веселым любопытством глядел на Стася. — Ну что вы все смотрите? — спросил Стась. — Ей-богу, даже странно. Ух, я чуть не забыл. Почему я вам так не понравился? — Сказать? — Скажите. — Потому, что ты барчонок. Это очень противно. — Что ж тут противного? — Потому, что ты нескромен. Это тоже очень противно. Очень противно также и то, что ты хвастаешься лошадьми, имением — всем тем, что создано вовсе не твоими руками… — Ну, папиными! — воскликнул Стась. — И не папиными. — А чьими же? — Во всяком случае, не твоими, не папиными и не дедушкиными. Чего ж тут хвастаться? А ты еще из-за этого не желаешь учиться, не хочешь умнеть. Кто ты таков? Барчонок, избалованный, развязный, не в меру болтливый, пустой хвастун… Мне жаль тебя. — Почему жаль? — уныло спросил Стась. — Потому, что у тебя все есть, — продолжал Дзержинский. — Тебе не о чем мечтать. На лошади покататься? Пожалуйста, — выбирай любую. На лодке? — вон их сколько. Все к твоим услугам. Ты даже не знаешь, как приятно мечтать и добиваться. — Что-то вы мне говорите очень печальное, — сказал Стась. — Мне еще никогда никто такого не говорил.
Жизнь в имении шла однообразно, по раз навсегда установленному порядку. После завтрака все расходились — кто в парк, кто в лес за речку, кто в комнаты. Отец Стася шел к себе в контору заниматься делами. Мать раскладывала пасьянс. Гости — молодой офицер, два лицеиста и толстая рыжая женщина Ангелина Сергеевна — играли в крокет, купались. После второго завтрака все спали. После обеда долго пили кофе, под вечер ехали кататься верхом. Перед сном, при свечах, играли в карты. Любили все английское, плакали над печальными книжками, жалели больных собак и кошек, с восторгом читали стихи. Отец Стася иногда любил спеть старинный польский романс, голос у него при этом дрожал. Но про крестьян и батраков здесь иначе не говорили, как «хамы», «быдло», «разбойники». Мать Стася била свою горничную по щекам, а братец ее, молоденький поручик, однажды на глазах у всех полоснул денщика хлыстом по лицу только за то, что плохо была затянута подпруга у коня. Говорили прислуге «вы», но в людских комнатах было тесно, водились клопы и тараканы, бани для батраков не существовало вовсе. Штрафы со служащих и с рабочих брались такие, что ежедневно по нескольку человек приходили к террасе, становились в пыль на колени и молили «простить» и «не пускать по миру». Но не было случая, чтобы отец Стася «прощал». — Мое слово свято, — говорил он, — и порядки мои тверже самой твердой стали. Еще провинитесь — еще оштрафую, а сейчас идите с богом. И, глядя вслед уныло плетущимся людям, добавлял: — Я вас перекрушу. Не на такого напали. Дзержинский присматривался, прислушивался. На третий день после своего приезда, под вечер, он вдруг ушел за речку в село. Было тихо, пахло дымом, в селе брехали собаки. Долго пришлось ждать парома. На речку спустился легкий туман. К перевозу, мотая локтями, подъехал рябенький мужик, слез с худой лошаденки и, похлопывая ее по костлявому крупу, сказал: — Паровоз — ей кличка. Верно, подходящая? — Почему же паровоз? — улыбаясь спросил Дзержинский. — А исключительно потому, что она худая. Силы в ей никакой. Один пар. Вот и называется паровоз. А вы откуда? С экономии? — Да. — В село? — Да. — Побьют, — сказал мужик. — Это уж верно. Нехорошо там, в селе. И, сложив руки рупором, он закричал через речку: — Дай перевоз! Паровоз едет! Потом подергал за канаты. Но парома не было. — Спят небось, окаянные, — сказал мужик. Постепенно Дзержинский выведал, что в селе каждый день собираются сходки, и вот по какой причине: с неделю назад крестьянский скот потравил пшеницу, принадлежащую отцу Стася: помещик арестовал коров, овец и коней и потребовал выкупные, невиданные даже в этих местах: по три рубля за овцу, по пяти, — за корову и быка и по десяти — за коня. Денег таких, разумеется, у крестьян не было. На то, что помещик «простит», никто, конечно, не надеялся. Помещик же пообещал, что если деньги не будут внесены в семидневный срок, он возьмет арестованный скот в свое собственное стадо. — Грабеж среди бела дня, — говорил рябой мужичок. — Сами посудите, господин хороший, у кого такие деньги есть. Шутка сказать — три рубля за овцу. А ребята в селе без молока, продавать нечего, время горячее, рабочее, коней тоже нет. Народ, конечно, стервенеет. Ну и произошла шалость. — Какая шалость? — А вы что, не слыхали? — недоверчиво спросил мужик. — Не слыхал. — Да бычков хозяйских тюкнули, — сказал мужик. — Свели с экономии в овражек — и поминай как звали. Ха-арошие бычки были. — Про это я слыхал, — сказал Дзержинский. — Из батраков кто-нибудь? Мужик усмехнулся. — Ишь ловкий, — сказал он. — Нет, брат, хотя я и негодящий человек, наболтал тут тебе, но лишнего не скажу. Кто да кто? А я почем знаю. В воде заполоскал канат, паром двинулся с той стороны. Мужик влез на своего коня, погладил его и спросил: — А вы кто же будете, господин? — Прохожий, — сказал Дзержинский. Паром мягко стукнул о глинистый берег… В селе действительно было «нехорошо». У околицы пиликала гармошка, кто-то подплясывал, плакала женщина, доносились пьяные голоса. Дзержинский подошел ближе. На бревнах возле хаты лежал человек с окровавленным лицом. Оказалось, что в село только что приезжал управляющий имением, требовал выкупных денег, грозил. Доведенный до бешенства крестьянин Сигизмунд Оржовецкий бросился на управляющего, тот выстрелил из револьвера и ранил Оржовецкого в щеку. Толпа потащила управляющего с лошади, управляющий поднял коня на дыбы, еще раз выстрелил и удрал. Врача поблизости не было, фельдшера тоже. Кровь из раны хлестала, жена Оржовецкого плакала и прикладывала к ране землю, стараясь унять кровь. — Тряпки нет чистой? — спросил Дзержинский. — Да перенесите его в хату. Что он тут лежит! И голову повыше. Он сам взял Оржовецкого сзади под мышки, приподнял и велел рябому мужичонке взять раненого за ноги. Раненый застонал. — Каты,
чтоб вы света божьего не видели! — закричала старуха, мать Оржовецкого. В хате его положили на широкую скамейку. Дзержинский ножницами остриг ему бороду и стал при свете керосиновой лампешки рассматривать рану. В хате сделалось тихо, только плакала старуха мать. — Пустяковая рана, — сказал Дзержинский. — Сейчас мы ее потуже затянем, и кровь остановится. Сорочку какую-нибудь порвите… Кровь действительно быстро остановилась. Раненый перестал стонать. Старуха мать пришла в себя и удивленно спросила: — Вы что же — лекарь? А такой молоденький. Завязался разговор. С улицы пришел длинный всклокоченный человек и сказал, что будто бы назавтра приедут из города каратели и будут каждого десятого пороть. Никто не поверил, длинного подняли на смех. — А мне что, — говорил он, — за что купил, за то и продаю. Только те бычки нам повылезут через бок. От посмотрите. Мужчины вышли из своих хат, сели на бревна, закурили трубки. Настроение было тревожное. Несмотря на поздний час никто не спал. — В экономии много работает людей из села? — спросил Дзержинский. — Та человек две сотни есть, — сказал из темноты чей-то бас. — И сейчас работают? — Тем кормятся. Чей-то звонкий голос сказал со злобой: — Не бычков надо было резать, а кого другого. — Двести человек завтра не должны выходить к помещику на работу, — сказал Дзержинский. — Если они не выйдут, работы остановятся и помещик начнет уступать. Двести человек — большая сила в экономии. Некому будет поить коней, доить коров, выгонять скот, работать в поле… — Я ж давно говорил, — опять сказал звонкий голос, — я ж давно говорил. Вот он, умный человек, советует, то и я советовал. Начали спорить. Кривой старик сказал, что это не годится, что это вроде бунта. — А что плохого в бунте? — спросил звонкий голос. Теперь Дзержинский разглядел этого парня со звонким голосом. Он был молод, немного курнос, брови у него были неровные, с изгибом, глаза упрямые, блестящие. Спорили долго. Когда взошла луна, возле дома раненого Оржовецкого собрался сход и постановил: на работу к помещику завтра не выходить, а кто пойдет, того поймать и запереть в амбар на замок. До парома Дзержинского провожало человек шесть крестьян. Опять пиликала гармошка. Ян — так звали парня со звонким голосом — шел рядом с Дзержинским, посмеивался, пошучивал, потом тихо спросил: — Значит, бастуем? — Откуда вы знаете это слово? — спросил Дзержинский. — Оттуда, откуда и вы. — Усмехнувшись, он добавил — Я в городе работал, на фабрике. Потом машина три пальца оттяпала, выгнали. Вернулся домой. Было время — и я бастовал. У перевоза попрощались. Дзержинский крепко пожал искалеченную руку парня, обещал наведываться в село. Когда Дзержинский вернулся, на террасе еще играли в карты, а из залы доносились звуки и тенорок хозяина, певшего с дрожью в голосе:
Облекся мир волшебной дымкой,
Ничто в саду не шелохнет.
Но чу! Волшебной невидимкой,
Скрываясь, соловей поет…
— Кто идет? Остановись! — крикнул подпоручик, тасуя карты. Дзержинский остановился. — Откуда вы? — спросила хозяйка, вглядываясь в темноту парка. — Гуляли? Идите к нам, у нас очень весело. Дзержинский поднялся по ступенькам на террасу. Здесь были новые люди: становой пристав, еще не старый человек с апоплексической шеей и с золотыми зубами, и чрезвычайно аккуратного вида молодой офицер с длинной, как огурец, головой и очень белыми короткопалыми руками. Подпоручик представил Дзержинского гостям: — Учитель моего племяша. Офицер щелкнул шпорами и сказал, пришепетывая: — Лемешов. — Подзенский, — сказал пристав, сверкнув золотыми зубами, — очень приятно. Из залы на террасу вышел хозяин, взял Дзержинского под руку. — Слышали новость? Чуть моего управляющего не убили. — Да, я слышал, — неторопливо ответил Дзержинский, — но вы уже приняли меры. Он кивнул на офицера и пристава. — Пришлось вызвать роту, — сказал хозяин. На одну секунду глаза их встретились. В темных зрачках гимназиста блеснул огонек и тотчас же погас. Он поправил рукой легкие, рассыпающиеся русые волосы, поклонился и, сказав, что ужинать не будет, ушел к себе. Окно в его комнате было открыто, лампа не горела, из парка тянуло свежестью и крепким, холодным запахом распускающейся сирени. Не зажигая огня, Дзержинский лег на подоконник и долго смотрел на тяжелые купы деревьев, на поблескивающие под ровным светом полной луны луга, на неподвижную воду пруда… Все было тихо, неподвижно, спокойно. Так он пролежал долго — до самой зари, а когда небо на востоке посветлело и спустилась роса, он встал, накинул шинель и, стараясь не скрипеть половицами, вышел из дому, отправился на молочную ферму экономии. Было четыре часа. Обычно в это время из села в экономию уже идут один за другим батраки, но сейчас дорога была пустынна. Возле фермы Дзержинский встретил управляющего. Немец приветливо снял шляпу, но лицо у него было озабоченное и невеселое. — Нехороший день, — сказал он, — совсем нехорошее начало. — А что? — спросил Дзержинский. — В экономии — ни души, — сказал немец, — не вышли на работу. А те батраки и батрачки, что были, снялись и ушли к себе в село. Как вам это нравится? — Мне это очень нравится, — серьезно ответил Дзержинский. Немец поморгал, потом решил, что гимназист шутит, и засмеялся, качая головой. — Никакого порядка нет, — сказал он. — Русских мужиков надо пороть. И русских, и польских, и литовских. Солеными розгами. Тогда будет хороший порядок. — А вы не боитесь, что вас убьют? — спросил Дзержинский. Управляющий достал из заднего кармана кожаных штанов большой плоский пистолет, подбросил его и, схватив за ствол, сказал: — Ха! Как это называется? Семизарядный и бьет человека навылет. До свидания. Он пошел к дому, а Дзержинский проводил его глазами и зашагал на ферму. У ворот молочной фермы, как возле казармы или порохового склада, стоял часовой с ранцем, со скаткой, с винтовкой. — На военном положении ферма? — поинтересовался Дзержинский. — Так точно, — стрельнув по сторонам озорными карими глазами, сказал солдат. — Бунта опасаются. А какой бунт? Я сам с этих мест, народ наш тихий… — Пороть, говорят, будут? — спросил Дзержинский. — Кого? — Крестьян. — Пороть? — Ну да. Солдат со злобой плюнул, потом сказал: — Наше дело маленькое. Кого надо, выпорем. Прикажут — родного отца пороть будем. Служба! Присев на скамью возле ворот, он поставил винтовку между ногами и свернул махорочную самокрутку. Потом, вкусно затянувшись дымом, спросил: — Не из студентов часом? — Нет. — А из кого? — Из гимназистов. — Так, — задумчиво сказал солдат. — А чего рано ходите? — Не спится. — Чего же вам не спится? — Вот вы людей сегодня будете пороть, — сказал Дзержинский, — какой же тут сон! — А вам-то что? Дзержинский сел рядом с солдатом на скамью. Из всех батраков и батрачек, работавших в имении помещика, пришли в это утро на ферму только трое: глухонемой Артемий, страшной силы человек, крикливая пьяница-солдатка Зоська и тихий, со сладким голосом и голубыми глазами, нечистый на руку Пандурский. На скотном дворе творилось нечто небывалое: мычали недоенные коровы, ревели быки, которых некому было поить, блеяли козы. Недоенных коров не решались гнать на пастбище, а доить было некому. Быков следовало выгнать в поле, но трусливый Пандурский боялся свирепых, да еще непоенных животных, устрашающе гремящих цепями. Выпустили овец, те рванулись из ворот и, глупо блея, без пастуха побежали по дорожке к парку. Обычно стадо гоняли три-четыре пастуха, сейчас не было ни одного. Ворота в парке оказались открытыми — овцы тотчас побежали декоративной дорогой, специально сеянной травою. Из дому кинулись за овцами горничная, старик лакей и поваренок Фомка, но в эту минуту в парк ворвались один за другим четыре быка, неизвестно кем выпущенные из сарая. Горничная завизжала, овцы помчались по клумбам, разбился на куски огромный стеклянный шар, украшавший цветник. Подпоручик выскочил на террасу в белье, с револьвером и, не разобрав толком, что случилось, стал палить по овцам. В одной шинели выскочил становой, решил, что по парку мечется бешеный бык, сорвал со стены английский охотничий карабин и наповал свалил лучшего быка фермы — племенного, два раза премированного. Стась, забравшись на стол, таращил круглые глаза и кричал дурным голосом: — Бей! Круши! Бей! Ломай!.. Наконец выскочил на крыльцо хозяин дома, схватил себя за голову и простонал: — О, идиоты!.. Кто-то прыскал матери Стася в лицо водой, подпоручик хохотал, становой разводил руками и говорил: — Простите великодушно, я спросонья никогда ничего не понимаю. Как обычно, в десять часов утра Дзержинский сел заниматься со Стасем. Несмотря на то, что и учитель, и ученик были взволнованы, занятия шли удовлетворительно. Стась прилежно, высунув язык, решал задачи, но изредка бегал к окну и сообщал: — Быка еще не убрали. Потом вдруг хохотал и говорил: — Вы бы видели, что там делалось! У меня до сих пор болит живот от смеха. А папа сказал, что этот день довел его до белого каления. Феликс Эдмундович, что такое бе-ло-е ка-ле-ние, а?
Днем становому подали рессорную коляску, и он уехал в село чинить суд и расправу, то есть выяснить, кто именно «тюкнул» трех помещичьих быков. С собою он взял двух стражников — бородатых, угрюмого вида мужиков с бляхами — и двенадцать человек солдат понадежнее. Вернулся он довольно скоро, выпил рюмку водки и сказал, оскалив золотые зубы: — Выпорем соколиков завтра при всем честном народе. — Нашли? — спросил подпоручик. — Да разве найдешь! — ответил становой. — Спущу шкуру с каждого десятого — перестанут небось колобродить. Дзержинский сидел бледный, покусывая губы. У Ста-я горели щеки. Мать Стася вздохнула. — Это ужасно, это ужасно. Надо быть милосердными. — К кому милосердными? — грубо спросил подпоручик. — Домилосердствовались до открытого разбоя — радуйтесь! Второй завтрак прошел в молчании. Офицер с головой, напоминающей огурец, вдруг прокашлялся и сказал, что его солдаты могут с вечера заняться всеми хозяйственными работами по имению. — Они у меня молодцы, — говорил он, ставя точки там, где их вовсе не полагалось. — Славные ребята. Я их не мармелажу. Военных нельзя нюнить. Слуги отечеству. Царю слуги. Дрессированные, как обезьяны. На смотру имел благодарность. Бригадный генерал благодарил. Нет, с капустой. Не ем.
После завтрака Дзержинский пошел в село, но недалеко от реки, в поле, встретил Яна. — Завтра будут пороть, — сказал Дзержинский, — а сегодня на работы станут солдаты. Подослали бы в роту кого побойчее. — Уже посланы. — Ну и что? — С ночи послали. Разговаривают. — Поосторожнее бы надо. — Сейчас сам туда пойду, — сказал Ян, — может, кого из виленских там встречу… А ночью мужики наши в лес подадутся. Черта их там найдешь. Бурелом такой — одни медведи гуляют. Пересидят пока что. Солдаты небось не век здесь торчать будут. Легли на траву возле дорожки. Ян закурил. — Надоело, — говорил он, глядя в голубое, ясное, высокое небо, — живем хуже зверей. Управляющий помыкает, приказчик помыкает, сам помещик помыкает. Люди мы или нет? Или мы, может, вовсе и не люди? Как это — пороть! Как это так: почтенного мужика и, здрасте, пожалуйста, драть как сидорову козу. Может, я с ума сошел? Может, все это мне привиделось? Он сел, далеко забросил окурок и лающим от волнения голосом сказал: — Всех под корень истребить надо, все крапивное семя извести. Или, может, убить станового? — Другой на его место найдется, — сказал Дзержинский, — а делу повредишь. Чего-чего, а жандармов у царя покуда что хватит.
Постепенно, час за часом, пустел дом. Дворня, имеющая в селе родню, задами, так, чтобы не попасть на глаза хозяевам, уходила за речку. Ушел хромой повар Иосиф, ушла кухарка, ушли два конюха, поваренок Фомка и помощник садовника. Незадолго до обеда на террасу явился садовник, старый, всеми уважаемый Ядрек. Держа в руках картуз и низко наклонив кудрявую седую голову, он сказал, что уходит по приказу общества. — Какого общества? — бледнея от бешенства, спросил помещик. — Что вы все, с ума посходили? — Никак нет, не посходили, — твердо ответил Ядрек. — Но как я сам есть крестьянин, то иду до крестьян. С ними у меня праздник, с ними у меня горе. — Больше можешь не являться! — крикнул отец Стася. — Слушаю, пане. Низко поклонившись, старик ушел, и все долго молча смотрели на его удаляющуюся спину в ярком вязаном жилете. — Пане учитель… Дзержинский повернул голову. Посмеиваясь углом рта, подпоручик медленно говорил, обращаясь не то к Дзержинскому, не то к своему соседу — становому. — Наш друг пан Дзержинский, я вижу, очень доволен. Уж не первый раз я наблюдаю за ним. Пану Дзержинскому так нравятся наши затруднения, что он даже не спит по ночам. Представьте себе, управляющий сказал мне, что встретил пана учителя сегодня в четыре часа утра возле молочной фермы… А? Как вам это нравится? Может, наш учитель — революционер? Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если бы Стась, сидевший на балюстраде террасы, не сказал вдруг тихим, испуганным голосом: — Мам, пожар! Поручик подбежал к балюстраде. Остальные бросились в парк. Слева от дома, за клумбами, к ярко-голубому небу поднимались густые черные столбы дыма. С матерью Стася началась истерика. Подпоручик, цепляясь шпорами, метался по террасе и кричал: — Люди, люди, пожар! Люди! Но никто не шел. Дом был пуст. Старик лакей Игнат, один оставшийся от всей дворни, спал в своей комнате, напившись вишневки. Солдаты были далеко: караулили границы имения. — Надо верхового в село, — сказал становой. — Седлайте, господин Дзержинский, лошадь, скачите в село. — Никуда я не поеду, — ответил Дзержинский. — Какой дурак поедет сюда выручать из пожара этакого помещика? — Что-с? — То, что слышали. Никто не понимал, что происходит. Наконец на лошади примчался управляющий и сказал, что горит коптильня и занялась сыроварня, дал коню шпоры и по клумбам умчался созывать солдат. Отец Стася сидел в соломенном кресле, бледный, как полотно, обмахивался шляпой и говорил: — Всему конец, всему конец. Солдаты шли на пожар неохотно, поодиночке, посмеиваясь и переговариваясь друг с другом. Долго искали ключи от пожарного сарая, а когда управляющий сказал, что надо ломать замок, белозубый солдат с родинкой возле рта ответил усмехаясь: — Что вы, ваше благородие, такой замок ломать… — Ломай, скот русский! — заорал управляющий, наступая на солдата конем. — Застрелю собаку! Солдат вдруг блеснул глазами, поднял над головой лом и крикнул: — Осади! Потом, швырнув ломик о землю, отошел в сторону и, вытирая руки, сказал: — Сам ломай, я тебе не слесарь. И тотчас же затерялся среди других солдат, косо поглядывающих на управляющего. Когда выкатили наконец пожарные бочки, оказалось, что нет шлангов, а когда нашли шланги — стали искать ведра. Коптильня уже догорала: с грохотом обрушилась крыша, пламя на мгновение взвилось высоко вверх, потом начало лизать стенку сыроварни… К вечеру хватились глухонемого Артема. Его нигде не было. Становой решил, что Артем поджег коптильню и убежал, и повел следствие. Оказалось, что никуда Артем не убегал, а просто-напросто пошел спать в коптильню, настлал себе сена, уснул с трубкой в зубах. Горячий пепел высыпался из трубки, загорелось сено. Артем проснулся в огне, выскочил из пылающей коптильни и прыгнул в пруд. Волосы и одежда на нем сгорели. Нашли его в крапиве за сараем, он упал там без памяти. К ночи глухонемой умер. Сыроварня медленно догорала. Солдаты нехотя таскали воду, без толку лили ведро за ведром в раскаленные уголья. Управляющий, с почерневшим за день лицом, сам запрягал тележку — ехать в дальние экономии за поденщиками. Коровы до сих пор стояли недоенные, коней из жалости поили солдаты, в доме не было даже воды, — мыться бегали на пруд. Лемешов, командир роты, говорил становому: — Ничего не понимаю. Коров доить вдруг не умеют. Фельдфебеля умеют, а солдаты нет. Никого. Не соберешь. Дисциплина падает с каждым часом. Уже двоих солдат по морде бил. Ничего. Никакого порядка.
Собрались в кухне у Яна, затворили окно и завесили рядном. Ян зажег маленькую лампочку, поставил угощение — тарелку творогу, молоко и щербатые чашки. Из новых были: приехавший на побывку в родные места слесарь из Вильно Марлевский — с ним Дзержинский не раз встречался в городе; сельский учитель Янушевич; машинист из экономии Маслов и, наконец, солдат из роты Лемешева, здешний, сын кузнеца Акимов. Марлевский приехал утром, и его сразу же закрутили события. Это был невысокий, коренастый человек с залысинами, с круглым лбом и с маленькими умными глазами. Небольшими глотками он прихлебывал молоко и слушал Дзержинского, изредка поглядывая на него с одобрением, и, как бы соглашаясь, иногда наклонял крутолобую голову. Маленький Янушевич жадно курил; глаза его под лохматыми бровями поблескивали, он барабанил по столешнице и часто говорил: — Это точно, это уж факт. Маслов и Акимов молчали, и только когда Дзержинский предложил немедленно от руки размножить прокламации, оба в один голос сказали: — Давайте. Прокламация была предназначена к распространению в роте. Текст ее был уже составлен Марлевским. Он встал и прочитал прокламацию негромким, взволнованным голосом. Потом все наклонились над столом и стали вносить поправки. Когда текст исправили, Марлевский опять прочитал листовку вслух. Стало значительно короче и проще. Никто не говорил об опасности распространения такой прокламации в роте. Худой, носатый Акимов, покашливая, сказал: — Большой взрывчатой силы бумажка. Поставит мозги кой-кому на место. Размножали до двух часов ночи. Писали печатными буквами. Перья были плохие, ржавые, чернила грязные. К двум часам сотня была готова. Акимов сложил все в пачку, сунул ее под широкий ремень, сделал глупое лицо, откозырял и — кругом марш — вышел из хаты. Остальные выходили поодиночке, чтобы не обратить на себя внимания. Улицы села были непривычно оживленны, скрипели телеги. Крестьяне группами уходили из села.
Ранним утром из экономии на тележке увезли под конвоем двух солдат. Конвоировали фельдфебель и стражник: на солдат больше не надеялись. А часов в восемь утра из дому вышел Лемешов в походной форме. Ординарец держал коня под уздцы. Лемешов сел в седло. Где-то неподалеку ротный горнист играл «поход». Дзержинский вышел на крыльцо. На ступеньке стоял отец Стася в пушистом халате, в ночных туфлях. Конь под Лемешевым играл. Натягивая желтые ремни, Лемешов горячил коня и, кривя рот, говорил: — За ночь, за одну ночь! Что осталось от роты? Имел благодарность от бригадного генерала. А теперь? Получу разнос. Благодарю покорно. Какие-то листочки. Ходят по рукам. Предпочитаю закрыть глаза. Извините, подальше от греха. — Что же мне-то делать? — уныло спросил отец Стася. — Вам — свое, мне — свое. Вам — имение, мне — рота. Мне хуже. У вас — средства. У меня — пшик. Да. Благодарю покорно. Он прижал короткие белые пальцы к козырьку и пришпорил коня. Конь рысью понесся из парка на проезжую дорогу. Там, за дубками, блестели на солнце штыки: рота выстраивалась к походу. — Видали? — сказал помещик Дзержинскому. — Можете меня поздравить: этот фанфарон испугался и уводит роту в город. Он сел в соломенное кресло и, сжав голову руками, воскликнул: — Ну, научите же, научите, что делать! Вы молоды, мозги у вас не устали. — Вам следует отдать крестьянам скот, — сказал Дзержинский, — и немедленно. Заплатить им за эти дни. Уволить управляющего — негодяя. Взять на себя уход за известным вам раненым… — Все? — Пока что — да. — Как это понять: пока что? — Вы же отлично меня понимаете, — сказал Дзержинский. Помещик помолчал, подумал. — Пожалуй, это верно, — сказал он, — пожалуй, вы правы… Другого выхода нет. Посмеиваясь, он прибавил: — А вы — опасный человек. Нажаловаться на вас становому? Живо упрячут в тюрьму! Как? Нажаловаться? — Попробуйте. — Не боитесь? — Нет, — сказал Дзержинский. Помещик с любопытством глядел в лицо Дзержинскому. — И тюрьма не страшна? — Нет. — И ссылка? — И ссылка. — И каторга? — Послушайте, какое вам до всего этого дело? — спросил Дзержинский. — Мне просто интересно, какую силу представляют собой революционеры, — сказал помещик. — В конце концов надо себе давать отчет в происходящих событиях. Может быть, когда-нибудь ваше имя станет известным. Мне приятно будет вспомнить, что я разговаривал с вами… А? Он засмеялся баском, прищурил свои водянистые глаза и спросил: — Может быть, протекцию окажете? Оскудевшему помещику? А? Когда ваша возьмет, окажете протекцию? — Нет, — сказал Дзержинский, — не окажу.
Вечером крестьянам был возвращен скот. Мужчины вернулись из леса. К Оржовецкому приехал врач. Помещик вместе с сыном прикатил в село, собрал сход, снял шляпу и сказал крестьянам: — Предлагаю вам, господа, мир. Повздорили — и ладно. Как говорит русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. — А кто старое забудет, тому оба вон, — сказал из толпы сиплый голос. Помещик слегка покраснел. — Я все ваши просьбы выполнил, — сказал он, помолчав, — и теперь предлагаю мир на вечные времена. Крестьяне молчали, хмуро поглядывая на сытую, в чесучовом костюме, фигуру помещика. Стась, одетый матросом, сидел в экипаже поодаль, круглыми глазами наблюдал непривычное зрелище: отец как бы извиняется перед мужиками. Что такое? Помещик молчал, крестьяне переминались с ноги на ногу и тоже молчали. Лица их были измученные, злые. Возле церковной ограды судачили и шептались бабы. — Так вот так-то, — сказал помещик, надевая шляпу. — Значит, мир. Он сел в экипаж, ткнул кучера в спину и тихим, бешеным голосом сказал: — Пошел, болван.
Занятия со Стасем шли отлично. Дзержинскому с его колоссальной силой воли и страстностью удалось преодолеть лень и избалованность мальчика. Стась сдался и начал учиться с увлечением. Прошла неделя, другая. В имение стали осторожно забегать сельские ребята, и Дзержинский в часы, свободные от занятий со Стасем, возился с ними, выбирая для этого отдаленные уголки парка. Ребята ложились на траву вниз животами и, уткнувшись носом в тетрадь, старательно решали арифметические задачи с гарнцами, цыбиками и ведрами, мусолили карандаши, сопели. Дзержинский сидел тут же, сложив по-турецки ноги, сворачивал папиросы дешевого табаку и курил из деревянного мундштука. Заглядывая в тетради, говорил: — О брат, чего ты тут пишешь? Не то пишешь. Откуда у тебя эта цифра взялась? А ну, пересчитай. Или: — Ты, что, Петро, заснул или как? Может, тебе подушку принести? Или вдруг: — А не искупаться ли нам, ребята? Самое время. И все бежали к пруду, толкаясь и хохоча. Пруд был глубокий, большой, обсаженный ивами. Раздевались с гамом и визгом, выстраивались вдоль берега в шеренгу и замирали в веселом ожидании. — Смирно! — командовал Дзержинский. — Смирно и тихо! Это был самый любимый, всегда вызывающий дикий восторг номер: раздевшись, Дзержинский взбегал на горку за спиной шеренги и, крикнув: «Раз, два, три!»— бежал вниз, перепрыгивал через цепочку ребят, ласточкой сложив руки, летел, как стрела, выпущенная из лука, и с глухим всплеском исчезал в воде. — Раз, два, три, четыре… — считали, замерев, ребята. Поверхность пруда была спокойна, чиста, неподвижна. — Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… Тихо, тихо вокруг. — Двадцать один, двадцать два, двадцать три… И вдруг где-то далеко и всегда неожиданно — то возле гнилой скамейки на том берегу, то у лодок за купальней — появлялась мокрая голова Дзержинского. — Сегодня пятьдесят шесть! — кричали ребята. — А вчера было шестьдесят три! Плывите сюда, дядя Феликс! — Как плыть? — спрашивал Дзержинский. — Брассом. — Нет, саженками! — По-лягушечьи!.. Дзержинский приплывал, и начиналось общее купанье. Ныряли, возились, плавали. Приходилось по очереди учить плавать тех, кто не умел. Широко расставив ноги на вязком дне, Дзержинский брал мальчика на ладонь под живот, и начиналось обучение. — Ногами, ногами работай, — говорил он, — да не пыхти, как паровоз, а дыши ровно. Выгонять из воды было трудно, ребята синели, но говорили, что им все еще жарко. Потом, мокрые, шли опять заниматься, а в заключение просили Дзержинского рассказать какую-нибудь историю.
Всех своих учеников Дзержинский знал по именам, знал их родителей, знал обо всем, что делалось у них дома, а бывая в селе, заходил в гости и подолгу сидел у кого-нибудь в низкой хате, беседовал. С напряженным вниманием слушал он рассказы о том, как жили тут раньше, каков был прошлый пан, как дерет за каждую требу ксендз и какой плохой человек русский священник. Постепенно Дзержинского перестали стесняться. Веселый, простой, умеющий слушать, в селе он стал своим человеком. И о голоде рассказывали ему, и о том, как надо печь хлеб пополам с корьем, со жмыхом, с отрубями. Покуривая, он качал головой, переспрашивал, и было видно по его лицу, что он не просто любопытствует, а что это ему интересно, что решительно все он запоминает, обдумывает. Подолгу засиживался Дзержинский у Яна. Там читали Маркса, горячо обсуждали, волновались, спорили. Больше всех спорил сельский учитель Янушевич. Спорить с ним было не очень приятно: он раздражался, голос у него делался каркающим, на каждый довод возражал: «Это глупость». Во всем он винил русских, говорил, что у польских революционеров другие цели, чем у русских, считал, что русских надо изгнать из Польши и что до тех пор, пока в партии будут вместе и русские, и поляки, каши не сваришь. Однажды, когда расходились по домам, он, поотстав от других, сказал Дзержинскому: — Зачем вам москали? Зачем вам Маслов? Надо вывести русских из нашей среды, надо бороться с русским засильем, надо объединяться с поляками… Начался спор. Дзержинский сказал: — Рано или поздно эта ваша философия приведет вас в стан наших врагов. Подумайте, Янушевич. Вы заблуждаетесь, очень заблуждаетесь. — А вы продаете Польшу. Дзержинский остановился. — Я никогда никого не продавал, — сказал он спокойно, — а вот вы обязательно продадите польских рабочих и крестьян панам и фабрикантам… На этом разговор кончился. Янушевич перестал бывать у Яна. Встречая Дзержинского, он не здоровался с ним, но зато начал появляться в доме у помещика. В имении ничего не менялось, разве что появились новые люди. Часто приходил к обеду молодой длинноносый ксендз. Обедал иногда и Янушевич. Он являлся в высоком, до ушей, воротничке, в вычищенных до ослепительного блеска ботинках, застегнутый на все пуговицы. Хмуря густые брови, он говорил хозяевам: — Поймите меня, пане. Я прихожу к вам не как к помещикам. Я прихожу к вам как к патриотам. И мне приятно видеть здесь только польское, чистое, ясное… За глаза над ним посмеивались, но когда он приходил, отец Стася после обеда уводил его к себе в кабинет, и они подолгу там разговаривали. Нередко в кабинет заходил и ксендз. В августе Янушевич организовал свой польский кружок. Кружок вначале был очень маленький, но с каждым днем все расширялся. Дзержинский, Ян, Маслов недоумевали, а потом выяснилось, что Янушевич поит своих патриотов пивом и что некоего хромого парня, по кличке Козел, Янушевич даже ссудил деньгами. Еще через некоторое время стало известно, что пан помещик сам бывает на занятиях кружка, поет там гимн и рассказывает разные случаи из истории Речи Посполитой. Члены кружка Янушевича пользовались в экономии разными льготами, кое-кого сделали приказчиками, одному управляющий дал в долг подтелка, другому — лес на новую хату, третьему — хлеба. Как-то, повстречавшись на пароме с Янушевичем. Дзержинский сказал ему: — Ох, Янушевич, грязное дело затеяли… Янушевич отвернулся и промолчал.
Поручик, брат помещика, уехал в полк. Дело шло к осени. В полях убрали хлеб, ночи были темные, с крупными звездами, дни прозрачные, ясные. Стась учился хорошо. С его отцом отношения Дзержинского портились не по дням, а по часам. Но однажды за послеобеденным кофе помещик вдруг сказал Дзержинскому: — Переходите к нам. Янушевич — бездарный болван. Вы будете у нас самым главным человеком. Сначала у нас, потом в Вильно, потом по всей Польше. Вы ученый, талантливый; зачем вам каторга, ссылка, тяжелая, безрадостная жизнь? Вам это совсем не нужно. А мы сделаем вам невероятную карьеру! Идет? Дзержинский молча встал из-за стола и ушел. Через несколько дней вечером ему подали коляску. Стась был заранее отправлен в гости к соседу-помещику. Не прощаясь с хозяевами, Дзержинский вышел на крыльцо и сел в коляску. Только что прошел дождь, парк дышал свежестью, у пруда на разные голоса кричали лягушки. — Не провожают? — усмехнувшись, спросил кучер. — Не провожают, — ответил Дзержинский. Кучер подобрал вожжи. Потряхивая головами, позванивая сбруей, побежали лошади. У выхода из парка стайкой стояли ребята из села — босые, белоголовые. Кучер остановился. Дети полезли в коляску, один сел на козлы, другой — на рессоры сзади. Лошади опять побежали. Ребята сидели молча, пришибленные, не зная, о чем говорить. — Приедете до нас еще? — спросил один, самый маленький. — Может, приедете, дядя Феликс? — Вряд ли, — сказал он. Подъехали к речке, к знакомому перевозу. Ребята хором закричали: — Давай парома! Канат заполоскал в воде, паром двинулся. Было тихо, река блестела, как зеркало, кустарники лозняка, вербы отражались в неподвижной воде. Переправившись через реку, Дзержинский и кучер закурили. — За работу-то заплачено? — полюбопытствовал кучер, повернувшись на козлах. — Заплачено, — сказал Дзержинский. — То-то. А то бывает, что и не заплатят. — Бывает, — согласился Дзержинский. В селе, у хаты Яна, Дзержинский велел кучеру остановиться. Ян и Маслов вышли на крыльцо. Лицо у Яна было грустное. Маслов посмеивался. — Вон заныл, — сказал Маслов, кивая на Яна, — дескать, что мы без Феликса будем делать. — Я вам свой адрес оставлю, — сказал Дзержинский. — Пишите мне обо всем подробно. Книги пришлю. Прочитайте — отсылайте мне обратно: у нас в организации с книгами трудно. И приезжать в город тоже следует. Живая связь всегда лучше переписки, Когда приедешь, Ян? — Да месяца через два приеду. — И отлично. Теперь насчет Янушевича и его подголосков. Их надо всеми способами разоблачать перед крестьянами. Пусть народ видит, что это продажные шкуры… Ну, мы об этом не раз говорили. И последнее вот что: пишите корреспонденции в газету нашу. Обо всем. Все интересно. Слышишь, Ян? — Ладно, — сказал Ян. — И ты, Маслов, пиши. — Обязательно. Дзержинский сел в коляску. Потом, вспомнив, добавил: — И Феликса нигде не спрашивайте. Не найдете. У меня есть партийная кличка — Яцек. Запомнили? Будете искать Яцека. — На поезд опоздаем, — напомнил кучер. — Что ж тебя твой Стась не провожает? — спросил Ян. — А что ему, — сказал Дзержинский, — его в гости отправили. Он помахал на прощание рукою. Ребята опять набились в коляску. Уже совсем стемнело. Лошади бежали рысью, огни села делались все меньше и меньше, потом совсем исчезли. — Ну, ребята, вылезай! — сказал Дзержинский. — Так и не приедете? — опять спросил тоненький голосок. — Не приеду. Приезжайте вы ко мне в Вильно. Дорогу-то домой найдете? — Найдем. Вылезли. Дзержинский повернулся в коляске и долго глядел вслед маленьким фигуркам. Ребята часто оглядывались, махали ему руками. — Живите веселее! — крикнул Дзержинский. — Е-ее!.. — донесло эхо в ответ. Кучер хлестнул коней. Дзержинский накинул на плечи старую, потертую гимназическую шинель, надвинул фуражку на глаза и задумался. Во тьме над белеющей дорогой с жалобным и длинным криком пронеслась какая-то ночная птица. Легкий ветер прошумел над бесконечным полем. Кучер запел:
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют…
— Ох, жизнь, — вдруг с тоской в голосе сказал он, — жизнь окаянная…
КОФЕ С ПИРОЖНЫМИ
Они встретились в Варшаве, в парке, в морозный зимний вечер и сразу узнали друг друга, несмотря на то, что не виделись много времени.
Поцеловались и смущенно помолчали. Никогда раньше они не целовались.
— Вот так встреча, — наконец сказал Россол.
— Да уж, — ответил Дзержинский.
Они стояли в широкой аллее парка, над ними свешивались ветви деревьев, покрытые инеем, их толкали люди, бегущие на каток и с катка. Внизу, на озере, гремел духовой оркестр, празднично блистал изрезанный коньками лед, сквозь ветви деревьев были видны легкие и стройные фигуры конькобежцев.
— Что ты тут делал? — спросил Дзержинский.
— Смотрел. А ты?
— Я шел смотреть.
— Пойдем покатаемся, — предложил Россол.
— Нельзя. В таких местах можно легко наскочить на филера. Посидим тут.
Сели на холодную, обмерзшую скамью. За то время, пока они не виделись, у Россола ввалились щеки, глаза смотрели теперь жестче, злее, подбородок стал выдаваться вперед.
— Что с тобой, Антон? — спросил Дзержинский. — Ты похудел, изменился.
— Болен, — коротко ответил Россол.
— Чем?
— Чахоточкой, как говорит один мой знакомый фельдшер.
Россол усмехнулся, боком взглянул на Дзержинского и вдруг сказал:
— Я тебя очень люблю, Яцек.
— И я тебя очень люблю, — просто и спокойно ответил Дзержинский. — И у меня есть одно предложение тебе — угадай какое?
— Поехать в Италию лечиться, — грустно улыбнулся Россол, — или не верить врачам, которые все врут. Да? Это ты хотел сказать?
Но Дзержинский хотел сказать совсем не это. Поблескивая глазами, он предложил устроить пир в честь свидания друзей. Идет? В конце концов, один раз в жизни можно себе позволить небольшой пир. Черт побери, уже полгода он не ест досыта! И, кроме того, ужасно хочется кофе. Натурального черного кофе. Он так согревает и так поддерживает силы! Не правда ли?
Шли медленно, не торопясь, вспоминали Ковно, Вильно, тамошние фабрики, стариков сапожников, работу, юность.
Разговаривая и вспоминая, вышли из парка на улицу и остановились у кафе, которое показалось им недорогим.
— Сюда? — спросил Дзержинский.
— Сюда, — решительно ответил Россол. Дзержинский оглянулся: сзади было «чисто», как говорили в тех случаях, когда по следу не шел филер.
Россол отворил тяжелую дверь с цветными стеклами и первым вошел в низкое сводчатое помещение, в котором седой и благообразный швейцар снимал с посетителей пальто и шубы.
— Снимем пальто?
Швейцар уже вышел из-за загородки и стоял, готовый принять платье гостей.
— Снимем, — согласился Дзержинский.
Раздеваться было очень неприятно, куртка Дзержинского была подбита протертым «рыбьим мехом», с большими лысинами, а главное, у нее сегодня, как назло, оторвалась подкладка рукава — вата вместе с какими-то тряпочками, — и все это висело на нитках как нечто самостоятельное и к куртке не имеющее никакого отношения.
Приняв си Дзержинского куртку и назвав ее почему-то рединготом, швейцар вправил ей рукав, покачал головой и начал раздевать Россола — снял с него тоненькое потертое пальто, потом ватный пиджачок солдатского образца, потом стеганый на фланели жилет. Лицо у швейцара сделалось непроницаемым.
Кафе было маленькое и почти пустое. Под матовыми колпаками горели газовые лампы. В красном кирпичном камине жарко потрескивали смолистые поленья. Столик у камина, покрытый свежей скатертью, был свободен, и приятели, усевшись, протянули ноги к огню. Потом оглядели друг друга.
— Почему это на тебе студенческая тужурка? — спросил Дзержинский.
— Купил у старьевщика, — ответил Россол. — Нельзя же ходить голым.
Только здесь они оба почувствовали, как устали за этот день, как продрогли, как хочется поесть и погреться возле камина у огня.
— А тут шикарно, — сказал Россол. — Я бы с удовольствием просидел здесь целый вечер.
— Даром не позволят сидеть, — произнес Дзержинский. — Если сидеть, так надо есть и пить.
Подошла официантка с крахмальной наколкой на голове и в крахмальном белом фартучке.
— Дайте карту кушаний, — сказал ей Россол с таким видом, точно всю жизнь только и делал, что болтался по кафе.
И, прищурившись, стал читать названия кушаний — мясных, рыбных, овощных, которые шли в карточке перед сладкими, пирожными и печеньями.
— Нет, мясо на ночь тяжеловато, — сказал Дзержинский, хоть с утра он ничего еще не ел, кроме пирога с печенкой, купленного утром у торговки на улице, — мясо не стоит, вот разве что-нибудь легкое из рыбы. Прочитай-ка, что у них есть рыбное…
Россол прочитал еще раз, но они так ничего и не нашли подходящего и остановились на двух яичницах с колбасой.
— Это, пожалуй, будет полегче, — согласился Россол.
После яичниц они заказали по стакану кофе — Дзержинский черного, а Россол со сбитыми сливками — и по пирожному. Пирожные пошли выбирать к стойке.
Каких тут только не было пирожных: миндальные, и ореховые, и шоколадные, и слоеные, и корзиночки, и с заварным кремом, и с сахаренными фруктами… Выбирать пришлось довольно долго.
— Мне вот это — с кремом и с фисташками, — сказал наконец Россол, — на вид оно довольно привлекательное, каково-то будет на вкус…
— А мне миндальное, — сказал Дзержинский.
Они вновь сели у камина. Но официантка в наколке все не уходила…
— Почему она не уходит? — шепотом спросил Дзержинский у Россола.
— Наверное, у нас с тобой такой шикарный вид, что она не прочь сначала получить деньги.
Дзержинский покраснел и вынул из кармана деньги.
— Получите, — сказал он, — и поторопитесь, барышня!
Официантка ушла; она действительно не верила этим гостям: слишком уж у них неважные костюмы, у этих господ, и слишком голодные лица. Нет уж, с таких всегда полезно получить деньги вперед.
Россол сидел, повернувшись лицом к камину, и не мигая смотрел на огонь.
— Это смешно, — вдруг сказал он, — это смешно, Яцек, что она не поверила тебе. Не поверила человеку, который…
— Брось, Антон, — сказал Дзержинский.
Он вынул папиросу, хотел закурить, но не нашел спичек в кармане. У Россола спичек тоже не было.
— Пойди, там у окна сидит толстый человек и курит, — сказал Россол, — прикури у него.
Дзержинский приподнялся, но тотчас же вновь сел и быстрым шепотом сказал Россолу:
— Там филер. Когда мы вошли, его не было. Не оборачивайся. Он делает вид, что читает газету, на самом деле он ничего не читает, а смотрит в зеркало и следит за нами. Надо уходить. Живо!
В это время вошла официантка с подносом. На подносе стояли сковородки с яичницей, хлеб, соль. Яичница шипела на сковородках.
— К сожалению, мы должны уйти, — сказал Дзержинский, — вы слишком нас задержали.
Официантка широко раскрыла глаза.
— Теперь уже быстро, — сказала она, — теперь все будет в одну минуту!
Но странных гостей уже не было. Они шли к дверям.
Филер тоже встал.
Они одевались все вместе — усатый, с торчащими ушами филер, Дзержинский и Россол. Россол одевался первым; сначала он надел свой жилет на фланели, потом ватник, потом пальто. Дзержинский стоял в это время рядом с филером, бок о бок, посвистывал и глядел в его кофейные глаза. Свое пальто-куртку он не надел: слишком долгая возня с рукавом. Он медленно взял пальто из рук швейцара и сразу же вслед за Россолом выскочил на улицу. В дверях он слышал, как филер бешенным голосом крикнул обалдевшему швейцару:
— Мою шубу, дурак!
Одеваясь на бегу, Дзержинский догонял Россола. Когда поравнялся с ним, сказал: «Сюда, в ворота!»— и вбежал в калитку темного и грязного двора. Эт был, по счастью, знакомый проходной двор. Здесь, в подворотне, они оба на секунду остановились. Россол задыхался: больные легкие плохо работали.
— Вот что, Антон, — быстро заговорил Дзержинский, — ты беги дальше, а я пойду не торопясь. В случае чего, я задержу филера. Одним словом, если я сяду в тюрьму, ничего страшного не произойдет, А если ты с твоими болезнями…
— Перестань, — сказал Россол.
Не слушая Дзержинского, Россол взял его за руку и потащил за собой. Теперь они бежали по обледенелым булыжникам проходного двора, мимо помойной ямы, мимо деревянных сараев, мимо каретников и сваленных ящиков. Антон совсем задыхался.
— Еще немного, — говорил Дзержинский, — теперь близко.
Миновали вторые ворота и на ходу вскочили в вагон конки. Вагон был пуст. Россол рухнул на скамью.
— Кажется, ушли, — сказал он, отдышавшись.
— Ушли, — подтвердил Дзержинский. — Тебе легче?
Россол не ответил. Долго ехали молча. Потом Антон спросил:
— Тебе жаль пирожных?
— Ужасно, — печально ответил Дзержинский. — Этот кофе, и яичница, и пирожные — так и стоят перед глазами. И, главное, мы уже заплатили!
Они доехали до окраины города и в мелочной лавке купили хлеба и колбасы. Пришлось есть на улице. Колбаса была невкусная, соленая и жесткая, хлеб черствый. Поели и принялись обсуждать, как быть с ночевкой. Где ночевать?
Ночевали в ночлежке за пять копеек. А наутро Дзержинский прощался с Антоном Россолом: вдвоем было куда опаснее, чем одному.
ПРОГУЛКИ ПО ДВОРУ
В Седлецкой тюрьме он сидел вместе с Антоном Россолом. Чахотка с беспощадной быстротой делала свое дело. Россол умирал. Он почти уже не поднимался с дощатого лежака, заменяющего в камере койку, по ночам его мучило кровохарканье, после которого он терял последние силы; есть ему не хотелось. Часами он лежал неподвижно, глядя в грязную тюремную стену и думал одну и ту же думу.
Тяжело умирать в двадцать лет.
Невыносимо страшно умирать в тюрьме, вдалеке от родных и близких людей, умирать за решеткой, под звон кандалов, под хриплую брань надзирателей, под крики товарищей, уводимых на казнь.
И умирать весною, когда за тюремным окном в решетках расцветают каштаны, когда небо с каждым днем становится все голубее и прозрачнее, когда воздух там, на воле, так свеж и чист, — вот в эту пору умирать в тюрьме!
Человеческая жестокость ни с чем не сравнима. Россола, конечно, можно было выпустить на поруки, и кто знает, — в деревне, на травке, на парном молоке, — вдруг бы он спасся, вырвался бы из лап смерти, а если бы и не спасся, то хоть надеялся бы на спасение. Но его не выпускали на том основании, что он безнадежен и что на воле делать ему нечего, кроме как умирать. А умереть он может с успехом и в тюрьме, и не только с успехом, а и с пользой для государства, так как перед смертью он авось испугается и заговорит о том, о чем не хочет говорить сейчас, назовет имена людей, даст возможность выслужиться жандармскому ротмистру, ведущему дело, поможет упечь в тюрьмы десяток-другой тех, которым ненавистно самодержавие.
И его держали в тюрьме.
Ноги отказывались служить ему, он не мог передвигаться, и все-таки его держали за решеткой. На двери камеры висел замок, и много раз в день открывался волчок в двери, — надзиратель заглядывал, все ли в порядке, не роет ли чахоточный Россол подкоп, не перепиливает ли решетки на окне.
Он совсем ослабевал порою, но следователь-жандарм допрашивал его всегда в присутствии выводного — по той причине, что таким нечего терять, что они на все способны и что с ними нужно поосторожнее.
Изнуряющие кровохарканья мучили его по ночам, а тюремный врач Оберюхтин, писавший в журнале статейки по вопросам симуляций, искал симуляцию и здесь, а когда не нашел, то перестал интересоваться больным и даже перестал навещать его.
В больницу Россол не хотел. Он уже побыл там недели две и вернулся оттуда по собственному желанию. Там было еще страшнее, чем здесь. Там было так чудовищно плохо, что Антон только махнул рукою, когда Дзержинский спросил, почему он вернулся. Махнул рукой, лег на свой лежак, закрыл глаза и сказал:
— Здесь как в раю.
Легко можно было представить себе эту больницу, если тут было «как в раю».
Однажды под вечер Россол вдруг сказал:
— Пожалуй, это все из-за порки.
— Из-за какой порки? — не понял Дзержинский.
— Разве я тебе не говорил?
— Ничего не говорил…
— Тут как-то еще до твоего прихода, — не торопясь начал Россол, — зашел ко мне начальник тюрьмы. Ну-с, сел, заговорил. Как поживаете, то да се. Я помалкиваю, слушаю; он рассуждает насчет самодержавия, что царь — это хорошо, революция — это плохо, — знаешь их разговоры. Я с ним не спорю — ну тебя, думаю, к лешему. Дальше — больше, спрашивает меня, что мы с ним сделаем, если революция победит. Я думаю — шутит, несерьезно спрашивает: взглянул на него, вижу — нет, серьезно. И в глазах глубокий интерес. Я на шутку свожу — помилуйте, говорю, как же мы с вами можем что-либо сделать: у вас и чин большой, и должность, и все такое. «Нет, — отвечает, — бросьте, я у вас серьезно спрашиваю, мало ли что может выйти; мне мое будущее чрезвычайно интересно знать: я человек семейный, у меня дети, я должен быть в курсе перспектив». Прямо так и сказал: «в курсе перспектив».
— Ну? — спросил Дзержинский.
— Я опять стал отшучиваться, но чем больше шучу, тем нестерпимее хочется сказать то, что Я думаю. Ты понимаешь это чувство?
— Еще бы, — усмехнулся Дзержинский.
— Ну, дальше. Шучу я, говорю, что обратитесь к другим с этим вопросом, потому что, дескать, я не доживу, а сам чувствую, что скажу, обязательно скажу, получу удовольствие, и хоть очень оно дорогое, это удовольствие, и заплатить за него, наверное, придется порядочно, но доставляю себе маленькую радость, а там будь что будет. И доставил.
— Как же это было?
— Да просто — я ему очень вежливо, почти, знаешь ли, по-дружески, мягко и деликатно: «Мы вас, ваше благородие, обязательно, во что бы то ни стало, непременно расстреляем. Вы уж не обижайтесь на меня за правду, — сами спрашивали, я ведь не нарывался на этот задушевный разговор». Но, представляешь себе, он и тут не отстал от меня. «Это, — спрашивает, — ваше личное мнение или мнение и ваших товарищей тоже?»
— И в заключении была порка?
— Нет, мы еще поговорили, — сказал Россол, — на всякие научно-тюремные темы. Долго говорили, и, только прощаясь, он сказал, что пропишет мне сто розог, дабы я не заносился и не думал о близости революций и о том, как мы расправимся кое с кем. И добавил, что есть одна хорошая русская пословица, которую надобно всегда помнить: не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Я ему ответил, что у меня есть другая пословица не хуже: плюй в колодец — не пригодится напиться.
Дзержинский засмеялся.
— Выпороли?
— А как же…
— Сто?
— Не знаю, не помню. Вначале я считал, потом потерял сознание.
Помолчали. Потом Россол вдруг сказал:
— Может быть, все дело в порке. Может быть, я ослабел от этого, а не от болезни. Может быть, они мне что-либо повредили, а вовсе это не чахотка. Как ты считаешь?
Он надеялся, верил, что, может быть, если его выпустят, если будет много свежего, чистого воздуха, молоко, зелень, хороший уход, солнце, то он поправится и проживет долго, до ста лет. Со всей силой и страстью, на которую он был способен, Дзержинский поддерживал в Россоле эту мечту о выздоровлении, поддерживал так горячо и серьезно, что порою сам верил в то, что они еще долго проживут на свете, долго будут работать — до революции и после, когда революция победит и когда все будет иначе, лучше, свободнее и справедливее.
Подробно и много он говорил Россолу о науке, о том, что медицина семимильными шагами идет вперед, о том, что за открытием Пастера могут последовать другие, не менее крупные открытия; в любой, говорил он, день может появиться ученый, который навсегда избавит мир от чахотки, и чахотка станет таким же далеким призраком, как сейчас, например, оспа. Тогда он, Россол, встанет и выздоровеет, вновь будет работать, садиться в тюрьмы, убегать, скандалить с тюремным начальством, одним словом, жить той жизнью, которую он себе избрал, а Россол слушал его, хоть и недоверчиво, но внимательно, и точно позволял убеждать себя в том, во что он не верил и во что так хотел поверить.
И такие разговоры кончались обычно тем, что настроение у Россола делалось лучше, спокойнее, увереннее, на бледных губах появлялась улыбка, а в глазах то выражение, которое так любил Дзержинский: дерзкое, упрямое, мальчишеское.
Всю свою силу, всю энергию, все мысли Дзержинский отдавал Россолу.
И он не спал ночи, слыша в темноте камеры, что Антон не спит, и притворялся, что у него тоже бессонница, старался развлечь больного разговорами, рассказывал ему смешные истории и смеялся сам, хотя смеяться ему вовсе не хотелось, так же, как и рассказывать; ему хотелось спать, он уставал от тяжелых тюремных дней, от больного, порой несправедливо раздражительного Антона, от тех усилий, которые приходилось затрачивать, чтобы достать в тюрьме, с ее дикими порядками, кусок льда для кровохаркающего, соленой воды, кипятку, лекарство, чистую тряпку.
Но что же было делать?..
Оставить тяжелобольного, умирающего человека наедине с его тоской, с его страхами, с его страданиями?
И Дзержинский садился на лежак Антона, у его ног, в темной вонючей камере и говорил бодро и весело:
— Вот хорошо, что ты не спишь! Я тоже никак не могу уснуть, вот уже сколько времени лежу, лежу, а ни в одном глазу… Не спится…
— Отчего же тебе не спится? — подозрительно спрашивал Антон.
— Не знаю, отчего мне не спится, — отвечал Дзержинский, — сам знаешь, каков тюремный сон!
— Я, когда был здоров, и в тюрьме отлично спал.
В голосе Россола было раздражение, по его тону Дзержинский чувствовал, что он ищет, к чему бы придраться, на чем сорвать свое настроение.
— Где угодно отлично спал, — продолжал Россол, раздражаясь с каждым словом все более и более, — а вот когда я болен, действительно не могу уснуть… Но никого не прошу, — голос его начинал звенеть, — никого не прошу не спать из-за меня. Наоборот, я прошу спать и не портить себе ночь, а затем настроение на весь следующий день. Я прошу только оставить меня в покое… Да! Оставить в покое — и все!
Голос у Россола звенел и срывался на неожиданно высокой ноте, в его словах слышались слезы, обида на то, что он не заснул ни минуты, а Дзержинский спал и не слышал, как он хотел взять себе воды и как уронил кружку, а поднять ее не смог и так и не напился до сих пор…
— Почему же ты не окликнул меня?
— Потому что я знаю, что я тебе надоел, что я извел тебя, измучил, но я не могу, я не в состоянии, у меня нет больше сил…
— Брось, о чем ты, Антон…
— Нет, не брось! Я действительно невыносим со своими капризами и придирками, но если бы ты знал, как мне тяжело, как мне хочется жить, как я устал от этих мыслей о смерти, о том, что я скоро, совсем скоро умру, что от меня ничего не останется, что я ничего не успел, совсем ничего, совсем…
И, ослабевший, измученный, Россол долго и тяжело плакал, уткнувшись в жесткую соломенную подушку, задыхался от слез, горячей мокрой ладонью ловил в темноте руку Дзержинского, сжимал ее и шептал:
— Ну, научи! Как мне жить? Как? На что мне надеяться? Помоги мне! И не презирай меня, не думай, что я трус, что я ничтожество… Я болен, это болезнь, я не виноват, я нисколько не виноват. Ответь — ты понимаешь, что я не виноват?
— Да, понимаю, — искренне и убежденно отвечал Дзержинский, — конечно, понимаю. Это пройдет, все пройдет, когда ты поправишься…
И опять, как вчера, как позавчера, он говорил о том, что будет, когда Антон поправится, как они вместе выйдут из тюрьмы и пойдут купаться на речку, а потом в лес, а потом ужинать в лесную харчевню, он знает одну такую на перекрестке дорог, старая-старая харчевня.
Он говорил и видел, как блистают в темноте глаза Россола, как светится в них жажда жизни, страстное желание пойти в лес, на речку, в харчевню, в город, туда, где много людей, где играет музыка, где нет решеток, за которыми даже наступающий весенний день выглядит уныло и печально, туда, где нет кандалов, надзирателей и длинных, утомительных тюремных ночей…
— Мы бы пошли с тобой в кафе, — подсказывал Россол, — ты забыл кафе. Мы бы выбрали шикарное кафе, черт подери, такое, где играет целый оркестр! Мы бы сели, как все равно два пана, и заказали бы себе бог знает что. Я даже не могу придумать, что бы такое мы себе заказали.
Он слушает Антона и сам говорит разный вздор, только чтобы вызвать улыбку на этих запекшихся губах, хоть слабую, но улыбку; говорит, а думает совсем о другом: он думает о том, что больной, слабый, умирающий Россол сильнее сотен и тысяч самых здоровых людей; какой гигантской, нечеловеческой силой воли надо обладать, чтобы, так любя свободу и жизнь, как любит Антон, и зная, что стоит ему только кое-что рассказать своему следователю, самый пустяк, дать нитку, за которую жандарм может уцепиться, и его отпустят, отпустят сразу же, в тот же день, в ту же минуту, на свободу, в лес, на речку, в лесную харчевню, куда угодно…
Его держат здесь и не судят потому, что надеются: вдруг ему станет страшно и он начнет выдавать все, что знает. Ради свободы, ради воли.
Судить его неудобно: нести в суд, как носят на допросы, на носилках.
Гнать в Сибирь после суда тоже неловко. А главное — суд может и не засудить!
Вот и держат — надеются, что заговорит.
А он не говорит.
Не говорит ни слова, улыбается упрямой и злой улыбкой и на все припугивания отвечает одно и тоже!
— Мне наплевать! Наплевать!
И глаза у него при этом вспыхивают, как у волчонка.
Как-то душным вечером, когда громыхал первый весенний гром, Россол грустно сказал:
— Завтра вы пойдете на прогулку по лужам. Я бы тоже с удовольствием походил по лужам.
Он сказал это не то серьезно, не то в шутку и замолчал на весь вечер, слушая шум дождя, смотрел на ржавую решетку окна, кашлял. А когда Дзержинский вернулся днем с прогулки, спросил:
— Ходили по лужам?
— Ходили, — чувствуя себя виноватым, сказал Дзержинский.
— Большие лужи?
— Нет, не очень, так себе.
— Глубокие? — продолжал допрашивать Россол.
— Лужи как лужи, — сказал Дзержинский и, чтобы перевести разговор на другую тему, рассказал, как обиделся новый надзиратель, когда заключенные подумали, что он собирается прекратить прогулку раньше времени.
Но Россол не слушал.
— Я должен выйти на волю, — сказал он чужим голосом, — понимаешь, Яцек? Что угодно, но я должен. Я больше не могу. Я должен выйти!
Дзержинский молча глядел на Россола.
— Пусть меня выпустят из тюрьмы, — сказал Россол, — пусть! Слышишь!
В его голосе звучало такое отчаяние, что у Дзержинского перехватило горло.
— Я хочу на волю, — поднявшись на локте и глядя в лицо Дзержинскому почти сумасшедшими глазами, быстро и громко говорил Россол, — во что бы то ни стало я хочу на волю. У каждого человека есть предел терпению. Как хочешь, Яцек, но я больше не в состоянии. Выпусти меня из тюрьмы. К черту…
Его пришлось отпаивать водой. Он был как потерянный. И, плохо соображая от жалости и сострадания, Дзержинский сказал вдруг, помимо своей воли, что постарается завтра устроить так, чтобы Антон попал на прогулку.
— Я? На прогулку? — не веря своим ушам, произнес Россол.
— Ты, ты, — сказал Дзержинский.
Он отлично понимал, что Антон не может попасть на прогулку, но что было делать — он сказал нечаянно, а Россол принял всерьез и уцепился за слово «прогулка»; ему хотелось верить, что он попадет на прогулку, что он увидит небо, солнце, каштаны, траву, лужи…
— Но лужи высохнут до завтра, — сказал Дзержинский.
Россол не слушал. Он говорил и не спрашивал ни о чем — спрашивать было страшно. Если спросить, то обязательно выяснится, что прогулки не может быть, что это сон, это просто-напросто приснилось и сейчас Дзержинский скажет: «Что ты, какая такая прогулка!»— и все кончится.
И он не спрашивал.
Он только говорил о самой прогулке, о том, как он завтра будет гулять.
То есть гулять он, конечно, не может, но ведь дело не в словах; он будет сидеть на воздухе, на солнце, во дворе и даже на радостях закурит папироску-самокрутку из махорки — пропадай все пропадом, как говорится. Пусть они ходят, как дураки, по кругу, а он будет сидеть и смотреть на небо. Или вот что: папиросу он курить не станет. Это глупо — курить папиросу на воздухе. Ни к чему! Он лучше сорвет травинку и будет ее жевать. Боже мой, как давно он не жевал травинку, а ведь есть такие счастливцы, которые могут делать это хоть каждый день…
Он будет сидеть на земле, прямо на земле, а они пускай ходят кругом — ему что.
И если он побудет на воздухе, у него появится аппетит.
А как только он начнет есть, болезнь исчезнет сама собой. Все дело в аппетите, только в нем, не правда ли?
Чахотку надо заливать жирами, молоком, сметаной. Она боится пищи, как огня. И вот после прогулки…
К тому времени, когда заключенных обычно выводили на прогулку, Россол отвернулся к стене и прикрыл голову одеялом. То возбужденное состояние, в котором он был накануне вечером, сменилось апатией, полным упадком сил, равнодушием. Теперь он, видимо, понял, что ни о какой прогулке не может быть и речи, что каштанов ему не увидать, что все это мечты.
Несколько раз за утро Дзержинский окликал его, но он не отзывался, делая вид, что уснул, хоть, конечно, не спал и не думал спать.
Незадолго до прогулки Дзержинский подошел к Россолу, подергал его за одеяло и, когда Антон открыл злые глаза, сказал:
— Одевайся, иначе не успеем.
— Зачем мне одеваться?
— Пойдем на прогулку…
Секунду, не более, Россол смотрел в глаза Дзержинскому — старался понять, шутит он или говорит серьезно. И понял, что серьезно. Да и можно ли шутить такими вещами?
— Но я не удержусь на ногах, — сказал он, — я упаду.
И виноватым голосом добавил:
— Я теперь очень слаб, Яцек. У меня плохие ноги.
— Тебе не надо держаться на ногах, — сказал Дзержинский, — зачем тебе держаться на ногах, если я тебя понесу? Я буду твоими ногами, понял?
— Понял, — все еще виноватым, покорным тоном ответил Россол, — но ведь тебе будет тяжело.
— Одевайся и не болтай, — приказал Дзержинский. — Там увидим, тяжело или не тяжело.
Россол сел на лежаке и нагнулся за сапогами, но тотчас же свалился на свою соломенную подушку: от слабости закружилась голова. Дзержинский поднял с полу сапоги, сел рядом с Россолом и обнял его за плечи, чтобы он спокойнее и тверже себя чувствовал.
— Это ничего, — бормотал Россол, силясь натянуть сапог, — это ничего, это сейчас пройдет, все пройдет, это оттого, что я слишком резко вскочил. Но сейчас мне уже лучше, мне легче…
От волнения и от слабости лоб его покрылся испариной, он никак не мог ухватить рукой ушко сапога, не мог сунуть ногу в голенище, ему уже ни на что не хватало сил.
— Да ты не волнуйся, — как можно мягче и веселее говорил Дзержинский, — ты вовсе не так уж слаб, а просто ты волнуешься, вот у тебя и не ладятся сборы. Ну, успокойся! И не торопись! Возьми обеими руками за ушки и тяни. Взял? Ну видишь, как просто! Теперь второй сапог! И второй натянул — видишь, как хорошо! Теперь куртку. Где твоя куртка?
Одевая Россола, он делал вид, что Антон одевается сам, своими руками, он же, Дзержинский, тут ни при чем, он только успокаивает Россола, подает ему одежду и разговаривает с ним.
— Видишь, как хорошо, — говорил он, — вот ты и готов, совсем готов. Теперь встань, только не торопясь, обопрись на меня и встань. Вот так, хорошо, замечательно…
— Ноги не держат, — слабо произнес Россол, — совсем не могу стоять, Яцек…
С лязгом отворилась дверь, и в камеру вошел старший, Захаркин.
— На прогулку собирайтесь! Живо!
Увидав Россола, он спросил:
— А этот куда же? Ужели гулять?
— Гулять, — ответил Дзержинский.
— На допросы не может, а на прогулки может, — сказал Захаркин и вышел из камеры, не заперев за собой дверь.
Стоять Россол решительно не мог: у него кружилась голова, подкашивались ноги. Из плана Дзержинского — вести его на прогулку, обняв за талию и сильно поддерживая, — ничего не выходило. Надо было найти другой выход и без промедления: в коридоре Захаркин уже выстраивал арестантов — промедление грозило опозданием на прогулку.
А губы у Россола уже вздрагивали: во второй раз за эти сутки он расставался с мечтой о прогулке.
— Спокойно, Антон, — сказал Дзержинский, — сейчас все образуется. Сядь на койку.
— Зачем?
— Сядь, говорю!
Голос его звучал строго, почти повелительно. Такому голосу невозможно было не повиноваться.
— Теперь возьми меня за плечи! Нет, не за шею, а именно за плечи! А ноги давай сюда. Хорошо держишься?
— Хорошо…
— Держись, я поднимаюсь.
— Держусь.
Дзержинский выпрямился. Теперь он держал Россола на спине.
— Надорвешься, Яцек, — сказал Россол, — это чистое сумасшествие — то, что ты затеял!
— Сиди смирно, — посоветовал Дзержинский.
С бледным как мел, но совершенно счастливым Россолом за плечами Дзержинский вышел в коридор. Заключенные, уже выстроенные на прогулку в две серые шеренги, не сразу заметили в полутьме коридора ношу Дзержинского, а когда заметили, то как бы дрогнули — обе шеренги заколебались, задвигались и вновь замерли: из-за поворота бежал Захаркин и командовал:
— Смирно, равнение направо!
За старшим надзирателем двигались начальник тюрьмы и его помощник. Это было неприятно: начальник и помощник почти никогда не появлялись в это время.
Дзержинский стоял на левом фланге, начальство же появилось на правом и застряло: шел осмотр арестантов.
— Вы не робейте, товарищ, — сказал Дзержинскому его сосед, широкоплечий врач с висячими усами, — они вам ничего не скажут. Не посмеют!
— Положим, посмеют, — улыбнулся Дзержинский, — но я не робею. Авось как-нибудь.
Держать Россола на спине было очень тяжело: ширококостный и высокий Антон, несмотря на худобу, весил еще много. Дзержинский, сам ослабевший после стольких месяцев тюремной жизни, сейчас со своей ношей едва держался на ногах. Лицо его покрылось потом, сердце билось неровно, толчками. А начальство двигалось так медленно, что, казалось, никогда не будет конца этому стоянию в сыром полутемном коридоре с Антоном за плечами. И если бы он еще не волновался так ужасно!
Каждого арестанта начальник тюрьмы осматривал и обыскивал самолично: на прогулках довольно часто арестанты передавали друг другу письма, записки, даже книги, и начальник тюрьмы объявил этому обычаю войну. Пока что он ничего не нашел, и это его злило. Если весь обыск окажется безрезультатным, начальник останется в глупом положении.
Чем меньше оставалось необысканных арестованных, тем больше раздражался начальник тюрьмы. Теперь уже Дзержинский видел его бледное выбритое лицо, с большим носом и угловатыми бровями, его большой подбородок и кончики крахмального воротничка, выглядывающего из-под воротника мундира.
— А пачему у вас, пазвольте спрасить, — нажимая на букву «а», говорил начальник, — пачему у вас пуговицы аторваны? Вы что? Правил не знаете? Так мы вас живо! Захаркин! Трое суток карцера ему!
Теперь у каждого арестованного он находил какой-нибудь непорядок в одежде или в поведении: один не так стоял, другой посмел улыбнуться, третий держит руки в карманах, четвертый посмел попросить очки, отобранные на допросе.
— То есть как это отобранные?
— Следователь мой отобрал у меня очки, чтобы ускорить мое сознание, — говорил четвертый от Дзержинского арестант с тонким и умным лицом, — я же без очков ничего решительно не вижу. Прошу вас возвратить мне очки…
Но начальник тюрьмы уже не слушал. Теперь он увидел Дзержинского и вместе со своим помощником, прыщеватым молодым человеком, шел к Дзержинскому.
— Эта что ж такое? — спрашивал он, щуря глаза. — Эта шутка или как эта нада панимать? Сейчас же абоим встать смирна, — вдруг крикнул он, — сейчас же!
— Мой товарищ болен, как вам известно, — сказал Дзержинский, — и стоять не может.
— Я приказываю прекратить, — крикнул начальник, — я приказываю стоять смирна!
— Но он не может… — начал быстро Дзержинский.
— Молчать! — багровея и теряя всякую власть над собой, заорал начальник, — назад в камеру! Запрещаю! Захаркин, за самовольное выношение… вынесение… за самовольный вынос из камеры…
Он вдруг запутался и забыл то, что хотел сказать. В эту секунду в коридоре вдруг раздался звонкий голос Россола:
— Палач! Мы все равно тебя расстреляем! Палач!
Неизвестно, что произошло бы, не раскашляйся Россол в это время. Он закашлялся так, что отпустил Дзержинского и повалился головой вниз на щербатый каменный пол коридора, внезапно побелев донельзя и потеряв сознание. Но сосед Дзержинского, врач, успел подхватить голову Россола, так что он не ударился, и принял его от Дзержинского.
Захаркин схватил врача за руку и оттащил от Россола. Врач рванул руку. Россол все еще кашлял. Изо рта его текла узкая струйка алой крови.
— Все назад, в строй! — протяжно закричал начальник тюрьмы и расстегнул кобуру револьвера. — По местам!
Врач в это время уже стоял на коленях возле Россола.
Захаркин опять рванул его за шею.
— Отойдите, — сказал Дзержинский, — вон отсюда!
— Ты что? — оторопело спросил Захаркин. В его руке уже был револьвер.
— Все назад в строй, — продолжал кричать начальник, — или я буду стрелять!
Но никакого строя уже не было. Строй внезапно сломался. Начальник был в одном кольце арестантов, его прыщеватый помощник в другом, Захаркин в третьем. Кто-то тонким бешеным голосом кричал:
— Товарищи, бей палачей!
Лицо Захаркина сделалось серым.
— Спрячь револьвер, мерзавец, — сказал ему Дзержинский, — спрячь, пока тебя не убили.
А слева несся и несся бешеный, точно пьяный, тонкий голос:
— Бей палачей, товарищи! Бей, бей палачей…
Но никто не был убит. И начальник, и его помощник, и Захаркин удрали. Им дали уйти, и они ушли. Арестанты, по настоянию Дзержинского, разошлись по камерам. Россола отнесли па его лежак, врач сел с ним рядом. Тюрьма затихла.
До вечера ждали расправы, но она так и не последовала. Захаркин появился тише воды, ниже травы, настолько вдруг вежливый, что в волчок осведомился о здоровье Россола.
— Теперь лучше, — тоже вежливо ответил Дзержинский, — благодарю вас.
Но Захаркин не отходил от волчка. В волчок был виден только его мохнатый рот, и этот рот произнес:
— Бывают же такие болезни…
На это Дзержинский не нашелся, что ответить.
К ночи Россол окончательно пришел в себя. Худое лицо его совсем осунулось и приняло голубоватый оттенок, темные глаза завалились, губы запеклись.
— Здорово мы с тобой погуляли, Яцек? — спросил он, старательно улыбаясь.
— Завтра погуляем, — невозмутимо ответил Дзержинский.
— Ты думаешь?
— Уверен.
Он стоял перед лежащим Россолом — стройный, высокий, и такая спокойная сила исходила от него, что Россол поверил: да, завтра они обязательно будут гулять, ничто не может помешать этому решению, они во что бы то ни стало будут гулять.
Эту ночь, впервые за много месяцев, Россол спал спокойно, а наутро Дзержинский, как ни в чем не бывало, помог ему одеться, и, когда Захаркин отворил дверь в коридор и объявил прогулку, он поднял Россола на плечи и встал с ним в шеренгу арестантов.
Начальника тюрьмы не было, со вчерашнего дня его никто не видел.
Захаркин же сделал такой вид, что ему нет никакого дела ни до Дзержинского, ни до его ноши, ни до чего решительно, кроме самой прогулки. Да и вообще в лица арестантам он не смотрел, а смотрел вниз и покрикивал:
— Ногу, ногу держать как надо! Подобрать кандалы! Без разговоров, правое плечо вперед, по лестнице не торопись!
Грохоча сапогами, под звон кандалов, арестанты двигались коридорами, лестницами, опять коридорами в тюремный двор.
— Тяжело? — негромко спросил врач у Дзержинского.
— Ничего, привыкну, — ответил Дзержинский.
Спустились по последнему маршу лестницы, миновали последний коридор и вышли на мощенный булыжником двор. День стоял солнечный, теплый, почти жаркий. Еще цвели каштаны, — пирамидальные белые соцветия, как толстые свечи на елке, украшали ветви. Захаркин пятясь бежал впереди первой пары и кричал, размахивая руками, как дирижер перед полковым оркестром:
— Соблюдай расстояние на одну протянутую руку! Пара от пары на три шага! Детки-соколы, соблюдай порядочек, иначе драться буду! Без разговоров!
Но было так хорошо, что даже эти дурацкие возгласы Захаркина не мешали.
Пекло солнце.
Посреди двора прогуливались и ворковали голуби.
Тянуло ветром, настоящим весенним ветром.
С Дзержинского ручьями лил пот, но он не замечал этого.
Под звон кандалов, под грохот сотен пар сапог он слышал задыхающийся шепот Россола, его восторженные отрывочные слова:
— Ядек, каштаны! Ты видишь, каштаны! Трава!
Смотри, между булыжниками пробивается. Смотри, слева — совсем зеленая, настоящая! Ты устал, Яцек! Тебе тяжело? Смотри, какой толстый голубь, просто толстяк! Как он может летать, такой толстый?
Россол точно помолодел на несколько лет.
И все вокруг точно помолодели и поглупели. Восторженные восклицания неслись отовсюду:
— Эх, жизнь!
— Природа, одно слово.
— Мама дорогая, солнце как зажаривает!
— Не для вас и не для нас зажаривает.
— Аи, погода!
Дзержинский задыхался, глаза ему застилал туман. Он ничего не слышал, кроме грохота собственного сердца и того, что шептал ему в ухо Россол.
«Только бы не упасть, — думал он, — только бы не свалиться тут, посреди двора, вместе с Антоном».
Но он не свалился. Пятнадцать минут кончились. Захаркин засвистел и подал команду разойтись по камерам. Дзержинскому еще предстояло поднять Антона на четвертый этаж и пронести по коридорам…
Каждый день он выносил Россола на прогулку. За лето он очень испортил себе сердце.
Но разве он когда-нибудь обращал внимание на такие пустяки!
Передают, что про него кто-то сказал такую фразу:
«Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что он сделал для Россола, то и тогда люди должны были бы поставить ему памятник».
ВОССТАНИЕ В ТЮРЬМЕ
Пятого января 1902 года Феликс Дзержинский был отправлен из Седлецкой тюрьмы через Варшаву, Москву и Сибирь за четыреста верст от Якутска, в Вилюйск в котором по высочайшему повелению ему надлежало пробыть ровно пять лет.
Путь от Седлецкой тюрьмы в царстве Польском до Александровской центральной каторжной тюрьмы в селе Александровском Иркутской губернии, поблизости от реки Ангары, партия арестантов, с которой шел Дзержинский, проделала в четыре с лишним месяца, что по тем временам считалось скоростью почти фантастической.
В мае партия прибыла в Александровска и разместилась в пересыльном корпусе, неподалеку от главного здания централа, построенного в котловине меж гор. Каторжная тюрьма выглядела куда печальнее, чем пересыльный корпус, небольшой, сложенный в лапу из крупных сосновых бревен, с двором, чисто выметенным и даже посыпанным песком.
Порядки пересыльного корпуса тоже во многом отличались от порядков каторжной тюрьмы. Этапникам жилось куда легче, чем отбывающим срок в централе; начальство ими не очень интересовалось, да и с какой стати интересоваться, если сегодня этапники тут, а завтра на каторжной Колесухе, или в Вилюйске, или в Качуге или еще где-нибудь, в местах, куда Макар телят не гонял. В тюремных мастерских этапники не работали, к жизни централа никакого отношения не имели и проводили на пересылке свои дни, а то и недели, кто как хотел: отдыхали после страшного пути, чинили одежду, обувь и набирались сил для предстоящих каторжных лет.
Начальником централа был в то время поляк Лятоскевич, вел он среднюю линию и, как говорили про него арестанты: «жил сам и жить давал другим».
Но в конце апреля, незадолго до прибытия этого этапа, с которым шел Дзержинский, положение в Александровской пересыльной круто и внезапно изменилось. Причины изменения порядков толком никто не знал: одни говорили, что на Лятоскевича кто-то из деятелей написал в Петербург министру письмо; другие считали, что поводом к новым крутым порядкам послужил широко задуманный побег, хоть и провалившийся, но все-таки побег; третьи считали, что виновник неприятных новшеств — старший надзиратель Токарев, шкура и палач по натуре, которого Лятоскевич боится и который имеет над начальником тюрьмы какую-то власть.
Как бы там ни было, но к тому времени, когда, измученный весеннею распутицей, дождями со снегом, морозами и буранами, всеми адовыми пытками российских каторжных дорог, этап входил в ворота Александровской тюрьмы, надеясь хоть тут перевести дух, поспать, обсушиться и поесть, вдруг выяснилось, что старым порядкам конец, что здесь теперь орудует Токарев, палач и убийца по призванию, что бани не будет, кипятку до утра не получить, в село даже с конвойным за покупками выйти нельзя и, что самое главное, никаких разговоров и просьб: за разговоры Токарев бьет в лицо.
Узнав обо всех этих печальных новостях, матрос Шурпалькин, осужденный на бессрочную каторгу, человек очень смелый и спокойный, никому не сказавшись, сам, один, отправился из общей камеры, в которой размещались арестанты, к Токареву в дежурку. Услышав обращение не по уставу, Токарев молча сразу же ударил матроса тяжелой связкой ключей по лицу с такой силой, что рассек Шурпалькину щеку до кости. Брызнула кровь. Шурпалькин, теряя от боли власть над собой, шагнул к надзирателю, но тот ударил матроса ключами еще раз, и Шурпалькин упал.
В камеру он вернулся часа через два, никому не сказал ни слова и повалился на нары. При тусклом свете лампешки, коптившей у входа, Дзержинский успел заметить, что с матросом, к которому он очень привязался за месяцы этапного пути, неладно.
— Шура, — позвал он. Матрос молчал.
— Шура, — вторично окликнул Дзержинский матроса.
Не дождавшись ответа, он подошел к Шурпалькину, сел возле него на край нар и спросил, что случилось.
Великан матрос, вместо ответа, заплакал.
В тюрьме люди плачут редко, и если уж плачут, то такими слезами, которых на воле не увидишь.
Тюремные слезы — особые слезы.
Невозможно было смотреть на этого белокурого гиганта, не сморгнувшего, когда ему прочитали смертный приговор с заменой пожизненной каторгой, весело посвистывающего в любых обстоятельствах жизни, всегда балагурящего, всегда подшучивающего, вдруг тут, когда, кажется, самое тяжелое уже позади…
— Да Шура же, — позвал Дзержинский и стал отрывать от лица матроса ладони, которыми он закрывал свою разбитую, кровоточащую щеку.
Но матрос не шевелился.
Наконец, отпив воды, он немного успокоился и прерывающимся голосом стал рассказывать, как все произошло. Говорил он громко; камера постепенно просыпалась, люди собирались возле Дзержинского, а матрос, все еще плача и не стыдясь своих слез, уже во второй, а потом и в третий раз подробно, точно жалуясь, описывал все подробности избиения.
— Понимаешь, — говорил он, — я ничего такого даже в голове не имел. Просто зашел тихо, мирно, думаю, спрошу у него: дескать, позвольте, ваше благородие, господин, Токарев, арестантики обижаются за баню, так нельзя ли… А он, он… он…
Тут лицо матроса, не раз битого в тюрьмах и в темных карцерах, начинало дрожать, на глазах его выступали слезы и мелкими круглыми каплями катились по щекам вниз; он заикался и, заикаясь, спрашивал:
— Нет, главное дело — за что? Вы мне только скажите, за что? Ведь свой же брат, мужик, ведь это как же, а?
Вытирая слезы вместе с кровью, он вдруг начинал ругаться и кощунствовать или грозился, что сейчас пойдет и задушит надзирателя, потому что теперь все равно, или клялся, что доживет до того дня, и уж если доживет, то разыщет кого надо и посчитается сполна за все.
Несколько часов провозился Дзержинский с матросом: он то отпаивал его водой из ржавого жестяного чайника, то клал ему на голову мокрую тряпку, то силой удерживал его на нарах, когда тот вдруг рвался вскочить, найти Токарева и задушить его на месте…
Утром, чувствуя себя совершенно разбитым после бессонной ночи, Дзержинский собрал у себя в камере сходку политических. Пришли все, кто был в пересыльной, — человек пятьдесят.
Здесь же терлось несколько уголовных Иванов, как их называли в тюрьме. Кое-кто из них был в сговоре с конвоем и тюремными начальниками — доносили на политических.
— Уголовные, — сказал Дзержинский, — уйдут отсюда вон. И быстро!
Бледный Шурпалькин молча покосился на кучку уголовников, живших возле печки. Уголовники не уходили.
— А ну, геть витселя, — не громко, но и не тихо произнес Шурпалькин и сделал один только шаг к печке.
Уголовника ушли, и Дзержинский объявил сходку открытой.
Говорили минут десять, самое большее. Решено было вызвать Лятоскевича, предложить ему возвратить старые порядки, а главное — убрать из пересыльной Токарева. В случае же отказа Дзержинский предложил план восстания в тюрьме, до того смелый и небывалый, что некоторые даже сразу не поняли.
— Никакой осечки тут быть не может, — говорил Дзержинский. — Все точно обдумано. И жертв не будет. Расчет у меня простой: Лятоскевич пуще всего на свете боится гласности и начальства. Если то, что я предлагаю, мы осуществим, Лятоскевич должен будет пойти на все уступки по двум причинам; первая причина та, что попади дело в газеты — ему надо уходить, да еще с таким треском; вторая причина: узнает начальство по тюремному ведомству — тоже крышка, да и не только ему, а даже иркутскому губернатору. У нас таких историй не было, история прошумит на весь мир, и они ее постараются ликвидировать во что бы то ни стало мирными путями. Так или не так?
Около часа пополудни в пересыльную явился Лятоскевич.
Разговаривать с ним уполномочили тульского токаря Бодрова, славившегося редкой невозмутимостью, спокойствием и располагающей улыбкой во всех случаях жизни.
Лятоскевич молча выслушал Бодрова, щелчком сбил с борта сюртука пушинку и по пунктам ответил на все просьбы отказом. Каждый отказ он — вежливый и хорошо воспитанный человек — сопровождал словами о том, что он, к сожалению, не имеет возможности, хотя разумеется, и рад бы, но в настоящее время обстановка такова, что при всем желании он…
Говорил он долго и скучно, а Дзержинский слушал его, низко опустив красивую голову, и при этом почему-то улыбался…
Весь день до вечера Дзержинский с Шурпалькиным и с Воропаевым, бывшим межевым техником, осужденным за восстание в экономии где-то на юге России, подготовляли точный план действий на завтрашний день: ходили по двору, стараясь точно выяснить расположение всех тюремных построек и пристроек, считали, сколько где конвоя, выяснили вооружение, сигнализацию, время смены караулов. Работать приходилось с осторожностью, с оглядкой, так, чтобы Токарев ничего не пронюхал и не заподозрил.
К вечеру все было кончено, выверено и решено. Опять собралась сходка. Говорили шепотом.
На этой сходке были точно распределены обязанности.
— Ровно в одиннадцать часов всем быть во дворе, — говорил Дзержинский, — всем до одного человека. В одиннадцать с четвертью я подхожу к привратнику, разоружаю его, и это служит началом к всеобщему восстанию. Бодров к этому времени собирает уголовных, якобы по делу, в камере номер четыре. Ровно в одиннадцать Дрозд его запирает снаружи на засов вместе с ними и становится на дежурство возле камеры. Старшего надзирателя Токарева я беру на себя. Ночью Токарев дежурит. До часу дня он будет спать у себя в дежурке, у него такая привычка. Там я его и возьму.
— Я тоже с вами, — тихо попросил матрос.
— Ни в коем случае, Шура. Если будет хоть одна жертва, заварится такая каша и они нам столько крови пустят, что этого нам никто не простит. Вся наша ставка на анекдот, на комическую историю с неприятными последствиями не для нас, а для них. Понимаете? Дальше…
Когда сходка кончилась, он позвал Шурпалькина, обнял его за плечи и, заглянув ему в глаза, повелительно и быстро спросил:
— Я твердо рассчитываю, что вы никого не пораните даже случайно, Шура. Вы ведь не собираетесь?
Матрос с грустным видом опустил голову.
В этот день тюрьма проснулась очень рано, гораздо раньше обычного, но до побудки никто не поднялся, чтобы не возбудить подозрений у надзирателей.
Лежали, волновались, но глаз не открывали.
Потом пили серую бурду — кипяток, заваренный брусничным чаем, жевали мокрый тюремный хлеб и вяло переговаривались, потом вышли во двор валяться на досках и судачить. Вышли не все, многие остались до времени в камерах.
Дзержинский сидел неподалеку от ворот, курил махорку и зашивал рубашку. Лицо его было совершенно спокойно, только глаза порою поблескивали из-под ресниц.
Незадолго до назначенной минуты он встал, потянулся, оглядел двор — все ли на местах — и ленивой походкой пошел к воротам, у которых дремал усатый старик стражник. Лениво шагая мимо него, Дзержинский вдруг сделал одно короткое, еле уловимое движение, мгновенное и точное, после которого стражник очутился на земле, а подбежавшие арестанты уже вязали ему руки и снимали с него, онемевшего от страха, старый револьвер, «селедку», которая не лезла из ножен, до того она заржавела, и прочую амуницию, в то время как другие арестанты валили и вязали конвойных и младших надзирателей…
Ни одного крика не было слышно, ни один человек не успел выстрелить, никто толком даже не понял, в чем дело, а все уже были повязаны кушаками и стояли, выстроенные возле тюремной стены.
— Все ли тут? — спросил Дзержинский, пересчитывая тюремщиков.
— Как будто все, — сказал матрос, на обязанности которого была охрана арестованных конвойных и надзирателей.
— Так точно, все, — подтвердил старик стражник со слезящимися глазами. — Все, как есть, ваше благородие, кроме его благородия старшего господина Токарева. Они, то есть господин Токарев, отдыхают, а мы все туточки…
Взяв из кучи оружия, сваленного неподалеку, револьвер поновее, Дзержинский пошел к тюрьме, возле которой в пристроечке имел обыкновение отдыхать Токарев, уперся ногою в косяк, рванул дверь и вошел в дежурку.
Здесь было темно. Токарев негромко посапывал в углу. Стараясь пока что не очень шуметь, Дзержинский сорвал одеяло, которым было завешено окно, и направил револьвер на Токарева.
— Лежите смирно!
Токарев молчал. Из-под красной кумачовой подушки выглядывал револьвер без кобуры. Дзержинский забрал и этот револьвер.
— Одевайтесь!
Надзиратель долго не мог попасть ногами в штанины.
— Это китель, — сухо сказал Дзержинский. — Брюки лежат рядом с вами.
Токарев попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Вместо улыбки на лице его проступило выражение ужаса. Он только сейчас все понял.
— Вы меня расстреляете? — хриплым, желудочным голосом спросил он.
— Одевайтесь! — повторил Дзержинский.
С каждой секундой Токарев зеленел все больше и больше. Глядя на него сейчас, никто бы не поверил, что этот человек способен внушать ужас одним своим видом: эти обвисшие серые усы, бессмысленные глаза навыкате, трясущийся подбородок, руки, которые оказывались повиноваться ему. «Как бы он не умер, чего доброго! — подумал Дзержинский. — Потом отвечай!».
— Разрешите взять деньги, — попросил Токарев.
— Возьмите.
— Так сказать, сбережения, — сказал Токарев и достал из-под подушки грязный мешочек. — Имею привычку брать с собой. Детки ненадежные…
Дзержинский отвел взгляд: Токарев был омерзителен сейчас со своими глазами навыкате, с мешочками, с дрожащими руками.
Вышли во двор. Стражники и конвойные по-прежнему стояли возле стены.
Навстречу, странно улыбаясь, двигался матрос. Он был бледнее обычного, спокойный, почти веселый. Токарев замедлил шаги.
— Уйдите, Шура, — сказал Дзержинский.
Матрос остановился, глядя на Токарева, как зачарованный.
Токарев тоже остановился, потом отступил на шаг к Дзержинскому, потом дрожащими пальцами вцепился в рукав его.
— Он вас не тронет, — сказал Дзержинский, — идите.
— Он хочет меня убить, я знаю, отгоните его.
— Уйдите, Шура! — крикнул Дзержинский.
Матрос медленно отвернулся и пошел вдоль тюремного забора, в глубь двора. Но Токарев не двигался с места.
— Я не пойду к стенке, — вдруг сказал он, — вы не смеете! Вы за это ответите! Вас всех перевешают. Вы разбойники!
Дрозд толкнул его сзади в спину. Токарев пошатнулся и закричал. Дрозд толкнул во второй раз, и Токарев ткнулся в стену. Теперь он плакал и выкрикивал угрозы и ругательства. Опять подошел матрос с папироской в зубах, все та же странная улыбка блуждала на его лице.
— Беру на себя приведение казни в исполнение. — произнес он довольно громко, так чтобы все слышали.
— Убирайтесь отсюда! — потеряв терпение, крикнул Дзержинский. — Сейчас же уходите отсюда.
Но было уже поздно: стража услышала слова матроса и подняла многоголосый вой. Кричали, вопили, умоляли. Толстяк конвойный упал на колени; старик со слезящимися глазами стал хватать за ноги Дрозда; Токарев лихорадочно развязывал свой мешок с деньгами, решив, видимо, откупиться…
— Молчать! — крикнул Дзержинский. — Никто не будет расстрелян! Тихо! Сейчас откроют ворота, и вы все, не оглядываясь, побежите к главному зданию, Бодров, открывайте! Живо!
Ворота со скрипом отворились.
— Токарев, вперед! — командовал Дзержинский. — Остальные за ним. Не задерживайтесь! Шагом марш!
Конвой и охрана не верили ни своим глазам, ни своим ушам. Но ворота были открыты настежь.
— Прошу покорно! — сказал вежливый Дрозд. Первым тронулся Токарев. Пятясь от Дзержинского, он пошел к воротам. За ним двинулись остальные. До ворот они шли медленно, едва-едва переставляя ватные от страха ноги, но за воротами силы к ним вернулись. Выйдя из острога, Токарев побежал, приседая и петляя, как заяц. Он и теперь думал, что арестанты будут стрелять ему в спину. Потом он упал, потом поднялся, потом опять упал. Ему казалось, что так он их обманет. А они стояли в воротах и покатывались от хохота, смеялись до слез, до колик в животах. Дрозд лаял собачкой. Кто-то улюлюкал и выл. Кто-то кричал поросенком. А конвой все бежал и бежал между пихтами и елями по сочной зеленой траве, спотыкался, падал, вставал, вновь падал и петлял между деревьями до тех пор, пока не исчез за холмом возле главного корпуса.
— Закрыть ворота, — приказал Дзержинский. — Завалить досками и бревнами. Возле главного входа в пересыльную строить баррикады. Начальник по работам Бодров.
— Можно начинать? — спросил Бодров.
— Начинайте, — сказал Дзержинский и подозвал к себе матроса. — Идите в дежурку Токарева, — произнес он, — там у него красная наволочка, вытряхните из нее пух и сделайте флаг. На флаге надо написать: «Свобода». Только быстро, Шура! И палку найдите подлиннее, чтобы флаг был виден издалека. Пускай из камер главного здания будет видно… Поняли? — Есть! — ответил матрос.
В три часа пополудни над корпусом пересыльной тюрьмы взвился красный флаг с надписью «Свобода». К этому времени Дзержинский, единогласно выбранный председателем революционной тройки, открыл митинг. В своей речи он объявил, что считает положение внутри тюрьмы чрезвычайным и требует абсолютной дисциплины и порядка. Уголовные, не желающие повиноваться приказам и распоряжениям революционной тройки, будут арестованы и заключены под стражу в камере номер один.
— Ура! — крикнул уголовный Ципа, первый в партии подхалим и подлиза.
Дзержинский улыбнулся. Глаза его блистали.
В заключение своей речи он поздравил товарищей с тем, что отныне они — граждане самостоятельной республики, отвергающей власти и законы Российской империи.
После митинга тройка занялась распределением обязанностей среди граждан новой республики. Был назначен повар, его помощник, кухонный мужик и начальник воды. Эту последнюю должность пришлось учредить в связи с тем, что воды было немного и ее, на всякий случай, приходилось экономить. Потом был назначен начальник внутренней охраны, командующий гарнизоном и командующий отдельным корпусом уголовных. Потом на совещание пригласили нового начальника внутренней охраны и вместе с ним выработали поименные списки дежурных по безопасности республики…
В сумерки к тюрьме пришел Лятоскевич.
— Откройте, господа, ворота, — сказал он.
— Сейчас будет доложено тройке, — ответил дежурный.
Лятоскевич курил сигару, смотрел на облака, ждал. Из всех щелей на него смотрели заключенные. Это было удивительное зрелище: начальник тюрьмы просится в тюрьму, а его не пускают.
Но он чувствовал, что на него смотрят, и вел себя, в общем спокойно, прогуливался со скучающим видом, насвистывал из «Цыганского барона», изредка поглядывал на часы, Дежурный не возвращался.
Лятоскевич начал нервничать.
Неподалеку за частоколом каркнула ворона, потом мяукнула кошка, потом тихо и печально захрюкала свинья.
Стараясь не обращать внимания на эти шутки, Лятоскевич прогуливался возле ворот — десять шагов вперед, десять назад.
Еще раз посмотрел на часы. В общем, не так-то уж и много прошло времени, самое большое — четверть часа. Если бы только они не глазели на него из всех щелей!
Теперь за частоколом закричал гусь, вслед за гусем в мирной вечерней тишине начал блеять баран. Что они хотят сказать этим блеянием, черт бы их драл!
Наконец в воротах отворился круглый волчок, в волчке показалось лицо дежурного.
Дежурный сказал:
— Просили передать, чтобы вы завтра наведались. Сегодня мы занятые.
Это было чудовищно по оскорбительности, но что он мог ответить? Закричать? Затопать ногами? Выстрелить из револьвера в этот проклятый волчок, из которого на него смотрело какое-то нахальное мальчишеское лицо?
Помедлив, Лятоскевич произнес, как ему казалось, с холодным достоинством:
— Хорошо. Я приду завтра. Но заметьте — в последний раз.
В ответ Лятоскевичу из-за частокола длинно и глупо замычала корова. Он содрогнулся и зашагал прочь — близкий к обмороку, бледный как смерть. Ночью у него случился сердечный припадок. Лежа без подушки на диване, с мокрой тряпкой на впалой волосатой груди, он говорил жене прерывающимся голосом:
— Если об этом узнают в министерстве, я пропал. Вы понимаете? Если бы они убили хоть одного надзирателя, все было бы иначе, но они никого не убили и не ранили, они просто выгнали вон из тюрьмы всех конвойных, всех стражников, всех надзирателей. Это неслыханно! Я конченый человек, Сузи! Боже мой, что мне делать?
Рано утром он опять притащился к воротам тюрьмы, и караульный с вышки побежал доложить о нем Дзержинскому.
— Пусть подождет, — был ответ.
Около часа всесильный начальник Александровского каторжного централа гулял возле острога. Утро было холодное, ветреное, по небу плыли рваные серые тучи. Лятоскевич мерз. Ночью он получил телеграмму из Иркутска. Вице-губернатор телеграфировал о том, что инцидент ни в коем случае не должен иметь огласки, что Лятоскевичу следует немедленно же войти в переговоры с восставшими арестантами и в возможно короткий срок замять дело.
Хорошо ему посылать депеши — пусть бы сам попробовал замять дело.
Он поднял воротник форменной шинели, поправил фуражку.
Чем все это кончится, интересно знать…
После длительного ожидания в воротах открылся волчок, и начальнику централа были предъявлены требования арестантов. Требований было много. Стоя возле ворот, Лятоскевич записывал их для памяти в книжку. Переговоры от имени тройки вел Бодров. Дзержинский по свойству своего характера такими делами заниматься не мог.
— Ваши требования слишком серьезны и слишком многочисленны, для того чтобы я мог ответить на них сразу, — сказал Лятоскевич, — я должен посоветоваться и подумать.
— Думайте, — сухо ответил Бодров. Опять щелкнул этот проклятый волчок.
В тюремном дворе пели. Лятоскевич прислушался, это наверняка про него:
Далеко в стране Иркутской,
Между двух огромных скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский централ.
Этой песней его встретили здесь, в тюрьме, несколько лет назад, когда он приехал сюда начальником централа; он слышит ее постоянно, каждый день, всегда…
Дом большой, покрытый славой,
На нем вывеска висит,
А на ней орел двуглавый
Раззолоченный стоит.
Это, братцы, дом казенный,
Александровский централ,
А хозяин сему дому
Здесь и сроду не бывал.
Он живет в больших палатах,
И гуляет, и поет,
Здесь же в сереньких халатах
Дохнет в карцере народ.
Еще несколько минут он простоял возле ворот, обдумывая предложения, и слушал знакомую страшную песню.
Здесь за правду за народну,
За свободу кто восстал,
Тот начальством был отправлен
В Александровский централ.
Есть преступники большие,
Им не нравился закон,
И они за правду встали,
Чтоб разрушить царский трон.
Он уже шел к дому по узкой тропинке, протоптанной меж пихт и елей, а песня догоняла его, тяжелая и грозная:
Отольются волку слезы,
Знать, царю несдобровать …
Дома Лятоскевич хлопнул две рюмки водки, закусил моченым яблоком и вызвал Токарева — советоваться.
Вечером посланный от Лятоскевича объявил, что господин Лятоскевич требования заключенных может выполнить только частично.
— Не все? — спросил Бодров.
— Нет, не все. Господин Лятоскевич очень сожалеет, но положение таково, что это не в его власти.
Волчок в воротах захлопнулся.
Ночью жгли во дворе тюрьмы костры, пели песни, читали стихи. Дзержинский ходил от костра к костру, улыбался своей печальной улыбкой и прислушивался к пению. В золе пекли картошку и ели тут же, сидя на земле. Было странно, что все это в тюрьме, что за тюремной стеной, там, снаружи, стоят и дежурят тюремщики с винтовками, что кругом тайга, а не волжские степи, что за горою Ангара, а не Волга.
Тучи ночью разошлись, вызвездило, небо было черное, очень далекое; пахло печеным горячим картофелем, дымом, войной. Многие из арестантов сидели с оружием, отобранным у конвоя, с револьверами, с саблями, с винтовками, и, глядя на них со стороны, можно было подумать, что это не запертые в остроге арестанты, а маленькая часть какой-то странной армии, грозной, непобедимой, вечной со времен Пугачева и Разина, кусочек того, что все равно нельзя уничтожить, того, что было, но не исчезло, что есть, что будет, что останется…
Дзержинский грелся у костров, почти не разговаривал. Думал ли, мечтал ли — кто знает…
Может быть, рисовались в его воображении еще неопределенные, но величественные контуры будущих, очень далеких лет, красногвардейские полки, знамена победившей революции…
Может быть, глядя на матроса, молчаливо сидевшего у костра с винтовкой на коленях, он представлял себе его командиром броненосца, над которым peял алый флаг.
Или видел Бодрова, невозмутимого Бодрова, с его всегдашней улыбкой на крупных свежих губах, дипломатом страны, в которой победила революция. Где-нибудь на международном съезде он говорит речь, невозмутимый, серьезный, спокойный, во фраке с белой грудью, с цветком в петлице, говорит и улыбается, и смеется, и только глаза у него не смеются, глаза такие, как сейчас, когда он сидит над костром и смотрит на языки пламени, на искры, на клочья дыма…
Или Дрозд, длинный Дрозд, — кем будет он?
Или межевой техник Воропаев, осужденный на пять лет каторги за то, что пошел вместе с мужиками против помещика, пожелавшею отобрать у мужиков те последние клочья земли, которые у них были…
Что будет делать Воропаев, когда победит революция?
Доживет ли?
Увидит ли?
Он стоял, смотрел, думал, а возле одного из костров уже завели плясовую, гремела песня. Длинный Дрозд плясал, а хор надрывался:
Не из чести, не из платы
Не идет мужик в солдаты —
Не хочет, калина, не хочет, малина!
Утром пересыльную тюрьму окружили на всякий случай войска, присланные из Иркутска. С наблюдательной вышки острога было видно, как Токарев, улыбаясь, сладкой улыбкой, разговаривал с пузатым поручиком, командиром отряда, как он показывал на острог рукою и что-то старательно объяснял. Шурпалькин смотрел и угрюмо молчал; потом, когда Токарев поднес поручику спичку, чтобы тот закурил, матрос скрипнул зубами и, ни к кому не обращаясь, грустно сказал Дзержинскому:
— Было б мне на вашу дисциплину и сознательность не сдаваться.
— А что? — спросил Дзержинский.
— Смотрите, как пляшет старый козел, — со злобной тоской в голосе воскликнул матрос, — смотрите, до чего радуется! Разрешите, я из винтовочки приложусь, а?
И винтовка мигом очутилась у него в руках.
Увидев солдат, уголовники во главе с Ципой пришли к Дзержинскому с требованием сдачи на милость победителя. Дзержинский молча выслушал речь Ципы, потом ответил:
— Идите в камеру. Вы арестованы.
Понурившись, уголовники ушли. Собственно, они только этого и хотели. Быть арестованными — значило быть ни в чем не виноватыми в глазах начальства. Что ж, политические силой принудили их участвовать в восстании!
Бодров непрерывно вел переговоры с Лятоскевичем. Волчок в воротах был открыт, в двух шагах от волчка стоял Лятоскевич, сосал сигару и торговался. За Лятоскевичем стояли солдаты в белых гимнастерках, стыли на ветру и ждали. Перед солдатами прохаживался прихрамывающий на одну ногу офицер.
Тройка заседала непрерывно. Каждое новое предложение Лятоскевича специальный связной передавал тройке, тройка обсуждала и, прежде чем вынести решение, собирала сходку: сходка решала окончательно.
Настроение держалось все время решительное, боевое и бодрое, связной приносил Бодрову одни и те же постановления тройки и схода:
— Держаться твердо, ни в чем не уступать.
Лятоскевич с каждым часом все более и более заметно нервничал.
— Я хочу говорить с вашим коноводом, — сказал он.
— Я не знаю, о ком вы говорите, — ответил Бодров.
— Я говорю о вашем начальнике, или руководителе, как он там у вас называется… Я желаю говорить непосредственно с ним!
— Понимаю, — ответил Бодров, — но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Тот, кого вы имеете в виду, положил себе за правило не разговаривать с тюремщиками…
— Ах, вот как?
— Да, именно так.
Теряя терпение, Лятоскевич подошел к поручику и спросил у него, что он думает обо всем этом деле.
Поручик поднял на Лятоскевича злые глаза и раздельно ответил:
— Ничего я не думаю. Я натер себе ногу, солдаты голодны — кончайте скорее.
— Да как кончить-то! — с тоской воскликнул Лятоскевич. — Я не имею права идти на их требования, понимаете? Меня обнесли доносом, вмешалось министерство, я тут ни при чем.
— Ну, и я ни при чем, — ответил офицер. — Меня уж это совершенно не касается.
Лятоскевич с мольбой взглянул на него.
— Дайте залп в воздух, — вполголоса попросил он.
— Никак нет, не могу.
— Почему?
— Инструкция от вице-губернатора — оружия не применять!
— Так на кой леший вы сюда пришли?
— По всей вероятности, для психологического устрашения, — ответил поручик и отвернулся.
Через несколько минут к острогу подъехала лакированная коляска вице-губернатора. Рядом с вице-губернатором сидел сухонький, востроносый чиновник особых поручений, а напротив него — прокурор.
— Ну что же это у вас тут происходит? — не вылезая из коляски и не подавая Лятоскевичу руки, спросил вице-губернатор. — Отставки захотелось или как прикажете вас понимать? Вы что, ослепли, оглохли? Ма-ал-чать, я приказываю! — фальцетом закричал он, хотя Лятоскевич ничего и не говорил. — Ма-алчать и исполнять мои приказания!
— Слушаюсь, ваше превосходительство, — произнес Лятоскевич.
— Приказать солдатам взять винтовки на изготовку.
— Слушаюсь…
— Предложить арестантам немедленно отворить ворота.
— Слушаюсь…
— Пойти на все их требования и немедленно, сейчас же прекратить этот позор, это безобразие… это… черт знает что такое…
— Слушаюсь. Но разрешите, ваше превосходительство, в случае, если они не согласятся, открыть огонь…
— Что?
Лятоскевич повторил свое предложение. Вице-губернатор ненатурально захохотал и пальцем покрутил возле лба.
— Нет, батенька, этот номер не пройдет. Наворотили тут черт знает каких дел с вашим тюремным ведомством, а теперь я в ответе. Нет, дорогой мой, нет, не выйдет. Эк чего захотел, чтобы губернатор открыл стрельбу, а я, дескать, в стороне. Хитер, батюшка, да и я не менее. Прошу исполнять мои приказания.
В четыре часа пополудни Лятоскевич объявил Бодрову, что администрация тюрьмы принимает все требования арестованных и просит спустить красный флаг, убрать баррикады и отворить ворота.
— Передам тройке, — последовал ответ.
Тройка и сход арестантов постановили восстание прекратить по причине полной и всесторонней победы восставших.
— Снимите красный флаг, Шура, — сказал Дзержинский матросу.
Матрос взглянул на него, помедлил, потом ответил с грустью в голосе:
— Есть снять красный флаг, товарищ Феликс!
Он ловко и быстро влез на крышу и на виду у всех снял красный флаг с шеста. Легкий вздох пронесся по толпе.
Когда матрос спрыгнул с лестницы, уголовный Ципа, попавшись ему на дороге, сладко сказал:
— Хорошо как на душе и просторно, что мы победили, правда, Шура? Но флаг жалко!
Матрос молча посмотрел на Ципу и внезапно с необычайной точностью и аккуратностью ударил его в ухо. Ципа брякнулся оземь и завопил, а матрос, точно это его и не касалось, пошел разбирать баррикады.
Они стояли все вместе во дворе тюрьмы, когда заскрипели ворота перед Токаревым, Лятоскевичем и остальными тюремными чинами. В строю стоял Дзержинский, а рядом с ним, плечом к плечу, те, кто вместе с ним вынес всю тяжесть восстания, кто не спал эти ночи, кто не ел, и не пил, и не пел песен, потому что для этого не хватало времени.
Они стояли рядом, вплотную — Дзержинский, Шура Шурпалькин — балтийский матрос, приговоренный к пожизненной каторге, тульский токарь Бодров, межевой техник Воропаев, длинный Дрозд, прозванный в тюрьмах «богом» за невероятные побеги…
Мимо них по тюремному двору медленно и осторожно шли тюремщики, вооруженные до зубов, подозрительно оглядывающиеся, опозоренные три дня назад и жаждущие мести…
Первым шел Токарев.
В руке, на всякий случай, он держал револьвер и шел медленно, порою отдавая приказания своим подручным, и те расходились от него во все стороны двора, к своим постам — «держать и не пущать».
Перед толпою арестантов он задержался на секунду, и глаза его встретились с блистающим взглядом Дзержинского.
— Чего… смотришь? — хриплым голосом спросил вдруг матрос. — Знакомого нашел?
Токарев промолчал.
ПОБЕГ
Бежать он решил в Александровском централе вскоре после майского восстания, но из этой затеи ничего не вышло, потому что он заболел, и заболел тяжело: разом сказались напряженная жизнь последних лет тюрьмы, седлецкая камера с умирающим Россолом, трагические мечты Антона о воле и, главное, весть о том, что Россол умер. Умер он у матери, высланный из Варшавы в Ковно, совсем недавно, на днях. Ничего неожиданного в этом известии не было: чахотка давно приговорила Антона, и ни он сам, ни Дзержинский никогда не обманывали себя, но все-таки известие, о смерти самого близкого человека потрясло Дзержинского. В несколько дней он похудел до неузнаваемости, перестал есть, ни с кем не разговаривал, не смеялся, искал уединения, часами сидел совершенно неподвижно, глядел в одну точку и порою потирал ладонью лоб.
Болели глаза, знобило, не ладилось с сердцем.
Плохо держали ноги, он едва передвигался по камере и не выходил на прогулки. Из разговоров с ним ничего не выходило, это был не тот человек, которого можно было «разговорить». С ним заговаривали, он отмалчивался или отвечал: «да», «нет», «возможно». По-глазам было видно, что он не слушает.
Администрация после восстания в пересыльной была с Дзержинским любезна, почти предупредительна, и как только до Лятоскевича дошли слухи о том, что Дзержинский заболел, он тотчас же прислал к нему фельдшера.
Фельдшер был из породы увлекающихся дураков, и, прописав Дзержинскому порошки, предложил гипноз, которым он занимался, по его словам, как любитель.
— Нет, благодарю вас, — сказал Дзержинский, — это занятие не для нашего брата, ссыльного. Кому в Якутск, тому не до гипноза.
— Очень жаль, — вздохнул фельдшер. — Я этим способом пользовал пана Лятоскевича и довольно-таки удачно.
Дзержинский молчал. Лысый, несмотря на молодость, фельдшер с утиным носом и развязными манерами, был ему неприятен.
Несколько дней Дзержинский решительно ни с кем не общался, даже с Власычем, с которым сговорился вместе бежать. Лежал, закрывшись с головой тужуркой, думал, дремал. Температура у него поднялась высоко, взгляд стал острым, губы потрескались.
Болезнь оборвалась так же внезапно, как и началась. Однажды в сумерках он погулял по коридору, на другой день вышел на прогулку спокойный, осунувшийся, но бодрый и веселый, как раньше. Он уже шутил, посмеивался, рассказывал товарищам о том, как фельдшер собирается лечить его гипнозом, глаза смотрели спокойно и внимательно.
Лятоскевич после восстания сделался необыкновенно добрым — позволил арестантам сидеть во дворе пересыльной сколько угодно. Дзержинский вовсю пользовался этим разрешением. Целыми днями сидел он на солнце, набирался сил, готовясь к побегу, глядел на прозрачное сибирское небо, на ядовито-изумрудную, всегда влажную траву под ногами, на непросыхающие болота в котловине.
В первых числах июня этап пришел в село Качугу. Отсюда начинался сплав на Лене, и здесь жили многие из ссыльнопоселенцев. Власыч кое-кого знал и в первую же ночь позвал Дзержинского на совещание к некоему старику, поселенцу Руде. Руда провел тут иного лет и всю свою округу исходил вдоль и поперек. Выслушав пана Дзержинского, он сказал, что план вздорный, что отсюда бежать никак нельзя, потому что расшибет бревнами.
— Какими бревнами? — не понял Дзержинский.
— Да на сплаве, — сказал Руда сердито. — Стукнет бревном по челноку — и поминай как звали. Шутки шутите, господа.
В комнате было человек десять местных старожилов, ссыльнопоселенцев. Многие из них провели здесь всю молодость, состарились, поседели, но вид у всех был здоровый — кряжи-старики. Пили чай с шанежками, круто солили, мало сахарили.
— Насчет сахару у нас туго, — говорил Руда. — Вот рыбка — это имеется, а сахар, извините, сахар весь вышел. Да вы кушайте, господа, шанежки, не стесняйтесь — аппетит, я чай, имеется в избытке. И рыбки не угодно ли — своего собственного копчения, в Питере такой ни в каком дворе не получить.
— Мы из Варшавы, — сказал Дзержинский.
— Позвольте, не ваших ли рук дело в пересыльной? — прищурившись спросил Руда.
— Республика? — усмехнулся Дзержинский. — Немного и наших рук дело.
Косолапый, медведеобразный Руда поднялся со своей лавки, тяжело ступая, подошел к Дзержинскому и, взяв его за плечи, поставил перед собой.
— Поляк? — спросил он.
— Поляк, — улыбаясь, ответил Дзержинский.
— Мне говорили, что восстание поднял поляк, а фамилию я забыл по старости. Значит, ты и есть тот поляк?
Дзержинский молчал. Щеки его слегка покраснели.
— Он, он, — сказал Власыч. — Дзержинский его фамилия. Он и красный флаг поднял, он и Токарева взял.
Несколько мгновений Руда не отрываясь смотрел в лицо Дзержинскому, потом крепко обнял его и три раза поцеловал.
— Хороший человек! Молодец! Так и надо!
Всыпал в стакан Дзержинскому две ложки сахару и сказал:
— Пей внакладку! Гуляем сегодня!
Разговор, который до этого не очень вязался, стал горячим, оживленным, громким. Старики требовали рассказов, новостей, слушали внимательно, со старомодной вежливостью, поддакивали, умилялись. Выпили один самовар чаю, потом другой, потом еще. Руда колдовал у раскаленной печки, пек свои шанежки, и чем дальше, тем вкуснее они становились. Из погреба принесли еще горшок сметаны, лица у людей покрылись потом.
— Давно я так не едал, — сказал Власыч.
— И не скоро так поешь еще, — таинственно произнес Руда.
После полуночи, когда старики узнали все, что можно было узнать от новичков, разговор опять вернулся к теме побега. Старики долго спорили между собою о том, как надо бежать, и даже поссорились, да так, что один старик, которого другие звали Витей, обиделся и ушел, но за ним побежали, и он вернулся, так что все кончилось благополучно. Еще выпили самовар, наконец вынесли решение: бежать из Верхоленска по направлению к селу Знаменке — разумеется, по реке. Челнок даст в Верхоленске знакомый, верный человек; в путешествии — опасаться плавучего бревна. В случае нехорошей встречи сказаться купцами, едущими в Якутск по торговой надобности. Купеческие фамилии: для Дзержинского — Семушкин, для Власыча — Синих. Запомнили. Семушкин и Синих.
— Семушкин, — повторил Дзержинский.
— Синих, — сказал Власыч.
— А каким товаром торгуем? — спросил Дзержинский.
Старики опять принялись гудеть и ссориться, а опять обидчивый Витя рассердился и пошел, к дверям.
Наконец решили: купцы Семушкин и Синих торгуют мамонтовой костью и едут в Якутск. Понятно?
У Дзержинского от буйных стариков, от их споров, табаку и могучих голосов уже рябило в глазах, но принесли ещё самовар, и вновь началось чаепитие, за которым Руда размяк и стал предлагать другим присоединиться к Дзержинскому и Власычу, чтобы бежать вместе.
— А что, — говорил он, — мы еще себя покажем. Разве нет? Мы, старики, дай бог каждому, мы еще молодым фору можем дать, не правда ли? Поедем, друзья, честное слово, поедем. В Петербург — и к царю. Что, испугался? Не ждал? Вот, брат, царь-государь, какие мы старики! Ты нас на пожизненное упек, а мы — вот они, пожаловали…
Назад шли берегом Лены. Река шумела, было темно, тихо и грустно. Руда взял Дзержинского под руку и говорил ему негромким печальным басом:
— Вы там шевелитесь, господа! Этак мы умрем, а революции и не увидим, какая она такая. Вот мы тут шумим — то да се, а ведь смерть не за горами. Жалко умирать: сидим тут столько лет; десять лет такой жизни по справедливости надо за один считать — разве неверно?
Шагал Руда тяжело; под его ногами что-то трещало и ломалось, как будто это шел не человек, а большой сильный зверь, и в то же время жаловался, как будто он совсем маленький, как будто его обидели, А по тому, как он дышал, было понятно, что он стар, и хотя крепок по виду, но нездоров, и что до революции ему не дожить.
— Ну, что же, прощайте, — сказал он и протянул большую горячую руку.
— До свиданья! — ответил Дзержинский.
— Нет уж, чего там, какое, — прогудел старик и зашагал во тьме назад.
В этапной избе Власыч долго ворочался, не мог, видимо, уснуть, потом спросил:
— А мы-то доживем, Феликс? Или вы спите?
— Нет, не сплю, — погодя ответил Дзержинский. — Вы спрашиваете, доживем ли. Но разве это и есть самое главное? Я думаю, что доживем. Но если бы даже и нет, разве мы могли бы жить иначе? Хоть сколько-нибудь иначе?
Власыч ничего не ответил, только вздохнул громко.
Все произошло так, как предсказал старик Руда. Верный человек в Верхоленске действительно дал лодку-душегубку, выдолбленную из древесного ствола. Лодка могла поднять одного человека, на крайний случай в ней могли уместиться двое, но уже до того плотно, что самое ничтожное движение в челноке приводило к тому, что вода переливалась через борт.
— Шевелиться никак нельзя, — говорил верный человек, пихая ногой, обутой в новый юфтовый сапог, свою душегубку. — Как шевельнешься, так и воды наберешься. Понял? И бревна поберегись, бревно-плывун при ночной тьмище обязательно ваш пароход может перевернуть. Понял? Теперь запомни место, где я челнок захороню. Вон она, дорога, понял? Как с этапки выйдешь ночью, иди на церковь, после на лабаз, после на обчественный колодезь. И все левой руки держись, направо не гляди. Понял?
День был теплый. Однако верный человек был в барнаулке, в кожаных штанах, в теплом шарфе.
— Погоды хорошей не жди, — продолжал он наставлять. — Возьми с собой на обогрев спирту или казенного вина. Погляди вон на избы: дым так и стелет до самой земли — не то дождь будет, не то туман. День-то нынче какой?
— Четверг, — сказал Дзержинский.
— Тяжелый день, — вздохнул мужик. — Дело надо начинать либо во вторник, либо в субботу… А в пятницу — нехорошо.
Помолчали.
Моросил скучный длинный дождь. Лена катила у ног серые воды, пузырящиеся от дождя. Хрипло кричали в поселке петухи.
— Раньше как после полуночи дело не начинай, — сказал верный человек. — Слушай церковного сторожа: как он двенадцать пробьет на колокольне, помолись и выходи… Али неверующие?
— Неверующие, — сознался Дзержинский.
— Ваше дело.
Вернулись в этапную избу промокшими и иззябшими, заплатили верному человеку деньги за душегубку и попрощались с ним.
В сенях этапки Дзержинский столкнулся с конвойным унтер-офицером.
— Больно много гуляете, — сказал унтер. — Не в Варшаве, господин Дзержинский. И что это за мужики к вам в гости ходят?
Дзержинский молча вынул из кармана свидетельство от врача и протянул его унтеру. Унтер прочитал, сложил и спрятал в свою сумку.
— Так сразу в один день два дружка и заболели, — кривя бледные губы, произнес он. — Удивительно, ей-богу, как это у нас происходит. А про верхоленского костоправа я, дайте срок, доложу кому полагается. Дадут ему припарку… Зачем остаетесь? Отдохнуть от этапа или бежать?
— Бежать, — глядя в лицо унтеру, произнес Дзержинский, — вы совершенно правы — бежать!
Ответ произвел желаемое действие. Унтер засмеялся, потрепал Дзержинского по плечу и сказал:
— Очень уж у вас характер раздражительный, господин Дзержинский, даже пошутить с вами нельзя. Гордость в вас большая. Думаете, найдете начальника лучше меня? Не найдете, дорогой. Я еще промеж нашим братом голубем чистым считаюсь, кротким, так сказать, агнцем, а вы нос воротите. Лучше бы те деньги, что вы костоправу за ложное свидетельство заплатили, нам бы на мясо. И солдату хорошо, и конвойному неплохо, да и вы бы внакладе не остались, ей-богу. Ну, останетесь тут до следующего этапа ждать — а какой толк?
Дзержинский молчал.
— То-то, что гордость заедает, — продолжал этапный. — Вы все, политики, гордые, потому уголовным жить на этапах куда просторнее. Платят — и сами живут, и другим жить дают. Конечно, среди нас тоже есть звери. Я разве спорю? Есть очень характерные, но только не так уж много. Давать надо. Дадите — и каторга другая станет. Не узнаете! Так-то, господин Дзержинский…
На следующее утро Власыч и Дзержинский проводили этап, попрощавшись с товарищами, выслушали пожелания счастливой удачи, подождали, пока этап тронется, и вернулись в продымленную, вонючую избу. До вечера спали, набираясь сил для предстоящего пути, в сумерках поели простывшей картошки, скользкой и противной, похлебали супу с хлебом, покурили. Время тянулось томительно долго, говорить было решительно не о чем, обо всем уже переговорили, все было ясно, кроме самого главного: выйдет или не выйдет, поймают или не поймают, — но об этом что ж говорить!
Чтобы не обращать на себя внимания солдата-инвалида, спавшего в сенцах, вылезли в низкое окошко, в колючие кусты, поцарапались и переждали — не проснулся ли солдат. Потом задами, мимо сараев, проваливаясь в какие-то ямы, через заборы, зашагали к церковной площади. На Дзержинского почему-то вдруг напал смех, и оттого, что Власыч шипел на него, делалось еще смешнее, а Власыч сердился и говорил, что это безобразие — смеяться в такие минуты…
Дошли до церкви, ветхой и покосившейся, миновали лабаз, колодезь, начали спускаться к реке. Чем ближе была река, тем плотнее сгущался туман; теперь он стоял сплошной белой стеной…
— Ничего не понимаю, — сказал Власыч, — куда идти. Долго молчали, прислушивались, не залает ли хоть собака. Ничего не было слышно, гробовая тишина. Пошли вниз, и тут начались настоящие мучения. Как найти этот проклятый пень, к которому давеча утром привязали лодку? Сейчас не было ни пня, ни лодки. Ходили по колено в воде, мокли, дрожали от холода, от сырости, от волнения. Ничего глупее нельзя было придумать, чем такая история: потерять лодку, даже не отъехав от Верхоленска.
Власыч совершенно расстроился и измучился: лодки не было, точно она провалилась. А Дзержинский все время хохотал — до того, что даже Власыч не выдержал, тоже засмеялся. И тотчас же лодка нашлась. Она была тут, под самым носом, против того места, откуда они начали свои поиски.
— Видите, — сказал Дзержинский, — стоило вам только засмеяться, и лодка нашлась…
Дзержинский сел на нос, Власыч взял в руки весло. Душегубка была одновесельная, но шла быстро и легко. Власыч греб довольно ловко — один взмах слева, другой справа…
— Вы понимаете, куда мы плывем? — спросил Дзержинский.
— Не понимаю. А вы?
— Я решительно ничего не вижу. Даже воду перед собой не вижу.
Так, во тьме и в тумане, плыли часа два-три. Один раз наскочили на мель, другой раз — на берег, Туман по-прежнему стоял стеной. Дзержинский сидел на носу, свесившись почти к самой воде — всматривался до того, что стало больно глазам, все ждал, что вот-вот покажется в воде бревно-плывун. Наконец показалось. Дзержинский схватил его руками, оттолкнул и прислушался; было слышно, как бревно царапнуло лодку по борту и с легким плеском отошло в сторону.
— Есть? — спросил Власыч.
— Есть, — ответил Дзержинский.
Голос у него был веселый, счастливый.
— Чему вы радуетесь? — спросил Власыч.
— Не знаю, — сказал Дзержинский, — но вы правы — мне весело. Осторожнее! — крикнул он. — Опять бревно! Подождите, не гребите, тут их целая флотилия. Подождите, слышите.
Свесившись вниз, он осторожно разгонял перед собой бревна, одно за другим, освобождая путь душегубке. Власыч помогал веслом. Бревен было много, у Дзержинского совершенно застыли руки от холодной воды.
— Тут просто каша, — говорил он, — невозможно выбраться. Попробуйте назад, Власыч!
Наконец выбрались и отсюда. Некоторое время лодка шла спокойным, верным ходом, потом Власыч стал разгонять. Короткими быстрыми взмахами он перебрасывал весло справа налево и опять направо, все время с большею и большею силой загребал воду.
— Здорово идет.
— Здорово.
— Могу еще поддать пару.
— А надо ли?
— Надо.
— И так идем быстро.
— Зато сколько мы потеряли времени, пока искали эту душегубку…
— Но имейте в виду, что если мы на таком ходу влетим в бревна, я ни за что не отвечаю…
На всякий случай Дзержинский грудью оперся о нос душегубки и опустил руки в воду, на случай, если вдруг на пути появится бревно. Власыч греб и тихонько насвистывал себе под нос. Потом что-то треснуло, и Дзержинский очутился в воде. Все произошло мгновенно. Отплевываясь и задыхаясь, он схватился за борт душегубки, но она тут же с бульканьем пошла ко дну. Где-то наверху, над головой, кричал дурным голосом Власыч…
— Держитесь, не робейте, я здесь…
— Где — здесь?
— Тут, над вами… Сейчас я вас спасу, держитесь… Сейчас я найду палку…
Все было как во сне — и река, и туман, и крики Власыча.
— Наберите в себя побольше воздуха! Откликнитесь, вы живы? Сейчас я найду палку. Плавайте, плавайте!
Пока он кричал, Дзержинский уже понял, в чем дело: лодка налетела не на бревно, как он предполагал, а на старое, уродливое дерево, свесившееся с обрывистого берега к самой воде. Это дерево, в которое с такой силой врезалась душегубка, и перевернуло ее.
К тому времени, когда Власыч нашел ветку, Дзержинский совершенно заледенел. Взобравшись на мокрый ствол дерева, он по стволу дополз до берега и принялся бегать, чтобы согреться. Уже светало. Через несколько минут беглецы поняли, что выбрались они не на берег Лены, а на крошечный, посреди реки, остров, на котором росло несколько сосен да низких разлапистых елей.
Власыч почти не промок: в ту секунду, когда душегубка налетела на дерево, он греб стоя и, собственно говоря, налетела, не столько душегубка, сколько Власыч; ему удалось сразу же уцепиться руками за ствол так ловко, что в воду и не попал.
Развели костер и сели греться у огня. Сырой валежник горел плохо, дымил и трещал. Сидели в смолистом дыму, молчали. Дзержинский, чтобы не дрожать, плотно обхватил себя руками, сидел и покачивался из стороны в сторону, потом не выдержал, еще раз побежал вокруг острова — греться.
Когда совеем рассвело, Дзержинский разглядел за рекою далеко от берега крестьянский обоз, двигающийся по направлению к воде.
Пока мужики поили лошадей, Дзержинский кричал, сложив ладони рупором, чтобы прислали лодку, что с людьми беда и что они за все заплатят. Кричать пришлось так долго, что Дзержинский сорвал себе голос, но мужики в конце концов поняли и прислали лодку, случившуюся поблизости. Когда лодка была совсем уже близко от острова, Власыч вдруг зашептал Дзержинскому, что все переговоры с мужиками будет вести он, Власыч, по той причине, что внешность его гораздо более подходит к внешности купца, нежели внешность Дзержинского, что, кроме того, он когда-то участвовал в любительском драматическом кружке и что в нем есть некоторые не известные Дзержинскому таланты артиста.
— Я их всех просто вокруг пальца обведу, — шептал он, подмигивая Дзержинскому одним глазом и сделав необыкновенно хитрое лицо. — Я им такого Силу Силыча изображу, что вы просто ахнете…
Дзержинский с опаской поглядел на Власыча, но ничего не сказал: лодка уже причалила к берегу, говорить на эти темы было поздно. Власыч же, как-то странно согнув ноги в коленях и подбоченясь, пошел навстречу перевозчику, восклицая по дороге ненатуральным голосом:
— Здорово, братушка-землячок! Поклон тебе да ин до самой матери сырой земли! Здравствуй, православный! И-эх, какая нас беда застигла неминучая, беда горючая…
И он понес такой вздор, что Дзержинскому показалось: вот сейчас, сию секунду, перевозчик снимет с себя пояс и молча начнет вязать руки неудачливому артисту, но… перевозчик оказался, по счастью, глухонемым. Промекав что-то, в общем довольно почтительное и приветливое, он снял драный треух, поклонился, подождал, пока беглецы сели в его лодку, взмахнул веслами. Пока плыли, Дзержинский уговаривал Власыча не переигрывать, но Власыч заупрямился и сказал в ответ, что Дзержинский не был любителем, а он был и что он лучше знает, как изображать купца, торгующего мамонтовой костью…
Лодка врезалась в отлогую прибрежную косу, поджидавшие купцов мужики подтянули ее покрепче к берегу и низко поклонились Власычу. Едва ступив на землю, Власыч торжественно перекрестился широким истовым крестом, стал на колени, земно поклонился, поцеловал песок перед собой и рыдающим голосом провозгласил:
— Возблагодарим же господа бога нашего, избавителя сладчайшего, премилостивейшего, всеблагого…
И, раз за разом макая лоб в сырой речной песок, он начал завывать таким режущим уши, противным и неестественным голосом, что Дзержинский едва не прыснул и спасся только тем, что сам сотворил земной поклон, надолго спрятав смеющееся лицо в сочной весенней траве…
Мужики, которых было человек семь, тоже опустились на колени, и скоро над рекою поплыли торжественные звуки церковных песнопений. Власыч служил, как заправский поп, а мужики почтительно ему внимали. Наконец Власыч последний раз осенил себя и мужиков крестным знамением, вздохнул, повернулся к мужикам красным от натуги лицом и громко сказал:
— А теперь, братцы, я вас должен от всего моего благодарного сердца поблагодарить за наше счастливое спасение! Спасибо, братцы!
Обтерев рот рукавом, он обнял и поцеловал сивобородого мужика, стоявшего впереди остальных, за ним поцеловал второго, за этим хромого мужика, которого другие звали Милован. Так он перецеловал всех и каждому при этом говорил:
— Спаси тебя господь!
Потом Власыч дал всем мужикам на водку очень щедро.
Мужики громко загалдели и стали кланяться, а Власыч стоял посредине, как скала, разглаживая усы, отросшие на этапах и рассказывал историю их бедствия.
Когда ехали на подводах к селу, Милован, с которым Дзержинский сидел рядом, сочувственно сказал:
— А твой-то большак с горя малость свернулся.
И покрутил пальцами возле лба.
— Да уж, что уж, — неопределенно ответил Дзержинский и отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
В селе поели, обсушились, обогрелись.
Днем выглянуло солнце, беглецы наняли подводу и отправились дальше.
Не проехали и нескольких верст, как повстречали бричку, в которой мчался какой-то полицейский чин в форменной фуражке, с саблей. Спасла фуражка — Дзержинский вовремя заметил яркий околыш, крикнул Власычу: «Ложись!»— и сам лег на дно телеги.
Гремя колокольцами, бричка земского, запряженная тройкой караковых, промчалась мимо.
И вновь подвода заскрипела немазаными осями по бесконечной, безлюдной тайге.
Вечером, подъезжая к деревне, попали в беду.
Возле околицы стояла толпа мужиков и баб. Здесь же были и ребятишки. — Стояли неподвижно, мрачные, с печальными лицами.
— Чего они стоят? — спросил Дзержинский у возницы.
— А кто их знает, чего они стоят, — последовал ответ.
Придержали на минуту лошадей, пошептались — может быть, свернуть? Но сворачивать не было смысла: если захотят, догонят — возле околицы на выгоне паслись стреноженные сытые кони; решили ехать, положась на авось. Когда подъехали к толпе вплотную, старик, стоявший впереди всех, рухнул на колени и стал просить, чтобы его не погубили, не оставили без родителя малых детушек, без хозяина бабу…
Власыч, совсем уже приготовившийся еще раз изобразить тронувшегося умом Силу Силыча, успел только вылезти из подводы и произнести что-то вроде «не робей, детинушка, мы купцы-миллионщики», как положение вдруг изменилось.
Старик поднялся с колен, прищурился и спросил:
— Каки таки миллионщики? Чего врать-то! Кажи бумагу, не то мигом в холодную сведем.
Толпа вокруг загудела, послышались голоса:
— Да беглые они, чего с ними вожжаться…
— Зови сюда старосту…
— Ездиют, иродово племя!
Власыч бил себя в грудь, орал, но его уже не слушали, и Дзержинскому пришлось вмешаться. «Э, была не была, — подумал он, — пропадать, так с музыкой!» В секунду промчалось перед глазами детство, польские паны-шляхтичи, их манера кричать на прислугу, все то, что так страстно ненавидел, и он закричал и поднял над головой крепко сжатый кулак.
— Безобразие! — по-польски кричал он. — Я вам покажу задерживать панов, государственных чиновников, вы у меня узнаете, почем фунт лиха, хлопское отродье! Я к вам полк солдат приведу, вы меня век не забудете! А ну, подать мне перо и бумагу! Да живо, я промедлений не терплю. Кто здесь присутствует, какие фамилии? Сейчас всех перепишу на лист для пана генерал-губернатора, пан генерал-губернатор…
Слова «генерал-губернатор» Дзержинский произносил по-русски, а все остальное по-польски. Ему не пришлось особенно долго кричать. Старик вновь рухнул на колени и завыл, чтобы господин чиновник, его превосходительство, пожалел неразумную голову старичка.
Напуганный до смерти, он просил отобедать у него и остановиться, но Дзержинский наотрез отказался и пошел ночевать к другому мужику, — менее сытому по виду и менее хитрому. Такие всегда надежнее.
У этого мужика, по фамилии Русских, Дзержинский узнал, что общество ждет возвращения земского начальника и волнуется потому, что пропило земские деньги. Власыча же и Дзержинского приняли за земского начальника, ожидаемого с часу на час. Старик, на которого накричал Дзержинский, главный виновник пропоя денег: он первый подал мысль о том, что можно как следует гульнуть на эти деньги.
Посоветовались в сенях и решили в деревне не ночевать. Мало ли что…
В конце сентября старик Руда получил у себя в Качуге посылку из-за границы. В посылке был очень хороший чай, сахар-песок и сахар-рафинад, банка кофе и много кислого монпансье.
Вскрывать посылку собрались все старики.
На самом дне ящика обнаружили маленькую записочку. В записочке было написано: «На добрую память от купцов, торгующих мамонтовой костью».
— Удрали-таки! — закричал старик Руда. — Это надо себе представить, удрали! Вот молодцы!
Старикам было о чем поговорить в этот вечер.
МАЛЬЧИКИ
Вечером Дзержинского перевели из общей камеры в третий этаж. Тут были одиночки, но из-за переполнения всей тюрьмы в каждой одиночке сидело по двое-трое заключенных. И в этой камере койка была уже занята. Вначале он подумал, что на койке спит один человек — толстый и большой, но позже понял, что не один большой, а два маленьких.
Он стал у кровати и посмотрел. Лампа едва светила. Дзержинский открутил фитиль и наклонился над спящими. Что за черт! Это были дети, двое детей, укрытых гимназической шинелью. Вот так номер! Им обоим не больше тридцати лет. За что их упрятали сюда? Они, наверное, от страха плачут по ночам и зовут маму!
Мальчики спали спокойно. Дзержинский сел возле столика на стул, подпер голову руками и задумался, глядя на спящих. Вот один зачмокал губами во сне. Прошло еще немного времени, и он улыбнулся. Чему? Что ему снится? Наверное, что-нибудь очень хорошее и уютное, вроде чаепития с папой и с мамой за круглым столом. Вкусный чай с молоком, и булка с маслом, и мама, и папа, а самовар ворчит и поет. Хороший сон. Вот каково будет пробуждение?
Дзержинский даже крякнул от сострадания и жалости, представив себе пробуждение мальчика.
— Ну что я ему скажу, — со скорбью подумал он, — ну чем мне ему помочь?
С полчаса Дзержинский просидел совершенно неподвижно, потом встал, взял свой узелок с продуктами и принялся готовить ужин. Никогда он так не возился с ужином, как в этот раз, и все удалось на славу: и маленькие бутерброды с колбасой и свежим огурцом, и крутые, аккуратно разрезанные и посоленные яйца. Были у него и сушки, и леденцы. Леденцы выглядели необыкновенно нарядно среди всего этого царского угощения.
Накрыв на стол, он наклонился к спящим и негромко сказал:
— Прошу вставать! Ужин сервирован в золотом зале! Кушать подано!
Стриженный под машинку мальчик слегка приоткрыл глаза и сонным, теплым взглядом окинул Дзержинского. Несколько мгновений он ничего не понимал, потом сел на кровати и спросил:
— Вы новенький?
— В каком смысле? — не понял Дзержинский.
— Вас только что арестовали?
— Нет, не только что. А вас?
— Два месяца тому назад. Давайте познакомимся. Сережа!
И он подал Дзержинскому теплую после сна руку.
— Будите вашего товарища, — сказал Дзержинский, — будем ужинать.
Сережа разбудил того мальчика, который улыбался во сне. Этот второй был худеньким, с девичьим румянцем и длинными ресницами.
— Борис Войтехович, — представился он.
На еду мальчики смотрели горящими глазами, но ели очень мало, видимо, стеснялись. Дзержинский посоветовал есть вовсю. Тогда Борис Войтехович сказал:
— Мы не можем объедать вас, товарищ, потому что нам нечем ответить на вашу любезность. — И живо добавил — Впрочем, я съем еще пол-яичка. Видимо, организм требует белков.
Мальчики оказались очень милыми, живыми и простыми. Борис Войтехович любил говорить такие слова, как «организм», «миссис», «идея», и «начало начал», а Сережа был обладателем отличной коллекции марок, в которой имелась даже такая редкость, как «Мальта юбилейная». Что это за «юбилейная», Феликс Эдмундович не знал, но Сережа говорил о ней с таким огнем в глазах, что Дзержинский сделал вид, будто «Мальта юбилейная» поразила и его.
За разговорами о революции и о Гегеле (Боря, несмотря на свои шестнадцать лет, уже пробовал читать Гегеля) время летело незаметно. Говорили до полуночи, а к полуночи Дзержинский перевел разговор на крокет и на плавание. Своим необыкновенным чутьем он понял, что мальчики находятся в том страшном нервном возбуждении, которое в любую секунду может прорваться слезами, и перевел «умный» разговор на совсем иные темы. И, хотя мальчики уснули довольно спокойно, тем не менее ночью он слышал, как плакал Сережа, и сердце его разрывалось от жалости к этому маленькому собирателю марок, оказавшемуся в тюрьме.
— Вам не спится, Сережа? — спросил он шепотом. — Здесь, наверное, душно?
— Да, душно, — икая от слез, сказал Сережа.
— Вы подышите в волчок, — посоветовал Дзержинский. — Это помогает… — И негромко добавил — Ничего, Сережа, завтра займемся вашим делом. Расскажите-ка мне, за что вас взяли?..
Они проговорили часа два. Шепотом Сережа рассказал их историю. Они в гимназии издают журнал. Редактор Борис Войтехович (ведь он замечательно, замечательно умный человек, ясная голова, аналитик по природе), да, редактор Борис, а издатель — Сережа. То есть, что значит издатель? Дело в том, что у него, у Сережи, недурной почерк, он знает целый ряд каллиграфических фокусов, и он, так сказать, пишет журнал. Ведь журнал рукописный. И вот они написали статью. В этой статье обругали инспектора. Инспектора — не как индивидуум, а как индивидуалистическое начало того, что само по себе далеко не индивидуально. Тут Сережа запутался.
— Я что-то не понимаю, — сказал Дзержинский.
— И я, — сознался Сережа, — но знаете, товарищ, дело в том, что эту статью писали вовсе не мы с Борисом, а один наш восьмиклассник. У него брат социал-демократ. И мы не могли выдать его. Там ведь не только насчет инспектора, там насчет царя многое есть. Вы ведь согласны со мной, что мы, как честные люди, не имели права выдать нашего товарища? И мы сказали, что это мы сами написали…
— Конечно. Но позвольте, — сказал Дзержинский, — ведь вы даже не поняли, в чем там дело?
— Да, — согласился Сережа, — я переписывал статью не по смыслу. Я просто слово за словом переписывал. Но, как честные люди, мы с Борисом дали клятву (о, вы не знаете, какой удивительный человек Борис!), мы с ним дали клятву не выдавать…
— Ну, вот что, милый Сережа, — перебил Дзержинский, — давайте сейчас поговорим о чем-нибудь другом, повеселее, а завтра с утра мы примемся за ваше дело и авось поможем вам…
Утром Дзержинский разбудил обоих мальчиков очень рано, несмотря на то, что они просили еще хоть минуточку.
— Гимнастику! — приказал он. — За два месяца вы уже пожелтели в тюрьме. Ну-ка! Делайте то, что буду делать я! Наберите в себя побольше воздуху. Так! Сережа, не стесняйтесь! Ну! Раз! Вытяните вперед руки. Хорошо. На корточки! Молодцом!
Первое занятие длилось двадцать минут.
— Завтра займемся подольше, — пригрозил Дзержинский, — а теперь попрошу вас как следует вымыться.
Он достал из своего узелка мыло и мочалку.
— Вот, пожалуйста! У вас у обоих черные шеи. Так нельзя. Настоящий человек должен и в тюрьме оставаться человеком. Мойтесь!
После того как мальчики вымылись, он велел им раздеться догола и растереться сырой мочалкой.
— Холодно, — сказал Сережа.
— Что? — спросил Дзержинский.
Сережа не рискнул повторить и принялся за обтирание.
— Теперь, — произнес Дзержинский, — теперь мы возьмемся за уборку нашего жилья. Мы люди, а камера наша похожа на свинарник. Неужели вы могли прожить в этой камере два месяца?
Мальчики молчали.
Через два часа с небольшим камера была убрана так, что ее нельзя было узнать.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал Дзержинский, — а теперь мы будем пить чай. Хочется чаю?
За чаем Дзержинский все время смешил мальчиков — очень комично и очень похоже передразнивал Сережу, как тот моется, словно кошка лапой. Мальчики хохотали, и им обоим казалось, что они давным-давно знают этого удивительного человека, которого судьба только вчера послала им в камеру. И больше всего на свете они боялись сейчас, что Дзержинского уведут от них и они опять останутся вдвоем.
После обеда Дзержинский стал против дверного волчка и принялся стучать. Он стоял спиной к стене, смотрел в волчок и стучал, а мальчики, открыв рты, следили за ним.
— Товарищи, товарищи, товарищи, — стучал Феликс Эдмундович, — тут в камере заперты два мальчика-гимназиста, оба из провинции. Передач, денег у них нет: родители не знают, где они. Мальчики сидят за политическую шалость. У кого есть связи с волей, передайте на волю. Фамилии гимназистов…
Он стучал долго, до тех пор, пока не объяснил все точно о своих подопечных гимназистах, потом сел за стол и начал лепить из хлебного мякиша шахматные фигурки. Весь день прошел в шахматной игре, в веселых разговорах, в рассказах Дзержинского. К вечеру мальчики устали и начали клевать носами. Этого, главное, и хотелось Дзержинскому. Он хотел, чтобы они наконец устали, — тогда ночь пройдет для них спокойно. Ложась, он с веселой угрозой в голосе посулил им:
— А завтра я вам закачу такую порцию гимнастики, что вы совсем развеселитесь. Кстати, завтра с утра будем чистить сапоги. Тут есть печная сажа, и наши сапоги просто засверкают.
Ночью его вызвали на допрос. От скрипа ржавого замка Борис проснулся и поднял голову. Увидев, что Дзержинский одевается, он толкнул Сережу, и оба мальчика встали. Спросонок и от волнения их била дрожь; они сидели на своей койке и, широко открыв сонные глаза, смотрели на жандарма с фонарем, на Дзержинского, на тяжелую ржавую дверь.
— Куда вы? — наконец спросил Боря.
— Я скоро вернусь, — ответил Дзержинский, — вы не ждите меня.
— А вас не переведут? — дрогнувшим голосом спросил Сережа.
Дзержинский не знал, переведут его или нет, но ответил, что ни в коем случае не переведут, и на прощание, в дверях, помахал мальчикам рукой.
Допрашивал Дзержинского душистый ротмистр. В комнате следователя пахло сигарой, на полу лежал большой ковер, окно с решеткой было завешено портьерой.
Тут ничего не должно было напоминать тюрьму. Над креслом ротмистра висел поясной портрет бородатого Александра III. Чтобы не хотелось спать, следователь пил черный кофе.
Как на прошлых допросах, Дзержинский не показал ничего. Когда его спрашивали, он молчал. Да и о чем они могли разговаривать — надушенный ротмистр, розовый, кудрявый, сытый, и профессионал-революционер Феликс Эдмундович Дзержинский?
Тикали часы, потрескивали дрова в камине; офицер ходил по комнате, сложив руки за спиной, позванивая шпорами.
— Неужели вам не надоела тюрьма? — спросил вдруг ротмистр, близко стоя к Дзержинскому и подрагивая коленкой. — Неужели вам не хочется на волю?
Дзержинский молчал.
— И есть вам нужно получше, — бархатным голосом продолжал жандарм. — Поглядите на себя, какой вы бледный и измученный. Вам нужны молочные продукты, свежая зелень, может быть, пивные дрожжи.
Дзержинский медленно поднял голову и коротко взглянул в розовое лицо ротмистра. Ненависть пылала в его прекрасных глазах, и этого огня так испугался ротмистр, что даже отступил на шаг.
— Что вы? — спросил он.
— Ничего, — сказал Дзержинский. — Имею заявление.
Заявление? Первый раз этот арестант произносит слово «заявление». Что ему нужно?
Ротмистр сел за стол и сказал, что слушает. Дзержинский еще раз поглядел на ротмистра, но уже иначе, — так, как смотрят на вещи.
— Дело, в том, — сказал он, — что здесь, в тюрьме, содержатся два мальчика. Их держат уже два месяца, они изголодались, измучились. Обвинить их не в чем. Мне хорошо известно, что если мальчики не будут выпущены, в газетах всего мира могут появиться статьи о том, что у вас содержатся политические преступники — малыши…
Жандарм наклонением головы дал понять, что понял слова Дзержинского.
— Только один вопрос, — сказал он. — Кто же это собирается писать отсюда в заграничные газеты?
— На вопросы такого рода я, как вам известно, не отвечаю, — сказал Дзержинский.
— И никогда не будете отвечать?
— Никогда!
— А после трех суток карцера?
— Никогда.
— А после недели?
— Никогда.
Теперь они стояли друг против друга — маленький, розовый, похожий на елочного ангелочка ротмистр и тонкий, с пылающими от ненависти глазами Дзержинский.
Ротмистр позвонил и приказал надзирателю отправить Дзержинского на неделю в карцер.
Только через неделю он вернулся к себе в камеру. Мальчики встретили его такими воплями восторга, такими объятиями и прыжками, что у него задрожали губы.
— Ну, будет вам, — говорил он, — успокойтесь, а то меня опять в карцер погонят за этакий шум… Тише!
За эту неделю он совсем осунулся и пожелтел, но глаза его горели тем же удивительным огнем.
Сели за еду, и пошли разговоры.
Оказалось, что за время отсутствия Дзержинского здесь все время стучали, но мальчики не поняли, в чем дело, и не ответили. Еще сегодня утром стучали.
— Значит, есть новости, — сказал Дзержинский.
Новости действительно были, и хорошие: дело мальчиков сдвинулось с мертвой точки, нашелся адвокат, который завтра должен был прийти в камеру, и адвокат уже дал знать родным Бориса и Сережи.
— Да, нас вызывали на допрос, — тараторил Сережа. — На нас так стучали кулаком, что просто ужас! Но я, даю вам честное и благородное слово, совершенно не испугался. Подумаешь!
За эту неделю с Сережей произошла разительная перемена: у него стал ломаться голос. Он теперь говорил то басом, то вдруг пускал отчаянного петуха, краснел, конфузился и переходил на тенор.
— Черт знает что, — бормотал он в таких случаях, — простудился я, что ли?
В камере было грязно, и Дзержинский опять объявил аврал: втроем мыли пол, стены, чистили, скребли, и убирали.
— Но гимнастикой мы занимались, — говорил Борис, — каждый день занимались. Правда, Сергей?
Они никогда не называли один другого Сережей или Борей — называли полным именем или по фамилии и довольно часто ссорились друг с другом. Поссорясь, они переходили на «вы», отворачивались один от другого и делались нелепо вежливыми.
Мирить их приходилось каждый день по нескольку раз. Дзержинского они слушались беспрекословно и смотрели на него влюбленными глазами.
Теперь мальчики получали большие вкусные передачи с воли и объедались до того, что Дзержинский строго приказал есть только в положенные для еды часы. Без Дзержинского они ничего не ели, каждое яблоко делилось на три части, и если он отказывался от своей порции, обидам не было конца.
Через Дзержинского вся тюрьма уже знала о мальчиках; многие знали о том, что они сидят из-за того, что не выдали товарища. На прогулках мальчикам весело подмигивали, а один бородатый арестант во время прогулки подарил Борису самодельный фокус из резинки.
На несколько часов мальчики даже слегка заважничали, но потом Дзержинский занимался с ними алгеброй и как следует пробрал их за невнимательность — важность сразу исчезла.
Вечером в воскресенье Борис был на свидании с отцом и вернулся в камеру с красными от слез глазами, но сияющий и довольный.
— Нас обоих исключили из гимназии с волчьим билетом, — сказал он. — И тебя, Сергей, и меня.
У Сережи вытянулось лицо.
— Что же мы будем делать? — спросил он.
— Не знаю, — ответил Борис. — Но папа, знаешь, что мне сказал, знаешь?
— Что?
Борис посмотрел на Дзержинского, потом на Сережу, потом опять на Дзержинского. Глаза у Бориса блестели, на щеках играл румянец.
— Папа сказал, — произнес Борис, — папа сказал, что он одобряет наше поведение. И мама тоже. И твоя тетя тоже. Они гордятся тем, что мы не выдали товарища. А про гимназию папа сказал: «Очень жаль, конечно, но я гимназии не кончал, а стал человеком…»
Борис повернулся к Дзержинскому.
— Теперь папа вот что просил вам передать, — сказал он дрожащим голосом, — что мы… мы все… любим вас как родного и никогда, никогда не забудем.
А еще через день мальчиков выпустили.
Прощались долго, и Сережа ревел, как теленок, в голос. У двери стоял молодой солдат и хлопал глазами: вот странность — уходит из тюрьмы на волю и ревет!
Оба мальчика были еще в гимназической форме, но форменные пуговицы отпороли из гордости. И шинели теперь не застегнуть было.
Борис долго подыскивал, что бы сказать Дзержинскому на прощание, но ничего не придумал, тоже заплакал и обнял Феликса Эдмундовича.
— Ну, ну, — говорил Дзержинский, — до свидания, милый мой. Иди! А то раздумают и не выпустят. Идите! Я тоже буду вас помнить.
Он был бледнее обычного, но казался совсем спокойным. Когда дверь за мальчиками захлопнулась, Феликс Эдмундович подошел к окну и долго глядел сквозь решетку на маленький клочок бледно-голубого неба.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше
Ф. Дзержинский. «Письма»
КАРТИНЫ
Петя Быков предъявил свой мандат инспектору пограничной таможни, приятному старичку в пенсне на черной ленте. И, несмотря на то, что в мандате говорилось о том, что Петр Авксентьевич Быков является комиссаром, что ему должны оказывать всяческое содействие и помощь организации, войсковые части, учреждения и даже отдельные граждане, несмотря на лиловую печать, исходящий номер, число—2 января 1918 года — и подпись с широким росчерком, бумага не произвела на старичка никакого впечатления. Прочитав мандат, Провоторов посмотрел на Быкова сквозь стекла пенсне, потом снял пенсне и, держа его возле уха, стал молча, со злым любопытством вглядываться в молодое, серое от недоедания, лицо комиссара.
— Так, так! — сказал старичок. — На поправочку прибыли? На подножный корм? Подпитаться? Что ж, дело доброе, отчего и не покушать питерскому пролетарию. Только боюсь — ошиблись… Боюсь — адреса не угадали. Мы ведь тут, скажу вам откровенно, насчет вашей Совдепии сомневаемся. Сильно сомневаемся.
Кровь кинулась Быкову в голову, но он сдержался. Приятный старичок оказался наглой «контрой» и не только не считал нужным притворяться перед молодым комиссаром или хоть молчать, нет, он заговорил и долго, с упоением рассказывал, какой был человек Сергей Юльевич Витте — не чета нынешним, но и он, создав корпус пограничной стражи, все-таки не мог ничего сделать с департаментом таможенных сборов и с вице-директором департамента бароном Ган.
— Самому графу Витте не удалось! — говорил старичок, крутя на пальце свое пенсне. — А уж он, Сергей Юльевич, в два царствия к обоим императорам запросто захаживал. Мы — ох, сила! Границы Российской империи, нуте-кось, сочтите! И везде наш брат, таможенный чиновник, осел, везде корни пустил, все мы друг друга вот как знаем, захотим — контрабанду отыщем, где ее и нет вовсе, а захотим — любой груз пропустим и сам черт нам не брат. Так-то, мосье комиссар! Засим желаю приятного препровождения времени в наших палестинах…
«Твердость и спокойствие!»— приказал себе Петя.
Не попрощавшись со старичком, он вышел из конторы на улицу. Мела поземка, нигде не было видно ни души. Уже смеркалось, в приземистых, засыпанных снегом домишках зажигались желтые огоньки. «Куда же идти? — думал Петя. — Где выспаться, где поесть? Черт, хоть бы махорка была!»
Ночевал он на станции, на клеенчатом диване в бывшей так называемой «царской комнате». Было очень холодно, грызли клопы, на рассвете сторож Федотыч, растапливая печку, сокрушался:
— Да-а, времечко! Раньше, бывало, господин Провоторов ревизора ждут — и-и, батюшки мои! Из Петербурга окорока, закуски разные, от самого Елисеева жабы эти мертвые…
— Какие такие жабы? — удивился Петя.
— Ну, ракушки…
— То — устрицы…
— А нам ни к чему. Словом, жабы мертвые, чего душа ихняя захочет. Выпивка, конечно. Квартиру коврами уберут. А еще — с дамочками за границу съездят, там погуляют, тут отдохнут. Малина! А нонче гляжу на тебя — ну какой ты, батюшка, ревизор? Ни виду, ни брюха, ни осанки…
Петя угрюмо попросил сторожа купить хлеба и молока. Сторож вернулся с пустыми руками.
— Нету, батюшка! — сказал он, топая обмерзшими валенками и глядя в сторону. — Ничего нету. Ни молочка, ни хлебца…
С минуту помолчал, вздохнул и добавил потише:
— Сволочь — житель наш. Не дадим, говорит, для комиссара. Приехал тут командовать! Пущай выметается…
Еще помолчал и добавил:
— Старуха моя нонче щи варит с убоинкой, так ты, батюшка, не побрезгуй. Горяченького покушай. Я тогда позову. А деньги твои — на вот…
Восемь дней Быков присматривался к старику Провоторову и к двум его помощникам, жилистым и туповатым с виду братьям Куроедовым. Братья держали на хуторе, версты за две от станции, семнадцать коров: была у них и сыроварня, и потому от братьев всегда пахло остро и неприятно — рокфором, бакштейном, лимбургским сыром. Завтракали они сметаной, макая в нее пшеничную пампушку, а Провоторов здесь же, в маленькой кухне при таможенной конторе, жарил себе творожники и ел их непременно в присутствии Быкова.
— Вот-с, мосье комиссар, — говорил он, аппетитно поливая творожники сметаной, — обычный мой завтрак. И простоквашу еще цельную, не снятую. Пирожок вот домашний…
Петя не отвечал, занимаясь бумагами. Провоторов чавкал, братья Куроедовы шепотом рассказывали друг другу что-то смешное. Лакейски-почтительный тон чиновничьих «прошений» и «отношений» раздражал Быкова, за каллиграфическими строчками чудились ему рожи бесконечных Провоторовых; и казалось, что и таможенные шнурованные книги с сургучными печатями, и все «входящие» и «исходящие», так же как и «акты ревизии», — все обман, бесконечная подделка, чепуха, которую и читать-то не стоит…
Вечерами, при свете коптилки, в своей «царской комнате» Петя пытался разобраться в таможенных уставах, а когда делалось особенно тоскливо, шел к сторожу и играл с ним в «короля» или в «дурачки» засаленными, тяжелыми от времени картами. Старуха — жена Федотыча — стояла возле стола; глаза ее часто наполнялись слезами; сморкаясь в фартук, она говорила:
— Ну, как есть Минька наш. Ну, как есть…
Петя уже знал, что Минька убит на германском фронте совсем недавно, что имел он Георгия и был добрым сыном. Старик угрюмо отмахивался, иногда кричал фальцетом:
— Не рви душу, тебе говорят…
Бородатое, все поросшее седыми волосами лицо Федотыча морщилось; он кидал карты об стол, уходил за занавеску. В низкой комнате делалось тихо, только постукивали часы-ходики — премия кондитерской фабрики «Жорж Борман». Петя сидел молча, упершись подбородком в ладонь, думал, о том, что нет на земле большего горя, чем горе этих двух стариков, искал слова, которыми можно было бы утешить, и не находил…
Однажды Провоторов, вертя свое пенсне, сказал Пете:
— Хорошего вы себе друга отыскали, мосье комиссар. А? Ведь ваш приятель золотарем был. Вам это обстоятельство известно?
Петя молчал.
— В ознаменование сей его бывшей специальности и именуем мы вашего Федотыча в своем кругу Сортирычем. И настолько он к этому имени привык, что с охотой откликается…
Петя насупился. Он вдруг вспомнил, что действительно сам слышал какое-то странное имя, с которым обращались к Федотычу и Куроедовы, и Провоторов.
— Это остроумно? — спросил Петя. — Развлекаемся в нашей глуши…
— Развлекаетесь? Ну, больше вы так развлекаться не будете!
— Вы мне угрожаете, мосье комиссар?
— Я не угрожаю, а приказываю прекратить издевательство над человеком…
И, хмелея от бешенства, Петя с трясущимся лицом надвинулся на Провоторова и закричал:
— Хабарник! Вор! Взяточник! Ничего, я вас всех выведу на чистую воду, вы у меня волками тут завоете. Монархисты, шкуры…
Он ногой откинул стул с дороги и вышел из конторы. А сзади вопил Провоторов:
— Вон! Мальчишка! Оскорбление! Господа, вы подтвердите…
В этот вечер пришел поезд с салон-вагоном, идущим за границу. Вагон отцепили, и старенький паровоз «Овечка», недовольно пыхтя, погнал его в тупик на таможенный досмотр.
Было очень темно; морозный ветер свистел в черных старых ветлах; возле станции, у водокачки, тоскливо выла собака. Быков шел впереди, за ним шествовали Провоторов и братья Куроедовы; они все о чем-то переговаривались и пересмеивались, наверно, по поводу нового комиссара. Салон-вагон был заперт, стекло примерзло, медная ручка покрылась инеем — пришлось долго стучать, прежде чем открыли дверь. Из тамбура сразу пахнуло теплом, запахом хорошей еды, дорогим табаком?
— Таможня! — сурово отрекомендовался Быков.
В салон-вагоне их встретили приветливо, предложили закусить, выпить немного старого виски «Белая лошадь», подвинули коробку с сигаретами, и Провоторов уже поклонился и поблагодарил, бочком подвигаясь к столу, как вдруг комиссар дернул его за рукав и показал глазами, что этого делать нельзя.
Один из иностранцев — очень высокий, с приподнятой левой бровью, отчего лицо его все время казалось изумленным, засмеялся, хлопнул комиссара по плечу, потряс, похвалил. Другой, толстый, в меховых сапожках, тоже похвалил, но добавил, что доброе старое виски никому никогда не повредит. Третий, с сигарой в зубах, рассердился, что таможенники, вопреки привычным правилам, не пьют, и сказал по-русски:
— Новая метла всегда чисто метет. Метите чисто, молодой человек!
И погрозил Быкову длинным белым пальцем с перстнем.
— Начинайте досмотр! — приказал Быков старшему Куроедову.
Тот лениво повел глазами по большому купе-столовой, вздохнул и открыл буфет. Провоторов, извиняясь больше, чем следовало, и даже шаркнув ногой в валенке, попросил открыть «чемоданчики». Младший Куроедов пошел к проводнику. Комиссар сел верхом на стул и поглядывал, что где делается.
— Эти мешки нельзя трогать! — сказал сердитый иностранец с перстнем на пальце. — Здесь дипломатическая почта.
Он все время отругивался. Даже Провоторов с его шарканьями и извинениями не мог угодить этому иностранцу, так хорошо говорившему по-русски. И братья Куроедовы тоже никак не могли ему угодить.
Быков сначала сидел неподвижно, потом поднялся, отставил стул и принялся за досмотр сам, не обращая внимания на всякие «нельзя». Уже к концу досмотра он из темного коридора втащил в купе ящик и спросил, что в нем такое.
— О, это мои картины! — сказал толстый американец в меховых сапожках.
А сердитый сказал:
— Они никому не нужны, эти картины! Просто дрянь — вот что это такое. Мой друг, мистер Фишер, зачем-то покупает их. Откройте ящик и посмотрите! Впрочем, от вас мы имеем разрешение на вывоз этого мусора. Дайте документ, мистер Фишер.
Мистер Фишер протянул Пете большой лист, на котором было написано, что картины, под такими-то и такими-то названиями, художественной ценности не имеют и могут быть вывезены за пределы страны. Документ этот был подписан какими-то членами комиссии Наркомпроса.
Быков прочитал бумагу и вернул его Фишеру. Провоторов и братья Куроедовы ждали. Комиссар, на их радость, кажется, завалился со своей находкой. Интересно, как он сейчас будет извиняться: все-таки Америка!
Но Быков не собирался извиняться. «Если картины художественной ценности не имеют, — думал он, — то, следовательно, они не имеют и материальной ценности. Зачем же такому господину, как Фишер, скупать вещи, которые не имеют ценности? На чудака или психически ненормального он не похож — буржуй как буржуй!»
И спокойным голосом комиссар приказал:
— Вскройте ящик, товарищ Куроедов.
Фишер сделал движение вперед, и это движение не ускользнуло от Быкова. «Волнуется!»—отметил он про себя.
Младший Куроедов вынул из кармана клещи с долотом, подсадил жало под доску — гвозди с визгом поддались. Из ящика полезла стружка. Другой Куроедов придержал ящик, младший рывком оторвал обе верхние доски и стал вынимать свернутые рулонами холсты.
Быков развернул холст и всмотрелся: какие-то клешни и глаза, фонари и железные трубы расползались по картине.
— Это футуризм! — с акцентом сказал мистер Фишер. — Это новое искусство. Моя жена любит такое искусство. Я сам нет, о, я сам не любит такое искусство.
Он засмеялся и стал раскуривать прямую английскую трубку.
Вторая, третья, пятая картины были такие же. Братья Куроедовы загадочно улыбались. Старичок Провоторов смотрел через пенсне и покачивал головой. На седьмом холсте был изображен садик и рябина у забора. Это была просто базарная картина. Такие картины висят в пивных, в трактирах за Невской заставой, в парикмахерских.
— Это не есть футуризм! — сказал мистер Фишер. — Это есть мой вкус. Мой вкус — старое искусство.
— Я задерживаю этот ящик! — сказал комиссар. — Мои действия могут быть вами обжалованы. Сейчас мы составим акт.
Быков расчистил место на столе, заставленном бутылками и закусками, от которых шел нестерпимо вкусный запах, попросил принести чернильницу и размашисто написал: «Девятого января 1918 года, мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что…»
Мистер Фишер, побагровев, побежал отбивать депеша каким-то консулам, посланникам и послам. Другой мистер закричал, что на этот открытый грабеж, на это попрание демократии и законности, на эту наглость найдется управа. Третий ткнул в Быкова длинным белым пальцем и, усмехнувшись, даже с грустью в голосе, предсказал:
— Опомнитесь, иначе ваша карьера будет навсегда кончена. Мне вас жаль, молодой человек.
Провоторов и братья Куроедовы подписать акт наотрез отказались. Быков сам вынес ящик из вагона, потащил на станцию и поставил возле клеенчатого дивана в «царской комнате». Ночь он проспал рядом с картинами, а рано утром его разбудил младший Куроедов с телеграммой. В телеграмме было сказано, что Быков Петр с получением настоящего уведомления от работы отстраняется и что таковому Быкову надлежит немедленно возвратить картины владельцам, а самому выехать в Петроград для дачи соответствующих объяснений…
Петя прочитал телеграмму два раза.
— Ящик можно нести? — спросил Куроедов.
— Идите в контору! — твердо приказал комиссар. — Ящик поедет со мною в Петроград.
Младший Куроедов ухмыльнулся и хлопнул дверью. Петя выкурил махорочную самокрутку и еще раз прочитал телеграмму. «Диамантов»— так она была подписана, но это ничего не значило. Это мог быть тот же Провоторов — только в Петрограде. И остался от тех же времен, что и здешний Провоторов, — от времени графа Витте и барона Ган.
— Сожрут теперь они меня! — вздыхал Федотыч, провожая Петю в Петроград. — Попомнят, как ты ко мне хаживал. Ну, да шут с ними, не пропаду…
Старуха тоже вышла к поезду. Быков написал им свой петроградский адрес — на всякий случай, поцеловался с ними с обоими и надолго задумался под ровный стук колес…
А вдогонку ему уже мчалась телеграмма Диамантову о том, что комиссар похитил ящик с картинами.
В Петрограде возле вокзала Быков нанял извозчика — санки с полостью — и поехал со своим похищенным ящиком в дом бывшего градоначальника на Гороховую улицу. Провоторов, Диамантов и братья Куроедовы остались теперь где-то далеко. Нужно было только отыскать Васю Свешникова, который нынче работал в ЧК. Он — художник, он сразу скажет, имеют эти картины художественную ценность или действительно не имеют. «Милый, добродушный, веселый Васька, как бы тебя поскорее отыскать!»
И Петя вдруг с нежностью вспомнил, как позапрошлым летом они с Васей удили на Карповке рыбу и как Свешников рассказывал о живописи и о том, как сам он станет великим художником. А нынешней осенью Вася стал помощником у какого-то молчаливого и старого человека…
У двери дома бывшего градоначальника стоял матрос в шинели и бескозырке, синий от холода. На поясе у моряка висели гранаты-лимонки, на груди перекрещивались пулеметные ленты. Быков ему объяснил, что приехал к товарищу Свешникову…
— У нас чекистов поболее сорока человек, — сказал матрос. — Каждого не упомнишь. И бегают все — то туда, то обратно. Уже саней двое; говорят, днями мотор получим. Иди, браток, ищи своего дружка сам…
Пыхтя и отдуваясь, Быков поволок свой ящик наверх по лестнице. Ящик был тяжелый, а Петя ослабел за последние месяцы. Но все-таки, он, ни разу не отдохнув, втащил «похищенный» ящик на второй этаж, крякнул и свернул в коридор, по которому навстречу Пете быстро шел Феликс Эдмундович Дзержинский.
Петя рванул свой ящик прочь с дороги и вытянулся, как положено это делать солдату при встрече с командиром.
— Это что? — спросил Дзержинский, глядя прямо в Петины серые, очень ясные глаза.
— Картины! — громко оторвал Петя.
— Какие же это такие картины?
— Не имеющие художественной ценности! — опять оторвал Петя, и по тому, как улыбнулся Дзержинский, понял, что сказал что-то глупое.
Его прошибла испарина, он поморгал и произнес негромко:
— Разрешите, товарищ Дзержинский, все рассказать?
— Пойдемте! — сказал Феликс Эдмундович.
Он зашагал к своему кабинету, а Быков опять потащил свой ящик. В приемной Петя толково и коротко рассказал Дзержинскому всю историю с досмотром вагона, идущего за границу, с телеграммой Диамантова и с жалобами иностранцев. И, роняя на пол стружки, вытащил из ящика первую попавшуюся картину.
— Что вы сами об этом думаете? — спросил Дзержинский.
— Думаю так, Феликс Эдмундович: если они художественной ценности не имеют, то для чего американцам о них хлопотать?.. Там, где художественная ценность, там и доллары и стерлинги, а где художественной ценности нет, там и долларов нет. Вот и предполагаю: хитрит мистер Фишер.
— Пожалуй, вы правы. Хитрит.
— И Диамантов ему помогает…
— Да-а… хитрят многие… — задумчиво сказал Дзержинский.
И, тонкими, сильными пальцами растянув полотно, подошел с ним к окну и склонился над картиной. Потом внимательно разглядел холст. И, подозвав Быкова, спросил:
— Вы ничего не замечаете?
— А что, Феликс Эдмундович?
— Сопоставьте манеру, в которой написана эта галиматья, и возраст холста. Ну-ка!
Быков сопоставил и ничего не понял. Какие-то зеленые палки, стакан от снаряда, серый дым и почему-то пирожное с кремом на круглой тарелочке. Словно кто-то нарочно с тупым и злым упрямством глумился над теми, кто будет смотреть на эту картину. А холст? Ну, холст как холст. Не новый, верно. Впрочем…
В это время в приемную вошел Вася Свешников. Он сразу узнал Быкова, но, увидев Дзержинского, картину, ящик, стружки на полу, почти не поздоровался с Петей, только стиснул его локоть и спросил шепотом:
— Что случилось?
Феликс Эдмундович повернулся к нему.
— Свешников, вы ведь по профессии художник?
— Был… немного…
— Вы учились в школе живописи и ваяния?
— Так точно. А потом в Академии…
— Ну и прекрасно, — неторопливо, думая о чем-то, сказал Дзержинский. — И отлично. Вот возьмитесь за это дело. Комиссар Быков вам все расскажет. А пока — немедленно надо отыскать реставратора. Отыщите?
— Постараюсь! — ответил Вася, вглядываясь в картину. И недоуменно посмотрел на Быкова. Петя пожал плечами, давая понять, что сам он нисколько в этом происшествии не разобрался. Свешников мгновение помедлил, потом поднял воротник своей вытертой куртки из собачьего меха, подмигнул Быкову и исчез. Дзержинский ушел работать к себе в кабинет.
Опять для Пети потянулись часы ожидания. А Свешников, отыскивая реставратора Павла Петровича, все силился припомнить, где и когда он видел эти желто-зеленые помойные тона, эти ломаные палки, этот крем на пирожном, так грубо намалеванный…
Найти Павла Петровича оказалось не так-то просто. В Академии он давно не бывал; там про него сказали, что, по всей вероятности, он умер. Но Свешников не сдался и зашагал на Пески, оттуда на Четырнадцатую линию Васильевского, с Четырнадцатой — на Гончарную, потом на Вульфову…
Второй раз нынче он на этой Вульфовой улице…
И Вася посмотрел в черную подворотню, из которой давеча в него и в Васиного начальника, Веретилина, стреляли юнкера…
Но об этом думать было противно: одно дело война, а другое — такие выстрелы, в спину, украдкой, подлые выстрелы…
Павел Петрович узнал Свешникова и даже предложил ему стакан чаю из лепестков розы. Но Вася от ароматного чая отказался, и они со стариком зашагали на Гороховую.
— А тут сегодня пальба была, — сказал реставратор, кивнув на подворотню. — Говорят, по вашим, по чекистам.
Вася промолчал.
В приемной у Феликса Эдмундовича реставратор долго рассматривал картину, вздыхал, кашлял, потом вдруг глаза его стали злыми, и, обернувшись к Васе, он спросил резко:
— Не узнаешь руку?
— Не Егоршин?
— Вроде бы его хулиганство! — ответил реставратор. — Помнишь, он все, бывало, крем изображал? Например, крем и в нем зеленая муха погибает…
Холст натянули на подрамник.
Из кабинета своим легким, молодым шагом вышел Феликс Эдмундович, спросил, что думает реставратор. Тот снял шубу, потер озябшие руки, ответил:
— Дело не новое. Случалось видеть…
В приемную один за другим входили, стараясь не стучать сапогами, чекисты. Пришел Веретилин, пришел бывший наборщик Аникиев; заглянул и остался чекист Чистосердов.
Павел Петрович налил на ватку жидкость — мутную, с острым запахом. Быков затаил дыхание, в висках у него стучало, на минуту показалось даже, что в этой холодной комнате душно. Очень бережно, легко-легко ватка коснулась картины. Зеленая муть тонким ручейком полилась вниз. И через несколько минут там, где раньше торчал безобразный стакан от снаряда, вдруг открылось небо — прекрасное, голубое, веселое, и край белого, пушистого облачка. Это все было как чудо, как небывалое на земле чудо: подлая, серая, унылая пакость, намалеванная сверху прекрасного произведения искусства; и вот это произведение искусства открывается усталым и полуголодным людям в шинелях, в кожанках, в бушлатах; люди стоят неподвижно, застывшие от радости, от удивления, от восторга и не отрываясь смотрят.
— Тетка тут нарисована! — заметил Веретилин.
— А веселая! — сказал Аникиев, поправляя очки. — Замечаете — отдыхает после работы.
— Работала, а теперь отдыхает! — согласился Чистосердов. — Довольная, улыбается…
Реставратор отступил на шаг от полотна. У него было такое лицо, будто эту картину написал он.
— Я думаю — семнадцатый век. И, по всей вероятности, из коллекции Воронцовых-Дашковых…
Сережа Орлов, начавший работать в ВЧК только вчера, сказал звонко:
— Теперь из коллекции трудового народа — рабочих и крестьян! — И сконфузился под пристальным взглядом Дзержинского.
— Верно, товарищ Орлов! — сказал Дзержинский. — Теперь из коллекции трудового народа. Зайдемте ко мне, товарищ Быков.
В кабинете Дзержинский сказал Пете, что Провоторов и братья Куроедовы от работы будут отстранены немедленно, что же касается здешнего Диамантова, то он больше командовать таможенными делами не будет.
— Можете возвращаться к себе на границу! — заключил Дзержинский.
— Значит… не надо мне к этому Диамантову являться?
— Не надо. Вы что-то хотите сказать?
— Спросить хочу. Вот что, Феликс Эдмундович: задержали мы картины, верно? А как дальше будет? В музей, и все? Воров-то трудно поймать? Я вот сегодня глядел, сколько у вас народу — чекистов. Ведь немного…
— Нет, Быков, много. Вы речь Владимира Ильича на Третьем съезде читали? Помните слова о человеке с ружьем?
И, опустив темные веки, сосредоточенно вспоминая, Дзержинский словно прочитал:
— Теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Так сказал товарищ Ленин?
— Так!
— Мы стоим на страже угнетенных. Мы — люди с ружьями. Весь мир эксплуатируемых, весь мир голодных и рабов, все трудящиеся — с нами. А вы говорите — нас немного. Нас миллионы, понимаете?
— Понимаю! — сказал Быков.
— Что же касается до аппарата ВЧК, то нас действительно немного. Но разве в этом дело?
И, крепко пожав руку Быкову, Дзержинский проводил его до двери.
В коридоре на столе сидел Вася Свешников и чистил маузер.
— Стреляют, черти! — сказал он Пете. — Нынче на одну квартиру ездил, а они беглым огнем из окон. И ушли черным ходом. Офицерье целыми группами уходят из Петрограда к Каледину на Дон, к Дутову бегут в Оренбург, к Корнилову…
Быков всмотрелся в Васю и не узнал его: это теперь был взрослый мужчина, строгий и подтянутый…
— Форменная перестрелка была? — спросил Быков.
— Да как тебе сказать…
Вася опустил маузер на колени и задумался на мгновение.
— Не то что форменная, а обидно. Идешь ни о чем не думая, мы тут по спекуляции и по саботажу сейчас бьем, — вот идешь эдак, посвистываешь, а они в тебя, как в бешеную собаку, палят. Норовят убить! И заметь — наши приговоры знаешь какие? Отправить на общественно-полезные работы сроком на три месяца. Чиновников тут, саботажников вчера судили: по три месяца снег чистить, и общественное порицание. Уж чего, казалось бы, мягче. Так нет — отстреливаются.
Он еще помолчал, потом сказал задумчиво:
— Ничего, поборемся, господа саботажники и иже с ними. Видно, мало им общественного порицания. Что ж, иначе с ними начнем говорить…
Он взглянул на Петю, усмехнулся:
— А помнишь, как это совсем недавно все было — ожидание революции? Помнишь, Петро?
Быков кивнул.
— Ты обратно на границу, Петро?
— Обратно.
— А мы в Москву. Нынче же. Теперь не скоро увидимся…
ШУБА
Комиссар Веретилин заболел: вдруг заломило затылок, колени, руки, по спине побежал озноб, под левую лопатку словно кто-то сунул острое шило. — Это тебя, племянничек, испанка разбирает, — сказал дядя Веретилина, у которого комиссар поселился. Было это в Москве, на Зацепе. — Паршивая штука. Придется полежать беспременно и не менее, как две недели… — Часок еще, может, и полежу, — не сразу ответил Веретилин, — а больше не выйдет. — Ну и свалишься путем-дорогой… Дядя взял из баночки на столе несколько деревянных шпилек и ударил молотком — он чинил племяннику прохудившийся сапог. Удар молотком больно отозвался в голове. Веретилин поморщился. — А может, тиф? — спросил дядя. — Ты тифом-то болел? — А шут его знает, чем я болел, — ответил Веретилин. — Сволокут, бывало, в околоток, ну и лежишь. Не ахти как много доктора-то с нами, с матросами, разговаривали… Он не кончил фразу — поднялся и стал обуваться. — Пойдешь, упрямец? — Пойду. — Ну и пеняй на себя. — Да уж не на кого больше. Разве что на мировую буржуазию… Он потоптал сапогами, похвалил починку и спросил, ежась: — А на улице не потеплело? — Куда там потеплело! Жмет и жмет морозище! Иван Дмитриевич посидел, вздохнул и стал натягивать шинель. Дядя, Семен Петрович, смотрел на него сердитыми глазами и перекатывал пустой мундштук из одного угла рта в другой. Шинель была старая, полученная еще в четырнадцатом году на флоте. В ней Веретилин дрался с юнкерами. И спал в ней, и укрывался ею. — Сбрось обратно! — сурово сказал дядя. — И посвети мне. Буду сундук открывать. Веретилин взял со стола коптилку, сделанную из чернильной склянки, тихонько охнул от резкой боли в спине и подошел к Семену Петровичу, который приподнимал крышку сундука, оклеенную внутри картинками. Эти картинки Веретилин знал с детства. Вот гигантский баобаб, в дупле которого может пить чай целое семейство, вот статуя Голиафа, вот птица колибри, вот портрет какого-то бородача с выпученными глазами. Сундук был почти пуст. Всю свою жизнь дядя Семен Петрович собирался выиграть по «билету», как он говаривал, и тогда «построить» всем своим много всякой одежды. Но годы проходили, «билет» не выигрывал, и сундук, единственное приданое покойной тетки Марии, так и оставался пустым. Только на дне его лежала дядина шуба, теплая каракулевая шапка и палка с набалдашником накладного серебра; вещи эти дяде Семену Петровичу подарил много лет тому назад толстый и добродушный доктор Спасович за то, что дядя вытащил из Москвы-реки утопающего, по пьяному делу, докторского единственного сына-студента. — Енот! — сказал дядя, распяливая на руках шубу. — Цены нет этому товару. Дважды и надевал всего — покойница тетка твоя не позволяла. Он встряхнул шубу и велел племяннику надеть ее. Веретилин надел, усмехаясь. Будет смеху в ЧК, когда он явится туда таким недорезанным буржуем. — И шапку, шапку надень! — приказал дядя. — И трость возьми. Набалдашник, имей в виду, художественной работы. Вишь, гадюка тут пущена и плошка, гадюка из плошки лакает. Редкая вещь. Ее можно, как статую, рассматривать. Вон у ней, у змеи-то, глазки; ишь как глядит, вот у ней жало ее кусачее… Веретилин взял и трость. Посмотревшись в тусклое зеркало, он покрутил головой, и все еще улыбаясь, вышел из дому. — Это не продует, — говорил вслед дядя, — это, брат, хорек с кисточками — первый сорт, а на воротнике — енот! Было часов шесть вечера. Морозило, дул резкий, холодный, свирепый ветер. Медленно шагая против ветра и морщась от боли под лопаткой, Веретилин дошел до угла и остановился передохнуть. Мела поземка, в десяти шагах ничего не было видно. — Погодка! — сказал кто-то рядом. Веретилин обернулся. Рядом с ним стоял человек в облезлой шапке пирожком, в бекеше со шнурками, помаргивал и вздыхал. — При нынешнем питании по такой погоде не очень походишь! — сказал он. — Люди слабые, один вот давеча упал, да так и не встал. Хорошее питание — залог здоровья. — Истина! — согласился Веретилин и, преодолевая слабость, зашагал дальше. Но человек в бекеше не отставал. — Кто достает что покушать, тот еще держится, — говорил он, — а которые не имеют такой возможности, те сгорают, извините, как свечи. Иногда гражданин и средства имеет, и золотишко, и бриллиантики кое-какие, а адресочка у него нет… — Какого адресочка? — насторожился Иван Дмитриевич. — Ну адресочка, где можно достать что покушать: шпик, например, хребтовый, масличко, мучки беленькой, наливочки, ветчинки там, печеночку, ливер… — А есть такие адресочки? — Почему же, конечно, есть! — усмехнулась бекеша. — И сами живут, и другим жить дают. — Хорошо бы такой адресочек узнать, — как бы про себя сказал Веретилин. Бекеша промолчала, сбоку поглядывая на Веретилина. Тот молчал. Бекеша еще приглядывалась, что-то в суровом облике Веретилина показалось ему основательным и заслуживающим доверия: — Вы, извините, москвич? — Нет, петроградец… — Офицер, конечно? — Моряк! — сурово ответил Веретилин. Этот ответ и решил дело. «Моряк», — рассудила бекеша, — уж это белая кость, уж это дворянин, на таких можно положиться». — Конечно, сейчас вне политики? — опять услышал Веретилин. Он не ответил — усмехнулся одними губами. И эта усмешка тоже расположила спутника к доверию. Он заговорил негромко, почти в ухо Веретилину, злобно пришептывая и от волнения путаясь в словах: — Который пролетарий — пускай дохнет всем своим классом, — как во сне слышал Веретилин, — нам не жалко, нам о себе думать надо, себя спасать для будущего России. Вот у вас явное истощение заметно, а человек вы военный, кровь за Россию проливали, офицер, да еще морской… Сюда извольте, направо… Иван Дмитриевич оглянулся — человек вел его незнакомым переулком. Голова у Веретилина опять закружилась; он остановился на мгновение и вновь заставил себя идти, он не имел права не найти «адресочек»… — Это мы куда же идем? — спросил Иван Дмитриевич. — К друзьям! — сказала бекеша. — К добрым друзьям, где и накормят, и приветят, и доброе слово молвят. К друзьям идем, дорогой, к хорошим людям… «Я вас привечу, подлецы!»— подумал Иван Дмитриевич. Он почти ничего не соображал. Бекеша нырнула в подворотню и повела его какими-то проходными дворами, мимо часовни, мимо развалин, через один переулок, через другой, потом опять во двор. Во втором этаже старого деревянного флигеля бекеша постучала в дверь, обитую сукном, и ка вопрос: «Кто там?»—ответила бодрым и жирным баском: «Открывайте, Андрей Петрович, Осокина бог послал…» Розовый старик в белых чесанках и меховой кацавейке внимательно вгляделся в Веретилина холодными маленькими глазками, поклонился одной головой, как кланяются старые военные, протянул руку, представился: — Симбирцев. — Веретилин! — ответил Иван Дмитриевич. — Очень рад. Где изволили служить? — Они моряки! — сладким голосом встрял в разговор Осокин. — из Петрограда… — Ах, вот что! — приподнял брови Симбирцев. — Рад, очень рад. Душевно рад. Прошу заходить, да раздевайтесь, у меня тепло… Веретилин шубу не снял: под нею была старая суконная гимнастерка и револьвер на солдатском ремне. В комнате с фикусами, коврами и ковриками, с портретами военных в высоких, прошлого века воротничках, сели в кресла. Симбирцев, покашляв, заговорил об отчаянных временах, о гибели России, о том, что все истинно русские люди должны находить друг друга и братски помогать «до вещей призывной трубы». Осокин, скинув бекешу, грелся у печки — прижимал ладони к горячему кафелю, потом поворачивался и, вытягивая длинную, с кадыком, шею, блаженно, словно старый тощий кот, терся спиной о печку, похохатывал. Так прошел час, может быть, больше. — Как в Петрограде? — спросил Симбирцев, — Действуют наши? — Действуют, — ответил Веретилин. — Да, да, я слышал! — закивал Симбирцев. — Мы ведь имеем сведения, нас осведомляют обо всем, но мне интересно, как это со стороны выглядит. Серьезно ли? — Не слишком! — ответил Иван Дмитриевич. — В общем, их разгромят. — Вы думаете? Веретилин усмехнулся пересохшими от жара губами. — А здесь вы… связаны с кем-нибудь? — спросил Симбирцев. — Или так просто? — Связан, — коротко сказал Веретилин. Он задыхался. На секунду стало так душно, что он едва не сбросил шубу. Но удержался, облизал губы, привалившись боком к креслу, почувствовал под шубой наган; стало легче. Старик засуетился, занялся чаем, ставил на стол чашки, сахар, мед, белый хлеб, нарезанное розовое сало. Потом вышел за самоварчиком, Осокин побежал за ним. Веретилин откинулся на спинку кресла — все поплыло перед глазами. Когда Симбирцев и Осокин вернулись, Веретилин, поднявшись с кресла, стоял, чтобы не понять сознание. Стоять было легче. — Я тороплюсь! — сказал он глуховато. — Мне надо идти. Прошу сказать, как насчет продуктов. Могу ли я посмотреть… Симбирцев и Осокин переглянулись — вероятно, Симбирцев засомневался. Тогда, понимая, что ничем не рискует, Веретилин спокойно, как бы даже нехотя, произнес: — Я в Петрограде знавал кое-кого из «Капли молока». Например, американца Фишера и мичмана… Он помедлил. Больше говорить не следовало. Осокин ударил себя кулачком в грудь, дернул Симбирцева за рукав, крикнул: — А? Что? Я говорил вам? Наш, сразу видно — я физиогномику, бывало, в отцовском лабазе еще изучал. Вы извините за фамильярность, но своего, истинно своего, всегда видно. А господин Симбирцев еще сомневались, оробели почему-то! Нет, господа, Осокина не проведешь, Осокин сам кого хочешь проведет, потому Осокин купечество и любит. Рад, господин Веретилин, рад, нашего полку прибыло… Симбирцев сознался, что был несколько «в сомнении», и извинился за недоверие, но ведь действительно прямо с улицы господин Осокин привел. У господина Осокина характер несколько пылкий, был в свое время даже на излечении… — Так ведь то «недуг божественный»! — воскликнул Осокин. — Запивал, знаете ли, господин Веретилин, поднимал по всей Москве пыль столбом, куражился. Молодость, что поделаешь… Симбирцев накинул на плечи охотничью куртку на белочках, Осокин вновь влез в свою бекешу. Внутренней, потаенной лестницей спустились в первый этаж. Там из тьмы вынырнул вихрастый малый, которого Симбирцев назвал Женькой, пошел перед ними, освещая склад фонарем «летучая мышь». Тут все было похоже на склад лабазника — закрома, лари и мешки, подвешенные к потолку. — Крысы одолевают — пожаловался Симбирцев. — Всюду, знаете ли, голодовка, вот они, проклятые, к нам и устремились. И травим, и крысоловки ставим, никакие способы не помогают… Женька поднял фонарь повыше — осветил бараньи заиндевевшие туши, полоски сала, мороженых гусей, подвешенных к самому потолку. Тут же на ларе стояли и весы с разновесом, лежал нож, широкий, как у мясника, и топор с блестящим лезвием. — Поддерживаемся кое-как! — крякая от мороза, самодовольно сказал Симбирцев. — Конечно, не прежние времена, когда мороженого мяса в рот не брали или, допустим, бифштекс к ужину считался тяжелой едой. Куропатку, бывало, у Палкина закажешь да бутылочку «вдовы Клико». Да и цены не прежние, очень все дорого, но если люди нужные, серьезные, поддерживаем. Вам на этот счет мистер Фишер ничего не говорил? — Ничего! — садясь на нож и на топор, что лежали на рундуке возле весов, ответил Веретилин и стал медленно расстегивать шубу, путаясь пальцами в незнакомых, непривычных, очень плотных и жестких петлях. На мгновение он увидел тревогу в холодных глазках Симбирцева, и тотчас же завизжал Осокин. — Не кричать! — ровным голосом сказал Веретилин. — Руки вверх. Я комиссар ВЧК. От жара у него шумело в ушах, и свой собственный голос показался чужим, незнакомым. Даже наган в руке вздрагивал — такая была слабость. — Фонарь сюда! Женька поставил фонарь на рундук и поднял огромные руки. Даже при жалком свете «летучей мыши» было видно, как посерел Симбирцев. Осокин попытался улыбнуться, спросил шепотом: — Это не более как шутка? Чтобы не упасть, Иван Дмитриевич опять сел. А чтобы они не поняли, как он слаб, Иван Дмитриевич усмехнулся. Усмешка была бессмысленная, но от нее Осокин застучал зубами. — Идите вперед! — приказал Веретилин. Все трое, они пошли перед ним из комнаты в комнату, потом по лестнице, потом туда, где был приготовлен чай. Конечно, Веретилин ничего не соображал, потому что только много позже, вспоминая обстоятельства этого ареста, понял, как страшно рисковал тогда, пустив всех троих перед собой по лестнице: им ведь совершенно ничего не стоило насмерть расшибить ему голову тяжелой крышкой люка или ломом, которой стоял возле люка. Но они были трусливы, и поэтому Веретилину удалось вывести их из квартиры. Ключ от квартиры он положил себе в карман. И здесь же в передней зацепился ногой за что-то, что с металлическим грохотом рухнуло под ноги. — Ничего, ничего! — успокоительно сказал Симбирцев. — Не обращайте внимания. Пустяки! Если бы он этого не сказал, Веретилин, может быть, и не зажег бы спичку. Но теперь он посветил и посмотрел: на полу лежал странной формы оцинкованный ящик, съехавший из степного шкафа. — Это что же? Гроб? — спросил Иван Дмитриевич. — Совершенно верно, гробик! — ответил Осокин. — Гробик. Тут хоронили одного, так не пригодилось, не пригодился, вернее… На улице по-прежнему дула поземка. Было так темно, что даже снег не белел. И как далеко до Лубянки, как еще далеко! Он шел сзади с наганом в руке. Дыхание с хрипом вырывалось у него из груди. Шуба не грела. Холодные волны, одна за другой, заливали спину. «Только бы не упасть!»—думал он. — Только бы не упасть! — Послушайте, начальник! — сказал Симбирцев. — Комиссар или как вас там? Мне больше нечего терять, понимаете? У меня есть доллары, бриллианты, любая валюта. Отпустите, и все будет вашим. Состояние! Понимаете? Что выигрывает ваша революция, расстреляв меня? Ничего! Но она много выиграет, сохранив вашу жизнь. А ваша жизнь непременно сохранится, если вы поправите ваше здоровье… — Шагайте! — глухо сказал Веретилин. — Нечего болтать! И они опять шли молча — десять шагов, и еще десять, и еще двадцать, пока их не остановил патруль, семь винтовок с примкнутыми штыками. — Документы! — сказал сиплый от холода голос. — Предъявите документы, граждане. Веретилин с невероятным облегчением опустил наган. И тотчас же наган сам выскочил из его ладони и повис только на ремешке. Рука ослабела, сил больше не было нисколько; он терял сознание. — Помогите доставить задержанных в ВЧК, — сказал Иван Дмитриевич. — Я болен и ничего не соображаю. Человек в солдатской шапке и в гражданском пальто, замотанный шарфом, отрядил двух красногвардейцев в помощь Веретилину, похлопал его по плечу, сказал: «Ничего, браток, еще не то бывает», — и свернул в переулок, а Иван Дмитриевич, едва переставляя ноги и уже совсем ни о чем не думая, пошел опять на Лубянскую площадь. — Что за контрики? — спросил красногвардеец у Веретилина, кивая на спины идущих впереди. — А? — Что за контриков, спрашиваю, ведем? — Я прилягу! — ответил Иван Дмитриевич. — Я тут прилягу и посплю. Дядя починил сапог, и теперь все в порядке. — Сыпняк! — сказал другой красногвардеец. — Это уже не он говорит, это болезнь в нем говорит. Нет, товарищ, дорогой, не приляжешь ты здесь, пойдешь ты с нами, и сдадим мы тебя твоим друзьям, чекистам. Давай, друг, шагай с нами! И, держа винтовку правой рукой, красногвардеец левой обхватил Веретилина и заставил идти рядом. — Шуба на тебе богатая! — сказал он. — В такой шубе и болеть жалко. — Казенная небось! — сказал тот, что был помоложе. — Наверное, для больных выдают. Вот нашему Харченко, как заболел, выдали полушубок. Слово «шуба» дошло до сознания Веретилина. — Да, да, все дело в шубе! — быстро заговорил он. — Именно в шубе. Они попались на шубу, как на крючок. Енот, хорек, каракулевая шапка, а? Теперь я лягу! Пора! Трое задержанных сидели на скамейке у двери. Осокин дышал в озябшие пальцы, Симбирцев покусывал усы, обдумывая положение, вихрастый парень дремал. Ему было все равно — наняли, он и работал. И мамашу кормил — параличную. Что же, бросить ее, чтобы помирала с голоду? Иван Дмитриевич, укрытый роскошной шубой, лежал на коротком диване и тихонько бредил. Комиссар Павел Федорович Швырев угрюмо посматривал то на Веретилина, то на арестованных. — Допросить их, что ли? — шепотом спросил Вася Свешников. — Чего они тут расселись? Швырев подошел к Симбирцеву, спросил спокойно: — Вас почему задержали? — Не могу знать! — коротко, с достоинством ответил Симбирцев. Павел Федорович смотрел на него молча, холодными, светлыми глазами. — Так-таки и не знаете? — Не знаю, товарищ начальник. — Гражданин начальник, — поправил его Швырев. — С той минуты, когда меня арестует человек, отвечающий за свои действия, вы для меня станете гражданином начальником, — спокойно и ровно сказал Симбирцев. — Пока же я не могу лишить себя удовольствия называть вас товарищем! Павел Федорович крепко сжал челюсти. На щеке у него задрожал мускул. — Значит, вы ни в чем не виноваты? — Вы все равно мне не верите! — сказал Симбирцев. — Зачем же мы теряем время? — Нас задержал человек, находящийся в состоянии бреда, — раздраженно заговорил Осокин. — Теперь мы почему-то должны отвечать за его действия. Согласитесь сами, все это дико. Вихрастый парень проснулся, утер рот ладонью и зевнул со стоном. — Проверьте наши документы, обыщите нас, обыщите наши квартиры, наконец, — сказал Симбирцев, — но зачем же эти издевательства? Мы все трудовые люди; вот, пожалуйста, я лично работаю на почтамте, этот товарищ, — он показал на бекешу, — железнодорожник, а вот Евгений — он истинный пролетарий, сын дворника, погибшего в бою за власть Советов… Так, Евгений? — А чего ж! — сказал вихрастый. — Ясное дело. Павел Федорович проверил у задержанных документы — все оказалось в полном порядке. У Симбирцева, случайно, в удостоверение была вложена характеристика, где Симбирцев назывался украшением почтамта, преданным работником, образцом старого специалиста, сочувствующего строительству нового мира. Товарищ Осокин — так бекеша именовалась в документах — тоже был преданным товарищем, и ему (судя по бумажке с подписями и печатями) в связи с его работой на транспорте следовало выдать разрешение на хранение оружия. У Евгения же в кармане была большая бумага, в которой он просил зачислить его в героическую Красную Армию, чтобы мстить за своего отца, а наверху косо была резолюция: «Отказать ввиду младшего возраста». — Что значит — ввиду младшего возраста? — пряча улыбку, спросил Павел Федорович. — Видимо, это значит, что товарищ не подошел по возрасту! — мягко и дружелюбно ответил Симбирцев. Все шло гладко, и через несколько минут их бы отпустили, но это был час, когда Дзержинский обычно обходил своих работников, и Павел Федорович нарочно затягивал разговор с задержанными, надеясь, что придет Дзержинский и тогда все окончательно решится. — Пусть проваливают! — шепотом сказал Вася. В это время широко растворилась дверь и вошел Дзержинский. Он был в шинели, накинутой поверх суконной солдатской гимнастерки, и в руке у него дымилась махорочная самокрутка, вставленная в деревянный мундштук. — Это что за шуба такая шикарная? — спросил он, глядя на диван. — Кто это у вас такой щеголь? — Тут такое дело, — медленно начал Павел Федорович, — ваше решение требуется. — Он глазами показал Васе на задержанных и на дверь. — Одну минуточку, товарищ Дзержинский. Вася вывел задержанных в коридор. Дзержинский сел и плотно закутался в шинель. Павел Федорович рассказал все, что ему было известно. — А патруль где? Те товарищи, которые доставили сюда и Веретилина, и этих… господ. — Да они ничего не знают, товарищ Дзержинский. Их Свешников отпустил. — Вздор! — резко ответил Дзержинский. — Почему же они тогда доставили сюда всех четырех? Значит, Веретилин был еще в сознании? Ведь это он вел их в ЧК? Немедленно разыщите и приведите ко мне обоих красногвардейцев. — Есть! — и Павел Федорович вышел. Дзержинский посидел еще, подумал и подошел к Веретилину. Пульс у Ивана Дмитриевича был плохой — частый и слабый. Одной рукой держа запястье Веретилина, другой Дзержинский погладил его по голове и тихонько окликнул. Веретилин смотрел на Феликса Эдмундовича широко раскрытыми, мутными глазами. — Товарищ Веретилин — еще раз позвал Дзержинский. — Не узнаете меня? — Узнаю, товарищ Дзержинский… — слабым шепотом сказал Веретилин. — Ну и прекрасно, что узнаете. Вы вот троих тут задержали и привели сюда… — Я тут лягу, полежу, — быстрым шепотом перебил Веретилин. — Крутится все. А вы их ведите! Ясно? Он опять бредил. Дзержинский поправил на нем шубу и прошелся по комнате из угла в угол, напряженно о чем-то думая. Когда вернулся Павел Федорович, он сказал ему жестко и твердо: — Задержанных не отпускайте. Уверен, что тут серьезное дело. Кстати, откуда у Веретилина эта шуба и шапка? И нет ли здесь какой-то связи между новым обликом Веретилина и этими господами? Вы сказали, что один из них работает на почтамте? Кстати, кто ведет дело этих жуликов на почтамте, помните, дело Баландинского почтового отделения? — Сергей Орлов ведет. Это насчет продуктов в почтовых пакетах? — Ну да, насчет сала и масла в кожаных почтовых мешках. — Сейчас я Орлова вызову! — сказал Павел Федорович. — Он там всех знает. Большое дело. Но Орлова вызвать не удалось. Час назад возле пакгаузов Брянского вокзала он был убит человеком высокого роста в кожаной куртке и летчицком шлеме. Убийца скрылся. — Вот и Сережу нашего убили! — тихо сказал Дзержинский. — Битва за хлеб, смертельная битва за хлеб. А все эти негодяи — левые коммунисты — орут про активное самоснабжение потребителей. Вот оно — активное самоснабжение. Пуля в грудь юноши, защищающего хлеб для рабочих и крестьян Советского государства! И ему представлялся вдруг покойный Сережа Орлов, его добрые, совсем еще юные глаза и пухлые губы. Как он сказал вчера после совещания: «Товарищ Дзержинский, у меня есть стакан семечек. Знаете, подсолнухи — они очень утоляют голод, пожалуйста, попробуйте!» — Вызовите сюда того из арестованных, который помоложе! — сказал Дзержинский Павлу Федоровичу. — Я с ним поговорю. И еще плотнее закутался в шинель. Евгений, видимо, опять поспал в коридоре и вошел, пошатываясь спросонья. Дзержинский свернул папироску, затянулся и, глядя в глаза осоловелому Евгению, негромко сказал: — Вот что, молодой человек. Вы — сын дворника, живете в этом же доме? Не ходит ли к вам такой гражданин… Ну, как бы его описать? Высокий… кожаная у него куртка… — В летчицком шлеме, что ли? — спросил Евгений. — Как будто бы. — Ходит! — сказал Евгений. — Он с нашего двора. Только Аркадий Палыч Симбирцев во флигеле квартируют, а Мюллер с парадного, квартира шесть. Они редко дома бывают, все ездят и ездят. Дзержинский курил, не глядя на задержанного. Павел Федорович, красный от напряжения, с хрустом потирал бритую голову. — Ваше имя Евгений? — спросил Дзержинский. — Евгений, — ответил парень. — Фамилия Андронов? — Андронов! — Евгений Андронов! — голосом спокойным и властным заговорил Дзержинский. — Твой отец погиб за Советскую власть, ты сам написал это в своем заявлении — так это? — Так! — Я именем твоего отца приказываю тебе — расскажи нам правду. Расскажи все, что знаешь. Эти вот — арестованные — они что? Наняли тебя? Ты у них в услужении? И как наш товарищ всех вас арестовал? Как это было, расскажи подробно, все, все решительно, что тебе известно. Говори, не бойся… Евгений еще испуганно смотрел на Дзержинского, но страх уже проходил: что мог сделать ему дурного этот человек с усталыми, но добрыми глазами? Да и в чем он, Евгений, виноват? В том, что молчал? Ну, виноват, не станут же за это бить? Может, даже матери помогут, — надо же людям жить как-то… — Наняли они меня, Симбирцев этот, — грубо, чтобы не подумали, что подлизывается, заговорил Евгений. — Сторожить наняли. А я откуда знаю — чего сторожить? «Помалкивай, — говорят, — а то поймают — и к стенке. Декреты читал?» — «Читал», — отвечаю. «Твое дело теперь битое, сгоришь вместе со мной». Вначале складик в комнате был, а потом пошло шире, весь низ забрали под него… И Женя стал подробно рассказывать все, что знал об организации Симбирцева…
— Отправили? — спросил Феликс Эдмундович. — Отправили, — невесело ответил Швырев. Дзержинский внимательно посмотрел в глаза Павлу Федоровичу. — Мне врач докладывал — сердце у Веретидина хорошее. Садитесь, Павел Федорович. Вы когда с Иваном Дмитриевичем подружились? Швырев подумал, припоминая, улыбнулся и рассказал, что узнали они друг друга в Петрограде, когда занимали телефонную станцию. — Это когда вы за телефонисток работали? — тоже улыбнулся Дзержинский. — Ну да! Они все в обморок попадали, стрельба, а тут Смольный названивает. Я трубку взял, то есть не трубку, а машинку эту — слышу, называют номер. А как соединить — не знаю… Дзержинский засмеялся; глаза у него посветлели, лицо стало молодым. Павел Федорович, усмехаясь, рассказывал: — Один там парень был — не помню, как его звали и откуда, — рабочий паренек, тот в трубку заявляет: «Они все в обмороках лежат, а мы соединять еще не обучились». Ну, а Веретилину как раз Зимний дворец попался — тоже звонит — министры временные. Он им и сказал, что теперь станция их не обслуживает. Как раз, помню, продукты для телефонисток привезли — триста буханок хлеба, триста банок консервов, это все с Трубочного завода. А телефонистки от страха кушать не могут. Вот Иван Дмитриевич — он тогда еще в бушлате был — мне и говорит: «Солдат, а солдат, давай покушаем, поскольку мы сегодня являемся телефонистками…» Покушали, стали в телефонной технике разбираться. Выключили прежде всего телефоны Зимнего дворца и штаба округа… — Здесь и познакомились? — Здесь. Потом, попозже, Веретилин побежал своих «альбатросов» встречать — моряков; они в Неву входили на кораблях. И я с ним оказался. А дальше уже вместе с Красной гвардией и с солдатами Измайловского полка действовали. Подранило меня там. Веретилин как раз поблизости был — вытащил, перевязку сделал, все честь честью. И банку консервов мне оставил, и записку. В записке хорошие слова написал: «Паша, — написал, — не горюй, твердыня скоро падет, и начнется новая жизнь…» — Потом уже в ЧК встретились? — В ЧК. — Хороший работник Веретилин, — сказал Дзержинский, — настоящий! — Таких, как он, работников — поискать! — подтвердил Швырев. Помолчали. — И заболел! — произнес Дзержинский. — Надолго, видимо, из строя выбыл. Время горячее, а мы без него остались. Он вел целую группу дел — по организаторам голода… Павел Федорович молчал. — Придется вам, товарищ Швырев, его группу, я думаю, сейчас принять прямо на ходу. Трудно будет, а придется. Вы и Аникиев с помощниками — больше нам некого нынче на этой работе держать. Спекулянты, саботажники, организаторы голода — только часть врагов революции, врагов народа, с которыми надо бороться. У вас опыт есть, кое-какие приемы этих негодяев вам еще по прошлому году известны. Начинайте работать! — Слушаюсь! — поднимаясь с места, сказал Павел Федорович. Попозже Свешников привез тех двух красногвардейцев, которые вместе с Веретилиным конвоировали арестованных. Слушая красногвардейцев, Дзержинский как бы вместе с ними шел из Замоскворечья на Лубянку. И когда красногвардейцы вспомнили слова Веретилина насчет шубы и насчет того, как кто-то попался на шубу, как на крючок, — общая картина дела уже начала для Феликса Эдмундовича проясняться. Тонкие, еще непрочные нити вели и в почтамт, и в квартиру шесть, где проживал Мюллер, и на железную дорогу, где, по всей вероятности, орудовал Осокин, и в пакгаузы Брянска-товарного, где нынче смертельно ранили Сережу Орлова. Любая нить могла оборваться, но могла и привести к следам новой шайки. Тут нужна была осторожность, чтобы не спугнуть зверя раньше времени, решительность, чтобы не упустить врага, меткость, чтобы действовать наверняка. — Это не просто мешочники, — говорил Дзержинский Павлу Федоровичу и Свешникову, когда красногвардейцы ушли. — И это вовсе не мелкие спекулянты. Такие господа, организовавшись в шайки, лишают государство возможности выдавать трудящимся даже то немногое, что декретировано системой нормированного снабжения. Мы обещаем, но не выполняем свои обещания из-за таких негодяев, понимаете? Постепенно в комнату, где неторопливо, как бы думая вслух, говорил Дзержинский, приходили чекисты. Худые, с красными от бессонницы глазами, с обмороженной и обветренной кожей, плохо одетые, кто в шинели, кто в ватнике, кто в потертом драповом пальтишке, они затаив дыхание слушали Дзержинского, и картина великой битвы за хлеб все яснее, все ярче вырисовывалась перед ними. — Мешочничество не увеличивает, а резко сокращает поступление хлеба в город, — говорил Дзержинский. — Мешочничество резко обостряет голод. Поезд с мешочниками доставляет в город в лучшем случае только четыре тысячи пудов хлеба, с товарным же поездом город получает сорок тысяч пудов. Ровно в десять раз больше. Помните, мы недавно оглашали цифры — статистику мешочничества: семьдесят процентов мешочников снабжает продуктами спекулятивные заведения всяких бывших людей. Тем не менее товарищ Ленин предупреждает нас, чтобы мы различали чуждые элементы от трудящихся. «Мы вовсе не виним, — говорит Владимир Ильич, — того голодного, измученного человека, который в одиночку едет за хлебом и достает его какими угодно «средствами». Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь и в другие замечательные слова Ленина: «Мы существуем, как рабоче-крестьянское правительство, не для того, чтобы поощрять распад и развал. Для этого правительство не нужно. Оно нужно, чтобы объединять их, голодных людей, чтобы организовывать, чтобы сплачивать сознательно в борьбе против бессознательности». Что это значит, товарищи? Это значит, что мы должны организовать массы против мешочничества, мы должны противопоставить разнузданности и разброду образцы организованности, иначе нам не спасти миллионы от голода и не добиться правильного распределения продовольствия. Дзержинский потер лицо ладонями, потом устало спросил: — Кто сейчас ведет дело почтамта и Баландинского почтового отделения? Кто работал вместе с покойным Сергеем по этому делу? — Я, товарищ Дзержинский, — сказал Аникиев. — Знаете дело? — Знаком в общих чертах. — Зайдите ко мне сейчас…
В кабинете Дзержинского Аникиев сидел за столом, напротив Феликса Эдмундовича, и пытался что-то объяснить. Вдруг он замолчал, обхватил голову руками. Дзержинский ходил из угла в угол. — Вы меня извините, товарищ Дзержинский, — наконец глухим голосом сказал Аникиев, — слишком тяжело стало. Сергей мне вроде сына был. Я его в партию рекомендовал и в первую засаду водил, мы с ним к вам пришли тогда, еще на Гороховую, в Петрограде, помните? — Помню… — Вы еще тогда заметили, что молод больно Сергей. А я сказал — ничего, будет работать, у него единственного брата юнкера убили. Помните? Феликс Эдмундович молча кивнул головой. Он медленно перебирал бумаги, в которых Сергей Орлов делал выписки по делу Баландинского почтового отделения. Так… Вот оно — самое главное: выезжал на ревизию отделения Симбирцев А. П. Разумеется, во время ревизии он и договорился с местными жуликами о способе пересылки продуктов в почтовых кожаных мешках. Ясно. Пожалуй, можно начинать допрос. У Сережи фамилия Симбирцева подчеркнута красным карандашом — единственная из всех. Юноша был талантливым следователем. Конечно, убийство у пакгауза было не случайным. По всей вероятности, преступники почувствовали близость провала и каким-то способом увели Орлова темной ночью к пакгаузам Брянского вокзала. — Поезжайте по этому адресу, — сказал Дзержинский, протягивая Аникиеву листок блокнота, где был записан адрес Мюллера, — предполагаю, что этот господин и есть убийца Сергея. Будьте осторожны. Вряд ли вы его застанете дома, но оставьте засаду. Произведите обыск в квартире Симбирцева — там же во дворе, во флигеле. Все ясно? — Ясно, товарищ Дзержинский! — сказал Аникиев. — Действуйте. И помните, что лучшим памятником Сереже будет борьба с тем страшным миром, который убил его. Аникиев ушел.
В кабинете было совсем тихо, только вьюга посвистывала за окнами, била колючим снегом в стекла, да на стене мерно постукивали часы. Секретарь принес стакан жидкого чаю и черный сухарь на тарелочке. Дзержинский отхлебнул из стакана, поморщился и попросил: — Знаете что? Принесите мне просто кипяток вместо этого чаю. Из чего его делают? — Из розовых лепестков, — сказал секретарь. — Свешников еще из Петрограда привез, где-то достал. Ему этот реставратор, что ли, для вас все свои лепестки подарил. — Так вот — водичку, — улыбаясь попросил Дзержинский. А Свешникову ничего про чай не говорите… И пусть приведут арестованного Симбирцева. Симбирцев вошел скромно, вежливо, но с достоинством поклонился и присел на венский стул против стола Феликса Эдмундовича. За эти несколько часов щеки Симбирцева как бы обвисли, взгляд стал беспокойным; а когда его ввели к Дзержинскому, он понял, что дела его проиграно. — Бывший жандармский ротмистр Симбирцев? — спросил Феликс Эдмундович. — Вы меня… знаете? — Я помню Варшаву и тюрьму Павиаки. Я помню, как вы там допрашивали одного заключенного. И вы, наверное, не забыли? — Это все было не так, — забормотал Симбирцев. — Впоследствии я давал объяснения. Слово честного человека — это был сговор политических против меня. Я его не убивал. Да и зачем мне — посудите сами — зачем? Табуретка в камере упала… Он и то-го-с… Сердце у него было слабое… — Табуретки в камерах не падают — они привинчены! — заметил Дзержинский. — Вы это знаете не хуже меня. Так каким же образом вы договорились с Баландинским почтовым отделением о посылке продуктов в кожаных почтовых мешках за печатями? — Не я. Меня вынудили. Я только орудие, пешка, мелкий человек. Под страхом разоблачения… — Кто вас вынудил? Говорите скорее, мне некогда, Мюллер? Симбирцев молчал. Челюсть у него отвисла, губы беззвучно шевелились. — Продали! — сказал он наконец. — Все-таки продали… Что ж, тогда пусть сами тоже… отвечают… Дзержинский позвонил. Симбирцева увели. И когда Павел Федорович писал протокол допроса, ему приходилось останавливать бывшего жандармского ротмистра — так быстро и много тот говорил. Да, это организация. Он знает пятерых. Предполагает, что имеется несколько пятерок. Им лично командует Мюллер. Что касается Брянского вокзала, то он… «Ах да, да. У Мюллера там какие-то дела со сторожами…» Павел Федорович писал и курил самокрутку за самокруткой. Симбирцев иногда пил воду, иногда замолкал надолго, только губы у него беззвучно шевелились. Потом, точно спохватившись, начинал говорить опять. — Меня расстреляют? — спросил он вдруг. — А что же с вами делать? — хмуро отозвался Павел Федорович. — Перевоспитывать? — Но я… раскаиваюсь… раскаиваюсь горячо. Искренно! Видит бог как я раскаиваюсь. — Это вы трибуналу доложите — насчет раскаянья, — так же хмуро и глухо сказал Павел Федорович. — Я лично вашими переживаниями не интересуюсь… В соседней комнате Вася допрашивал Осокина. — Прошу вас нормально отвечать на вопросы, а не обдумывать каждый ответ по часу! — строго сказал Вася. — Мы тут не в бирюльки играем! Пора понять! — Як этим негодяям никакого отношения не имею! — заявил Осокин. — Мало ли кто сознался! Они сознались в своих преступлениях и меня запутывают, а я вот не сознаюсь и никого не запутываю. Я честный человек. Если в чем-нибудь и виноват, то только в том, что покупал. Я — покупатель. Ну и судите за это. Пожалуйста! Сделайте одолжение! Вася не перебивал. Он берег свой главный козырь. И жалко было расставаться с ним вот так, сразу. — Что же именно вы покупаете? — спросил Вася. Осокин пожал узенькими плечами. Не очень-то ему страшен этот мальчишка! И ничем вся эта катавасия не кончится. У них нет никаких улик против Осокина. Еще извиняться будут — вот что произойдет. И, совсем обнаглев, Осокин сказал: — Вот что, молодой человек! Вы едва начинаете свою жизнь, а я сед, как бобер… Но следователь не дал ему закончить нравоучительную фразу. Внезапно перегнувшись через стол, он спросил звонким, напористым, недобрым голосом: — А что вы изволили делать месяц тому назад на станции Саракуз? Осокин откинулся на спинку стула. — Я? На станции Саракуз? Я, Осокин? — Да, вы, Осокин, на станции Саракуз. У вас провизионка в удостоверение заложена, и выписана она до станции Саракуз. Чье консульство хранит там запасы хлеба? Отвечайте! «Пропал! — чувствуя холод в груди, подумал Осокин. — Пропал. Сгорел. Теперь кончено!» Но все-таки он еще пытался сопротивляться. Даже хохотал. Какое там консульство? Это даже смешно! Консульство! Можно выдумать все, что угодно. Просто у него там старший брат в Саракузе, работает помощником главного бухгалтера; он зарезал свою корову Мушку и таким образом… — Никаким не образом! — усталым голосом сказал Вася. — Вы ездили туда, чтобы наладить связь с амбарами королевского консульства. У вас было письмо туда от некоего мистера Фишера. На основании этого письма вам удалось вывезти из Саракуз под видом иностранного имущества несколько тысяч пудов хлеба в запломбированных вагонах. Вы даже имели охрану — вагоны охранялись от голодных людей. Этот хлеб был доставлен в Москву и Петроград, и здесь через вашу контрреволюционную организацию… Осокин сделал негодующий жест рукой. — Через вашу контрреволюционную организацию, — жестко повторил следователь, — хлеб был обменен на бриллианты, золото и главным образом картины. Картины эти вывозил мистер Фишер, предварительно их гримируя под произведения, не имеющие художественной ценности. Так? Осокин обвис. «Мальчишка знает все. Но какие у него могут быть доказательства насчет картин? Еще сегодня днем там, в мастерской, было все в порядке, в полном порядке. Нет, картины он не возьмет!» — Что касается станции Саракуз, — печально сказал Осокин, то я там был. Где был — там был. Выполнил, так сказать, привратно поручение. Заплатили мне за это натурой — хлебом. Все мы люди, гражданин следователь, все мы человеки, человеческие слабости нам свойственны. Да, да, заработал два пуда хлеба, каюсь, расстреливайте. Что же касается до картин… Он развел руками… Когда Осокина увели, Вася заперся в комнате на ключ, положил на стол лист бумаги и, мучительно борясь с усталостью, стал рисовать. Сначала он набросал то, что было намалевано поверх той картины, которую первой очистил реставратор: стакан от снаряда, зеленые бессмысленные палки, пирожное на круглой тарелочке. Потом по памяти набросал две плоскости, образующие как бы лицо, потом фонарь, повисший на проволоке, и маленький труп внизу слева. Теперь он рисовал лихорадочно быстро, восстанавливая в памяти то ненавистное ему искусство, из-за которого его, молодого студента Академии художеств, не пускали к себе на знаменитые «пятницы» друзья художника Егоршина. Тогда он сказал им все, что думал об их работах. Улюлюканьем и визгом они встретили его слова о Федотове и Репине, о Сурикове и Поленове. Кто он был для них тогда? Глупый мальчик со старомодным Пушкиным в руках. Революционеры в искусстве — они, а он — ничтожество, подражатель, копеечный рисовальщик. Его оскорбили, выгнали. Всю ночь он крутился по мокрым улицам Петрограда, останавливался и снова шел, опять останавливался и бежал, ничего не понимая, растерянный, потрясенный, уничтоженный. Потом он понял, несколько позже, после Октября, когда встретил Егоршина возле Зимней канавки. Кривя рот, Егоршин сказал: — Ну как, господин пролетарий? Наступили ваши красные денечки? Искусство, понятное народу! «Волга, Волга, чей стон раздается…»! Поделитесь вашими творческими планами! Над каким полотном сейчас работаете? — Над полотном я сейчас не работаю! — бледнея от бешенства, сказал Вася. — Некогда! — Чем это вы так заняты? — Борьбой с такими господами, как вы! Пока мы с вами не справимся, ничем другим заниматься невозможно. — А может быть, мы с вами справимся? — Вряд ли! — сказал Вася. — Каши мало ели! Повернулся и ушел, чувствуя, что Егоршин смотрит ему в спину ненавидящими глазами. Так они виделись в последний раз. И вот в Петрограде, в ЧК, в студеный январский день Вася увидел то, что когда-то делали в живописи Егоршин и его друзья. Но раньше они рисовали старательно, теперь малевали. Снарядный стакан был умело выписан на старой картине Егоршина; теперь с трудом можно было понять, что это нарисован стакан от снаряда. И любовь к трупам — это тоже Егоршин. Только они, эти ненавистники настоящего искусства, могли решиться на такое преступление. Только они! Еще дважды Вася вызывал Осокина, но тот уперся: знать не знает, ведать не ведает. Тогда Вася поехал в библиотеку и просидел там два дня, копаясь в журналах того времени, когда Егоршин устраивал свои скандальные выставки. Теперь сомнений больше не было. Замазывает картины для людей мистера Фишера Егоршин.
Поздно вечером Вася Свешников с журналами и рисунками пошел наверх к Феликсу Эдмундовичу. Дзержинский, в накинутой на плечи шинели, писал, наклонившись над столом. — Вы что? — спросил он, продолжая писать. Вася разложил на столе свои рисунки и рассказал все, что думал по поводу Осокина и полотен, уходящих за границу. Еще тогда, в Петрограде, реставратор вспомнил Егоршина. И это, конечно, верно. За эти дни Свешников проверил: Егоршин теперь живет в Москве у какого-то свободного художника Горбатенко. Он восстановил по памяти старые «работы» Егоршина. Что касается новых работ Егоршина и его компании, то товарищ Дзержинский сам их видел тогда на Гороховой. — Да, видел, — усмехнувшись, ответил Дзержинский. Подумав, посоветовал: — Если этот Горбатенко откроет вам дверь и впустит на фамилию Осокина, — значит, сомневаться не в чем. Произведите обыск. Вы сказали, что Горбатенко живет в пятом этаже? — Да, в пятом. — Видимо, мастерская. Там они, по всей вероятности, и работают на благо мистеру Фишеру. Обыск решит все сомнения. Идите. Вася пошел к двери. — А писать хочется? — издали спросил Дзержинский. — Очень! — ответил Вася. — Вот кончится это трудное время, — сказал Дзержинский, — пойдете дальше учиться. Будете писать… Ну, идите, идите… Подышав в озябшие руки, Свешников переложил маузер из кобуры в правый карман своей пегой куртки. Сзади, в темноте, задевая карабином за кривые, щербатые ступеньки, шел красногвардеец Назимов. Вася сердито зашипел: «Потише нельзя?» Внизу или наверху — в этой кромешной тьмище ничего нельзя было разобрать — с фырканьем и воплями метались коты, злые, голодные, осатаневшие. Один, сверкнув изумрудными глазами, пронесся у самых Васиных ног, другой с окаянным воплем прыгнул через пролет… Миновали четвертый этаж, поднялись на пятый. В выбитые стекла хлестал сырой мартовский ветер. Здесь, что ли? Назимов щелкнул новой зажигалкой; голубое пламя осветило крепкую дверь, табличку, как у врача:
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК ГОРБАТЕНКО
— Свободный? — шепотом спросил Назимов. Что-то его удивило в этом слове на табличке. Очень удивило. Он даже пожал плечами. Вася постучал раз, потом еще раз, крепче. За дверями кто-то выругался, подождал и спросил: — Кого надо? — Егоршина, от товарища… Он помедлил — это было опасное мгновение: здесь, конечно, знают, что Осокин арестован. Прошло не два, не три дня. — Откройте! — негромко попросил Василий. — Я… от Осокина. Сказал и затаил дыхание. Сзади у плеча посапывал Назимов — держал наготове карабин. Загромыхали замки, звякнула цепочка, повернулся ключ. Вася шагнул вперед, за ним вплотную, дыша ему в ухо, протиснулся Назимов. Дело было сделано. Они, здешние свободные художники, знают Осокина. — Я из ВЧК! — сказал Вася. — Спокойно! Руки вверх! — Маргарита, обыск! — сильным голосом крикнул человек в глубину квартиры. — И не волнуйся, девочка! Это не налет! Там, где-то за коридором, тотчас же с грохотом заперли двери; было слышно, как быстро, перебивая друг друга, говорят: — Приподними и тогда опускай! — Э, дура! Вася с силой ударил сапогом в дверь, навалился, и дверь отворилась, вырвав шпингалетом древесину из косяка. Два человека — мужчина и женщина — пятились от Васи к стене. Он не посмотрел на них, оглядывая комнату, освещенную керосиновой лампой-молнией. Да, Дзержинский верно сказал — это была студия со срезанной стеклянной крышей. Штук шесть мольбертов стояли в ряд, как солдаты, на подрамниках были натянуты холсты, те самые — Вася понял сразу, — те самые, страшные, кощунственные холсты. Не останавливаясь на них взглядом, он успел только заметить, что везде валяются тюбики красок, палитры, везде в чашках отмокают кисти, и туг же неподалеку на столе — награда за труд: пшеничный хлеб, кусок жареного мяса, водка в бутыли… — Никак Василиса? — спросил чей-то очень знакомый голос. Вася резко повернул голову и узнал Маргариту — она тоже училась тогда в Академии. В тот год Васю за девичий румянец, за тихий нрав, за то, что от соленого слова у него начинали дрожать ресницы, называли Василисой. — И вы здесь? — грустно спросил Вася. Полная, с высокими вразлет бровями, с черепаховым гребнем в черных волосах, Маргарита села на диван и закурила. За ее спиной появился Егоршин. Он был в меховой безрукавке, в низких сапогах, в шароварах. Попросив у того, кто открывал дверь, табакерку, он свернул папиросу. — Да, мы здесь, усмехнувшись сказал он. — Ничего не поделаешь… а ты что же? Окончательно сменил орало на меч? Вася молчал, отвернувшись к мольбертам. На одном, на самом ближнем, было то, что больше всего его беспокоило — не просто замазанная «продукция», а еще не совсем готовая, только начатая, «в стадии первичной обработки», как выразился потом про эту картину Егоршин. Конечно, это была та самая картина. Васе тотчас же вспомнился тихий зимний вечер шестнадцатого года, и они вдвоем — он и профессор Лебедев — идут в Петрограде по Екатерининскому каналу к смутно чернеющему дворцу старого вельможи. Граф, по рассказам, очень стар, в России не живет, купил поместье на юге Франции — там и доживает свой век. Профессор Лебедев ведет любимого ученика во дворец, в галерею графа — взглянуть на картину, взглянуть хоть одним глазком. У Лебедева, как он выражается, «есть связи» среди дворцовой прислуги, вот они и пропустят — посмотреть. И их пропускают. Бессмертное творение висит отдельно на чистой, светлой стене: толстые ноги в полосатых чулках, грязный плащ, брюхо, перетянутое поясом, рука с перстнем и наглый, полный лакейского высокомерия, самоуверенный и в то же время ищущий взгляд… «Ты понимаешь, — вздрагивая от волнения, шепчет Васе Лебедев. — Понимаешь? Так художник изобразил своего мецената, так отомстил за унижения, за страдания — за все. Лакеем. Видишь? Барона — лакеем?! Ты понимаешь?» Сзади переминался с ноги на ногу старый дворецкий: ему скучно и холодно в нежилых покоях графа. И смешон ему знаменитый профессор, который сунул четвертную только затем, чтобы постоять тут перед этим полотном. А когда они возвращались обратно, Лебедев, все еще волнуясь, говорит Васе: — Дважды я писал этой старой скотине, умоляя дать картину на выставку, но он даже не ответил, не ответил мне, академику, вероятно потому, что он — голубая кровь, а я мужик. И никто не видит эту картину, ее знают только по каталогу. Как это подло и глупо, а? И вот она, эта картина, здесь, в квартире Горбатенко… Толстые короткие ноги в полосатых чулках, пряжка на башмаке, рука, выброшенная вперед, часть лица, а все остальное замазано желтым, издевательски подлым, любимым егоршинским тоном, а по желтому пущены виселицы, человечки покачиваются в петлях. Ничего толком понять нельзя, только чувство гадливости охватывает все существо. — Это вы… проделываете? Эти фокусы? — негромко спросил Вася. — Так ведь смыть легко! — издали, из угла, ответил Егоршин. — Рецептура такой обработки — старая, давно известная… Наверное, прошло очень много времени, пока Вася все осмотрел, пока разбил ящики, в которые была упакована «продукция», пока точно представил себе, как и сколько времени работала вся эта дьявольская кухня. Привести бы сюда Лебедева из Петрограда, показать бы ему, как «обработаны» тут любимые им полотна. Назимов, не опуская карабина, зорко следил за живыми «художниками» и только иногда осторожно косил глазом в сторону картины. — Егоршин! — негромко позвал Вася. — Да. — Егоршин, а ведь Лебедев бы вас всех сам перестрелял, а? Я так думаю… Егоршин хмыкнул в ответ. — Мы вообще принципиальные противники реалистического лебедевского изображения жизни в искусстве, — ломким голосом заговорила Маргарита. — Мы враждебно, воинственно враждебно, относимся к тому, то вы изволите именовать подлинным искусством. Но не в этом дело. Дело в том, что искусство надклассово, и совершенно неважно, будет ли данный инвентарный номер иметь своим местожительством Петроград, Гаагу или Филадельфию…
Уже рассветало, когда Вася и Назимов вывели всех троих на Цветной бульвар. Галки прыгали по тающему снегу. Где-то негромко звонили к заутрене. Сырой ветер подувал из переулка, откуда выходила рота, пела сурово:
Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолим наш строгий суд…
— Послушайте, товарищ чекист! — обернувшись, сказал Егоршин. — Допустим, мы виноваты не так уж страшно — мы сами беремся отмыть картины… — Разговорчики! — сухим жестким голосом ответил Вася. — Оставим разговорчики! Дома мать, Елизавета Андреевна, открыла Васе дверь. Она была одета — так и не ложилась ни на секунду. И лицо у нее было измученное, серое. — Господи! — сказала она. — Когда это кончится? Всю ночь хожу, думаю — убили, или убьют, или лежишь где-нибудь раненый, истекаешь кровью… Вася сонно улыбнулся и сел, не снимая свою легкую куртку из собачьего меха. — Бросил академию, дома к мольберту не подходишь, а такие милые этюды писал, такие хорошие… Вася все еще улыбался, засыпая сидя. Когда мать снимала с печурки закипевший чайник, Вася проснулся и спросил: — Мама, ты Егоршина помнишь? Мать кивнула. — Картину написал? — И не одну. Много написал, — ответил Вася. — Очень много. Елизавета Андреевна села против сына, покачала головой и вздохнула: — Вот видишь! А не очень способный был молодой человек. Желтое все у него было, я помню, желтое и зеленое… Непонятное. А ты… ты один так ничего и не сделал. Что бы сказал твой Лебедев? Вася опять сонно улыбнулся и, обжигаясь кипятком, весело ответил: — Честное слово, мамочка, Лебедев был бы мною доволен. Даю тебе честное слово!
Дзержинский позвал к себе профессора Лебедева. Старик вошел в кабинет, щуря один глаз, ладонью подбивая снизу свою клочкастую бороду. — Не выпить ли нам чаю? — спросил Дзержинский. — Товарищи из Наркомпроса приедут через час. Вы вместе с комиссией примете у нас картины, для того чтобы экспонировать их. Ну, а потом мы позаботимся о дальнейшей охране… Они сели в кресла — друг против друга. На подносике стояли два стакана очень крепкого золотисто-коричневого чаю. — Давненько я не пил чаю такой дивной красоты! — сказал Лебедев и, посмотрев стакан на свет, жадно отхлебнул большой глоток. Тотчас же лицо его искривилось, в глазах блеснули сердитые искры. — Упрямый народ — изобретатели! — сказал Феликс Эдмундович. — Раньше потчевали меня просто настоем из роз. А теперь еще морковка и цикорий. Не правда ли, дрянь редкостная? — Да, уж… — А кипятку не дают. Неловко им кипяток подавать. Вот так и приходится… — Вы бы им… приказали! — посоветовал Лебедев. — Не помогает. С минуту помолчали. — Один вопрос, позвольте, — сказал Лебедев. — Как эти картины оказались у вас? Я все думаю и никак понять не могу… Дзержинский улыбнулся. — А вы еще ничего не знаете? — Решительно ничего. — Ну что ж… Тогда я вам скажу… У Лебедева округлились глаза, когда он выслушал всю историю с картинами. — Вот какие у нас ребята — Петр Быков и Василий Свешников, — сказал Феликс Эдмундович. — От Васи я знаю, как вы тайком ходили в графский особняк картину смотреть. Теперь насмотритесь вволю. Хотите сейчас взглянуть? Вдвоем они вышли в приемную и долго рассматривали картины. Дзержинский пытался правильно направить свет, но ничего толком не получалось. Накал был слабый, нити в лампочке мерцали оранжевым светом. Лебедев боком взглянул на Дзержинского, удивленно подумал, что так может стоять перед картиной только очень понимающий искусство человек. — Реставратора трудно было отыскать, — сказал Дзержинский, — четыре человека были; поговоришь с ними — видишь: не то, испортят, погубят. Нашел Вася старичка, удивительный старичок, глазки, знаете, совершенно детские, бородка эдак мочалкой, тихий, как мышка. Оборудовали мы ему мастерскую… — Здесь, и ЧК? — А вот тут, за стеной. Покормили старичка пшенной кашей, он и ожил. Сидит, бывало, перед мольбертом и тоненьким голоском напевает. И каждой детали, которая открывается ему в картине, радуется необыкновенно. Все меня звал — вы только посмотрите, мол, какая силища обнаружена. Тона какие! Подробности какие открылись! Лебедев еще раз сбоку посмотрел на Дзержинского — увидел его порозовевшие щеки, горячий блеск зрачков, спросил очень сердечно: — Извините за прямоту — еще один вопрос вам хочу задать: вы живописью занимались? Дзержинский усмехнулся, заговорил не сразу: — Был такой период у меня в молодости. Попалась мне в тюрьме, в камере тюремной, книга. Эта книга долго валялась на нарах — владельца ее угнали в Сибирь, — а я как-то раскрыл книжку и зачитался. До сих пор не знаю, что это за книга, титульный лист был оторван, многих страниц не хватало. Но читал я ее с жадностью, читал не отрываясь, помню, читал, стоя у семилинейной лампы, подвешенной к потолку. Начальство воровало керосин и приказывало тушить лампы ровно в девять, а я бунтовал изо дня в день, и в конце концов они оставили меня в покое. Читать было трудно еще и потому, что у меня тогда болели глаза, но не читать я не мог. С воли мне стали присылать книги по искусству. Помню, это были дорогие книги, в красивых, с тиснением, переплетах, и помню, как странно они выглядели на тюремном столе. В этих книгах я впервые увидел репродукции: Веласкес, Рембрандт, Ван-Остаде, Рейсдаль. Помню, как поразил меня тогда Федотов, какой мир мне открыли русские художники. Бывало, сидишь на краю нар в грязной камере, дышишь воздухом, пропитанным карболкой, и перелистываешь такую монографию — о Веласкесе или Ван-Дейке. И не можешь себе представить, как это грандиозно в подлиннике, если даже в репродукции это захватывает тебя целиком. Странно, почти невероятно, знаете ли: отвратительная тюремная баланда и разговоры о живописи, о ваянии, о зодчестве. В первый же день на воле я пошел в картинную галерею. Помню, хорошо помню, как я остановился у маленького полотна старого голландца и подумал: «Нет, это слишком хорошо. Это сейчас не для меня. Я революционер-профессионал, я должен думать о своей революционной работе, она требует человека целиком, безраздельно. Слишком много прекрасного, слишком много красоты, надо найти силы и отказать себе в этой красоте!» — И отказали? — спросил Лебедев. — Да. — Трудно было? Дзержинский не успел ответить. В приемную вошли члены комиссии Наркомпроса. Жесткое выражение мелькнуло в глазах Дзержинского. Он подвел членов комиссии к картинам и спросил: — Так как же, товарищи? Эти полотна художественной ценности не имеют и могут быть вывезены за пределы страны? Или все-таки имеют? Кто у вас там такие документы стряпает? Кто такие чудовищные глупости выделывает? Или, может быть, это не глупости, а нечто похуже? Уже ночью, проводив Лебедева и комиссию, Дзержинский еще раз вышел в приемную и, осторожно ступая, чтобы не разбудить уснувшего секретаря, подошел к небольшому полотну, которое особенно ему понравилось. Двое детей спокойно и даже строго смотрели с картины прямо в глаза Дзержинскому. Это были нищие дети, в рубищах, с котомочками, в деревянных башмаках. Они не протягивали руки, не плакали, они молчали и только смотрели серьезно и строго и, казалось, ждали. Но не подаяния, не милостыни, а чего-то принадлежащего им по праву. «Детства, вот чего они требуют! — подумал Дзержинский. — Детства и счастья. Что же, будет и настоящее детство на земле, будет и счастье! Добьемся!» Зазвонил телефон. Дзержинский снял трубку, и тотчас же глаза его сузились и потемнели. — Где? — спросил он. — На Воздвиженке взяли? Привезите ко мне, я сам буду с ним разговаривать… Да, да, Мюллера. Управившись с делами, Вася узнал, что его вызывает секретарь Феликса Эдмундовича. В приемной, около секретарского стола, спиной к двери сидел широкоплечий человек с седыми кудрявыми волосами, знакомым жестом — снизу вверх — ерошил бороду и говорил сердито: — Имена чекистов, спасших для народа, для республики, для всех нас эти сокровища, надобно золотом, понимаете, золотом на мраморе высечь, чтобы люди знали, помнили, как это все было… — Не выйдет это! — усмехаясь отвечал секретарь. — Товарищ Ленин учит наш народ скромности, да и зачем этот мрамор, товарищ Лебедев? — Виктор Антонович? — охнув от радости, сказал Вася. Лебедев легко, с живостью обернулся, вскинул бороду, спросил: — Это кто ж такой? Не узнаю… Вася шагнул ближе, отодвинул назад кобуру маузера, засмеялся, и Лебедев наконец узнал его. — Василий? — тихо спросил он. — Я. Василий. Старик встал, положил руку ему на плечо, жадно вгляделся в Васины усталые, очень усталые глаза. — Не спишь, что ли? — спрашивал он, когда они тряслись в машине по булыжной мостовой. — Почему глаза такие измученные? Да ты что на меня смотришь? Ты говори, рассказывай. Мама как? Вот погоди, я нынче же приду к вам чай пить. Пишешь? Или совсем не пишешь? Вася молча улыбнулся. — Совсем не пишешь? — Собираюсь, Виктор Антонович. — Расскажи поподробнее, как у «свободных художников» гостил. Феликс Эдмундович обещал, что ты все расскажешь… В картинной галерее уже ждали два человека из Наркомпроса — специалисты по устройству выставок. Реставратор, маленький старичок с небесно-голубыми глазами, доделывая свою работу, пел тоненьким, мирным голоском. За открытым окном, под крышей, стонали и ворковали голуби. Лебедев высвистывал «Рассвет» из «Хованщины», похаживал, посматривал и ни в чем не соглашался со специалистами из Наркомпроса. Потом пришли два красногвардейца с винтовками и подсумками, закрыли окно, пропустили через шпингалет таинственную проволочку, попробовали на язык — есть ли ток. — Это что же такое? — удивился Лебедев. — Проволока медная! — хмуро ответил красногвардеец. — Сигнализация. Дернет какой похититель окно — где надо, сразу звонок звонит. Теперь не украдут, теперь спета ихняя песня… Лебедев подивился: откуда солдаты все знают? Они объяснили, — их прислал сюда сам Дзержинский. Завтра с утра учение будут проводить с охраной, тут старушки есть и старички, надо им кое-что растолковать насчет дисциплины. А одна тут даже затвор винтовочный открыть не может — гильза стреляная в стволе засела. С такой винтовкой и дежурит, вояка. Уже начало смеркаться, когда по паркету раздались гулкие шаги: по залам медленно шел человек в черной тужурке. — Кто там ходит? — крикнул Вася. — У меня разрешение есть! — ответил человек, и Вася узнал Быкова, Петю Быкова, старого друга. — Петруха! — крикнул Свешников и бросился к Быкову. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, по спинам. — Ну, как? — А ты как? — Таможней командую. Ловлю помаленьку. — И мы тут живем. Действуем… — Да слышал, много разного слышал. И слышал, и в газетах читал… Свешников познакомил Лебедева с Быковым. Профессор внимательно вгляделся в Быкова, спросил: — Это вы первый не дали их украсть? — И кивнул на картины. Петя смутился. — Вроде бы я… А теперь приехал по делам сюда, набрался смелости и позвонил самому Феликсу Эдмундовичу. А он в ответ — идите, говорит, и смотрите, как там сейчас ваши картины развешивают. Так и сказал: «ваши». Я и пришел… Какие же тут мои, Василий? — Да теперь, пожалуй, и не определишь, какие именно твои! — ответил Вася. — С того дня много еще полотен обнаружено. Вот развешиваем по стенам. Втроем, Лебедев, Быков и Вася, пошли по залам — смотреть спасенные картины.
СЛУЧАЙ
Красноармеец был такой молодой, что еще ни разу, не брился. Лицо у него было розовое, детское, и глаза были круглые, как пуговицы. Но в длинной шинели, в шлеме с высоким шишаком и в тяжелых юфтовых сапогах, да еще с револьвером на боку, он выглядел сносно — боец как боец, не хуже других.
Он шел, слушал, как скрипят на ногах новые сапоги, только сегодня полученные со склада, и, чтобы ловчее было идти, насвистывал тот военный марш, который обычно играл полковой оркестр, а когда попадалась на пути невыбитая витрина, красноармеец замедлял шаги и, как в зеркале, не без удовольствия оглядывал себя.
На ходу он читал вывески над заколоченными и пустынными магазинами. Вывески были разные, и красноармейцу вдруг сделалось грустно от этих вывесок и от того, что на них было написано: и колбаса, и ветчина, и сахар, и масло, и, главное, баранки. Около вывески «Кондитерские изделия, булки и баранки» красноармеец даже остановился, задрал голову и долго с тоской в глазах рассматривал золоченые деревянные булки и баранки, привешанные над дверью бывшего магазина.
«Вот какое несчастье с этим животом-желудком, — думал он. — Не рассуждает, что хлеба нет, и мяса нет, и сметаны нет. Нет продовольствия, а ему подавай».
Так красноармеец шел и шел, и все рассуждал сам с собой то об одном, то о другом, и негромко насвистывал полковой марш, как вдруг увидел, что женщина, которая шла перед ним, выронила из муфты сверточек.
Красноармеец поднял бумажный сверток и пошел быстрее, чтобы догнать женщину.
«Военный человек должен быть вежливым, — думал он, — и должен подавать пример гражданскому населению. И, пожалуй что, данным своим поступком я подаю пример».
Тут он споткнулся и уронил сверток. Сверток косо упал на тротуар, раскрылся, и тотчас ветер понес по улице выпавшие из свертка листочки.
Обругав себя крепким словом за неловкость, красноармеец бросился ловить листочки, гонимые морозным ветром, поймал все и стал сдувать с них снег, как вдруг заметил, что листочки вовсе не гражданские, не письма, и не записки, и не удостоверения, а настоящие военные планы, начерченные очень мелко искусной рукой. На одном листочке было изображено расположение батарей, на другом — артиллерийский склад, на третьем… третий листочек красноармеец не стал разглядывать.
— Я извиняюсь, — негромко сказал он себе, сунул сверток в карман и, бухая сапогами, побежал за уходившей женщиной. Она шла быстро, стройная, в бархатной шубе с большим меховым воротником, и красноармеец испугался, что она возьмет да и свернет в какой-нибудь подъезд — ищи ее тогда. Но она не сворачивала, а он бежал все быстрее, так что ветер шумел в ушах и колотилось сердце, до тех пор, пока не догнал и не взял ее за рукав.
Она взглянула на него, вырвалась и побежала.
— Стой! — крикнул красноармеец тонким голосом. — Стой! Эй, граждане, товарищи, лови шпионку!
И все, кто шел до сих пор спокойно, побежал и закричал, каждый свое. Красноармеец бежал впереди всех сначала по одной улице, потом по другой, потом свернул в переулок.
Но переулок оказался тупиком, и женщине в бархатной шубе некуда было убегать.
Она стала у закрытых железных ворот и, задыхаясь от бега, крикнула:
— Все назад! Стрелять буду!
Красноармеец молча смотрел на нее. Она потеряла шляпу, волосы у нее растрепались, в руке у нее поблескивал никелированный пистолет.
— Назад! — повторила женщина. — Всех перестреляю и сама застрелюсь!
«Семь зарядов, — рассуждал красноармеец, — но только навряд ли она умеет стрелять!»
В тупичок все прибывали и прибывали люди, и, как на грех, ни одного военного.
Красноармеец вынул свой наган. Застрелить ее? Но что толку? Такую дамочку надобно доставить куда следует в живом виде.
— Злая, — сказал кто-то густым басом. — Вон как смотрит, точно сейчас съест.
— Куси! — закричал мальчишка в солдатской папахе и спрятался в толпу.
Подняв наган, красноармеец пошел вперед. Шпионка выстрелила. Он нагнулся, и пуля просвистела над его головой. Теперь и он выстрелил, для острастки, вверх.
— Назад! — крикнула она.
Он еще раз взглянул на нее. Теперь она была ближе. Глаза у нее светились, как у кошки, и красивое лицо было совсем белым. А на руке сверкало кольцо с бриллиантом.
«Покушала, наверно, на своем веку золотых баранок», — подумал почему-то красноармеец, вспомнив вывеску булочной, нагнулся и побежал вперед.
Она выстрелила еще два раза.
«Не умеет стрелять», — решил он и ударил ее по руке с пистолетом. Пистолет выстрелил в воздух и упал. Красноармеец сунул ствол нагана ей в лицо и велел поднять руки вверх. Но она не подняла. Тогда он принялся вязать ее, а она вырывала руки и негромко, со злобой говорила:
— Вы мне делаете больно, дураки! Не смейте! Вас все равно всех повесят… Отпустите меня, слышите? Я вам заплачу золотом. Отпустите. Все равно вас перевешают…
— Не соображаешь, чего говоришь, — сказал красноармеец. — Как так повесят? Ты, что ли, повесишь? Какой тип нашелся! Повесят!
Потом женщину вели в ЧК. Красноармеец насупился и молчал.
«Хотел ей вежливость оказать, — обиженно думал он, — а она мало того что шпионка, так еще наскакивает. Повесить! Тип».
Через некоторое время его вызвали к Дзержинскому.
Красноармеец собирался долго и основательно: начистил сапоги, пришил суровой ниткой крючок к шинели и до отказа затянул на себе ремень. И так как он любил порассуждать, то на прощание сказал своим товарищам:
— Надо вид иметь, как следует быть. А то товарищ Дзержинский скажет: «Это что такое за чучело? Разве ж это красноармеец!» и вместо беседы получится гауптвахта.
У секретаря он немного подождал и покурил козью ножку, сделанную из махорки, смешанной, для экономии, с вишневым листом. Потом отворилась дверь, и вышел Дзержинский. На нем были высокие болотные сапоги и простое красноармейское обмундирование.
— Проходите в кабинет и садитесь.
Красноармеец вошел в кабинет, сел и снял шлем.
— Я должен объявить вам благодарность, — сказал Дзержинский, — вы раскрыли большой контрреволюционный заговор.
И он внимательно, не отрываясь, поглядел на красноармейца.
«Вот так номер, — подумал красноармеец, — целый заговор».
Ему очень захотелось немного порассуждать, но он постеснялся.
— Один из ответственных военных работников — продолжал Дзержинский, — один очень ответственный работник, которому мы доверяли, как своему человеку, изменил нам, передался Юденичу и стал шпионом у врагов Советской власти.
— Безобразие какое, — не сдерживаясь, сказал красноармеец, — прямо-таки нахальство, я извиняюсь!
И он стал длинно рассуждать о том, что эти шпионы — такие типы, которые еще и веревкой грозятся, и то всех этих шпионов надо вымести нашей советской метлой.
— Да, — едва заметно улыбнувшись, ответил Дзержинский, — вы правы. Так вот, заодно, с этим изменником был один старик француз. Вы поймали его дочь. Таким образом мы ликвидировали заговор. А за вашу помощь большое спасибо вам.
Потом Дзержинский немного поговорил с красноармейцем о его жизни, женат ли он, есть ли у него дети.
— Я молодой, — сказал красноармеец и сконфузился, — у меня жинки нет. Мне всего годов ровно двадцать.
— Действительно, не очень старый, — согласился Дзержинский.
Через несколько минут отворилась дверь, и два красноармейца ввели в кабинет старика с подстриженными белыми усами и в таком высоком воротнике, что старик едва поворачивал голову.
Дзержинский разговаривал с ним довольно долго. Потом старик вдруг поднялся и громко, на весь кабинет, очень сердито сказал:
— Это случай. Вы меня поймали случайно.
— Ошибаетесь, — очень спокойно ответил Дзержинский, — мы поймали вас далеко не случайно. Если бы нас не поддерживали рабочие, крестьяне, красноармейцы и все трудящиеся, мы бы вас, конечно, не поймали. Но мы, чекисты, опираемся на трудящихся. Каждый наш красноармеец понимает, что такое ЧК.
— Это не мое дело, кто у вас что понимает, — перебил старик. — Я говорю о том, что я пойман случайно; то, что я попался, это чистый случай.
— Неверно, — ответил Дзержинский. — Дочь ваша действительно случайно уронила сверток, но красноармеец не случайно заинтересовался им, не случайно побежал за вашей дочерью, не случайно, рискуя жизнью, арестовал ее и не случайно привел в ЧК. Верно?
И Дзержинский повернулся к красноармейцу.
— Совершенно верно, товарищ Дзержинский, — сказал красноармеец.
Сердитый старик с трудом повернул голову в высоченном воротнике и тихо спросил:
— Ах, это ты, мерзавец, арестовал мою дочь?
— Попрошу вас мне не тыкать, — ответил красноармеец. — Что дочка, что папаша — один характер. Вас попробуй не арестуй, так вы потом нашего брата целиком и полностью перевешаете! А еще тыкает!
Однажды Ленин и Дзержинский ехали в автомобиле по набережной. Автомобиль осторожно обгонял колонну красноармейцев, идущих на фронт. Полковой оркестр играл марш.
— Посмотрите, Владимир Ильич, — сказал Дзержинский, — посмотрите в стекло назад, поскорее, а то проедем…
— Что такое? — спросил Ленин.
— Вот на правом фланге в первой шеренге идет молодой красноармеец. Видите?
— Этот?
— Он самый.
— Так француз утверждал, что он попался чисто случайно? — усмехнулся Ленин.
— Да, сказал Дзержинский. — А этот паренек раскрыл заговор. Совсем молодой — небось не брился еще ни разу…
Тут Дзержинский ошибся: как раз сегодня красноармеец побрился. Он шел бритый, в начищенных сапогах, с винтовкой, котелком и вещевым мешком и, конечно, не знал, что в эту минуту на него смотрят Ленин и Дзержинский.
В ПЕРЕУЛКЕ
Четвертого июля 1918 года открылся Пятый съезд Советов. Дзержинский — с гневной складкой на лбу, с жестко блестящими глазами — слушал, как левые истерическими, кликушескими голосами вопят с трибуны о том, что пора немедленно же прекратить борьбу с кулачеством, что пора положить конец посылкам рабочих продотрядов в деревни, что они, левые, не позволят обижать «крепкого крестьянина» и так далее в таком же роде.
Съезд в огромном своем большинстве ответил левым твердо и ясно: «Прочь с дороги! Не выйдет!»
На следующий день, пятого, Дзержинский сказал Ивану Дмитриевичу Веретилину:
— А левых-то больше не видно. Посмотрите — ни в зале, ни в коридорах ни души.
— У них где-то фракция заседает, — ответил Веретилин.
— Но где? И во что обернется эта фракция?
Дзержинский уехал в ЧК. Здесь было известно, что левые, разгромленные съездом, поднятые на смех, обозленные, провалившиеся, заседают теперь в Морозовском особняке, что в Трехсвятительском переулке. Там они выносят резолюции против прекращения войны с Германией, призывают к террору, рассылают в воинские части своих агитаторов. Одного такого «агитатора» задержали и привели в ЧК сами красноармейцы. Пыльный, грязный, сутуловатый, с большими прозрачными ушами и диким взглядом, человек этот производил впечатление душевнобольного.
— Вы кто же такой? — спросил у него Веретилин.
— Черное знамя анархии я несу человечеству, — раскачиваясь на стуле, нараспев заговорил «агитатор». — Пусть исчезнут, провалятся в тартарары города и заводы, мощеные улицы и железные дороги. Безвластье, ветер, неизведанное счастье кромешной свободы…
— Чего, чего? — удивился черненький красноармеец с чубом. — Какое это такое «счастье кромешной свободы»? Небось нам-то говорил про крепкого хозяина, что он соль русской земли — кулачок, дескать, и что его пальцем тронуть нельзя — обидится…
Дзержинский усмехнулся.
Еще один задержанный «агитатор» показал, что левые после провала на съезде вынесли решение бороться с существующим порядком вещей любыми способами.
— Что вы называете «существующим порядком вещей»? — спросил Дзержинский.
— Вашу власть! — яростно ответил арестованный. Глаза его горели бешенством, на щеках его выступили пятна. — Вашу Советскую власть. Больше я ни о чем говорить не буду. Поговорим после, когда мы вас арестуем и когда я буду иметь честь вас допрашивать…
Его увели.
Дзержинский прошелся из угла в угол, постоял у окна, потом повернулся к Веретилину и спросил:
— Заговор?
— Надо думать — заговор! — ответил Веретилин. — Судите сами — этот типчик явно грозился восстанием, Александрович не появляется вторые сутки…
А шестого июля в три часа пополудни двое неизвестных вошли в здание немецкого посольства. Посол Германии, граф Мирбах, не сразу принял посетителей. Им пришлось подождать. Ждали они молча — секретарша в это время просматривала в приемной газеты. Минут через двадцать раздались уверенные шаги Мирбаха; он властной рукой распахнул дверь, и, когда дошел до середины приемной, один из посетителей протянул ему бумагу — свой мандат. В это мгновение другой выстрелил из маленького пистолета в грудь послу, но не попал. Мирбах рванулся к двери. Тот, который протянул бумагу, скривившись, швырнул гранату, которая с грохотом взорвалась в углу возле камина. Уже в дверях Мирбах упал навзничь — четвертая пуля попала ему в затылок. Диким голосом, на одной ноте визжала белокурая секретарша; по лестнице вниз, в подвал, скатился второй советник, захлопнул дверь, стал придвигать к ней комод. Хрипя, граф умирал один на пороге своей приемной; никто не пришел ему на помощь, даже военный атташе заперся в своем кабинете. Медленно оседала пыль, поднятая взрывом. На старой липе во дворе встревоженно кричали вороны.
Уже смеркалось, когда Дзержинский склонился над телом убитого посла. Холодные, в перстнях пальцы Мирбаха сжимали комочек бумаги — мандат на имя некоего Блюмкина с подделанной подписью Дзержинского. Убийца выдал себя с головой; но с кем пришел сюда, кто был второй?
Расспросы персонала посольства не дали ничего: швейцар видел двух людей в пиджаках. Секретарша утверждала, что один был в пальто, которое он почему-то не снял. Истопник, белобрысый пруссак с офицерской выправкой, настаивал на том, что один из преступников был в пиджаке, другой в гимнастерке.
Когда Дзержинский и Веретилин выходили из здания посольства, к крыльцу, фыркая и постреливая, подъехал маленький оперативный «бенц-мерседес». Рядом с шофером сидел помощник Веретилина — Вася; губы у него вздрагивали, по лицу катился пот.
— Еще что-нибудь случилось? — спросил Дзержинский.
Стараясь говорить спокойно, Вася рассказал, что произошло восстание в полку, которым командует Попов. Мятежники отказываются выполнять приказы правительства. Попов объявил себя начальником всех мятежных сил России; на Чистых Прудах и Яузском бульваре мятежники останавливают автомобили и прохожих, отбирают деньги, оружие и отводят в Трехсвятительский переулок, в особняк Морозова, где помещается штаб.
— Вы что, сами там были? — спросил Дзержинский.
— Еле вырвался, — сказал Вася. — Вот куртку на плече разодрали. Пьяные, песни орут, пушки какие-то себе привезли.
Дзержинский стоял возле маленького «бенца»— молчал, думал. Веретилин и Вася молчали тоже, медленно постукивал невыключенный мотор; было душно, низкие тучи ползли над притихшей Москвой.
— Еще есть новости?
— Есть: Александрович украл кассу.
— Восстания в Арзамасе, в Муроме, в Ярославле, в Ростове Великом и Рыбинске, — тихо заговорил Дзержинский, — я предполагаю, связаны друг с другом — отсюда, из Москвы. Тут цепочка. Надо ухватить это звено — убийство Мирбаха, тогда, должно быть, удастся выдернуть всю цепь, тогда мы наконец узнаем, какая бабка ворожит преступникам отсюда, из столицы.
— Отсюда? — спросил Веретилин.
— Отсюда! — убежденно подтвердил Дзержинский.
Из открытых окон аппартаментов убитого посла донесся хриплый крик графини Мирбах, потом сделалось совсем тихо, потом она опять закричала. В это время из серых, душных сумерек медленно выполз открытый двенадцатицилиндровый автомобиль с флажком иностранной державы на радиаторе: на кожаных подушках, отвалившись, неподвижно сидел господин в мягкой шляпе, в широком светлом плаще. Машина остановилась, шофер открыл капот, господин в шляпе, закуривая сигарету, вытянулся к раскрытым окнам, за которыми кричала графиня Мирбах.
— Проверяет — убит или не убит, — сказал Вася. Шофер со скрежетом захлопнул капот, сел на свое сиденье: машина, мягко покачиваясь, без огней, растаяла в сумерках.
— Не без них дело сделано! — сказал Веретилин, кивнув вслед машине. — Проверяет Антанта работу своего Блюмкина.
Дзержинский шагнул к «бенцу», сел рядом с шофером и сказал Веретилину, дотронувшись до его плеча:
— Я еду в Трехсвятительский. Надо этот узелок развязать. С мятежниками Владимир Ильич покончит быстро, мятеж будет разгромлен, банда сдастся, а заговорщики — головка банды — уйдут переулочками, подвальчиками спрячутся у своих — отсидятся, Надо развязать узел сейчас, немедленно. В азарте, с закружившимися головами все эти наполеончики болтливы, хвастливы; предполагаю, — удастся нам разобраться в обстановке…
Широкое лицо Веретилина изменилось, даже в сгустившихся сумерках было видно, что он побледнел.
— Тут дело такое, товарищ Дзержинский, — быстро, с тревогой заговорил Иван Дмитриевич, — они ведь ни с чем не посчитаются, — пьяные, головы потеряли, вы учтите…
Дзержинский кивнул:
— Да, но время, Веретилин, никак не терпит. Упустим нить заговора, — сколько тогда честной крови прольется еще, сколько несчастий произойдет!..
Веретилин быстро встал на подножку машины, спросил напористо:
— Разрешите с вами? Мало ли что…
— Не разрешаю! — сурово оборвал Дзержинский. — Отправляйтесь в ЧК, там дела много. Не дурите, Веретилин!
Иван Дмитриевич отпустил дверцу машины, шофер включил скорость.
Автомобиль, скрипнув старыми рессорами, развернулся и исчез во мраке.
— Что же теперь будет? — спросил Вася. Веретилин закурил, рука ею со спичкой дрожала.
— Что же ты будешь делать, когда он страха не понимает? — сказал он. — Интересы революции требуют, — значит, все…
Иван Дмитриевич помолчал, раскуривая трубочку, потом добавил тихо, домашним, добрым голосом:
— Вот учись, Василий. Запоминай, чего судьба тебе подарила видеть, какого человека. Потом внукам расскажешь…
В это самое время «бенц» подъезжал к Чистым Прудам.
Где-то далеко, над ржавыми крышами погромыхивал гром, поблескивали зарницы, не частые, но яркие и продолжительные.
В мелькнувшей зарнице Дзержинский увидел: от корявого, разбитого дерева к подворотне вытянулась цепочка людей, винтовки с примкнутыми штыками, пулемет на перевернутой подводе, шинель внакидку, командир прохаживается распояской, тычет пистолет в лицо какому-то длинному парню.
— Эти самые и есть! — сказал шофер, замедляя ход. — Дальше не пустят…
— Поезжайте! — коротко ответил Дзержинский.
Шофер нажал акселератор, машина прыгнула вперед, шинели расступились, сзади, не сразу, прогрохотали два выстрела. Шофер еще поддал газу, машину стало валять из стороны в сторону — мимо костров, освещающих высоко задранные стволы пушек, мимо орущей толпы, пока вдруг не пришлось затормозить, — тут был битый кирпич, песок, ящики — что-то вроде баррикады. Тотчас же подлетел сутуловатый человек в кепке, надвинутой на самый нос, заругавшись, стал рвать дверцу машины, в другой руке у него тускло поблескивал никелированный «Смит и Вессон». При свете большого костра, над которым кипел котел, Дзержинский, слегка высунувшись из машины, жестко, словно ударил, сказал:
— Уберите руки!
Человек в кепке, узнав Дзержинского, сомлел, отступил от машины, сказал осевшим голосом:
— Да разве ж мы знаем… Нам приказано, мы и того… Вы не сомневайтесь, товарищ Дзержинский…
От костра шли к «бенцу» другие — с винтовками, с пистолетами. Тот, что был в кепке, вдруг властно крикнул:
— А ну, отойди назад! Сам Дзержинский едет — вот кто.
Какой-то захудалый человек, с клочкастой бороденкой, в разбитых сапогах, не поверил — подошел ближе.
— Где у вас штаб? — сурово спросил Дзержинский. Как туда проехать?
Толпа задвигалась. Один, в серой рубашке, приказал:
— Клименко, проводи! — и объяснил Дзержинскому — Двором придется ехать, товарищ Дзержинский, начальство скомандовало тут все перегородить…
Клименко — тот, что был с бороденкой, в разбитых сапогах, — пошел перед машиной, ласково советуя:
— Левее бери, машинист! Колдобина тут. Еще левее, засадишь самопер свой. Еще левее — вот по-над помойкой, вот где рукой показываю…
Потом шел рядом с Дзержинским, спрашивая тихо:
— Неужели иначе нельзя? Давеча сам Александрович собрание сделал — грозится каждого третьего расстрелять, если кто изменит великому, говорит, делу. А какое оно такое великое дело? Ребята сомневаются — зачем шум подняли? Которые с перепою проспались — запротестовали: мы не хотим против Ильича идти! Костька Садовый так сказал — его тут на месте и застрелил сам Попов. Лежит под стеночкой; а за что убили человека?
— Уходите отсюда все, пока целы! — резко сказал Дзержинский. — Кого возьмем с оружием в руках, того щадить не будем. Против своих братьев, против рабочих и крестьян мятеж подняли. Кто ты сам-то?
— А водопроводчик я! — сказал Клименко. — Шестнадцать лет при этом деле состою…
Человек в офицерской кожаной куртке с бархатным воротничком, в ремнях, в маленькой барашковой шапочке, преградил Дзержинскому дорогу, нагло усмехаясь маленьким женским ртом, спросил:
— Кого я вижу? Неужели сам товарищ Дзержинский?
— Проводите меня в штаб! — сухо и спокойно сказал Дзержинский.
— А вот штаб! Вот, где пулемет у двери. Только ничего хорошего вас там не ожидает, смею вас уверить…
Не отвечая, Дзержинский перешел переулок; толпа перед ним расступилась; было слышно, как Клименко за спиной Дзержинского торопливо объясняет:
— Сам, один приехал, вот вам крест святой — приехал в машине: где, спрашивает, штаб? Даже без фуражки идет, фуражку в машине оставил…
В особняке два раза подряд хлопнули выстрелы. Клименко испуганно спросил у высокого, с обвисшими усами, сильно выпившего дядьки:
— Судят?
— Судят, — затягиваясь махоркой, сказал дядька.
— Которого уже?
— Шестого застрелил. Ванная комната там есть и в ней вроде прудок — плавать, вот там и стреляет.
— Александрович?
— Он…
— Слушай, Фомичев, — быстро, шепотом, захлебываясь заговорил Клименко, — слушай, друг, мы земляки, одного огорода картошки, верь не верь, чтоб дети мои померли с голоду, коли вру, Фомичев, мне сейчас сам Дзержинский, сам лично сказал: давай уходите отсюда, пока целы, на своих братьев пошли; кого возьмем с оружием в руках — пощады не будет. Слушай, Фомичев, больно нам надо за этих акул пропадать. Слушай, ты меня сейчас под стенку подвести можешь, я тебе говорю, давай собирай ребят, которые понадежнее, я тут все щели знаю, уйдем, покаемся, ничего нам не будет, а, Фомичев?
Фомичев нагнулся к маленькому Клименко, заглянул ему в глаза:
— Сам Дзержинский так сказал? Не врешь?
— Та господи! — в отчаянии опять зашептал Клименко, и бороденка его задрожала. — Обманули ж нас. Обманули Александрович с Поповым, мы без понятия… Разве ж можно против Ленина идти, Фомичев?
Вдвоем они отошли в сторону, встали под низкие ворота, потом к ним подошел Жерихов — бывший повар из студенческой столовой, с ним еще трое…
— Гранаты бери! — сурово командовал Фомичев. — Отобьемся, граната дело такое — надежное. Клименко поведет. Сначала как бы прогуливаться будем, выпивши, ну, а потом нырнем. Там всего один человек и стоит — лабазник Гущин. Я его, собаку, знаю, приколоть — и на свободе…
Впятером развалисто, валкой походкой они вышли из подворотни, свернули в переулок, подождали…
Дзержинский в это время медленно поднимался по лестнице Морозовского особняка. Где-то в конце коридора еще раз глухо грохнул пистолетный выстрел. Двое часовых с карабинами испуганно пропустили председателя ВЧК. Из раскрытых дверей бильярдной доносилась песня:
Как у нас да у нас проявился приказ
Про дешевое вино — полтора рубля ведро.
Как старик-то испил, он рассудок погубил,
Свою собственну супругу в щепки-дребезги разбил…
Висячая керосиновая лампа освещала комнату с двумя бильярдами, с лепными, закопченными потолками, с ободранными штофными обоями. На краю бильярда, свесив безжизненные, словно без костей, ноги, сидел узколицый, бледный гармонист. Возле него, перебирая по наборному паркету каблуками, пристукивая, прищелкивая с оттяжечкой пальцами, прохаживался корявый человечишка, с серьгой в ухе и каменной улыбочкой. Он все собирался сплясать, да не мог, сбивался. На полу у стен, на обоих бильярдах и под бильярдами спала «братва» вповалку; где чьи руки, где чьи ноги — не разобрать. Тут же играли в карты; деньги и золотые вещи навалом лежали где попало. Здоровенный парень — косая сажень в плечах — пил спирт из маленькой серебряной стопочки; выпивал стопочку, закусывал сахаром с серебряной ложечки.
— Где Попов? — громко спросил Дзержинский.
В бильярдной стало потише, кто-то из спящих оборвал храп на высокой ноте.
— А тебе… на что Попов? — сразу откликнулся корявый человечишка. И пошел к Дзержинскому косенькими, пританцовывающими шажками.
Другой, в папахе, трезвый, отпихнул корявого, подошел вплотную к Дзержинскому и сказал твердо:
— Напрасно сюда пришли, гражданин Дзержинский.
Корявый опять полез вперед, значительно поднял вверх грязный палец:
— Заявляю категорически и ответственно: идите отсюдова, пока что худого не сотворилось. Тут вам подчинения нету. Тут самостоятельная республика, которая восставшая и не может более находиться…
Гармонист завыл снова:
Свою собственну супругу в щепки-дребезги разбил…
Сквозь вой Дзержинский услышал за своей спиной короткое щелканье и резко обернулся; приземистый, беловолосый, с плоским лицом финн поднимал огромный, тяжелый пистолет. Чтобы вернее попасть, финн уложил ствол пистолета на сгиб левой руки и целился, прищурив один глаз.
— В грудь стреляй! — крикнул ему Дзержинский. — Или ты умеешь стрелять только в спину?
Он шагнул вперед, вырвал у убийцы пистолет, швырнул на паркет и молча несколько секунд смотрел в белые от страха глаза, В бильярдной сделалось тихо, игроки бросили карты; было слышно, как проснувшаяся оса бьется в стекло.
— Где Попов?
Никто не ответил. Где-то близко опять хлопнул пистолетный выстрел. Гармонист сидел неподвижно, спустив гармонь на колени, — засыпал. Дзержинский не торопясь повернулся спиной к финну и тотчас же услышал, как кто-то быстрым, сиплым шепотом приказал:
— Брось, Виртанен!
Не убыстряя шага, не оборачиваясь, Дзержинский прошел всю бильярдную, пнул сапогом попавшуюся по пути четверть с самогоном; бутыль, жалобно тренькнув, разбилась, самогонка полилась по паркету. Так и не обернувшись на добрую сотню взглядов, сверливших ему спину, худой, в солдатской, чисто выстиранной гимнастерке, без фуражки, с пушистыми, золотящимися волосами — один среди пьяных мятежников, — он прошел еще две комнаты спокойным, размеренным шагом, изредка спрашивая:
— Где Попов? Где Александрович?
Его узнавали, перед ним подтягивались, обдергивали ремень… Смелость, сила духа, мужество и спокойствие Дзержинского поднялись до той степени, когда трезвеют пьяные, пугаются далеко не трусливые, теряют самообладание забубённые головы. Обвешанные лимонками и гранатами, татуированные, они не верили ни в бога, ни в черта, ни в папу, ни в маму, ни в вороний гай, ни в волчий вой — ни во что, кроме пули в упор да удара клинком от плеча до бедра…
Один такой — с блеклым, сморщенным личиком, с вытекшим, навеки закрывшимся глазом, с огромными руками душителя — загородил какую-то резную дверь и спросил скопческим голосом:
— Кого, кого? Попова тебе надо?
— С дороги! — тихо, одними губами приказал Дзержинский. — Ну!
Циклоп оскалился, но Дзержинский сдвинул его с пути, и бандит поддался — Дзержинский мог идти дальше, путь был свободен, как вдруг кто-то крикнул напряженным, страстным, злым голосом:
— Товарищ Дзержинский? Где же правда?
И Дзержинский остановился.
Тут, в зале, на подоконниках, на инкрустированных медью столиках, везде горели свечи, воткнутые в бутылки. Мерцающий свет дико озарят всклокоченные головы, папахи, матросские бескозырки, толпу, шедшую за Дзержинским из других комнат Морозовского особняка, и тех, кто спал здесь, раскинувшись на полу, пьяных и трезвых, солдат, матросов, бывших приказчиков и портных, зубного техника в косо насаженном пенсне, хромого провизора, ставшего кавалеристом, громилу, нашедшего себе дело по душе при штабе Попова, девицу в платочке, лузгающую семечки, и того, который спросил, где же правда.
Дзержинский вгляделся: к нему протискивался человек лет пятидесяти, с простым и грубым лицом. На нем был солдатский ватник с тесемками, подпоясанный ремнем, непомерно большие башмаки. Странно и горячо блестели на его ничем не примечательном лице большие, исступленные глаза, и было видно, что человек измучен и ему непременно надобно говорить.
— Где правда? — опять закричал он. — Ты к нам пришел без страха, ты нам, значит, веришь; скажи, где правда? За что воевать? Один говорит — туды стреляй, будет тебе все, как надо. Другой говорит — сюды стреляй, тоже будет, как надо. Ты сколько лет в тюрьмах мыкаешься за народ, ты бесстрашно пришел к нам, к безобразным, к пьяным, и не подольстился, самогону четверть разбил. Ты Ленина видаешь — говори нам все без утайки, говори, как жить! Пока говорить будешь — никто тебя не тронет, самого Александровича застрелю, не побоюсь. Говори, чего такое есть продотряды, почему крепкого хозяина разоряете, говори все как есть — правду…
Циклоп стоял за спиной Дзержинского, в душном зале гудела толпа, люди напирали друг на друга. Кто-то стал ругаться; его ударили в зубы, на мгновение завязалась драка, и тотчас же опять все стихло. Светлыми, яркими глазами Дзержинский оглядел людей; бледные щеки его вспыхнули румянцем, он встряхнул головой, подался вперед, прямо к жарко дышащим людям, и сказал так, как он один умел говорить — грустно и жестко, сказал правду, только чистую правду.
— Вы обмануты, понимаете? Обмануты жалкими, ничтожными изменниками, ищущими только личного благополучия, только власти, только своекорыстия! Вас подло обманули, вас натравили против законнейшей в мире власти людей труда, вас напоили спиртом, украденным из аптек, вам дали деньги, украденные у государства, к вам втесались уголовники, громилы, отродье человечества…
Легким движением он глубже втиснулся в раздавшуюся толпу и подтащил к свече человека в пиджаке с чужого плеча, с зачесами на лысеющей голове. Выкатив глаза, человек пробовал было вырваться из рук Дзержинского, но толпа угрожающе зашумела.
— Вон он! — сказал Дзержинский. — Его кличка Добрый. Знаете почему? В тринадцатом году дети помешали ему грабить, и он топором порубил троих. Хорош?
Добрый выкрутился наконец из рук Дзержинского и юркнул в толпу, но его отшвырнули, и он прижался к стене, закрыв голову руками, чтобы не били по голове. Но его никто и не собирался бить — о нем уже забыли.
Жесткими, сильными, простыми и понятными словами Дзержинский говорил теперь о хлебе, и о том, почему остановились заводы и фабрики. Он говорил о спекулянтах и мешочниках, о великой битве за хлеб, о том, что делает правительство для спасения страны от голода, говорил о том, как в Царицыне навели порядок, как пойдут оттуда эшелоны с зерном, как, несомненно, наладится жизнь и какая это будет прекрасная жизнь. Он говорил о Ленине, о Ленине и о бессонных ночах в Кремле, говорил о том, что много еще предстоит пережить трудного, что матери еще будут терять своих сыновей и будет еще литься кровь честных тружеников, но победа восторжествует и взойдет над исстрадавшейся землей…
— Значит, верно! — рыдающим голосом закричал тот, кто спросил о правде. — Значит, есть на свете для чего жить?
— Давай, братва, заворачивай отсюда, идем! — закричал другой.
— Идем! — радостно загудели в ответ дюжие глотки.
— Идите и сдавайтесь! — властно, спокойно сказал Дзержинский. — Сдадитесь, и вас простят!
Толпа рванулась к двери в Морозовскую гостиную, но там грянуло два пистолетных выстрела, и в это же мгновение на Дзержинского навалились сзади. Дыша водочным перегаром, кряхтя и ругаясь, телохранители Александровича скрутили ему руки ремнем, и тут Дзержинский увидел Попова. Бледный, толстогубый, с тускло отсвечивающими зрачками, весь в коже, с желтой коробкой маузера, он вытянул вперед голову и спросил негромко, пришептывая:
— Ну как, товарищ Феликс? Поагитировали?
Он был трезв, выбрит, от него пахло английским одеколоном — лавандой, как в давние времена от жандармского ротмистра в варшавской тюрьме «Павиаки». Душистая египетская сигарета дымилась в его пальцах. Мысль Дзержинского мимоходом коснулась и сигареты: Антанта снабжает своего человека.
— Пока вы тут агитировали, мы телеграф взяли! — сказал Попов, кривя толстые губы.
— Ненадолго! — ответил Дзержинский.
— У нас более двух тысяч народу! — почти крикнул Попов.
— Либо обманутых, либо уголовников и преступников! — спокойно добавил Дзержинский.
У Попова на лице выступил пот, он утерся платочком, хотел было что-то сказать, но Дзержинский опередил его.
— Где Блюмкин? — спросил он, наступая на Попова.
— Какой Блюмкин?
— Не валяйте дурака! — прикрикнул Дзержинский. — Мне нужен Блюмкин!
Попов удивленно вскинул брови.
— Вы, кажется, повышаете на меня голос? — как бы поинтересовался он. — Вы забыли, что арестованы?
— Кем?
— Властью.
— Вы не власть. Вы ничтожество, жалкий изменник, предатель, купленный за деньги!
На лбу у Попова снова выступил пот, вздулась жила. Боголюбский и Шмыгло — телохранители Александровича — кажется, ухмылялись. На улице, перед особняком, кто-то ударил гранатой, в зале со звоном рассыпалось стекло. Боголюбский — бывший боксер, с перебитым носом, — побежал узнать, что случилось. Шмыгло, тяжело переваливаясь на коротких ногах, зашагал к окну, свесился вниз. Там треснула пулеметная очередь, страшно закричала женщина, опять ударила бомба-лимонка.
— Эти уйдут! — сказал Шмыгло. — У них пулемет свой есть.
Попов вдруг топнул ногой, закричал, чтобы Шмыгло убирался к черту, его не спрашивают, уйдет там кто-то или не уйдет. Дергаясь, кривя рот, Попов вытащил из коробки маузер, велел Дзержинскому идти в дверь налево.
— Только за вами! — издевательски вежливо сказал Дзержинский.
Попов весь перекосился, опять закричал, размахивая маузером, что не намерен терпеть издевательства над собой, что он не потерпит, что Дзержинский арестован…
— У вас, кажется, истерика! — брезгливо сказал Дзержинский. — И не размахивайте маузером — он может выстрелить и вас изувечить…
Пинком распахнув дверь, Попов пошел вперед — в свой кабинет. Дзержинский со связанными за спиной руками медленно шел за ним. Сзади, отдуваясь и пыхтя, плелся толстый Шмыгло. В кабинете Попова шипя горела ацетиленовая лампа, на столе стояли стаканы и непочатая бутылка французского коньяку. За открытыми окнами погромыхивал гром, поблескивали длинные, розовые молнии. Дзержинский сел. Ремень нестерпимо больно въелся в кисть руки.
— Если вы дадите честное слово не бежать, я прикажу развязать вам руки! — сказал Попов.
Дзержинский молча посмотрел на Попова. Тот взял со стола сигарету, зажег спичку, жадно затянулся. Шмыгло, сопя, развязал ремень. В дверь без стука протиснулся квадратный человек с мутными глазами, в офицерском френче, сказал с порога:
— Человек двести смылось. Гранатами дорогу пробили и ушли к Яузе. Шестнадцать человек подранков я к стенке поставил и пустил в расход…
— Вы бы лучше застрелились, Попов, — медленно произнес Дзержинский. — Карты у вас фальшивые, крапленые, игра кончена, попадетесь — расстреляем со всеми вашими бандитами…
У Попова на лбу опять надулась жила, в глазах заиграли желтые огоньки; не спеша, словно крадучись, он еще раз потянул из коробки маузер, но раздумал:
— Вы у нас заложником. — Покуда вы тут — красные не станут нас обстреливать. Ну, а мы позабавимся.
И кивнул квадратному в бриджах:
— Начинайте, Семен Сергеевич!
Квадратный козырнул двумя пальцами, карандашом продавил пробку в бутылку, налил полный стакан коньяку и медленно выпил.
В углу бесшумно отворилась маленькая дверца, Боголюбский привел Евстигнеева — того, в маленькой барашковой шапочке, в кожаной офицерской куртке, который сказал Дзержинскому, что ничего хорошего его здесь не ждет.
— Будете охранять бывшего председателя ВЧК Дзержинского, — сказал Попов. — Находитесь тут неотступно. В крайнем случае стреляйте, но только в крайнем. Дзержинский нам еще понадобится…
— Слушаюсь! — лихо оторвал Евстигнеев.
Попов вынул из ящика стола две обоймы для маузера, положил в косой карман куртки гранату, белыми крупными зубами рванул кусок колбасы. Квадратный, в бриджах, еще хлебнул коньяку. Шмыгло с винтовкой встал за дверью, Боголюбского Попов услал с приказом на батарею. Посовещавшись шепотом, квадратный и Попов ушли. Ацетиленовая лампа жалобно зашипела в тишине. Евстигнеев прогуливался по комнате, по пушистому ковру, носком сапога вороша ворс, поддевая окурки, и негромко напевал:
Гори, гори, мол звезда…
— И что же, вы серьезно надеетесь на успех? — спросил Дзержинский.
Евстигнеев усмехнулся своим женским ртом, его зеленые глаза зло блеснули. Наливая себе коньяк, ответил:
— Не только надеемся, но уверены. Разведка показала — ваши войска стоят лагерем на Ходынском поле: сколько их там? Горсточка? У нас есть спирт, мы взяли две цистерны, это не так уж мало. Наши люди этим спиртом вчера и сегодня торговали и притом чрезвычайно дешево. По не-бы-ва-ло дешевым ценам, так сказать — себе в убыток. Кроме того — прошу не забывать — нынче канун Ивана Купалы, кое-кто из ваших по этому случаю отпущен восвояси. Ну-с… есть у нас артиллерия, есть снаряды…
Со стаканом коньяку в руке он остановился против Дзержинского, самоуверенный, розовый.
— Кто у вас главный? — спросил Дзержинский.
— А вам зачем? — усмехнулся Евстигнеев. — Так? На всякий случай? Или вы думаете, что мы вас отпустим?
Он допил коньяк, глубоко сел в кресло, вытянув вперед ноги, и начал было что-то говорить, но в это время грохнули пушки, за окном на мгновение стало светло, у коновязи внизу испуганно заржали лошади. Мятежники начали сражение.
— Наводчики у нас толковые! — сказал Евстигнеев. — Скоро кое-кому станет жарко. Если не к утру, то к вечеру все кончим…
— Вот так, обстрелом?
— Почему только обстрелом? У нас в городе, в местах, о которых вы и не подозреваете, есть группы боевиков, снабженные оружием и подготовленные…
Опять загрохотали пушки, Евстигнеев, точно боевой конь, услышавший звуки трубы, вскинул голову, не усидел в кресле — опять пошел ходить взад и вперед.
— Убийство Мирбаха — только мелкий эпизод в нашем деле! — говорил он, блестя зелеными глазами. — Убийство Мирбаха — пустяк, хотя он должен, по нашим расчетам, вызвать конфликт между Советской страной и Германией. У Александровича связи шире и глубже. Да что Александрович — я вижу, вы не считаете его серьезным противником. Если говорить прямо — я с вами согласен. Конечно, и Александрович, и Попов — личности сильные, но не в них дело. Мы все — плотва…
— Есть и щука? — насмешливо спросил Дзержинский.
— Есть.
— Лжете! Нет у вас щук!
Евстигнеев выпил еще коньяку, лихо выбил ладонью пробку у другой бутылки, налил полстакана.
— Хотите выпить?
— Нет.
— Ну и не надо, я выпью сам… Презираете.
— Как всякого изменника! — холодно сказал Дзержинский.
Евстигнеев задохнулся от злобы, несколько секунд бессмысленно смотрел на Дзержинского, потом потянулся за револьвером. Дзержинский сидел неподвижно. Молчали долго. Евстигнеев наконец сунул револьвер в кобуру, спросил:
— Не хотите работать с нами? Дзержинский усмехнулся.
— Нам нужны такие люди, как вы! — сказал Евстигнеев. — Вы смелый человек, вы решительный человек! Идите к нам!
И вдруг его прорвало. Он заговорил быстро, не контролируя себя, не вслушиваясь в то, что говорит, он хвастал, называл имена, фамилии, говорил о том, как построена боевая организация, рассказывал об иностранных дипломатах, которые предлагают помощь, об оружии, которое придет из-за границы, о «крепком хозяине», который поддержит мятеж во всей России.
Дзержинский сидел отвернувшись, казалось, что он слушает рассеянно. Можно было подумать, что он дремлет.
Евстигнеев убавил пафос.
— Вы не слушаете? — спросил он.
— Слушаю! — отозвался Дзержинский. — Я председатель ВЧК, мне эти вещи надо знать…
— Вы больше не председатель! — крикнул Евстигнеев. — Ваша песня спета. Вы можете спасти свою жизнь, если пойдете с нами…
В это мгновение за особняком разорвался снаряд, осколки с визгом пронеслись по улице, потом шарахнуло ближе, потом чуть дальше — красная артиллерия начала пристрелку по гнезду мятежников. У Евстигнеева на лице выразилось недоумение, но он хватил еще стакан коньяку и успокоился.
— И все-таки у вас ничего нет! — сказал Дзержинский. — Все то, что вы рассказали — вздор, авантюра. Массы за вами не пойдут. А если и пойдут, то только те люди, которых вы обманете.
Евстигнеев опять заспорил.
— У нас крупные связи! — заявил он. — У нас достигнуто взаимопонимание с некоторыми…
Он запнулся, вглядываясь в Дзержинского.
Особняк Морозова зашатался, с потолка посыпалась штукатурка. Шмыгло взрывной волной бросило в кабинет, по коридору, визжа, охая, побежали люди. Дзержинский спокойно отодвинул фонарь от края стола, чтобы не упал, и спросил таким тоном, словно он вел разговор у себя в ЧК, на Лубянке:
— С кем же это у вас достигнуто взаимопонимание?
Евстигнеев, трезвея, удивленно моргал.
— Вы что, допрашиваете меня? Может быть, вы забыли, что арестованы вы, Дзержинский?
— Слушайте, Евстигнеев, — сухо сказал Дзержинский, — меня партия назначила председателем ВЧК, и я перестану им быть только мертвым. Ваша игра проиграна. Через несколько часов вы будете разбиты наголову, пролетарская революция победила. Что бы вы ни устраивали — история расценит как непристойную авантюру, ваши имена станут символом подлости, предательства, измены, прощения вам нет, но смягчить свою участь вы еще можете. Многое вы рассказали, говорите все, до конца. Слышите? До самого конца, все, что вам известно, все связи, все имена…
Опять разорвался снаряд, за окном кто-то длинно завыл. Сорвавшись с коновязи, бешено застучав копытами, пронеслась по булыжникам лошадь.
— Вы будете говорить?
— Я вам ничего еще не сказал! — крикнул Евстигнеев. — Я болтал, я просто так, я…
— Вы мне сказали многое. Говорите все!
— Я не буду говорить! Я не желаю!
Над особняком пронеслось еще несколько снарядов, и тотчас же стали рваться зарядные ящики на батарее. Где-то близко ударили пулеметы, пошла винтовочная стрельба пачками. В дверь просунул голову Шмыгло, сказал негромко:
— Товарищ Дзержинский, сюда будто… ваши…
— Хорошо! — сказал Дзержинский. — Стойте там, где стояли.
Шмыгло с винтовкой опять встал за дверью. Дзержинский свернул папиросу, вставил ее в мундштук, закурил.
— Ладно! — сказал Евстигнеев. — Ваша взяла. Мои условия такие…
— Никаких условий! — перебил Дзержинский. — Понятно?
Лицо Евстигнеева приняло жалкое, умоляющее выражение.
— Ну?
— Хорошо. Я начинаю с самого низу.
— Сверху! — приказал Дзержинский. — Вот с тех, с которыми у вас достигнуто взаимопонимание. Вы начнете с них…
Евстигнеев кивнул и начал говорить, но не договорил и первой фразы. Оранжевое пламя взметнулось совсем рядом, с ревом, словно водопад, вниз ринулись кирпичи, балки…
Плохо соображая, Дзержинский соскользнул по каким-то доскам на землю и очутился возле убитой лошади. Сознание медленно возвращалось к нему. А когда мысли опять стали ясными, он попытался найти кабинет, где говорил с Евстигнеевым. Но ни кабинета, ни Евстигнеева, ни Шмыгло больше не существовало. В небе по-прежнему шелестели снаряды и рвались там, где стояли пушки мятежников.
При свете разгорающегося пожарища Дзержинский поднял с земли наган, сунул его в карман и медленно зашагал к Чистым Прудам. Где-то слева били два пулемета, там еще дрались Прямо на тротуаре стоял броневик, красноармеец курил в рукав.
— Какой части — спросил Дзержинский. Красноармеец встал, из дверцы высунулось другое, доброе, курносое лице Оба напряженно всматривались в Дзержинского.
— Я — Дзержинский! Спрашиваю — какой вы части?
Красноармеец быстрым тенорком ответил: такой-то и такой-то.
— А где стреляют? — спросил Дзержинский.
— Та так, баловство уже! — ответил красноармеец. — Кончили мы с ними Народу к нам много перешло, а которые не хотели, ну что ж…
— Хлеба у вас нет? — спросил Дзержинский.
Красноармеец с рвением поискал по карманам, слазал в машину, вытащил колючую горбуху, пахнущую бензином. Дзержинский отломил, попрощался, пошел дальше. На Чистых Прудах четыре человека вели пленных, и Дзержинский услышал вдруг знакомый голос того самого водопроводчика, который показывал машине дорогу в штаб…
— Я тебе, гаду, разъяснял, — говорил водопроводчик, — я тебе советовал, а ты что? Вот и добился до своей могилы…
К десяти часам утра листок со схемой организации мятежников лежал перед Дзержинским. Вокруг стола сидели чекисты, измученные волнениями за Феликса Эдмундовича, слухами о том, что Дзержинский погиб. Сколько раз за эту ночь они пытались прорваться в Морозовский особняк! А он как ни в чем не бывало склонился над схемой, водит карандашом по бумаге, ясно, четко объясняет историю возникновения заговора левых эсеров, методы подпольной деятельности мятежников.
— Вопросов больше нет?
— Есть вопрос! — сказал Веретигин. — Вот тут на схеме проходят черта, переходящая в пунктир. Что она значит?
Дзержинский улыбнулся, но глаза у него остались серьезными.
— Призыв к бдительности! — ответил Дзержинский. — Это та нить, которая нам пока не известна. Кроме тех, кого мы уже арестовали и допросили, кроме тех, кого арестуем нынче, остается еще враг. Законспирированный, осторожный, двуликий, готовый на любые чудовищные преступления против трудового народа, против партии, против нашего Ленина. Будем же бдительны!
Тихо отворилась дверь, вошел секретарь.
— Товарищ Дзержинский, Владимир Ильич просит вас приехать к нему.
Дзержинский поднялся, поискал фуражку, но вспомнил, что потерял ее ночью. Остановившись у дверного косяка, попросил:
— Фуражку бы мне какую-нибудь, а? И табачку кто-нибудь отсыпьте, за ночь весь выкурил.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Выходя из кабинета, чтобы ехать на вокзал, он поднял воротник шинели, поглядел в заиндевевшее окно и спросил:
— Холодно сегодня?
— Девятнадцать градусов, — ответил секретарь. Дзержинский поежился и вышел.
Внизу, вместо автомобиля, стояли санки с облезлой волчьей полостью. На облучке — в кожаных рукавицах с крагами и с кнутом — сидел шофер Дзержинского.
— Одна лошадиная сила, — хмуро пошутил он. — Пришлось сменить автомобиль на этакую штуковину. Садитесь, Феликс Эдмундович.
С видом заправского лихача шофер отвернул полость и, подождав, пока Дзержинский сядет в сани, рассказал, что сегодня «дошли до ручки»— горючее есть только для оперативной машины, и хотя ребята предлагали перелить, но он отказался, боясь, что Феликс Эдмундович рассердится, если узнает.
— Правильно, — сказал Дзержинский. — Только поедемте поскорее, а то очень холодно.
— А кучера я не допустил, — продолжал шофер, — решил, что сам справлюсь. С автомобилем справляюсь, а тут с одним конягой не справлюсь! Верно?
— Верно, — ответил Дзержинский.
Было очень холодно, а конь плелся, как назло, таким шагом, что Дзержинский совершенно окоченел. Шофер явно не справлялся с конем, размахивая кнутом, очень много кричал «но-но-о, соколик!», а когда спускался с горы, Дзержинский заметил, что шофер по привычке ищет ногой тормоз.
Феликсу Эдмундовичу хотелось выйти из санок и дойти до вокзала пешком, но он боялся обидеть шофера и мерз в санках, потирая руками то лицо, то уши…
Наконец доехали. Шофер сказал на прощание, что с автомобилем куда проще, чем с «одной лошадиной силой», и пожелал Дзержинскому счастливого пути. Дзержинский нашел свой паровоз с вагоном и сел отогреваться к раскаленной буржуйке. Все уже были в сборе. Минут через двадцать паровоз загудел, и специальный поезд наркома двинулся в путь. Проводник принес начищенный самовар, стаканы, сахар, хлеб и масло. И даже молочник с молоком.
— Вот, уже удивляться перестали и на белый хлеб, на масло, на сахар, — сказал Дзержинский, — а помните сахарин и чай из этого… как его…
— Из лыка, — подсказал кто-то, и все засмеялись. Потом стали рассматривать самовар и выяснили, что он выпущен заводом совсем недавно.
— И хорош, — говорил Дзержинский, — очень хорош. Вот только форма очень претенциозная. Модерн какой-то. Но материал хорош.
Подстаканники тоже были советские, и ложечки советские. И о подстаканниках, и о ложечках тоже поговорили и нашли, что ложечки ничего, хороши, а подстаканники ерундовские…
После чаю Дзержинский ушел в свое купе работать. Его купе было крайним, рядом с этим купе было отделение проводника, а проводник разучивал по нотам романс и мешал Дзержинскому. Романс был глупый, и Дзержинский сердился, что проводник поет такую чушь, но потом заставил себя не обращать внимания на звуки гитары и жидкий тенорок проводника, разложил на столе бумаги и углубился в работу. И только порою усмехался и качал головой, когда вдруг до сознания его доходила фраза:
Я сплету для тебя диадему
Из волшебных фантазий и грез…
Под утро специальный поезд народного комиссара пришел на ту станцию, из-за которой было предпринято все это путешествие. Станция была узловая, но маленькая, и все пути ее были забиты составами, идущими на Москву, на Петроград, в Донбасс и дальше на юг. Заваленные снегом, стояли цистерны с бензином для столицы Союза. Состав крепежного леса для шахт Донецкого бассейна стоял на дальних путях. На площадках — руда для заводов Петрограда…
Молча, хмуря брови, в шинели, с фонарем в руке ходил Дзержинский по путям, покрытым снегом. Было холодно, под ногами скрипело, от колючего мороза на глазах выступали слезы…
Вот и еще состав с крепежным лесом, вот третий состав. Сколько времени стоят здесь эти поезда? А шахтерам Донбасса нечем крепить шахты, добыча угля останавливается, шахты замирают из-за безобразий на маленькой станции, всероссийская кочегарка стоит под смертельной угрозой…
Дзержинский шел и шел вдоль состава, порою поднимая фонарь над головой, проверял пломбы на вагонах с крепежным лесом, — по крайней мере, цел ли лес, не расхищен ли?
Как будто бы цел.
Но вот вагон с раскрытой дверью, и еще один, и еще. Лес расхищен. Вагоны наполовину пусты. А этот и совсем пуст.
Дзержинский сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Перед ним стоял огромный человек в тулупе, в драной ватной шапке, повязанной поверх платком. В руках у человека было охотничье двуствольное ружье.
— Вы сторож? — спросил Дзержинский.
— Не совсем, — сказал человек хриплым от мороза голосом.
— Что вы тут делаете?
— Пытаюсь сторожить.
— Значит, вы сторож?
Человек, повязанный платком, молчал.
— Ружье-то у вас заряжено? — спросил Дзержинский.
— Заряжено, — сказал человек. — Дроби у меня нет, так я его солью зарядил. Говорят, от соли в высшей степени неприятные ранения бывают.
— Не знаю, — сказал Дзержинский.
— А вы кто такой, осмелюсь поинтересоваться? — спросил странный сторож.
— Я не понимаю — вы тут один сторожите? — не отвечая на вопрос, спросил Дзержинский.
— Нет, не один, — сказал сторож. — Нас тут довольно много… Вот, если угодно, я сейчас маневр произведу.
Сторож сунул себе что-то в рот, и в ту же секунду морозный воздух огласился пронзительным свистом.
— Теперь слушайте! — приказал сторож и поднял руку вверх, как бы призывая Дзержинского к особому вниманию.
Где-то далеко, за составом слева раздался ответный свист, потом такой же раздался сзади, потом еще и еще…
— Не спят все-таки, — заметил Дзержинский.
— На таком морозе не больно поспишь, — ответил сторож, потом добавил — Я дал так называемый тревожный свисток: все ко мне, аврал, рифы брать, по левому борту замечен корабль под пиратским флагом… Сейчас они все будут здесь.
— Он, кажется, сумасшедший! — подумал Дзержинский, но промолчал. Очень скоро где-то совсем близко заскрипел снег, и из-под вагона вылез невысокий человек, весь замотанный тряпками. В руке у человека было нечто вроде алебарды. Потом появился крошечный гномик, вооруженный японским штыком. За ним прибежал гном побольше вместе с огромной собакой, покрытой инеем…
— Можете идти по местам, — сказал странный главный сторож. — Это была пробная мобилизация. Если кто очень замерз, пусть сходит в камбуз и выпьет стакан доброго грогу. Только чур маму не будить: она сегодня очень устала.
В ответ главному сторожу что-то пропищал тонкий голос, гавкнула овчарка, и гномы исчезли. Дзержинскому сделалось смешно.
— Ничего не понимаю, — сказал он. — Как же при такой замечательной охране у вас могли раскрасть три вагона крепежного леса?
— Очень просто, — ответил сторож, — охраны тогда не было. Ведь что у нас происходит? По правилам, здесь паровозы получают топливо. А топлива у нас нет. Вот и останавливаются поезда — не на чем идти дальше. Так и лес застрял крепежный, и прочие составы… Но вот как-то застрял состав с людьми — люди и разворовали лес, чтобы их паровоз мог, изволите ли видеть, идти дальше. Уж я кричал-кричал, дрался с ними — не помогло. Сами судите, их целый состав, а я один. Ясное дело — они осилили.
Чем-то этот человек очень нравился Дзержинскому, и он с удовольствием слушал его спокойный, сиплый от холода голос. Постояли, поговорили, выкурили по самокрутке, потом Дзержинский зашагал дальше по скрипучему снегу.
В вагон Феликс Эдмундович вернулся, когда совсем уже рассвело. Он промерз до дрожи, пил чай большими глотками и хмурился. Товарищи посматривали на него с опаской. Он молчал, и они тоже молчали. Погодя он послал за начальником станции, чтобы тот немедленно явился в вагон к нему, а сам ушел к себе в купе.
— Когда явится, пусть пожалует ко мне, — сказал он в дверях.
У себя он сел возле стола и задумался. В протертое проводником окно были видны запорошенные снегом составы, бесконечные составы — с рудой, с нефтью, с лесом… И безжизненные, заиндевевшие паровозы.
Как просто мог поступить начальник станции, если бы он обладал доброй волей! Потратить один-два вагона крепежного леса, затопить паровозы, доставить лес на шахты, а шахты дали бы уголь, и пробка на станции рассосалась бы в несколько дней…
В дверь постучали.
— Войдите, — сказал Дзержинский.
Дверь в купе откатилась в сторону.
— Входите, — повторил Дзержинский.
На пороге стоял человек высокого роста, усатый, в железнодорожной форме, вычищенной и отглаженной. Из-под кителя вылезал накрахмаленный воротник.
— Вы начальник станции? — спросил Дзержинский.
— Так точно, — сипло ответил вошедший, — я начальник станции.
Голос начальника станции показался Дзержинскому знакомым, он пристально поглядел в бледное усатое лицо и узнал вдруг странного ночного сторожа.
— Позвольте, — сказал Дзержинский, — мы с вами говорили ночью там, на путях…
— Так точно, — сказал начальник станции, — вы изволили со мной беседовать…
— Садитесь!
Начальник неловко сел на край дивана и поджал под себя ноги в залатанных, но начищенных до блеска сапогах. Он глядел на Дзержинского исподлобья, и левая щека дергалась. Видимо, он только что побрился и, бреясь, порезался, потому что на подбородке у него был наклеен кусочек бумаги. «Торопился, — подумал Дзержинский, — торопился и порезался. И боится».
— Так, — сказал Дзержинский. — Что же у вас тут делается на станции, а?
Начальник молчал. Большой, сильной ладонью он поглаживал отворот шинели и смотрел на Дзержинского в упор.
— Можно подумать, что у вас тут просто какая-то организация саботажников и негодяев, — сказал Дзержинский, — что вы нарочно не отправляете крепежный лес в Донецкий бассейн.
— Нет уж, — сказал начальник станции.
— Так ведь вы могли потратить один вагон леса и отправить эшелон… Ведь голова же у вас есть на плечах? Ведь вы думать умеете?
— Никак нет, — негромко произнес начальник станции, — хоть голова у меня и имеется, но думать и рассуждать я не обучен. Мне действительно это в голову приходило, но я не решался.
— Почему?
— Боялся.
— Да чего, чего? — воскликнул Дзержинский.
— Боялся, что скажут: тебя, дурака, поставили дело делать, а не рассуждать. Ты должен выполнять приказание, а ежели приказания не было — и исполнять тебе нечего.
Он был бледен, но смотрел теперь прямо, и в глазах его больше не было страха. Только щека по-прежнему дергалась да ноги он поджимал под себя.
Помолчали.
— А сторожили вы по собственному почину? — спросил Дзержинский.
— Так точно, — ответил начальник станции. — Для того, чтобы сторожить, не надо было тратить казенное добро.
— Не казенное, а народное, — сказал Дзержинский, — Народное.
— Так точно, — повторил начальник, — народное.
Опять помолчали.
— Я буду арестован? — спросил вдруг начальник станции.
— Что? — не понял Дзержинский.
— Буду ли я арестован? — повторил начальник станции.
— Нет, не будете, — внезапно улыбнувшись своей удивительной скорбной улыбкой, сказал Дзержинский. — За что же вас арестовывать?
И, дотронувшись до руки начальника станции, он добавил:
— Только вот что. Вы дальше думайте сами. Я понимаю: старая Россия старалась нас всех превратить в бездушные машины, мы все были лишены самостоятельности, за самостоятельность нас жестоко били, но сейчас совсем не то: нам нужно думать и делать самим. За нас никто не будет думать. Поняли?
— Понял! — тихо сказал начальник станции.
— Ну вот и хорошо.
Дзержинский встал. За ним встал и начальник станции.
— Идите и отправляйте поезда, — сказал Дзержинский. — Поймите раз навсегда, что вы больше не маленький человек, не захолустный начальник станции, а что вы такой человек, от которого очень многое зависит… Ну… до свиданья.
И, протянув руку начальнику станции, он спросил:
— А что это были за люди — маленького роста, с которыми вы по ночам дежурите?
— Они не маленького роста, — сказал начальник станции. — Это просто мои дети. Мальчики. И для своих лет они даже довольно рослые.
— Вот что, — сказал Дзержинский, — дети! И много их у вас?
— Шестеро.
— Да, — сказал Дзержинский, — порядком. А мне, знаете, даже в голову не пришло, что это дети. Как сон какой-то: «с левого борта пиратский корабль», «выпей стакан доброго грогу».
Начальник слегка порозовел и опустил голову.
— Что же это значит — пиратский корабль с левого борта? — спросил Дзержинский. — И грог?
— Это игра у нас, товарищ народный комиссар, — сказал начальник станции, — иначе им скучно сторожить эшелон. Вот я и придумал такую игру со словами насчет пиратов и грога. Я раньше выписывал для них журнал под названием «Природа и люди», а также «Мир приключений». Они и начитались. За этими словами и мороз ребятам переносить легче.
Начальник станции совсем покраснел и, смущенно улыбаясь, добавил:
— А насчет грога вы не думайте. Это у нас кипяток называется, для интересу, — грог. Как-то ловчее грогу выпить добрый стакан, чем незаправленного кипяточку…
Еще два дня специальный поезд Дзержинского простоял на станции. За это время ушли эшелоны, и начальник станции со своим взводом пиратов и с супругой приходил в вагон председателя ЧК пить чай. В этих случаях Дзержинский называл чай грогом, а на прощание рассказал мальчикам о том, как в свое время бежал из ссылки и как со своими товарищами бунтовал в Александровском централе. Мальчики слушали раскрыв рты. Провожая гостей, Дзержинский сказал мальчикам, что если им случится быть в Москве, пусть зайдут к нему в гости.
ИНЖЕНЕР САЗОНОВ
Минут за двадцать до начала совещания Дзержинский вызвал секретаря и, продолжая перелистывать бумаги, сказал: — Тут у нас теперь работает инженер Сазонов — из Вятки перевели. Надо узнать, какие у него условия работы, как дома, есть ли помощники — писать, чертить, составлять доклады, сводки. И надо что-то сделать насчет питания — истощен человек и работает очень много. Завтраки какие-нибудь ему организовать, а? К началу доклада Дзержинский опоздал, — было срочное дело в ЧК, и, когда вошел в зал заседаний, инженер Сазонов уже отвечал на вопросы. «Постарел Сазонов с тех пор, — садясь рядом с машинистом Верейко, подумал Дзержинский. — Голова совсем седая, голос не такой, как раньше». — Интересный был доклад? — спросил Дзержинский у Верейко. — Ничего, толковый! — ответил старый машинист. — Большой специалист, его народ уважает, хотя, конечно, кое-что ему еще не ясно в нашей жизни… В это мгновение Сазонов встретился взглядом с Дзержинским, осекся на полуслове и несколько секунд молчал, точно позабыв, для чего он здесь, на трибуне. Потом спохватился, полистал блокнот и сказал: — Вот эта цифра: двадцать три процента. В зале задвигались. Двадцать три процента! Цифра означала неблагополучие, серьезнейшее неблагополучие. — Какие двадцать три процента? — с места спросил Дзержинский. — Откуда вы взяли эти двадцать три процента? Вы проверили цифру? Сделалось очень тихо. Дзержинский стоял у открытого окна, опершись руками на спинку стула, — высокий, в белой рубашке. Ветерок чуть шевелил его мягкие, легкие волосы. Глаза смотрели строго, лоб прорезала крутая складка. — Вы проверили цифру? — Я запросил, и мне дали эту цифру. — Кто вам дал ее? — Инженер Макашеев. В зале засмеялись. Председательствующий позвонил и сказал резко: — Инженер Макашеев более интересовался мешочничеством, нежели своими прямыми обязанностями, и мы его, как вам хорошо известно, товарищ Сазонов, выгнали из наркомата… Сазонов молчал. — Продолжайте! — сказал председательствующий. — Инженер Макашеев честный человек! — твердо произнес Сазонов. — Я его хорошо знаю и могу за него поручиться. История с мешочничеством — печальное недоразумение, которое, конечно, разъяснится. Дзержинский усмехнулся, и Сазонов заметил эту усмешку. В глазах инженера мелькнуло упрямое выражение. «Помнит! — подумал Дзержинский. — Помнит и не верит! Ну что же, поверит! Непременно поверит!» — Подсчет неисправных тележек произведен неправильно! — сказал Дзержинский. — И дело тут не в ошибке, ошибка поправима, а дело в старых, бюрократических методах, которыми мы, к сожалению, еще пользуемся. Как все произошло с этими процентами? Инженер Макашеев потребовал справку от своего секретаря, секретарь передал требование дальше — в соответствующий отдел, отдел — в подотдел, подотдел — в подоподотдел, и пошла писать губерния до той последней инстанции, которой надлежало эту справку изготовить. Затем бумажка стала совершать свой путь к Макашееву, а оттуда к Сазонову, и кончилось дело тем, что два и три десятых процента увеличились до двадцати трех процентов. Вот вам и не виноват инженер Макашеев. Участники совещания зашумели, машинист Верейко сердито засмеялся, кто-то сзади сказал басом: — Инженер Макашеев свои мешочные доходы небось поточнее считает. Там не ошибается. — Два и три десятых, товарищ Сазонов, — повторил Дзержинский, — это несколько меняет картину — не так ли? Так вот не лучше ли было бы вам лично, без вашего «честного» Макашеева, без промежуточных отделов и подотделов, без всего того бюрократизма, который остался нам в наследство от департаментов и присутствий, затребовать эту справку лично и проверить ее лично, не полагаясь на Макашеева. — Я не могу не доверять людям, товарищ нарком, — напряженно сказал Сазонов. — Доверяйте, но не таким, как Макашеев. Надо знать, кому доверяешь! Кровь отлила от лица Сазонова. Он опять долго молчал, потом с трудом собрался с мыслями и медленно стал отвечать на вопрос по поводу рационализации. Было видно, как дрожат у него руки, когда он перелистывал свой большой, старый, потертый блокнот. Машинист Верейко нагнулся к Дзержинскому и шепотом сказал: — Словно бы напугался чего-то. По поводу рационализации Сазонов говорил плохо и скучно. Видимо, он никак не мог сосредоточиться, и выходило так, что восьмичасовой рабочий день и рационализация трудно совместимы на транспорте. Креме того, не хватает специалистов, особенно инженеров. — Напоминаю! — с места сказал Дзержинский. — Восьмичасовой рабочий день должен дать увеличение производительности труда, а не наоборот. Люди теперь работают не на хозяина, а на себя. Советская власть — это власть рабочих и крестьян, власть народа, и не понимать этого может только не наш человек. Сазонов дрожащей рукой наливал в стакан воду. — А, ей же богу, у него температура повышенная! — сказал Верейко. — Здорово так говорил, а теперь невесть чего болтает. Испанка, может, или сыпняк начинается. Меня, когда тиф начинался, двое сынов держали и племянник. Бежать хотел! Или… Верейко внимательно посмотрел на Дзержинского: — Или… может, он вас испугался? — Меня? — Ну да! Вы же не только народный комиссар путей сообщения, вы еще и чекист — гроза всех контриков на свете. Дзержинский серьезно и вопросительно взглянул на Верейко. — Старый спец — вот и боится, — пояснил свою мысль Верейко. — Не понимает, что такое критика. — Но он честный человек! — сказал Дзержинский. — Я знаю всю его жизнь. Честный и преданный нам человек. Сазонов отвечал на вопросы долго и подробно. Дзержинский больше не подал ни одной реплики. Во время перерыва он подошел к Сазонову и негромко спросил его, помнит ли он восемнадцатый год в Перми, Сазонов ответил, что, конечно, помнит. — Нам пришлось тогда арестовывать кое-кого из ваших путейцев, — сказал Дзержинский, — а группу Борейши трибунал приговорил к расстрелу. Тогда и вы были задержаны органами ВЧК. Ненадолго, кажется? — На несколько часов. — Инженер усмехнулся — Нелепая история! Меня, кажется, подозревали в том, что я родственник министра Сазонова, скрывший свое прошлое. Вот я и доказывал, что не верблюд. Дзержинский внимательно смотрел в глаза Сазонову. — А ваш отец, если я не ошибаюсь, был учителем чистописания? Гимназия в Грайвороне? — Совершенно верно. — Сядемте! — предложил Дзержинский. Они сели рядом на скамью. Инженер нервничал — это было видно по тому, как он все перелистывал и перелистывал свой блокнот, как порою вздрагивали его брови. — Вы хорошо знали инженера путей сообщения Борейшу? Так же, как Макашеева? Или лучше? Кстати, насчет Макашеева и мешочничества. Макашеев попал в очень грязную историю. Он не только пользовался своим служебным положением для провоза продуктов для себя — он выписывал фальшивые требования на вагоны и вагоны эти отдавал спекулянтам… за взятки… Сазонов молчал. Гадливое выражение появилось на его лице. — Вот как обстоит дело с Макашеевым, — сказал Дзержинский. — Так вот насчет Борейши… — Борейша был мой ближайший друг! — почти с вызовом в голосе перебил Сазонов. — Мы с ним одного выпуска и… — Ваш ближайший друг? — негромко переспросил Дзержинский. — Да! И расстрел его — ошибка! — Вы уверены в этом? — Я уверен в нем, как в самом себе! — воскликнул инженер. Дзержинский кивнул головой. — Да, да, — сказал он, — вы уверены в нем, как в самом себе… Что ж, зайдите ко мне… завтра днем, часа в три. Если я не ошибаюсь, Борейша был сыном губернатора и получал в студенческие годы от отца триста рублей в месяц? Так? А у вас было пять уроков по семь рублей? Сазонов тихо спросил в ответ: — Как вы можете это все помнить? — По долгу службы, — просто сказал Дзержинский. — По долгу службы чекиста и железнодорожника. Тонкими пальцами он быстро и красиво свернул папироску, вставил ее в мундштук и, закуривая, спросил: — Скажите, вы что, меня сегодня испугались? Моих реплик? Почему вы вдруг смяли ваш доклад, о котором я слышал, что он был хорошо и интересно начат? Что, собственно, произошло? Я видел, что вы были не в форме… Впрочем, оставим этот разговор до завтра! И Дзержинский отошел к группе машинистов, оживленно обсуждающих устройство жезла изобретателя Трегера. Назавтра, ровно в три часа, Сазонов вошел в кабинет Дзержинского. Все окна были открыты — лил свежий, теплый, весенний дождь, над Москвой прокатывался гром. — Садитесь, — сказал Дзержинский. — Не продует вас? Я люблю вот такой дождь! Он открыл несгораемый шкаф, достал оттуда папку, перевязанную бечевкой, и протянул Сазонову. — Прочитайте! — сказал он. — Это показания инженера путей сообщения Борейши А. Я. Ведь он был вашим лучшим другом? — Да, он мой друг! — сказал Сазонов твердо и громко. — Ну вот, читайте! Сазонов развязал бечевку и открыл дело. Да, это его почерк — почерк Саши Борейши. Мелкие, круглые, аккуратные буквы, четкий, ясный почерк.
«Настоящим я, Борейша Александр Яковлевич…»
И вдруг Сазонов не поверил своим глазам. На мгновение ему показалось, что он сходит с ума… — Читайте, читайте! — спокойно сказал Дзержинский. Все было по-прежнему в этом большом, чистом кабинете, за окнами по-прежнему лил косой, свежий, весенний дождь. А Сазонову казалось, что молния ударила где-то совсем близко.
«…скрывший свое происхождение — ближайший родственник министра иностранных дел при Николае Кровавом, Сазонова С. Д., — инженер Сазонов А. В. пытался создать диверсионную группу на нашем узле и в разговорах несколько раз прямо призывал меня и других моих коллег к «действенным формам борьбы с красными»…»
Инженер читал. Он не слышал, как входили и уходили люди, не слышал, как звонил телефон, не замечал, как ушел и вернулся Феликс Эдмундович. Сердце Сазонова билось тяжело, толчками. После показаний Борейши он читал показания других знакомых инженеров, и все они писали, что взрыв моста осуществлен, несомненно, родственником царского министра инженером Сазоновым. Они называли число, и день, и час, когда видели инженера Сазонова с «узелком странной формы», цитировали слова, которыми обменялись в то время, и признавали свою вину в том, что не довели до сведения властей все, что знали об инженере Сазонове. Но у них были для этого причины: они думали, что Сазонов просто обыватель, который никогда не приведет свои планы в действие. — Прочитали? — спросил Дзержинский. — Да. — Мост взорвал сам Борейша. В конце концов он сознался. И они все сознались, что на случай провала держали вас — вы должны были ответить за это злодеяние. Понимаете? — Нет, не понимаю. Почему же я? Ведь я ничего не знал… — Если бы вы знали, то мы бы сейчас не беседовали с вами, — жестко сказал Дзержинский. — Ваш друг Борейша спасал свою жизнь и одновременно мстил вам за ваши советские взгляды, за то, что вы, старый специалист, первым, именно первым, на узле пришли работать к нам, за то, что вы не продали Родину, за то, что вам стали кровно близки интересы рабочего класса. Понимаете теперь? — Понимаю. Но почему же меня тогда выпустили сразу! Ведь я… ведь тут такое написано… этими людьми! Опять с силой полил дождь, и в то же время выглянуло солнце. Дзержинский встал из-за стола, подошел к окну, глубоко вдохнул прохладный воздух, задумался о чем-то. Молчали долго. И думали — каждый о своем. — Вы спрашиваете, почему вас тогда не расстреляли? — сказал наконец Дзержинский. — Потому, видите ли, что ВЧК поднимает свой карающий меч для защиты интересов большинства, то есть народа, от кучки эксплуататоров. В те дни чекисты защищали вас от вашего… «близкого» друга… друга, совершившего чудовищное преступление и свалившего это преступление на вас… Чекисты вас защищали, а вы работали, вы руководили ремонтом путей, разрушенных белыми, вы не спали ночами, обеспечивая перевозки… Впрочем… не спали и чекисты, борясь за вас, за вашу жизнь, за то, чтобы честный инженер Сазонов вместе с нами строил социализм… Сазонов сидел неподвижно, закрыв лицо руками. — Видите, как неловко получилось, — сказал Дзержинский. — Неловко ведь, что вы вчера испугались нескольких реплик чекиста Дзержинского? Сазонов молчал. — Ну, а теперь, когда вам все ясно, займемся делами, товарищ инженер. Как у вас с планом перевозок? Какие вы подготовили соображения? Ну, ну, полно, Андрей Васильевич, полно, попейте воды и перейдем к работе… Он сам налил Сазонову воды в стакан и, точно не замечая слез, которые блестели на глазах инженера, стал задавать вопросы, касающиеся перевозок. Сазонов отвечал сначала сбивчиво, потом все спокойнее и яснее. Теперь Дзержинский слушал, изредка вставляя свои замечания, делая заметки на листе бумаги, иногда переспрашивал, иногда не соглашался и спорил. Уже смеркалось, когда они кончили разговор. — Значит, подготавливайте проект, — заключил Дзержинский, — но имейте в виду, что дело это чрезвычайно серьезное и весьма вероятно, что мы будем вас сурово критиковать. Не боитесь? — Нет! — сказал инженер. — Теперь не боюсь! — И учтите, что очень многие еще не научились думать в общегосударственном масштабе. Для того чтобы наш транспорт стал советским транспортом, его надо полностью приобщить ко всем тем вопросам, которые стоят перед народным хозяйством в других его отраслях. Понимаете? — Пойму! — сказал Сазонов. — Непременно пойму! Повернулся и быстро пошел к дверям. Дзержинский проводил его взглядом, вызвал секретаря и спросил: — Как с моим поручением насчет инженера Сазонова? Насчет помощников, условий работы, питания? — Все сделано! — ответил секретарь и стал докладывать, что сделано.
ОТЕЦ
За ширмой в кабинете стояла кровать.
Когда не было больше сил работать, Дзержинский уходил за ширму, стягивал сапоги и ложился. Он спал немного — три-четыре часа. Никто никогда не будил его. Он вставал сам, умывался и, отворив дверь в комнату секретаря, говорил:
— Я проспал, кажется, целую вечность?
И, узнав, что произошло нового за время его сна, садился работать. На столе лежали письма и записки, доклады и рапорты. На всё он должен был ответить сам, во всём разобраться.
Вот, например, готовится выступление против Советской власти и враги собирают для этого деньги. Известно, что владельцы торгового дома «Иван Стахеев и Ко» внесли крупную сумму. Московский народный банк и табачный фабрикант Богданов снабжали деньгами врагов революции.
Но кто внёс вот эту кругленькую сумму в четыреста восемьдесят тысяч рублей? И что это за французское письмо? А эта сумма в пятьсот сорок тысяч рублей? Откуда она взялась?
На небольшом клочке бумаги он набрасывал план вражеской организации так, как это рисовалось в его воображении.
И медленно, шаг за шагом решал задачу, которую только он мог решить…
Обдумывая и решая, он расхаживал по своему кабинету из угла в угол, как когда-то в тюрьме. Глаза его поблёскивали, а руки он держал засунутыми за простой солдатский ремень.
В любой час ночи секретарь собирал в его кабинете чекистов на совещание.
Приходили молодые рабочие, коммунисты, плохо и бедно одетые: кто в обмотках, кто в огромных, разношенных, похожих на бутсы ботинках, кто в пиджаке, кто в сатиновой косоворотке.
Приходили бывшие солдаты в гимнастёрках, выцветших под жарким солнцем, в порыжевших, разбитых сапогах, заткнутых соломой.
Приходили седоусые старики путиловцы, приходили железнодорожные машинисты, черноморские и балтийские матросы…
Сидя за своим столом, поглядывая то на одного, то на другого товарища, Дзержинский докладывал. Негромким и спокойным голосом, очень коротко, ясно и понятно объяснял, как надобно раскрыть новую контрреволюционную организацию.
И чекисты слушали его затаив дыхание.
Потом Дзержинский спрашивал:
— Вопросы есть?
На все вопросы, даже самые незначительные, он подробно отвечал.
Потом весь план обсуждался и Дзержинский внимательно выслушивал все предложения.
— Это верно, — иногда говорил он. — Вы правы.
Или:
— Это неверно. Если пойдём на это, всё дело может сорваться.
И объяснял почему.
А потом в качестве примера рассказывал одно, другое, третье дело из чекистской практики…
Дело поджигателей Рязанского вокзала…
Дело с поездом из Саратова. Этот поезд с продовольствием для голодающего Петрограда враги народа не приняли в Петрограде и отправили назад в Саратов.
Или история «Общества борьбы — с детской смертностью». Хорошее название для контрреволюционной организации, в которой пудами хранились взрывчатые вещества, были пулемёты, винтовки и гранаты!..
А «Союз учредительного собрания»?
А «Белый крест»?
И каких только не было названий вражеских организаций! Даже — «Чёрная точка».
Спокойно и серьезно Дзержинский говорил о том, что было правильно в распутывании дела, а что неправильно, где медлили и где торопились, как нужно было поступать и как поступали.
Он ещё и ещё продумывал старые дела. На них учил людей трезвому спокойствию и энергичной находчивости в предстоящей работе.
Иногда во время такой беседы вдруг звонил телефон — Дзержинский брал трубку.
— Да — говорил он, — слушаю. Здравствуйте, Владимир Ильич!
В кабинете становилось так тихо, что было слышно, как дышат люди.
Дзержинский говорил с Лениным. Его бледное лицо слегка розовело. А чекистам в такие минуты казалось, что Ленин говорил не только с Дзержинским, но через него — и со всеми.
Иногда после совещания Дзержинский находил на своём столе два куска сахару, завёрнутые в папиросную бумагу, или пакетик с табаком, или ломоть серого хлеба в бумаге.
В стране был голод, и Дзержинский недоедал так же, как и все. Было стыдно просто принести ему два куска сахару: вдруг рассердится. И чекисты оставляли на столе свои подарки.
Но он не сердился.
Он разворачивал бумагу, в которой аккуратно были завёрнуты два кусочка сахару, и необыкновенная, грустная улыбка появлялась на его лице.
* * * За глаза чекисты называли его отцом.
— У отца нынче совещание, — говорили они.
Или:
— Отец вызывает к себе.
Или:
— Отец поехал в Кремль к Владимиру Ильичу. Иногда по ночам он ходил из комнаты в комнату здания ЧК.
В расстёгнутой шинели, в старых сапогах, слегка покашливая, он входил в кабинет молодого следователя. Следователь вставал.
— Сидите, пожалуйста, — говорил Дзержинский и садился сам.
Несколько секунд он пытливо всматривался в лицо своего собеседника, а потом спрашивал:
— На что жалуетесь?
— Ни на что, Феликс Эдмундович, — отвечал следователь.
— Неправда. У вас жена больна. И дров нет. Я знаю.
Следователь молчал.
— И Петька ваш один дома с больной матерью, — продолжал Дзержинский. — Так?
Вынув из кармана маленький пакетик, Дзержинский весело говорил:
— Это сахар. Тут целых два куска. Настоящий белый сахар, не какой-нибудь там сахарин. Это будет очень полезно вашей жене. Возьмите. А с дровами мы что-нибудь придумаем.
Часа два он ходил от работника к работнику. И никто не бывал забыт в такие обходы. Он разговаривал с начальниками отделов и с машинистками, с комиссарами и курьерами, и для всех у него находилось бодрое слово, приветливая улыбка, весёлое «здравствуйте».
— Отец делает докторский обход, — говорили чекисты.
КАРТОШКА С САЛОМ
Страна тогда голодала, голодали и чекисты.
В доме на Лубянке, где помещалась ЧК, большими праздниками считали те дни, когда в столовой подавали суп с кониной или рагу из конины.
Обедал Дзержинский вместе со всеми — в столовой — и сердился, когда ему подавали отдельно в кабинет.
— Я не барин, — говорил он, — успею сходить пообедать.
Но часто не успевал и оставался голодным.
В такие дни чекисты старались позаботиться о нём и накормить.
Один чекист привёз как-то восемь больших картофелин, а другой достал кусок сала.
Картошку почистили, стараясь шелуху срезать потоньше. А очищенные картошки порезали и поджарили на сале. От жареного сала по коридору шёл вкусный запах. Чекисты выходили из своих комнат, нюхали воздух и говорили:
— Невозможно работать. Такой запах, что кружится голова.
Постепенно все узнали, что жарят картошку для Дзержинского. Один за другим люди приходили в кухню и советовали, как жарить.
— Да разве так надо жарить, — ворчали некоторые.
— Нас надо было позвать, мы бы научили…
— Жарят правильно, — говорили другие.
— Нет, неправильно, — возражали третьи.
А повар вдруг рассердился и сказал:
— Уходите отсюда все. Двадцать лет поваром служу — картошку не зажарю? Уходите, а то я нервничаю.
Наконец картошка изжарилась. Старик курьер понёс её так бережно, будто это не картошка, а драгоценность или динамит, который может взорваться.
— Что это? — спросил Дзержинский.
— Кушанье, — ответил курьер.
— Я вижу, что кушанье, — сердито сказал Дзержинский. — Да откуда картошку взяли? И сало. Это что за сало? Лошадиное?
— Зачем лошадиное, — обиделся курьер. — Не лошадиное, а свиное.
Дзержинский удивлённо покачал головой, взял было уже вилку, но вдруг спросил:
— А другие что ели?
— Картошку с салом, — подумав, сказал курьер.
— Правда?
— Правда.
Дзержинский взял телефонную трубку и позвонил в столовую. К телефону подошёл повар.
— Чем сегодня кормили людей? — спросил Дзержинский.
Повар молчал.
— Вы слушаете? — спросил Дзержинский.
— Сегодня на обед была картошка с салом, — сказал повар.
Дзержинский повесил трубку и вышел в коридор. Там он спросил у первого же встречного человека;
— Что вы ели на обед?
— Картошку с салом, Феликс Эдмундович.
Ещё у двух людей Дзержинский спросил, что они ели.
— Картошку с салом.
Тогда он вернулся к себе и стал есть. Так чекисты заботились о Дзержинском.
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Секретарь тихонько отворил дверь и пропустил перед собой невысокого человека в рваном тулупе, обросшего бородой и очень худого. Синие яркие глаза незнакомца блестели так, будто у него был жар.
— Садитесь, — сказал Дзержинский, — и рассказывайте. Что у вас там случилось и кто вы такой? Только коротко: у меня мало времени.
Он достал из ящика стола аккуратно завёрнутый в бумагу кусок чёрного хлеба и стал ужинать, а незнакомец — фамилия его была Сидоренко — начал рассказывать.
Он работал в одном маленьком городке на Украине. Никакого особенного образования у него нет, но он коммунист, читал сочинения товарища Ленина и многое другое. Работы у него хватает, каждый день с утра до поздней ночи он занят своим делом. Работа, конечно, не какая-нибудь особенно ответственная, не нарком, это само собой понятно, но в своём роде его работа тоже требует нервов и еще раз нервов. Короче говоря, он, Сидоренко Никифор Иванович, заведует складом. Вернее, заведовал до этой проклятой истории, а теперь он уже и не заведующий, а арестант, да ещё беглый, как всё равно враг, контра или вор-бандит…
— Как беглый? — спросил Дзержинский.
— От так и беглый, — ответил Сидоренко. — Такой беглый, что ни жена, ни детки не знают, или жив ихний чоловик и батько, или нет.
— Я что-то плохо понимаю, — сказал Дзержинский.
— А я так и совсем ничего не понимаю, — ответил Сидоренко и стал рассказывать дальше.
Короче говоря, один начальник, по фамилии Рубель, берёт и присылает на склад до Сидоренки курьера, старую бабку Спидначальную. И та бабка приносит Сидоренке записку, в которой чёрным по белому написано, чтобы он выдал курьеру, товарищу Спидначальной Агафье, два одеяла из фондов для личных нужд семьи так называемого товарища Рубеля.
Сидоренко, конечно, никаких одеял не дал, а старухе, бабке Спидначальной, ещё прочитал хорошую отповедь, чтобы она не смела приходить с такими отношениями от своего Рубеля.
И, чтобы ей было неповадно, вредной бабке Агафье, у неё на глазах порвал в мелкие клочки отношение Рубеля.
Бабка-курьерша ушла, а он сел писать список.
Вдруг приходит — кто бы вы думали? — сам Рубель со своим наганом, в папахе и с гранатами.
— Давай одеяла!
Сидоренко отвечает:
— Нет у меня для вас никаких одеял. У меня одеяла для раненых красных бойцов, а не для вас…
Тогда Рубель кричит:
— Я сам пострадавший, припадочный! Какое ты имеешь право?..
Сидоренко опять ему отвечает:
— Дай боже, чтобы все люди были такие здоровые, как тот бык Васька и как вы лично. И проходите из помещения, мне надо составить список, а вы задерживаете работу.
Ну и пошёл крик. Рубель кричит «Давай!», Сидоренко отвечает: «Быка Ваську заставишь, а товарища Сидоренко не заставишь».
Короче говоря, Рубель написал на Сидоренко клевету и так повёл дело, что хоть плачь. Будто Сидоренко предлагал ему, Рубелю, поднять восстание против Советской власти, будто Сидоренко уже имеет дружков для этого дела, а сам он будто и есть главный атаман.
И главным свидетелем выставил курьера Спидначальную, дурную бабку Агафью. Научил её что надо говорить, и всё в порядке.
Конечно, Сидоренко арестовали и посадили в тюрьму. Но он убежал из-под стражи и подался в Москву, к товарищу Дзержинскому.
Как добирался, это даже и передать нельзя. Но добрался.
— Так, — сказал Дзержинский. — Ну и что же вы от меня хотите?
— Короче говоря, справедливости, — ответил Сидоренко. — То есть я не желаю за свою честность гнить в тюрьме. В чём дело? Пускай лучше Рубель гниёт, когда он на меня такой донос написал.
Дзержинский помолчал, поглядел на Сидоренко, потом спросил:
— Послушайте, вам не приходило в голову, что вы можете убежать? Не в Москву, не ко мне, а, просто убежать — и концы в воду.
— Приходило, и даже вполне свободно мог убежать: есть у меня дядя родной, мог убежать к нему…
— Ну?
— Пусть медведь бегает, а я не побегу, — спокойно и убеждённо сказал Сидоренко.
— Почему?
— Як вам пришёл, — ответил Сидоренко, — к вам лично, к товарищу Феликсу Дзержинскому. Я член партии, вы тоже член партии. Вы, конечно, большой человек, но и я тоже ничего, могу пригодиться. Я так думаю, что на свете, в конечном счете, справедливость имеется и себя всё же оказывает. Короче говоря, надо вам, товарищ Дзержинский, в моём деле подразобраться. А покуда дайте мне записочку в тюрьму: выспаться мне надо, мороз сильный, а я вроде бы простудился.
Дзержинский улыбнулся.
— Вот вам в Дом крестьянина записка, — сказал он, — там вас и накормят. Через две недели придёте…
— Значит, доверяете? — спросил Сидоренко.
Дзержинский не ответил.
Через две недели дело Сидоренко было выяснено. Он оказался действительно честным человеком. В секретариате Дзержинского ему выдали на дорогу три фунта хлеба, две селёдки, два грамма сахарину и шесть коробок спичек — не виданное богатство по тем временам. Кроме того, Сидоренко получил большой мандат, в котором было написано, чтоб ему оказывали содействие при проезде по железным дорогам.
ДВА ПОРТРЕТА
Товарищи отговаривали художника от этой затеи. Они говорили ему, что Дзержинский даже не примет художника, что смешно думать о портрете, что художнику надобно выбросить всю эту затею из головы… Но он не выбросил эту затею. Он собрал у себя все фотографии Дзержинского и подолгу всматривался в лицо, так поразившее его несколько дней назад. Совсем случайно он видел Дзержинского издали на улице, и там же в сутолоке решил: «Я его буду рисовать, я должен его рисовать, я не могу не рисовать его». Но что могли дать фотографии — мертвые и случайные? Разве уловлено ими то удивительно легкое, юношеское лицо, которое он видел давеча на улице? И глаза под козырьком военной фуражки — острый блеск зрачков и длинные, необыкновенно красивые ресницы. В тот же день художник ехал на извозчике, Дзержинский в автомобиле, большом и старомодном. Автомобиль был открытый, Дзержинский ехал один — сидел рядом с шофером и читал сложенную «Правду». Улицу переходили войска, и ждать пришлось долго. Извозчичий жеребец выплясывал рядом с машиной и горячился, бил подковами по булыжной мостовой. Художник видел, как Дзержинский поднял от газеты голову, как он пальцами поправил фуражку и как стал смотреть на жеребца — сначала с удивлением, потом любуясь, как он протянул руку и потрепал коня по морде, по бархатистым ноздрям, как копь чуть не укусил Дзержинского и как Дзержинский вдруг засмеялся. Вот в эту самую секунду, когда он засмеялся, художник решил его рисовать: веселое, совсем еще юное лицо, прекрасные, чистые глаза и сильная рука с тонкими пальцами… Он видел, с какой железной силой эта рука взялась за недоуздок и потянула разгоряченную морду жеребца… Но войска прошли, автомобиль, обдав художника бензиновой гарью, исчез. Рысак, выбрасывая сильные ноги, помчался по Мясницкой, да разве догнать… Удивленно-веселые, широко открытые глаза и улыбающийся рот — этого выражения не было нигде. Фотографии были тождественные, серьезные — профиль, анфас, опять профиль, три четверти. Дзержинский у телефона. Дзержинский среди своих сотрудников. И по фотографиям видно, как не любит он сниматься и как не до этого ему. Похож ли он на карточках? Наверное, похож, но совсем не похож на того Дзержинского, которого художник видел давеча в автомобиле на Мясницкой. Нет, рисовать по фотографиям невозможно! И художник начал искать человека, который бы свел его с Дзержинским. Искал он долго и безуспешно до тех пор, пока один знакомый комиссар ЧК не посоветовал ему бросить раз навсегда всякие попытки попасть к Дзержинскому по знакомству. — Но что же мне делать? — спросил художник. — Ведь должен я попасть к нему. — Ну и идите. — Меня же не пустят. — А вы попробуйте. — Что же пробовать, когда это безнадежно. — А вы все-таки попробуйте. Запишитесь на прием. И скажите отцу прямо и честно, что вы хотите рисовать… — Какому отцу? — не понял художник. Комиссар слегка порозовел, поправил очки и, глядя в сторону, объяснил, кого чекисты называют отцом. Было странно слышать, как старый человек, запинаясь от неловкости, с суровой и грубоватой нежностью говорит об отце чекистов, значительно более молодом, чем многие из его «сыновей». — Да-с, — сказал он в заключение, — из моих слов вы можете без особого труда догадаться, что к Дзержинскому по знакомству не попадают. Если у него есть хоть одна секунда времени, он вас примет без всяких знакомств, а если времени у него нет, то он вас не примет, от кого бы вы ни пришли. Так что мой вам совет, дорогой юноша, попытайтесь. Попытка — не пытка, а спрос — не беда. В одном я вас могу уверить со спокойной совестью: с вами будут абсолютно вежливы, и если вам будет отказано, то в такой форме, что вы обиды не испытаете. — Я должен написать его портрет! — сказал художник. — Желаю вам удачи, — ответил комиссар.
В дежурной он прождал около часу, курил и обдумывал, как он войдет к председателю ЧК и что он ему скажет. Он приготовил короткую и убедительную речь; ему казалось, что речь выразительна. Несколько раз в уме он повторил все с первого до последнего слова и остался доволен собой. Наконец дежурный вызвал художника и протянул ему пропуск. Художник вошел к секретарю Дзержинского и не очень вразумительно рассказал: он художник, хочет писать портрет Дзержинского, это необходимо и об отказе не может быть и речи… Секретарь терпеливо слушал, молча смотрел на художника и ладонью поглаживал гладко выбритый подбородок. Наконец красноречие художника иссякло, и он смолк. — Я вас совершенно понимаю, — произнес секретарь, — но вся беда заключается в том, что Феликс Эдмундович чрезвычайно занят. Очень занят. Занят всегда, постоянно, круглый год. — Я должен его писать, — решительно ответил художник, — понимаете, должен. У меня нет другого выхода. Писать портрет Дзержинского — это мой долг. Секретарь вздохнул. Он уже с любопытством смотрел на художника: какой молодой, а какой напористый! И сердитый. Минуту посидел, рассердился и заходил по комнате, от папиросы отказался, закурил свою. — Значит, никак нельзя? — Предполагаю, что это невозможно. — Тогда разрешите мне повидать товарища Дзержинского, — сухо сказал художник, — я не задержу его более трех минут. — Задержите, — ответил секретарь. Художник молчал. Секретарь вздохнул и вышел. Вернувшись, сказал: — Идите, но… — махнул рукой и не кончил начатую было фразу. С бьющимся сердцем художник отворил дверь. Комната, в которую он вошел, была вся залита солнечным светом. Дзержинский сидел за столом, слегка подняв голову, приглядывался к посетителю. Художник назвал себя. Приготовленную речь он забыл. Теперь у него возникла новая идея, если Дзержинский откажется позировать, то сейчас затянет разговор, просидит здесь возможно дольше, чтобы запомнить лицо, глаза, рот, лоб, мгновенные изменения в выражении лица, повороты головы, манеру сидеть за столом, щуриться, улыбаться, сердиться. Главное — чтобы не выгнал. Пусть говорит, что не может. Конечно, не может. Ясно, не может. Но художник будет сидеть. Будет впитывать, как губка, все особенности этой комнаты. Телефоны на столе — какая их масса; ширма; за ширмой кровать, покрытая простым, солдатским одеялом; шкаф; шинель висит на крючке… — Я очень занят, — как сквозь сон услышал художник, — очень. Может быть, можно как-нибудь обойтись без портрета? В голосе Дзержинского звучала почти мольба. Глаза же смотрели вежливо, холодно и внимательно. — Ваш портрет необходим для выставки, — произнес художник, — категорически необходим. — Мне некогда позировать. — Я постараюсь вас мало беспокоить и поскорее кончить. Он говорил, совершенно не надеясь на успех, только для того, чтобы не уходить из кабинета, чтобы запомнить еще складки гимнастерки, лукавую усмешку. Кстати, почему он улыбается? Длинные пальцы, глаза с красными жилками, любопытные, внимательные… — А может быть, можно не рисовать меня? — Нет, нельзя. — Неужели так необходим мой портрет? — Нет, нельзя… Дзержинский внезапно рассмеялся. Чему он? Вероятно, художник что-нибудь сказал невпопад? — Какими сердитыми глазами вы смотрите на меня, — сказал Дзержинский. Сейчас у него совершенно другое выражение лица. Но над чем он смеется? Впрочем, это неважно. Важно запомнить это выражение, только запомнить, все остальное не важно! Но вдруг художник услышал слова, странные и совершенно неожиданные: — Хорошо. Приходите сюда и работайте. Только я тоже все время буду работать. Позировать мне некогда. Мы оба будем работать, каждый по своей части, и постараемся не мешать друг другу. Идет? Это была полная победа. Выйдя из кабинета, художник прошел мимо секретаря, высоко подняв голову. На следующее утро художник получил лошадь и на извозчике перевез в секретариат тяжелый мольберт, ящик с красками, подрамник с холстом, коробку с кистями и многое другое, необходимое для работы. — Все или еще поедете? — спросил секретарь, неодобрительно оглядывая инвентарь художника. — Все, — сухо ответил художник. Пока Дзержинского не было, он выбрал себе место в кабинете, установил мольберт, поставил ящик с красками и сел на стул покурить. Вошел секретарь, спросил: — В полной боевой готовности? — Да, — коротко ответил художник. Приехал Дзержинский, поздоровался и молча сел работать. Художник сидел не двигаясь, изучал цвет лица, костюм, приглядывался к рукам. Компоновал, обдумывал, решал, но в этот день так ничего и не решил и тихонько, не прощаясь, чтобы не мешать, вышел. На следующее утро секретарь сказал ему, кивнув на совершенно чистое полотно: — Я вижу — вы здорово поработали вчера? В это утро художник взял в руку уголь и стал набрасывать на холсте контуры будущего портрета. Работа не удавалась. Порою он встречался с Дзержинским глазами, и тогда ему казалось, что в глазах Феликса Эдмундовича мелькает лукавый огонек. Казалось, Дзержинский говорил: «Что? Трудно? Все равно позировать не буду!» Так прошло несколько дней. Осень стояла погожая, тихая, солнечная; окна в кабинете постоянно держали открытыми, тишину нарушал только секретарь да телефонные звонки. Дзержинский сидел за своим письменным столом почти всегда в одной и той же позе — наклонившись над бумагами, с карандашом в руке. На худое лицо падали тени от ресниц. Много курил. Однажды, закуривая, спросил у художника: — Вас не раздражает? — Что? — Табак. То, что я курю. — Я ведь сам курю, Феликс Эдмундович. — Почему же я не видел вас с папиросой? Курите, пожалуйста, не стесняйтесь. Уже шла работа красками. Как-то, досадуя на то, что Дзержинский слишком низко опустил голову над бумагами, художник попросил: — Посмотрите на меня. Дзержинский поднял голову. В глазах мелькнуло удивление. — Одну только минуту смотрите на меня, — с мольбой и отчаянием в голосе сказал художник. Секунду Дзержинский смотрел серьезно, потом вдруг засмеялся и сказал: — Когда вам понадобится, вы мне говорите, пожалуйста. Я буду на вас смотреть… Но когда художник попросил, чтобы Дзержинский посидел в такой позе, которая нужна была для портрета, Феликс Эдмундович почти с ужасом воскликнул: — Позировать? — Только минуту, — попросил художник. Позировать ему было некогда; позируя, он чувствовал себя неловко, но он видел, как мучается художник, и жалел его. — Ну, давайте, я специально для вас посижу, — предложил он однажды, — хотите? Только недолго. Как надо сидеть? Рассердился и тотчас же засмеялся: — Беда мне с вами. Зазвонил телефон. Дзержинский взял трубку, долго слушал молча, потом заговорил. — Все это враки, — сказал он, — вздор, несерьезная чепуха. Я вчера сам был на городской станции в этом, в этом… как его… — В «Метрополе», — подсказал художник. — Да, в «Метрополе». Это чистейшее безобразие, то, что там происходит. Желающие ехать записываются у одного из предприимчивых пассажиров, потом приходят на перекличку вечером, к десяти часам, потом утром, часов в пять. Совершеннейшее безобразие! Он еще помолчал, потом крикнул в трубку: — Враки! Я сам пробыл там полночи, а вы ничего не знаете. Тот, кто записывает очередь, получает пять процентов стоимости билета, это я точно знаю, это мне доподлинно известно. Я стоял в хвосте и все узнал. Так что извольте поручить кому-либо из ТОГПУ выяснить всю постановку дела, только без шума. И пусть доложат мне, надо это все упорядочить… Положив трубку, он закурил, потом сказал художнику: — Надоело. Попадется такой работник — хлебнешь с ним горя. Уезжая домой, он спросил художника: — Отвезти вас? — Пожалуйста, если вам по пути. Он снял с вешалки шинель, оделся и подождал художника. Красивое бледное лицо Дзержинского выглядело усталым, он то и дело закрывал глаза и, когда спускались по лестнице мимо напряженно глядящих часовых, спрашивал: — Очень устаете? Это наверно, очень трудно — рисовать? И похудели вы за это время. Главное — чего волноваться? Портрет у вас получится отличный. С этого дня Дзержинский по утрам заезжал за художником, а вечерами отвозил его домой. Как-то по пути домой зашла речь вообще о живописи, и Дзержинский обнаружил незаурядные познания в ней. Художник спросил, рисовал ли Дзержинского кто-нибудь. — Рисовал, — сказал Дзержинский, — был один, рисовал. Только не дорисовал. Я ему перестал позировать. Знаете почему? — Почему? — спросил художник. — Потому, что он стал у меня просить железнодорожные билеты. Все у него жена куда-то ездила. Ну, вот… он, бывало, порисует немного и билет просит. А я билетами не распоряжаюсь. Так он меня и не дорисовал… Когда проезжали через Арбатскую площадь, Дзержинский спросил: — Что это за здание? И показал рукой на ресторан «Прага». Художник сказал, что это очень противный недавно открытый ресторан дореволюционного пошиба. — Ничего не поделаешь, — ответил Дзержинский. — Нам эти пивные и рестораны оплачивают пятьдесят процентов расходов на народное образование… Такая, знаете, штука.
Отношения с секретарем у художника оставались прохладными. Разговаривали обычно в ироническом тоне. Однажды секретарь сказал: — Я, знаете ли, совсем привык к вам. Мне кажется, что мы еще долго будем вместе. Может быть, состаримся — вы за картиной, я за своим столом. Как вы думаете? Художник промолчал. В этот день Дзержинский предложил художнику билеты на концерт. — Спасибо, не поеду, — сказал художник. — Работа у меня идет отвратительно, поеду домой, подумаю. Какие уж тут концерты! Мне посторонние впечатления будут только мешать. Дзержинский улыбнулся одними губами. — Что делать тем, которые всю жизнь очень заняты? — спросил он. — Не знаю, — сказал художник. Два последних дня Дзержинский позировал по часу. На прощание он дал слово позировать художнику как-нибудь потом, специально для профиля. Но попрощаться не успел. Зазвонил телефон, и Дзержинский взял трубку. А секретарь в это время уже выносил из кабинета мольберт, ящики и коробки… — Пожили, пора и честь знать, — говорил он, провожая художника. — Смотрите, какую вы нам тут грязь завели… И нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит, этот секретарь. Через три года художник опять рисовал Дзержинского. Художник рисовал Феликса Эдмундовича в гробу. Лицо Дзержинского было таким же красивым, тонким и усталым, как при жизни. Высокий лоб был изборожден морщинками, и от ресниц падали тени… Художник рисовал по ночам — с трех до шести утра. В зале стояла тишина, пахло еловыми ветвями, у гроба неподвижно стоял караул. К художнику подошел секретарь, постаревший, с мешками у глаз; увидел рисунок, губы у него задрожали. — Вот рисуете, — сказал он, — как тогда… Отвернулся и замолчал. Потом вдруг заговорил, близко наклонясь к лицу художника, не сдерживая слез: — Вы знаете, что он сказал в день своей смерти, знаете? За несколько часов? Он сказал на пленуме ЦК и ЦКК, что… — секретарь задохнулся и замотал головой, — что… «Моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда». И все с мест закричали: «Правильно!». Он оглядел зал и дальше стал говорить. «Я не щажу себя… Никогда. И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них…». Он опять задохнулся от душивших его слез, ушел в угол зала и долго стоял там в полутьме, прислонившись лбом к холодной стене… В эту ночь, уже под утро, к гробу пришел Орджоникидзе, стоял долго, не двигаясь, и смотрел в мертвое лицо Дзержинского, потом поправил подушку под головой Феликса Эдмундовича… У гроба подолгу стояли боевые товарищи… Тут видел художник жену и сына Дзержинского. И странное дело: рисуя мертвого Дзержинского, художник думал о нем, как о живом. Теперь все чаще и чаще он представлял себе Мясницкую в тот знойный летний день, автомобиль и Дзержинского, протянувшего руку к недоуздку рысака… Или вспоминал глаза Дзержинского — тогда, когда он писал в кабинете портрет и просил поглядеть одну минутку, — прекрасные глаза, и веселые, и сердитые в одно и то же время.
1938–1947–1951
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|