 |
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: БСЭ :: Раззаков Федор :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Сименон Жорж :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Картленд Барбара Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Война и мир. Том 1 :: Кто быстрее свой путь пройдет :: Невинность и порок :: Ундр :: Первобытный поэт :: Роковой поцелуй :: Чудовище |
Дикая собака ДингоModernLib.Net / Детская проза / Фраерман Рувим Исаевич / Дикая собака Динго - Чтение (стр. 7)
Между тем наверху в комнате, о которой все забыли и где обычно хранилось пионерское имущество, спала Таня. Флажки и плакаты на длинных древках со всех сторон окружали ее. Портреты висели наклонно, как птицы, готовые сняться со стены, барабаны валялись на подоконнике, горны блестели на гвоздях. Пионерское имущество! Мир звучных предметов смотрел на нее из углов. Как горько было расставаться с ним даже во сне. Даже во сне, говорю я, потому что, увидев, как тяжело это было для Тани, благостный сон пришел к ней, и она крепко заснула в этом углу, где просидела с самого утра на толстом матраце, набитом опилками. Но и этот добрый сон ничего не мог поделать с ее недремлющим воображением. И снилось ей собрание звена. Снилось Тане, будто в этой самой комнате, где она спит, сидят ее друзья – кто где: на барабанах, на табуретах, на деревянной кобыле, обитой черной клеенкой. Движения их грозны, лица суровы, и каждый взгляд направлен прямо в сердце Тани, но не доходит до него. Он дрожит и ломается, точно луч, заслоненный внезапно рукой. – Судите ее страшной местью, – говорит человек, которого Таня не знает. Одежда его необычна: к шинели пришита пелеринка, воротник из куницы блестит на его плечах, а лица совсем не видно – длинные волосы закрывают его с боков. – Судите ее, – говорит он снова, – она жестока. – Да, да, она жестока, – повторяет за ним Женя. – Это она велела зажарить мою красивую рыбу. А ведь рыба была золотая. – Судите ее – она завистлива. – Да, да, она завистлива, – повторяет толстый мальчик. – Она завидует Коле, это мы видели все. Она повезла его в буран, чтобы совсем погубить. А голос Тани нем, губы мертвы, ничего он не может сказать. И человек в пелеринке подходит к ней ближе, а Таня отступает к стене. Она со страхом узнает в нем Гоголя, портрет которого висит над дверью. – Ах, я так несчастна! – шепчет ему еле слышно Таня. – Кто защитит меня? Я ничего не знаю. Она переводит свой взгляд повыше и видит: светлые облака, проходящие мимо в небе, заглядывают потихоньку в окно. Все они высокие, все одеты в блестящие латы, и блеск их лат, падая на пол, журчит и струится подобно маленьким ручейкам. И все они стремятся к Тане. Она подбирает ноги и легко отрывается от земли. Она летит, как летают все во сне. Никто ее не может догнать. И комнаты давно уж нет, и любимое дерево Тани, растущее во дворе под окном, остается далеко внизу. Как ловко обогнула она его вершину, не задела ни одного листка! Широкий свет простирается во все стороны от тропинки, по которой она теперь идет. Она поднимается в гору. Кусты голубики шумят у нее под ногой. И все круче тропинка – вода и камни катятся по ней со звоном. И с вершины открывается перед Таней лес, уходящий далеко по склону. Но какой это странный лес! Она никогда не видела такого. Это не лес и не мелколесье, которое она знает с детства. Низкие деревья держат свои ветви простертыми прямо над самой землей. И все они покрыты белыми цветами. В тихом воздухе кружатся лепестки, нежно розовея на солнце. – Что это? – спрашивает Таня в восторге. И в звоне воды и камня слышится ей ответ: – Это цветут сады, Таня. «А где же тут пихты? – хочется Тане спросить. – Я их не вижу совсем». Но лес исчезает. Она отправляется дальше и идет теперь уже по ровной дороге, где нет ни камней, ни склонов, и останавливается на краю ржаного поля. Тени знакомых орлов плывут по нему, и перед взором Тани поле колышется вверх и вниз, точно небо во время качки. А колосья шуршат и трутся друг о друга. – Как красиво! Что это? – спрашивает Таня, замирая. И в ровном шуме поля слышатся ей слова: – Это зреют наши хлеба. – Ах, я люблю, я люблю, – беззвучно шепчет Таня. – Или все это сон? Все сон! Ну конечно, я сплю. Ведь мы живем так далеко. Но солнце внезапно темнеет. И Таня видит, как черная туча в клубах тумана и в клочьях мчится над полем прямо на нее. Никогда не виданные, тонкие, как волос, молнии скачут в шумящую рожь, и Таня в ужасе падает на колени. Долгий гром прокатывается по небу от края до края его. Сон кончился, но Таня не проснулась, и гром продолжал греметь. В коридоре перед дверью комнаты стояла маленькая девочка. На шее ее висел барабан. Она стучала, пристально глядя, как легкие палочки прыгают в ее руках. Она упражнялась. И на этот гром, на отзвук его, раздавшийся в гулком коридоре, поднялись по лестнице дети: сначала Коля, за ним Филька, и Женя, и толстый мальчик, ступавший по ступеням тяжело. А Костя-вожатый вдел рядом с Александрой Ивановной, и голоса их были тихи – они не будили эха под потолком. Девочка же продолжала стучать. Коля остановился возле двери и подождал, пока не подойдут остальные. – Вот свободная комната, – сказал он, – мы можем здесь провести собрание нашего звена. Он открыл дверь и вошел тихо первый, не глядя по сторонам. Но, и не глядя, искал он Таню то мыслью, то сердцем, все время думая о ней. И неожиданно увидел ее в углу на толстом матраце, который подстилают под ноги при очень высоких прыжках. Он открыл губы, чтобы произнести ее имя, и не произнес. Он присел на корточки, чтобы тронуть ее за плечо, и не тронул, потому что она еще крепко спала и ресницы ее были влажны, а лицо уже высохло от слез. И Коля, обернувшись к другим, замахал на них руками. Все остановились, глядя, как Таня спит.  – Пусть спит. Не трогайте ее никто, – сказала шепотом Женя, потому что у нее было вовсе не злое сердце, хотя чаще, чем другие, она была права и заставляла Таню плакать. – Неужели мы не можем провести это собрание без нее? – добавила она. – Ведь Коля же нам все рассказал, мы знаем правду. Александра Ивановна подумала немного. Она посмотрела каждому в лицо и увидела, что это желание было добрым. Она закрыла рукою губы – они против воли ее улыбались. – Конечно, мы можем, дети, – сказала она. – Я разрешаю вам это. Я думаю, что Костя согласится со мною. И Костя-вожатый, тоже посмотрев каждому в лицо, увидел, что это желание было общим. – Хотя я за пионерскую дисциплину, – сказал он, – но по такому случаю мы, разумеется, можем. Это решение общее. А если так, то мы можем всё. Тогда Коля поманил к себе Фильку и сказал ему: – Если мы можем всё, то выйди отсюда и шепни на ухо барабанщику, что я его сейчас убью. Филька вышел. Он слегка ударил девочку по спине между лопатками. Но и от этого слабого удара она присела, ноги ее подогнулись. Она перестала стучать. – Человек заснул, – сказал ей Филька, – а ты гремишь на весь мир. Неужели нет в тебе никакой совести? Хоть самой маленькой, какая должна у тебя все-таки быть по твоему малому росту? И все удалились прочь, неслышно шагая гуськом друг за другом, и за ними шла девочка с барабаном, подняв свои палочки вверх. XIX Дети не разбудили Таню. Она проснулась среди тишины и ушла сама, и румяный от заката воздух проводил ее до самого дома. Он облегчил ее грудь, голову, плечи, но совесть продолжала болеть. Как расскажет она все это матери, как сможет ее огорчить? Но дома, кроме старухи, она снова никого не застала. И впервые Таня рассердилась на свою мать. Она не попросила чаю у старухи, ничего не съела и, не снимая одежды и обуви, легла в постель, хотя мать всегда запрещала ей это делать. «Но пусть, – решила Таня. – Что же я сделала дурного и кто виноват, что все так случилось, что нет у меня ни сестер, ни братьев, что я одна жду сейчас неведомого наказания, что старуха стара и что в целом доме некому слова сказать? Что всегда одна, что всегда сама? Кто в этом виноват – не мать ли? Ведь почему-то оставил ее отец и ушел. Почему?» Таня лежала долго, не зажигая огня, пока устремленный в сумрак взгляд ее не устал и веки не погасили его. Таня как будто не дремала, готовая чутко встать на голос матери или на звук ее шагов. Однако она не услышала их. Мать потрясла ее за плечо. Таня очнулась. Огонь уже горел, но сон не отошел от нее, и среди смутных предметов и чувств, окружавших ее во сне, увидела она склоненное над собой лицо матери. Оно тоже было смутным, точно тень покрывала его, и выражало оно такое же смутное волнение и недовольство, а взгляд стоял неподвижно на одном месте. И Тане вдруг показалось, будто рука матери поднимается над ней для удара. Она вскрикнула и села. Мать же только хмурилась. 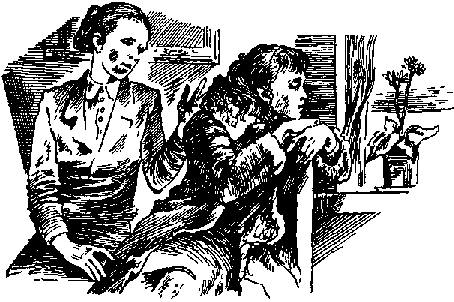 – Зачем ты спишь в одежде? – сказала она. – Встань, ведь я просила тебя этого не делать. Но не об одежде думала мать – Таня видела это… – Встань, – повторила мать, – и выпей чаю. Я только что была у директора в школе. Меня вызывали. Встань же, мне надо с тобой поговорить. А Таня не шелохнулась, не встала. Она сидела, уцепившись за край деревянной кровати, и мать опустилась рядом с ней на постель. Она чуть прикоснулась к Тане. Но и в этом легком прикосновении она почувствовала все огорчение матери. – Как же так все у тебя случилось? – спросила мать. – Это неправда, – ответила Таня. – Неужели ты поверила? И голос Тани был приглушен, будто затуманен ее долгим молчанием. Она сегодня не сказала и двух десятков слов. – Я не поверила, и никто не поверил, кроме Аристарха Аристарховича. Он требовал даже, чтобы тебя исключили. – Почему? – глухо спросила Таня. – Он смешно говорил об этом, – сказала мать. – «Ибо потому, – говорил он, – что ты засоряешь детские кадры». Да, он очень смешно говорил об этом, – повторила мать и сама улыбнулась немного. А Таня нисколько не улыбнулась. Мать продолжала. – Но у тебя много друзей – этому я рада, и Александра Ивановна тебе друг, и директор у вас добрый и умный человек, хотя он очень сердился на твоего отца. – Разве и папа был там? – спросила Таня с испугом. – Да. Мать прикрыла глаза, лицо ее как будто осунулось за этот вечер. – Не эта история с газетой огорчает меня, Таня, – сказала она тихо, – но ты: ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной: про Колю, про твое странное поведение и странные желания, за которые дети прозвали тебя дикой собакой динго. А дома ты теперь всегда молчишь. Неужели ты боишься меня, или не уважаешь, или не любишь? Ответь мне. Таня повела головой. Ей трудно было говорить. – Я всегда одна, я всегда сама, – еле слышно сказала Таня. И добавила еще тише: – Почему отец ушел от нас? Кто виноват в этом, ответь мне. Теперь мать молчала минуту-две, может быть, больше. И Таня ни разу не посмотрела ей в лицо: не хватило духу это сделать. Но вдруг она услышала ровный и спокойный голос матери. Ни один звук не дрожал на ее губах. – Таня, – сказала мать, – люди живут вместе, когда любят друг друга, а когда не любят, они не живут вместе – они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена. Тогда Таня решилась посмотреть на мать, сначала осторожно, снизу вверх, повернув шею, как маленькая птичка, которая, прежде чем сняться с ветки, ищет, нет ли в небе опасности. Мать сидела неподвижно, высоко подняв голову. Но лицо ее выражало страдание, словно кто-то пытал ее долго словами или железом – все равно, но только ужасной пыткой. «Кто это сделал?» – подумала Таня с болью, внимательно вглядываясь в лицо матери. А с этого бледного лица смотрели на нее самые прекрасные в мире глаза – глаза ее матери, до краев наполненные влагой; она блестела на зрачках, и под ресницами, и в углах ее темных век. – Не уехать ли нам лучше, Таня? – сказала мать. Таня схватилась за грудь. – Мама, – крикнула она с изумлением и с глубокой жалостью, – ты любишь его до сих пор! Она обхватила рукою голову матери, горячей щекой прильнула к ее волосам, обдавая их своим детским дыханием. – Мама, не слушай меня, не слушай, родная! Я ничего не понимаю больше. Все кружится передо мной. И в эту минуту почудилось Тане, что весь мир в самом деле кружится над ее головой. Он показался ей странным, как тот непонятный шар, о котором поет в своей песне юный Максим: Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, – то матовый, словно вечерний туман за окном, то лазоревый и блестящий, как родная река, освещенная солнцем с утра, как сад и поле, которые она видела во сне. Крутится, вертится – хочет упасть… – Мама, не надо уезжать отсюда, – шептала Таня, плача вместе с матерью. XX – Бывают разные виды любви, – сказала толстая девочка Женя. Она сидела в своей комнате с Таней у окна, перед большим аквариумом, наполненным свежей водой. Они не враждовали больше. И обе девочки смотрели сквозь стекло и воду на улицу, где за окном давно уже стояла весна. Но вода и стекло искажали ее. Маленькие плененные рыбки хвостами раздробляли огромное солнце, вольно плывущее мимо, и на тонких лучах, как на канатах дивные плясуньи, танцевали над забором пылинки. Старый медник кричал на перекрестке, стучал по железному рельсу, и Тане казалось, что это он вместе со своим железом принес в город на плечах весну. – А ты любила когда-нибудь? – спросила Таня. – Любила, – ответила Женя, – только это было давно, еще в третьем классе. – Но как же ты узнала об этом? – Очень просто. Он просит, бывало: «Женя, покажи мне задачу». А я знаю, что показывать нельзя. «Не буду», – говорю себе. Но он скажет: «Женя, я больше не буду дразнить». Ну и покажешь. Ничего с своим сердцем поделать не могла. А теперь прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила. Решила – довольно! – Но как же ты это сделала? – с любопытством спросила Таня. – Очень просто! Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю – и забуду. Таня разогнула спину, но не перестала смотреть на стекло и на воду, потом без улыбки остановила внимательный взгляд на подруге. Всей душой позавидовала она ее круглым щекам, ее трезвой голове, полной столь удивительных мыслей, и вздохнула. И губы ее, сложенные для вздоха, издали тихий свист. – Не свисти, – сказала Женя, – это приносит несчастье в дом. И Таня сдержала дыхание в этом доме, где зимой расцветали царские кудри и среди тонких водорослей жили золотые рыбы. Обе они помолчали. – Да, это правда, – сказала Таня, – бывают разные виды любви, – и внезапно ушла, не промолвив больше ни слова. А старый медник все продолжал кричать на перекрестке, звенеть железом, и за окном стояла весна. В рощице за домом Тани тоже стояла весна, та же самая. Она подняла траву у подножия каменных березок, свежим мхом согрела корни синих пихт. И пихты покачивали своими густыми, тяжелыми ветвями, сами на себя навевая теплый ветер. Таня окликнула Фильку. Он ответил ей с дерева, болтая босыми ногами. Своим острым, как шило, ножом чинил он карандаш, а на коленях лежали тетради и книги – тяжелый для мальчика груз, под которым гнулась не только его голова, но и качались как будто вершины деревьев, весь лес ходил вокруг ходуном. 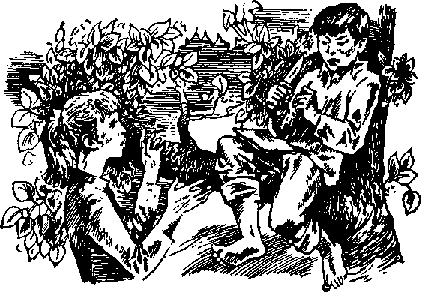 Он учился усердно. И Таня с того страшного дня на реке не покидала его. Они занимались вместе, и ее резвая память приходила им на помощь обоим. Таня схватилась за толстый сук, подпрыгнула и тоже взобралась на дерево. Это была даурская береза, почти без листьев, выросшая криво над землей. Так удобно было сидеть на ней рядом! – Завтра последнее испытание, – сказал с укоризной Филька, – а ты уходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает. И он пропадет. Я даю тебе слово. И, может быть, чтобы он не пропал, ему нужно учиться, – с горечью заметил Филька, – а тебя, когда надо, нет. – Филька, – сказала ему Таня, – ты бы мог и один выучить эту теорему за час, пока я ходила к Жене. – А что ты скажешь, – с грустью возразил Филька, – если я ее учу, учу, а она катится от меня, как на колесах? – Тогда начнем скорей. Таня, протянув руку, взяла у Фильки свою тетрадь. – Если две окружности имеют общую точку… – сказала она, глядя на кипевшую от ветра листву. Но Филька все продолжал чинить карандаш, и охотничий нож его сверкал на солнце, точно крыло лесного голубя. – Нет, подожди, – сказал он, – ты скажи мне сначала всю правду. В самом ли деле пойдешь ты сегодня на рассвете с Колей на мыс? – Я сказала тебе правду. – И для этого надела ты свое нарядное платье и не жалеешь его нисколько? – Да. – А если Коля испугается и не придет на мыс? – Он придет, – сказала Таня, не отрывая глаз от листвы. – А если отец узнает? – Он не узнает. – Ты не боишься разве, что кто-нибудь скажет ему? Таня пожала плечами: – Кроме тебя, никто не знает. А ведь ты не скажешь. Но она все же взглянула на Фильку с подозрением: не смеется ли он. Но никогда в жизни Филька не был так серьезен. – Я знаю это место, – в раздумье сказал он. – Там на заре всегда пасутся фазаны. Хорошо их стрелять по утрам… Но ты не ходи. Я тебя, как девочку, прошу. – Нет, я пойду, – ответила Таня. И по голосу ее Филька понял, что и Тане доступно упрямство. Все, что мог он спросить, то спросил; все, что мог он сказать, то сказал. Что еще осталось делать? Он молча посмотрел на Таню. Солнечный свет горел на ее лице, на руках, на легком, красивом платье, которое она не боялась испортить. И он подумал: «Напрасно, однако, я все это спрашивал. Она ничего не боится». И в эту минуту в глазах Тани он увидел необычайный страх, которого никогда не видел ни во взгляде ее, ни на ее лице. Он отодвинулся с невольным испугом: – Что с тобой? – Гусеница!.. – крикнула Таня. Она оттянула платье на шее, крепко сжав его в узелок, и с ужасом повторила несколько раз: – Гусеница, гусеница! Вот она здесь. Противно! Режь скорей! Самую малую долю секунды Филька колебался, глядя на свой нож, которым добывал муравьиный сок, и резал серу, и делал столько приятных для Тани вещей. И вдруг, взмахнув им, отхватил изрядный кусок Таниного платья. Ничего не испытывая, кроме страха и отвращения, Таня в первое мгновение все еще сжимала в руке отрезанный кусок ткани, затем медленно развернула его. Вместо страшной гусеницы на руке ее лежал обыкновенный сучок. Страх на лице Тани сменился недоумением, недоумение – отчаянием, когда она увидела на своем платье огромную дыру. Она всплеснула руками: – В чем же я теперь пойду? Зачем ты это сделал, Филька? – Нарочно, – сказал он, – хотя ты сама меня об этом просила. Но, может быть, ты теперь не пойдешь на мыс? – Все равно я пойду. Я пойду, я пойду! – закричала Таня и, спрыгнув с дерева, скрылась, утонула в роще. И Филька не успел даже заметить, как исчезла она меж черных и белых берез. Словно вихрь умчал от Фильки друга. Он остался на дереве один. Геометрия, лежавшая у него на коленях, упала в траву. Полосатый бурундук, самый любопытный из всех живущих в этой роще под корнями даурской березы, подошел к упавшей книге и остановился перед ней. В передних лапах он держал орех, который нес в свою норку. Филька сердито запустил в бурундука ножом. И острый нож вонзился в землю перед самой мордой зверька. Бурундук уронил орех и тоже исчез. А Филька медленно сполз с дерева. Он поднял орех, положил его на ладонь и взвесил – орех был полный. Филька некоторое время смотрел на него без движения, все думая о Тане, и затем, решив, что все-таки каждый орех должен быть раскушен, громко разгрыз его. XXI Ночью город спал. И хотя каждый звук, раздающийся вдалеке, кажется ночью близким, но нечего было слушать в безмолвии города. Никто не ходил по его улицам. Только Таня продолжала свой путь. Однажды она ходила уже в эту пору и по этой дороге. Но тогда рядом шел Филька, он нес ее удочки на плече. Оба они немного дрожали от холода, потому что была осень и на рассвете листья срывались и догоняли ветер, не касаясь земли. И звезды горели тогда только на самом краю горизонта. А теперь они не уходили с неба, дожидаясь зари, чтобы дружно покинуть его. И пока они горели в тишине, Таня все шла одна при их свете, направляясь к лесистому мысу. Она вошла в лес и выбрала себе широкую тропинку, где было светлее, чем под деревьями. Длинные корни и тени лежали на пути. Но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее немного, задевая лицо. Она отстраняла их рукой. Она была задумчива. Она думала: что делать, если Коля скажет ей о любви? Что делать? Вчера он пришел к ней и сказал: «Приходи. Я прошу тебя, приходи ради меня. Ведь я еще не видел как следует рассвета в лесу. Приходи». И вот через мгновение она придет. Что делать? Что делать вообще, когда тебе говорят о любви, а у тебя есть мать, для которой ты в жизни одна, и нет у нее никого больше? Она слегка дрожала, думая об этом, и куталась в докторский халат своей матери, который надела тайком. А лес уходил все дальше, ведя ее по своим тропинкам к мысу, где были рассеяны огромные камни. Коля выбрал себе место среди них. Он сидел и ждал, глядя в сторону леса. А под угасавшими звездами уже белел песок и, словно под дождем, блестели камни. Таня появилась перед ним внезапно. Он не узнал ее в белом халате и бросился прочь от нее. Таня окликнула его по имени. Он отозвался. Но смущение его не прошло сразу. Время тянулось медленно. Они в полном молчании шли назад к опушке, где, словно веретена, окутанные пряжей, стояли в дыму остроконечные ели. Они выбрали лиственницу с широкими ветвями и остановились под ней. – Зачем ты надела этот халат? – спросил Коля. Таня ответила: – У меня нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе. – Зачем ты говоришь о своем красивом платье, я его совсем не помню. Я думаю только о тебе. – Всегда? – спросила Таня. – Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно. – Да, это странно, – сказала она. Потом они присели у подножия лиственницы и прислушались к треску ветвей над головой. Это просыпались птицы в своих убежищах. Над вершиной ближней ели замахала крыльями кедровка и улетела, оставив за собой в темном воздухе смутный след. – Это очень странно, – повторила Таня, следя за ее полетом. – Вот она провела среди ветвей, тут, на ели, долгую ночь. А теперь на заре улетела… Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда, и тогда, когда меня здесь не будет? Скоро я уеду. Коля потихоньку вскрикнул. Он не постеснялся крикнуть, услышав эти слова, в одну секунду перевернувшие всю его душу. Таня же, сколько было сил, старалась сдержать свой голос. – Разве ты хочешь уехать отсюда? – спросил он. – Да, я так решила. Пусть отец остается с тобой и с тетей Надей – она ведь тоже добрая, он любит ее. А я никогда не покину маму. Нам надо уехать отсюда, я это знаю. – Но почему же, скажи мне? Или ты ненавидишь меня, как раньше? – Никогда не говори мне об этом, – глухо сказала Таня. – Что было со мною сначала, не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля… – Нет, нет! – в волнении закричал он, перебивая ее. – Я хочу, чтобы и ты была счастлива, и твоя мать, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы были счастливы все. Разве нельзя этого сделать? – Может быть, можно, – в раздумье ответила Таня, – не знаю. И она замолчала, думая о своем собственном счастье, и о счастье отца, и о матери. Она сидела тихо, прижимаясь спиною к темному стволу широкой лиственницы, точно ей хотелось опереться о нечто более незыблемое, более надежное, чем ее неясные мысли, смутно толпившиеся в уме. Но и лиственница слегка колыхалась под силой предрассветного ветра. Он шел от реки по вершинам, раскачивая их. Рассвет катился за ним, как прибой, ударяясь в отвесную стену леса. А в небе над рекою не было уже ни одной звезды. – И мне бы хотелось, чтобы все были счастливы, – сказала Таня, неотступно глядя вдаль, на реку, где в это время поднялось и дрогнуло солнце. – И вот я пришла к тебе. И теперь ухожу. Прощай, уже солнце взошло. И Таня поднялась с травы, повернулась спиною к реке и пошла по лесу, не разбирая дороги. Коля догнал ее на тропинке, где в стороне среди елей тихо стояли кедры. – Таня, не уходи! – крикнул он. – Разве сказала ты мне все? Разве это все? – Конечно, все, – ответила она с удивлением. – А разве еще что-нибудь нужно тебе, Коля? Он не осмелился посмотреть на нее нежно: он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием. Тогда он наклонился и приблизил свои губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо со всех сторон. И в то же мгновение два громких выстрела прошлись в тишине по лесу. Потом в горах был отзвук. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей. Они разбежались в испуге. А фазан начал биться в траве и замер. И другой фазан, с белыми ушами, пролетев немного косо, зигзагами, мертвый припал к земле возле Тани. Из-за толстых елей вышел на тропинку отец, а за ним появился Филька. У обоих были ружья в руках, и голубой дымок кружился над их головами меж деревьев. – Чудесно! – сказал отец. Таня бросилась к отцу. Он как будто нисколько не был удивлен, видя ее здесь, в лесу. Он ласково взял ее под руку и сказал: – Дети, пора вам домой. Сегодня последний экзамен. Филька же подобрал тяжелых птиц и, вместе с ружьем закинув их за спину, остановился рядом с Колей. – А мы, брат, здесь охотились, – сказал он. – Много фазанов пасется по утрам на мысу. Коля дрожал всем телом. Филька снял свою куртку и накинул ему на плечи. Он взял его тоже под руку. Но тропинка была узка для двоих. И они пошли друг за другом, а Таня с отцом впереди. Она прижималась к нему все тесней, чтобы плечом не сбивать росы с деревьев. Изредка она поднимала глаза и смотрела ему в лицо. А он шагал по тропинке прямо, не боясь росы и стуча каблуками по корням. Он не вертелся, не кружился по лесу. Он был прост. Он улыбался ей и держал ее крепко. – Как ты похожа на мать в этом белом халате! – сказал он. А Таня вдруг подняла руку отца, положила к себе на плечо так, как она лежала в первый день их встречи. Затем погладила ее, поцеловала в первый раз. – Папа, – сказала она, – милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь понимаю все. Никто не виноват: ни я, ни ты, ни мама. Никто! Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви. Правда? – Правда, – сказал он. – Простишь ли ты мне когда-нибудь мою злость? Я больше не буду сердиться. А ты, – тихо спросила Таня, – не сердишься на меня, что я была тут, в лесу, с Колей так рано? – Нет, моя милая Таня. Я ведь тоже знаю: хорошо в лесу на рассвете! XXII Уже не было весны. Обмелела у берегов река, выступили камни, и еще до полудня нагревался на прибрежье песок. Блеск над водой стал острее, мельче. Летний зной ударял теперь прямо в горы, и по горячим токам воздуха медленно поднимались в вышину орлы. Только с моря долетал иногда чистый ветер, заставлявший вдруг ненадолго прошуметь леса. Таня в последний раз обходила берег, прощалась со всеми. Она шла по песку, рядом со своею тенью, и река бежала у самых ее ног, – как друг, провожала она Таню в дорогу. Длинная песчаная коса преградила им обоим путь. Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой. Где он теперь? Целое утро ищет она его повсюду напрасно. Он убежал, не желая прощаться с ней. Ни здесь, ни там не может она его найти. Не она ли сама виновата? Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не менять! Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительный в дружбе. И теперь, покидая милые места, Таня думала о нем с благодарностью, упорно искала. – Филька, Филька! – крикнула она громко дважды. И ветер отнес ее голос на самый край косы. И там, из-за песчаной гряды, вдруг поднялся Филька и встал на колени у воды. Таня побежала к нему, погружая свои ноги в песок. – Филька, – сказала она с укоризной, – мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. Что ты делаешь тут, на косе? – Так, ничего, мало-мало, – ответил Филька. – Мало-мало лежу. Слова его были тихи, глаза чуть приоткрыты. И Таня посмеялась над его скорбным видом. – Мало-мало, – со смехом повторила она и вдруг умолкла. Он был без майки. И плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни, а на груди, темной от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно. Она прочла: «ТАНЯ». Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем ушел бы в горы, но позади стерегла его река. А Таня все шла за ним, шаг за шагом. – Да постой же, Филька! – говорила она. И он не пошел дальше. «Пусть, – решил он. – Пусть видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга». Но Таня смотрела не на него. Она взглянула на солнце, на блеск, рассеянный в воздухе над горами, и повернула пустые руки Фильки к себе. Она была удивлена. – Как же ты это сделал? – спросила она. И в ответ Филька молча нагнулся к земле и вынул из-под кучи одежды, сложенной им на песке, четыре буквы, вырезанные из белой бумаги. Он наложил их на грудь и сказал: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||