 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чапек Карел :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: Рагнарёк :: Скандальная леди :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Бегущая по волнам :: Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Суке :: Отречение :: Ассистенты :: Опаловый кулон :: Авитаминоз |
ЛунинModernLib.Net / Биографии и мемуары / Эйдельман Натан / Лунин - Чтение (Весь текст)
Натан Эйдельман Лунин …В те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин… в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего изготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных… В этом деле мы решительно были застрельщиками, или, как говорят французы, пропалыми ребятами.  Часть 1 ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ I 1. «Милостивому государю батюшке, действительному статскому советнику и Тверского наместничества Палаты гражданских дел Председателю Никите Артамоновичу Его превосходительству Муравьеву в Твери от сержанта Михаилы Муравьева из Петербурга. Милостивый государь батюшка Никита Артамонович! Получил письмо Ваше через Ивана Петровича Чаадаева, к Вам же в Тверь отправляется Николай Михайлович Лунин. Сейчас иду я к нему с письмами, прельщен случаем моего знакомства… Матушка сестрица Федосья Никитишна! Где ты? Я вить право не знаю — здравствуй же, Фешинька, где ты ни есть — письмо без «здравствуй» все равно что ученье ружейное без «слушай!». Желаю тебе здоровья, это пуще всего, а после — веселья, что со здоровьем всегда не худо. У нас, сударыня, были веселья, маскерады. Съезжались в театре в харях и сарафанах и представили французские актеры трех султанш… То-то хорошо, сестрица. В городе намедни и великолепные балеты: один предлинный новый дансер господин Лефевр выступает как журавль. Вакадемиипрошлидиоптрику… Eh bien. Comment ca va?.. Et mon cher vieillard ce nouveau marquis m-r de Voltair, s'accoutume-t-il aux facons de Tver? Et son confrere m-r Marmontel aussi? Je leur souhaiterai la barbe… [1] В Париже ныне мущины убираются в две пукли в ряд над ухом, а третья, как женщины носят, висячую за ухом. Это постоянные, а щеголи — по восьми на стороне… Нынешнее число срок векселя Елизаветы Абрамовны: прежде Ганнибалы хотели к ней писать, а нынче они и все разъехались, большой — к своей команде, а Осип Абрамович — в отставку, теперь поехал в Сюйду… Из Устреки на сих днях приходил Данила Дмитриев и принес оброку 37 рублей 10 копеек. К Яковлеву пригнана целая лодка крестьян на продажу… А я тебе скажу, что сделалось со мной. Заехал я в театр с Гараской за спиной, Я вышел: мальчик мой подъехал близ другова И стал: вдруг скачет паж: ты чей? Я Муравьева. Кто барин твой? Сержант. Которого полку? Измайловской-так, так, я тотчас побегу. Туда, сюда, назад, я был у господина, Он был без места там, я ложу дал ему, Он свесть меня велел к местечку вон тому — Скок в сани, возжи взял, и ну! Ступай, скотина… Я разъезжаю в карете и сыплю деньги полными руками… Голова моя вскружена на том, чтоб быть стихотворцем, но лень. Лень учиться и чувствовать. Должно ли истратить чувствительность, прилепляясь к минутным ощущениям? Из пути нашей жизни выбирать единые терния и проходить розы, не насладясь ими? Добродетели, вера, философия, природа, дружество, науки — сколько утешений!. Вы изволите мне оказать свое удовольствие, что я по-итальянски морокую, а я того к вам не писал, что я купил Тасса и дал две монеты… Сказывают, что государыня пожаловала 50 тысяч рублей Григорию Григорьевичу Орлову… Недавно видел я стихи г. Рубана к Семену Гавриловичу Зоричу, за которые получил от государыни золотую табакерку с пятьюстами червонных. Не можно вообразить подлее лести и глупее стихов его. Со всякого стиха надобно разорваться от смеху и негодования… Вчера был и братец Иван Матвеевич, и дядюшка Матвей Артамонович, и Николай Федорович[2], и Захар Матвеевич, так Муравьевых был целый муравейник… Имею честь поздравить с общею радостью нашего отечества, с рождением сына Александра великому князю позавчера 12 декабря в три четверти одиннадцатого поутру. Уверьтесь, батюшка и сестрица, что я счастлив вашим спокойствием и удовольствием. Я здоров, спокоен и празден…» Пачки и тетради писем, исполненных свободным екатерининским почерком Михаила Никитича Муравьева и старинной скорописью папаши Никиты Артамоновича, хранятся теперь в Отделе письменных источников Исторического музея в Москве [3]. Веселые годы, счастливые дни, 1776, 1777-й… Больше 20 лет пройдет, прежде чем беззаботный гвардии сержант и сочинитель Михаила Никитич Муравьев станет отцом декабристов Никиты и Александра, а юной тверской сестрице Федосье Никитичне (Фешиньке) еще 10 лет не быть матерью Михаила Сергеевича Лунина. Совсем еще зеленые кузены Иван Матвеевич и Захар Матвеевич скоро выйдут в офицеры, и не скоро, но в свое время, «для батюшек царей народят богатырей». Иван Матвеевич — троих Муравьевых-Апостолов — Матвея, Сергея, Ипполита. Захар Матвеевич — Артамона Муравьева. Семь декабристов из одного «муравейника», не считая более отдаленной родни. Все будет, но ничего этого и никого из этих еще нет. И пока еще Яковлевы, предки Герцена, пригоняют лодку крестьян для продажи, Иван Петрович Чаадаев и Николай Михайлович Лунин не подозревают, сколь примечательные они дяди, а Осип Абрамович Ганнибал отнюдь не ощущает себя знаменитейшим из дедов… 2. Вольтер и «ступай, скотина», Торквато Тассо и «хари», 37 рублей оброку и академия с диоптрикой, просвещение и старина соединяются, разъединяются, сталкиваются и отталкиваются, образуя пестрые ситуации, характеры, стиль… «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Пушкин запишет эту мысль через полвека. Самодержавие и просвещение — в принципе две вещи несовместные. Просвещая, Петр подводит мину под всевластие Романовых, но мину замедленную: на его век и на ближних потомков хватит. Более просвещенные будут покамест слушаться даже лучше, чем прежние невежи, петербургская дубинка крепче московской… 12 ноября 1734 года флотский лейтенант Михаил Плаутин доносил на Григория Скорнякова-Писарева: «Сего ноября 11 дня Писарев рассказывал мне, будто он сочинитель геометрии и механики, и на то я ему сказал, что науки геометрии сочинитель Евклид, на что он сказал, что будто ему, Писареву, в честь оная геометрия напечатана на имя его… И по его приказу принесена геометрия письменная, а не печатанная и то не его руки. Тако же и фигуры в той книге — те, которые авторов сочинения, а не его, Писарева… И на оное он, Писарев, с великим сердцем мне закричал, что ты-де не веришь за своей спесью, отчего-де потерял свой смысл, не зная ничего, и знаю-де, какой ты человек! На что я ему говорил, что я беспорочный человек и не унижаюся…» Из жалобы видно, что «дело дошло было до шпаг». Плоды просвещения: разве лет за 50 до того дворянин взялся бы за шпагу, доказывая, что геометрия и сами фигуры — не евклидовы, а его собственные? Скорняков-Писарев норовит окончить спор увесистым «а ты кто таков?». Но оппонент, не оробев, разит постулатом — «лучше донести первым, чем вторым». 3. «Гей, Андрей Иванович!» — кричала, бывало, императрица Анна Иоанновна — и все знатные, богатые и просвещенные бледнели, потому что начальник Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков мог тут же увести любого Воронцова, Голицына, Скорнякова-Писарева и Евклида под кнут, на дыбу, к раскаленным щипцам и другим предметам первой государственной необходимости. Наука Андрея Ивановича, впрочем, в ту пору тоже совершенствовалась. Сохранился даже ученый труд «Обряд как обвиненный пытается» (где, между прочим, рекомендуется, «наложа на голову веревки и просунув кляп, вертеть так, что пытанный изумленным бывает» ). Сам фельдмаршал Миних пал, отстаивая просвещенный застенок против невежественного: строго, по законам геометрии и фортификации, начертил план дома-тюрьмы для свергнутого Бирона. Но тут взошла на престол Елизавета Петровна и пожелала непременно упрятать в Сибирь самого фельдмаршала, который когда-то арестовал любезного ей Алешу Разумовского. Миниха долго и нудно допрашивали, пока он не велел судьям «записывать ответы, какие сами хотят», что и было сделано. Знатока фортификации отправили в тот самый дом-тюрьму, который теперь освободил Бирон. «Не строй ближнему дом-тюрьму…» Впрочем, Миних и в Сибири не пренебрег просвещением: продавая молоко от своих коров, обучал детей латыни. 4. Постепенно сошли со сцены деды Михаила Муравьева, которые про Торквато Тассо еще слабо «морокали» и диоптрику изучали из-под петровской дубинки. Петр I не страшился народной свободы — неминуемого следствия просвещения, но просвещение, тихонько внедряясь, неминуемо требовало освобождения для начала дворянских душ. «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести, очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли в опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри» (Пушкин). Бояр перебили, согнули, излечили от «блеска безумия», но свободный тип — умножался. 5. Петр III, объявив, что ночью будет заниматься государственными делами, с секретарем Волковым, отправился к любовнице, а Волкову велел не выходить и писать что угодно. Секретарь составил закон о дворянских вольностях и утром подсунул императору на подпись. Так появилась бумага, которой ждали сыновья-внуки птенцов гнезда Петрова и отцы-деды декабристов: можно не служить, жить в имениях, владеть крепостными, не платить податей и не быть биту ни кнутом, ни плетью. «Закон, которым наши предки столь гордились и которого скорее следовало бы стыдиться» ; Пушкин находил, что дворянству дарована не подлинная свобода — «неминуемое следствие просвещения», а развращающая свобода крепостника и вельможи. Но все же впервые за века издавался закон, запрещавший бить хотя бы часть российского населения. И вольные деды принялись забавляться. 6. 28 июня 1762 года кирасирский полк держался присяги Петру III, гвардейцы же, восклицая «да здравствует Екатерина!», шли навстречу. Раздайся хоть один выстрел, все бы заколебалось и неведомо чем окончилось. Но гвардеец подошел к кирасиру, что-то прошептал на ухо, и все… 28 июня — не 14 декабря: быстро свергли Петра III; главный расход — водка для гвардии; погиб всего один человек — Петр III, убитый через неделю. На престоле — София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская и Бернбургская. В переводе на русский язык — Екатерина II. 7.«Наука процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось — великой революционной идеей все еще были реформы Петра… Власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация… Их союз даже в XVIII столетии удивителен». Герцен еще не раз заметит, что примерно до начала XIX века многие «лучшие люди» шли вместе с властью. Екатерине служили способнейшие. Ее орлам прощались все пороки, кроме одного — бездарности. Отсюда победы и блеск… Михаил Никитич Муравьев «разрывается от смеху», читая панегирик Зоричу, очередному фавориту царицы, но сам служит этой царице охотно и хорошо, а через несколько лет займет высокие должности. Когда батюшку Никиту Артамоновича сделают сенатором и тайным советником, сын поздравит: «Будучи сенатором, Вы будете тем наслаждаться, что более получите способов нам добро делать» . Дяди Лунина только что отличились при подавлении Пугачева. Вельможа-поэт Державин восхищен: ему «и знать, и мыслить позволяют!..». Но когда пройдет век Екатерины и «дней Александровых прекрасное начало», тогда «лучшие люди» и власть разойдутся. Будущие Михаилы Никитичи со своей просвещенной чувствительностью либо в деревнях отсидятся, либо запротестуют, а в министры и сенаторы пойдет сосед, обладающий всеми достоинствами, кроме таланта. Разумеется, без Гараски за спиной и оброка из Устреки не смотрел бы гвардии сержант, как выступает журавлем дансер Лефевр. Допетровская «толстобрюхая старина», понятно, обходилась мужикам дешевле, чем «пукли над ухом» и «три султанши», так же как боярин с бородою был понятнее барина в парике. Но история забавляется противоположностями, и без Муравьевых, которые просвещаются, никогда бы не явились Муравьевы, «которых вешают». Прямо из времен Бирона и «гей, Андрей Иваныча!» никогда бы не явились Пушкин и декабристы.  М.Н. Муравьев (1757-1807) Василий Осипович Ключевский заметил о времени после Ивана Калиты: «В эти спокойные годы успели народиться и вырасти целых два поколения, к нервам которых впечатления детства не привили безотчетного ужаса отцов и дедов перед татарином: они и вышли на Куликово поле». Два поколения екатерининских дворян также избавляются от отцовских и дедовских страхов, хотя и не помышляют «на Мамая». Два небитых дворянских поколения — без них и Пушкин был бы не Пушкин, и Лунин — не Лунин. II 1. «Тамбовского наместничества в Кирсановской округе в селе Никольском Его высокородию господину бригадиру милостивому государю моему Сергею Михайловичу Лунину от тайного советникаНикиты Артамоновича Муравьева и гвардии капитана Михаила Никитича Муравьева из Петербурга. 1788 года сентября 25. Мы нетерпеливо желаем слышать о благополучном приезде вашем во своясы… На вашем месте я бы имел случай наслаждаться спокойствием и сном и возвратился бы в город гораздо толще, чем поехал… Поцелуем мысленно наших сельских дворянина и дворянку, их Алексашу и Мишу, пожелаем им здоровья, веселья, теплых хором, мягкой постели, добросердечного товарища, наварных щей и полные житницы». Михаил Никитич за десять лет из сержанта вышел в капитаны, из вольного слушателя и читателя — в одного из воспитателей царицыных внуков, Александра и Константина. Фешинька же стала Луниной, родила Сашеньку (вскоре умершего) и Мишеньку. Точная дата рождения Мишеньки — 29 декабря 1787 года — стала известна сравнительно недавно[4]. Место же его появления на свет — Петербург, откуда осенью 1788-го Лунины пустились в двухнедельный путь к тамбовским имениям. Отец и брат беспокоятся за «помещицу Лунину», она опять на сносях, и 30 марта 1789-го уж поздравляют «с Никитушкой». 2. Михаил Муравьев из Петербурга — Луниным в Никольское. «Я разделял отсюда ваши сельские забавы, путешествие в Земляное, обед на крыльце у почтенного старосты и радостные труды земледелия, которыми забавлялся помещик… Воображаю — маленькие на подушках или по полу, или по софе. Мишенька что-нибудь лепечет: Сладкие слова, папенька и маменька. Никитушка учится ходить, валяется. У Сережи в голове ищут, Фешинька speaks english[5]. Все мои надежды на мисс Жефрис, и я опасаюсь, чтоб Мишенька не стал говорить прежде матушки и прежде дядюшки, который довольно косноязычен… Читаются ли английские книги, мучат ли вас «th» и стечения согласных, выговаривает ли Мишенька «God bless you»?[6]Английские книги (Стерн, Филдинг, etc) идут к вам в Тамбов очень долго. Неужто тамбовские клячи не хотят быть обременяемы английскою литературою из национальной гордости?. О вашем Мишеньке я давно просил уже Николая Ивановича (Салтыкова), и он обещал. Я надеюсь скоро прислать к вам паспорт…[7] Александра Федоровича Муравьева убили крестьяне… Город теперь занят удивительной переменою, происходящей во Франции. 7 июля там было восстание[8]целого вооруженного мещанства при приближении войск, которыми король или Совет его хотели воспрепятствовать установление вольности. Бастилия срыта. Король на ратуше должен был все подписать, что требовалось народным собранием… В Сарском селе праздники по случаю побед над шведом. Наши знамена взвиваются на струях дунайских. Василию Яковлевичу Чичагову пожалованы голубая лента и 1400 душ. Теперь владычество морей принадлежит России, как мне владычество сна и чепухи… Мы видим победителей и градобрателей, и они воздыхают по счастливому преимуществу ничего не делать… Я желаю мира, но это так стыдно, что иной подумает, что я трус… Третьего дни представляли в Ермитаже «Правление Олега», великолепнейшее позорище[9]: 700 актеров, то есть большая часть солдат Преображенских… На маскараде танцевал я со старшей Голицыной, известной в Париже «Venus en colere»…[10]Вчера — на английском балу, позавчера — именины до смерти, сегодня мы обедали в Красном кабачке, и может быть письмо сие иметь будет некоторый остаток впечатления, которое обед сей произвел над нами… В театре сегодня надеюсь увидеть трагедию «Pierre le cruel»[11]. Счастливые люди, которых занимают такие бредни, — скажет Сергей Михайлович. Гаврила Романович Державин кланяется вам. Вы знаете, сколь живое участие он в вас приемлет… Коновницын послан наместником в Архангельск, Лопухин — в Вологду, Каховский — в Пензу, Кутузов — в Казань, Рылеев — в здешние губернаторы. Державин, Храповицкий, Васильев, Вяземский — в сенаторы… А Мишенька и Никитушка — на палочках верхом… В Швецию отправляется послом Игельштром, и сказывают, что король пожаловал его графом и кавалером Серафима. Вы видите, что для всякого возраста есть игрушки. Каждый имеет свою палочку, на которой верхом ездит… Будьте очень богаты, чтобы я вам помог проживаться. Я научу играть в карты Михайлу Сергеевича и влюбляться Никитушку…» «Быть очень богатым и проживаться» отставной бригадир Сергей Михайлович Лунин умел. Покойный отец его Михаил Купреянович (в честь которого назван внук) начал карьеру при Петре I и, ни разу не ошибившись, отслужил восьми царям: был адъютантом Бирона, а потом — у врага Бирона принца Антона Брауншвейгского; Петр III крестил его старшего сына, а Екатерина II утвердила тайным советником, сенатором и президентом Вотчинной коллегии. От такой службы Михаил Купреянович сделался «человеком достаточным» даже по понятиям графа Шереметева, который и обладателей 5000 душ называл мелкопоместными, «удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить»[12]. За Сергеем Михайловичем Луниным, младшим из пяти сыновей, осталось более 900 крестьянских душ в тамбовских и саратовских имениях да еще 1135 рязанских душ, впоследствии, как видно, «прожитых». Даже в канцелярских документах главный центр тамбовских вотчин выглядит поэтически: «сельцо Сергиевское (бывшее Никольское), речки Ржавки на правой стороне при большой дороге. Церковь чудотворца Николая, дом деревянный господский с плодовым садом…» Михаил Никитич Муравьев в сентиментально-карамзинской манере завидует «прелестям сельским и семейственным», презирая праздную негу горожанина, однако сам не торопится в свои немалые деревни и вовсе не столь празден, как изображает: серьезно занимается словесностью, вместе с Новиковым много делает для просвещения, несколько позже станет умным и полезным попечителем Московского университета, затем — товарищем (то есть заместителем) министра просвещения. Спокойная уверенность, что в общем все идет на лад, что должно делать свое дело и со временем просвещение и нравственность преодолеют рабство и невежество… «Военный гром» несколько утомляет его, по просвещенным понятиям — мир и благоденствие дороже; но что ж поделаешь: издержки просвещения, детские палочки a la Мишенька и Никитушка… Правда, «крестьяне убили Александра Федоровича», но для Муравьева — это горькое, досадное исключение. Ведь просвещенный человек может и должен жить в согласии с крепостными, как это, наверное, у милых Луниных. Даже парижские известия не слишком смущают Михаила Никитича. Он широко смотрит… Впрочем, с не меньшим, кажется, спокойствием воспринято известие об осуждении Радищева; среди судей, приговоривших к смерти за «Путешествие из Петербурга в Москву», — сенатор и тайный советник Никита Артамонович Муравьев… В Париже 14 июля 1789-го чернь штурмует Бастилию — на берегу Ржавки Миша Лунин гарцует на палочке и учит первые английские слова. Какая связь? Что общего, кроме цепи времен? Ведь Радищев, 14 июля для тамбовских кущ — рано и неразумно: «Разве все то, что предписывает разум, не есть живое повеление вышнего существа и наша должность? Можно делать милости, садить, строить, кушать хорошо и лучше спать». Счастливое время, которого не много осталось: жить в согласии с самим собою, властью и благородными идеалами. Счастливое время, когда выбор так прост: просвещенная добродетель или безнравственное невежество… И вдруг около 1790-го просвещение расщепляется: ждать или торопить, способствовать или ломать, «садить и строить, чтоб хорошо кушать и спать», — или мятеж, гильотина, «страшись, помещик жесткосердый!..». Прежде чем Михаил Никитич понял, что Робеспьер и Радищев тоже начинали с просвещения, но не пожелали ждать, об этом догадалась Екатерина II и вслед Радищеву отправила за решетку Новикова. А Мишенька и Никитушка все скачут на палочках, и «скоро живописная гора в деревне вашей опять покроется ковром зелени». III 1. Как рассказать о человеке, прожившем на свете около 60 лет-с 1787-го по 1845-й? Наверное, нужно представить его и время: он и другие. Но сколько же других? На сегодня известно около трех тысяч «спутников» Пушкина, но это узкий круг — Михаил Лунин был членом большой дворянской семьи (примерно полсотни близких родственников); тамбовский и саратовский помещик (тысяча крепостных и десятки владетельных соседей); гвардейский офицер (несколько сот офицеров, тысячи солдат); в трех больших войнах — сотни военных, мирных жителей и жительниц, неприятелей; популярный человек в петербургских, московских, варшавских салонах (еще несколько сот светских знакомых); дважды живет во Франции (десятки парижан и провинциалов); арестант, каторжник, ссыльно поселенный (сотни товарищей по заточению, стражников, жандармов. сибирских крестьян, купцов, мещан, чиновников). Это не все еще: только главные «соударения», которые испытывает одна молекула — человек, перемещаясь среди массы молекул — человечества: несколько тысяч непосредственных контактов с другими людьми, но каждый из других — еще с другими… Чем личность грамотнее и непоседливее, тем меньше у нее посредников с самыми дальними. Среди ученых и военных, политиков и коммерсантов, журналистов и дипломатов трудно найти людей, разделенных более чем двумя-тремя звеньями. Расчеты эти, конечно, действительны для 3 миллиардов землян (вторая половина XX века) и для тех, кто вместе с Михаилом Луниным составляли человечество конца XVIII — начала XIX столетия (1800 г. — 900 миллионов, 1850-й — 1200 миллионов). Лунин встречался с членами царской фамилии — значит, одно, максимум два звена до всех царственных особ Европы. Аристократ, гвардеец. Одно-два звена до любого русского и западного дворянина. До китайского императора Даогуана или таитянского короля Помарэ — два, максимум три звена (через приятелей — ученых и военных). Выходит, наш герой был более или менее накоротке «со всем XIX веком»; но мало того… «1 декабря 1781 года старая графиня Румянцева, танцевавшая когда-то с Петром Великим, удостоилась протанцевать польский с одним из правнуков его, великим князем Александром Павловичем…» Кроме царя Александра I, Лунин знал еще десятки, может быть, сотни лиц, от которых до Петра I «рукой подать». Да и до наших дней не так уж далеко. Я знаю нескольких пожилых людей, которые беседовали со старшим сыном Пушкина. Александром Александровичем. Последний хоть и смутно, но помнил Александра Сергеевича: всего два звена до Пушкина. А от нас до Лунина?.. Ну хотя бы так: Пушкин хорошо знал Лунина, значит, автор и читатели этой книги удалены от героя всего на три-четыре человеческих звена… Арифметика как будто завела в тупик. Необъятного не объять. Даже одну биографию — не исчерпать. История одного — история всех. Но зато все и связано сильнее, чем мы обычно представляем… 2. 27 марта 1791 года дядя и дед Муравьевы «усерднейше поздравляют» Луниных с новорожденной Катенькой. По-прежнему французские бури почти не колеблют идиллические листки, которые с еженедельной почтой отправляются из столицы в село Никольское, Сергиевское тож, и обратно. Михаил Никитич, уж полковник, продолжает уроки с великими князьями и читает Дон-Кихота по-гишпански («дурачество без греха» ), благодарит за гостинцы из деревни, доволен, что в тамбовской глухомани сумели привить всем детям оспу (самой царице привили, а Людовик XV не решился и непросвещенно от оспы помер). Вдруг, преодолев «лень и праздность», столичный Муравьев отправляется через шесть губерний и целых десять дней гостит у сестры и племянников. Последняя сохранившаяся тетрадь писем Муравьевых к Луниным начинается с впечатлений о встрече, случившейся у нового 1792 года. «Вспоминаю счастливое как сон путешествие… Сколько бы мне хотелось знать, что вы теперь делаете! Вспоминаете ли меня моею русскою пляскою и подозрительною нечувствительностью к прекрасному полу, которого я весьма пристрастный почитатель? Сергей Михайлович любил бы меня еще вдвое более, ежели бы мои красноречивые предИки [13]могли поселить в сердце моей и его Фешиньки постоянное желание быть великодушною, менее чувствительною к необходимым скукам жизни… Я буду воображать ваше катание под гору и посещения оранжереи. Я буду мыкаться, по вашей милости, на сером коне… Менее окружен торжествами деспот Азии, нежели я был угощен в Никольском. Я нашел у вас благополучие, спокойствие, здоровье… Эсквайр Никольский, маленький джентльмен Мишенька, рассказывает так же мастерски «his little tales of wolves»[14]? Никитушка так же пляшет и приговаривает Катеньку, которая должна неотменно бегать?..» Остров благополучия среди разгулявшейся на закате столетия истории. Все еще одинокий Михаил Муравьев не может скрыть сильной склонности к «маленькому джентльмену» Михаилу Лунину и просвещенно наставляет сестру, видимо заскучавшую в глуши: «Ежели вы живете в деревне, так это с пользою. Вы управляете счастливыми земледельцами, их прилежанием и щедростью земли. Вы распространяете ваши экономические планы, чтоб накопить, с чем послать на службу старшего эсквайра и ко двору младшего, с чем выдать мисс Китти и прочее…» 3. Затем в тетради длинный — почти на год — перерыв, а 10 декабря 1792 года письмо от петербургских Муравьевых обращено только к Лунину-отцу и детям, и ни слова о Федосье Никитичне. Несколько позже, узнав, что Сергей Михайлович болен и хандрит, ему пишут: «Должно еще вырастить, воспитать, сделать счастливыми и полезными членами общества тех, которые вспоминают вам ежечасно драгоценную память любимой супруги. Она не имела удовольствия увидеть их большими, быть воспитательницею и другом… Мишенька доказывает, что он любит папеньку и помнит маменьку, исполняя должность свою и стараясь сделаться добрым и способным человеком. Никитушка со временем будет догонять своего большего братца, а Катенька вырастет велика, чтоб иметь в них двух друзей, нежных и постоянных…» Дед Никита Артамонович приписывает от себя строки утешения почерком все более дрожащим и неразборчивым. Так разрушилась идиллия: трое детей (старший — пятилетний Миша) остаются без матери, отец хворает, письма из Тамбова невеселы. 4. «Маленького английского дворянина прошу покорнейше поцеловать за меня, за первое письмо его и за то, что он не позабыл своего дяди». Затем следует английское послание старшего Михаила и первое в жизни письмо, полученное «dearest childe»[15], Михаилом-младшим: «Дорогое дитя! Ты доставил мне величайшее удовольствие, прислав несколько строк на языке, которому ты вскоре сможешь меня обучать. Я вижу в этом доказательство твоей дружбы ко мне… Благоволящий к тебе дедушка Никита Артамонович заверяет тебя, равно как и твоих брата и сестру, в своих самых теплых чувствах…» Из столицы пробуют растормошить, ободрить приунывшего Никольского барина: ищут учителей и «русские литеры» для Миши, щедро угощают светскими, семейными, политическими новостями жаркого 1793 года. «Николай Вульф кланяется братцам Мишеньке и Никитушке…[16]Брат казненного короля Франции граф Д'Артуа ожидается в Петербурге… Батюшка изволил крестить у Ивана Матвеевича сына Матвея…[17]Англичанин[Миша], я думаю, занят экономией и разговаривает с бурмистром, а Весельчак[Никита]пляшет с девушками… Крымские и очаковские земли, говорят, хороши — мед и млеко льются повсюду… К батюшке явился сын одного духовного в Берлине. Он приготовлялся к воспитанию и имеет знания в языках французском, английском, латинском, истории, географии, математике, свободных науках. Природный немец… В столице в честь новых присоединенных от Польши губерний — награды, чины, ордена, жареные быки и фонтаны вина для народа, балы, маскерады, фейерверк… Поцелуйте же за меня милых детушек и скажите от меня Катеньке, что я учусь нарочно играть на клавесинах, чтоб быть после ее учителем. Я хочу танцевать на свадьбе Екатерины Сергеевны и видеть Сергея Михайловича утешенного важным именем тестя… Мишенька, конечно, знает много хороших аглинских сказочек и знает, какой главный город в отечестве мисс Жефрис и в какой земле родилась она… По случаю бракосочетания великого князя Александра Павловича подряд праздники у больших бар в честь новобрачных: вчера у Безбородки, завтра у Самойлова, потом у Строгановых, Нарышкиных. Я даю уроки русского языка молодой великой княгине Елисавете Алексеевне». 6 октября 1793 года: «Дни три назад у Захара Матвеевича родился сын и назван по имени дедушки Артамоном, который дядюшке и братцам и сестрицам рекомендуется. Батюшка изволил крестить…»[18] 20 октября 1793 года: «Батюшка был весьма обрадован, так, как и я, получением на нынешней почте первого письма от милого нашего Михаила Сергеевича, препровожденного грамотою от Никитушки… Кажется, что Михаила Сергеевич зачинает исполнять свою должность и подает обещание достойного человека. Батюшке было весьма приятно исполнить его комиссию, сыскать форшрифты, которые он при сем посылает. Чтения аглинские конечно также продолжаются, и я буду иметь удовольствие доставлять аглинские книги. Глубокая осень делает улицы непроходимыми, однако не прекращает веселий…» 27 октября 1793 года: «Сказывают, что королева французская последовала судьбе супруга своего. Сии мрачные привилегии должны служить утешением тем, которые опечаливаются своей неизвестностью и счастливы без сияния. Менее зависти, более благополучия. Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?.. Веселья придворные прерваны трауром по королеве французской». На том кончается пятилетняя переписка петербургских Муравьевых с тамбовскими Луниными. На одном конце действующие лица не переменились, на другом — две жизни начались и одна угасла. Кажется, зимой с 1793 на 1794 год бригадир Лунин с тремя детьми отправляется в столицу — подлечиться и рассеяться. 5.«Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» — эта надпись украшала двери Якобинского клуба. Громадные армии французской революции шагают по дорогам Европы; одинокий помещичий возок ползет между Ржавкою и Невой: трагическое пересечение двух кривых — не скоро, но неизбежно. Бесполезно тонет в шкатулке для старых писем заклинание дядюшки: «Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?» IV 1. «Мой брат и я были воспитаны в римско-католической вере. У него была мысль уйти в монастырь, и это желание чудесно исполнилось, т. к. он был унесен с поля битвы, истекающий кровью, прямо в монастырь „des freres mineurs“[19], где он умер, как младенец, засыпающий на груди матери». Михаил Лунин поместил эти строки — целую главу своей биографии — в письме к сестре, написанном много лет спустя. После шестилетнего мальчика, гарцующего на палочке и радующего дядюшку первым английским письмом, сразу — 18-летний кавалергардский корнет рядом с умирающим 16-летним братом. 12 промежуточных лет почти пусты: в документах более позднего времени изредка мелькает: «Воспитывался у родителей… Учителя французы Вовилье, Картье, Бюте, швейцарец Малерб, англичанин Форстер, швед Кирульф… Окрещен и воспитан с детства в римско-католическом исповедании наставником аббатом Вовилье…» С 16 лет (1803 г.) — юнкер лейб-гвардии егерского полка вместе с 14-летним братом Никитой, в 1805 году оба — эстандарт-юнкеры, затем — корнеты кавалергардского полка. Вот и все. Остальное вычисляется приблизительно: возвращение из Тамбова в Петербург, богатейший дом, поддержка влиятельного и просвещенного дядюшки Муравьева, который в ту пору, наконец, женится (на Екатерине Колокольцовой) и вскоре становится отцом Никиты и Александра… Уроки католических аббатов, которые много образованнее и обходительнее православных коллег; немало знатных детей обучается в лучших католических пансионах, однако далеко не у всех хватает средств приглашать на дом директора известного пансиона господина Малерба. У Сергея Михайловича хватает… Вопросы веры мало занимают старых вольтерьянцев, и отцу Вовилье, как видно, не возбранялось проповедовать что угодно. Может быть, модный при Павле I образ мальтийского рыцаря-крестоносца, монаха-воина, сражающегося за правду, так увлек мальчиков, что у младшего вызвал желание уйти в католический монастырь? [20] Дворянская интеллигентность уже не в первом поколении, просвещение «с веком наравне», немецкая, английская, французская, латинская речь, смелая свобода суждений, укоренявшаяся еще в отцах, — как мог овладеть воображением такого юноши прихрамывающий в науках неповоротливый православный ритор? Чаще всего от подобной стычки веры и просвещения укоренялся атеизм, но случалось — «медь торжественной латыни», магия католичества брали верх. Иногда это проходило, иногда укреплялось — смотря по обстоятельствам. Впрочем, Михаил Лунин хоть и принял с детства римскую веру, но о монастыре в отличие от брата — ни слова… Много лет спустя он будет на свой образец наставлять другого мальчика, другого Мишу, Михаила Волконского, сына декабриста: «Нужно, чтобы Миша умел бегать, прыгать через рвы, взбираться на стены и лазить на деревья, обращаться с оружием, ездить верхом и т. д. и т. д. Не тревожьтесь из-за ушибов и ранений, которые он может получать время от времени, — они неизбежны и проходят бесследно. Хорошее время года должно быть почти исключительно посвящено этим упражнениям. Они дают здоровье и телесную силу, без которых человек не более как мокрая курица… Нравственность педагога не должна производить на нас впечатление. У меня был такой преподаватель философии — швед Кирульф, который позже был повешен у себя на родине[21], — конечно, нравственная сторона есть первенствующее качество, но ее можно приобрести в любое время и без знаний, но для умственного развития и приобретения положительного знания существуют только одни годы. Добродетели у нас есть, но у нас не хватает знания… В мире почти столько же университетов и школ, сколько и постоялых дворов. И тем не менее мир наполнен невеждами и педантами…» 2. Теперь, чтобы представить 18-летнего корнета Михаила Лунина, остается к этим умственным и физическим элементам прибавить высокий рост, насмешливость, большие способности к рисованию, музыке, затем наслоить столичные впечатления и разговоры 1794-1805 годов. Павел I хоронит Екатерину II и перехоронивает Петра III. Одному из убийц, Алексею Григорьевичу Орлову, ведено идти за гробом; идет уверенно, без страхов и угрызений… «Васильчиков часто сказывал… что, несмотря на строгость и страшные капризы Павла, никогда так весело не бывало, как при его дворе. Все пользовались минутою, все жили настоящим, а потому веселились до упаду и повесничали на славу» (П. Ф. Карабанов). Особенно славно повесничали в ночь на 12 марта 1801 года, между делом переменили императора и стали более спокойны, а оттого уж не так веселы… Юный Александр I возвращает просвещение, делает дядюшку Муравьева товарищем министра, а на коронации мужик бросается под ноги царева коня. — Чего тебе? — А ничего… Надежа-государь, наступи на меня! Якобинские же армии за это время, не меняя трехцветных революционных знамен, делаются термидорианскими, затем наполеоновскими… В сущности, «Война и мир» на удивление много сообщает о Лунине, хотя Толстой почти не знал его биографии: и поход 1805-го, и атака кавалергардов под Аустерлицем, и смерть юного брата, и мечты о «своем Тулоне», и «небо Аустерлица», и возвращение домой к отцу и сестре, и, наконец, проделки Лунина — Долохова… 3. В 1805 году трехмесячный поход и сражение при Аустерлице, где кавалергарды теряют каждого третьего. «1807 года прусский поход; майя 24 и 25 при преследовании неприятеля до реки Посаржи, 29-го под городом Гельзборгом в действительном сражении с французами и за отличие награжден орденом св. Анны 4 степени, июня 2-го — при городе Фридланде». Декабрь 1807-го — по возвращении в Россию произведен в поручики. Сентябрь 1810-го — произведен в штабс-ротмистры. На войне, когда его полк бездействует, демонстративно отправляется в ярко-белой кавалергардской форме пострелять во француза «как рядовой». Лезет под пули, но ни одной не получает. После фридландского поражения энергично распоряжается, устраивая ночлег павшего духом императора и охраняя его от собственных солдат, голодных, замерзших, пытающихся растащить крышу на костры. 4. «Я жил вместе с Луниным на Черной речке. Мы забавлялись тем, что держали двух медведей и 9 собак, наводя панику на окрестных жителей». Сергей Волконский и Лунин испытывают себя и других в обыкновенном мирном молодечестве. Не отстают и два их будущих тюремщика — Сашенька Чернышев и Васенька Левашов. Молодые, сильные, веселые люди никак не могли достигнуть границы возможного — что желали, все могли — и образовывали демократическую общину храбрецов, где лихой корнет значил больше оробевшего полковника. Сохранилось немало воспоминаний и слухов: «Лунин беспрерывно школьничал. Редкий день проходил, без его проказ. Неразлучным сподвижником у него был офицер, отличавшийся только большим ростом и силою; товарищи называли его в шутку Санчо Панса». Так впервые Лунин сделался Дон-Кихотом… По Черной речке движется черный катер с черным гробом. Певчие с факелами тянут «со святыми упокой», все заинтригованы — вдруг музыка веселеет, из гроба вытаскивают десятки бутылок, певцы-кавалергарды сбрасывают траурные одежды и пируют «в сюртуках без эполет, в голубых вязаных шерстяных беретах с серебряными кистями…». За одну ночь Лунин с несколькими товарищами на пари меняет местами вывески на Невском проспекте… Говорят, Лунин во весь опор проскакал по столице в чем мать родила… По наущению сослуживца принца Бирона, который волочится за девицей Луниной, несколько кавалергардов во главе с Луниным и Волконским забираются на деревья и при всем честном народе вопят серенаду. «Девица Лунина» — кузина кавалергарда Екатерина Петровна, сумевшая изумить Наполеона своим пением, а Петербург своим легкомыслием… Входят во вкус и, отправившись на двух лодочках к Каменноостровскому дворцу, дают серенаду императрице Елизавете Алексеевне. Дворцовая охрана на двенадцативесельном катере бросается вдогонку, но кавалергарды уходят на мелководье, где катеру не пройти, и, выскочив на берег, «отступают рассыпным строем»… «Однажды Лунин беседовал на балконе третьего этажа с известной тогда красавицей Валесской. Разговор шел о исчезновении в мужчинах рыцарства. Валесская приводила пример, что теперь уже ни один из них не бросится с балкона по приказанию своей красавицы. Лунин был равнодушен к Валесской, но не мог отказаться от ощущения некоторой опасности. Он смело и ловко бросился с балкона и благополучно, достиг земли, так как тогда улицы были не мощены». 5. «Как-то в Петергофе прилично одетый человек обратился к нему за милостыней: Лунин, не задумываясь, отдал ему свой бумажник, сказав своему спутнику, что человек, с виду порядочный, вынужденный просить милостыню, должен был несомненно пережить тяжкое горе». «Может, это был и мошенник, — пишет декабрист Свистунов, — но не всякому дано поддаваться такому обману». 6.«Однажды при одном политическом разговоре в довольно многочисленном обществе Лунин услыхал, что Орлов, высказав свое мнение, прибавил, что всякий честный человек не может и думать иначе. Услышав подобное выражение, Лунин, хотя разговор шел не с ним, а с другими, сказал Орлову: „Послушай, однако же, Алексей Федорович! Ты конечно обмолвился, употребляя такое резкое выражение; советую тебе взять его назад; скажу тебе, что можно быть вполне честным человеком и, однако, иметь совершенно иное мнение. Я даже знаю сам многих честных людей, которых мнение нисколько не согласно с твоим. Желаю думать, что ты просто увлекся горячностью спора“. — Что же ты меня провокируешь, что ли? — сказал Орлов… — Я не бретер и не ищу никого провокировать, — отвечал Лунин, — но если ты мои слова принимаешь за вызов, я не отказываюсь от него, если ты не откажешься от своих слов! — Следствием этого и была дуэль…» Сохранился и другой рассказ об этом вызове: «Однажды кто-то напомнил Лунину, что он никогда не дрался с Алексеем Орловым. Он подошел к нему и просил сделать честь променять с ним пару пуль. Орлов принял вызов…» Со всеми, кроме Орлова, Лунин как будто уже «променял…»? «Когда не с кем было драться, Лунин подходил к какому-либо незнакомому офицеру и начинал речь: „Милостивый государь! Вы сказали…“ — „Милостивый государь, я вам ничего не говорил“. — „Как, вы, значит, утверждаете, что я солгал? Я прошу мне это доказать путем обмена пулями…“ Шли драться, причем Лунин обычно стрелял в воздух — зато противники, случалось, попадали, «так что тело Лунина было похоже на решето». Впрочем, «знаками» поединков отмечены едва ли не все его приятели. О другом забияке, «черном Уварове», — Денис Давыдов говорил: «Бедовый он человек с приглашениями своими. Так и слышишь в приглашениях его: „покорнейше прошу вас пожаловать ко мне пообедать, а не то извольте драться со мною на шести шагах расстояния“». Уваров и Лунин, понятно, обменялись «знаками», а после «Черный» вдруг посватался за родную сестру Лунина Екатерину Сергеевну, получил согласие от батюшки и сделался свояком (свадьба была в 1814 году, «невеста с головы до ног в бриллиантах» ). Но возвратимся на дуэль с Алексеем Орловым: «Первый выстрел был Орлова, который сорвал у Лунина левый эполет. Лунин сначала хотел было также целить не для шутки, но потом сказал: „Ведь Алексей Федорович такой добрый человек, что жаль его“, — и выстрелил на воздух. Орлов обиделся и снова стал целить; Лунин кричал ему: „Вы опять не попадете в меня, если будете так целиться. Правее, немного пониже! Право, дадите промах! Не так! Не так!“ Орлов выстрелил, пуля пробила шляпу Лунина. «Ведь я говорил вам, — воскликнул Лунин смеясь, — что вы промахнетесь! А я все-таки не хочу стрелять в вас!» И он выстрелил на воздух. Орлов, рассерженный, хотел, чтобы снова заряжали, но их розняли. Позже Михаил Федорович Орлов часто говорил Лунину: «Я вам обязан жизнью брата…»» Дуэли запрещены, но кто ж не дерется? Император Павел через гамбургскую газету посылал вызов всем императорам и королям, которые имеют к нему какие-нибудь претензии, предлагая взять секундантами первых министров. На Венском конгрессе император Александр собирался вызвать Меттерниха из-за Польши и Саксонии. Поэтому пусть кавалергарды и гусары беснуются, крепят мускулы, расходуют лишнюю энергию, школьничают. Пусть один сплющивает рукою каменную грушу, другой ест за обедом ужей, вскормленных молоком, третий выигрывает спор, ровно год проводя в седле по 19 часов в сутки, четвертые сооружают систему блоков и, пригласив на бал провинциальное общество, вдруг поднимают почтенных маменек к потолку и удирают с дочками… Опасные проделки в безопасных пределах. Но кому и того мало — пусть бережется… 7. Жарким летом кавалергарды стоят близ Петергофа, но командир, генерал Депрерадович, «неожиданно запретил солдатам и офицерам купаться в заливе, ибо „купанья эти происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличие“» . Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько минут перед этим залез в воду в полной форме, в кивере, мундире и ботфортах, так что генерал еще издали мог увидеть странное зрелище — барахтающегося в воде офицера, а когда. поравнялся, Лунин быстро вскочил на ноги, тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь… — Что вы это тут делаете? — Купаюсь, а чтобы не нарушить предписание вашего превосходительства, стараюсь делать это в самой приличной форме… Шутка получила повышение: вслед за офицерским «высокоблагородием» точно попадает в генеральское «превосходительство». Генерал суров и вспыльчив, но стоит ему однажды на учении заорать: «Штабс-рогмистр Лунин, вы спите?» — как тут же в ответ: «Виноват, ваше превосходительство, — спал и видел во сне, что вы бредите». 8. «Наследник престола великий князь Константин Павлович… очень резко отозвался о кавалергардском полку. Так как обвинение оказалось незаслуженным, то ему было приказано свыше извиниться перед полком. Он выбрал день, когда полк был в сборе на учении, и, подъезжая к фронту, громогласно сказал: „Я слышал, что кавалергарды считают себя обиженными мною, и я готов предоставить им сатисфакцию — кто желает?“ И, насмешливо оглядывая ряды, он рассчитывал на неизбежное смущение перед столь неожиданным вызовом. Но один из офицеров, М. С. Лунин, известный всему Петербургу своей беззаветной храбростью и частыми поединками, пришпорив лошадь, вырос перед ним. „Ваше высочество, — почтительным тоном, но глядя ему прямо в глаза, ответил он, — честь так велика, что одного я только опасаюсь: никто из товарищей не согласится ее уступить мне“. Дело замяли, и дуэль, понятно, не могла состояться». Так передана эта история в записях А. П. Араповой. По другой версии, Константин, услыхав ответ, отшутился: «Ну ты, брат, для этого слишком еще молод!» Великий князь сохранил лицо, но, если бы вдруг поддался обычному припадку безрассудного бешенства, то офицеру несдобровать: самое меньшее — отставка и ссылка в имение. Приятели, не сговариваясь, утверждали, будто в опасностях разного рода Лунин находил такое наслаждение, что полагал безопасность более для себя гибельной. После шутки с Высочеством наступает очередь Величества. 9. «Отмстить за Аустерлиц… Это чувство преобладало у всех и каждого и было столь сильно, что в этом чувстве мы полагали единственно наш гражданский долг и не понимали, что к отечеству любовь не в одной военной славе, а должна бы иметь целью поставить Россию в гражданственности на уровне с Европой» (С. Волконский). Именно из-за Аустерлица и Наполеона у Лунина и вышло разногласие с Величеством. Между 1807-м и 1812-м с Наполеоном мир и союз, и по адресу вчерашнего врага дерзить не рекомендуется, ибо тем задевается дружба императоров. Газетам ведено французов срочно полюбить, англичан же и прочих вчерашних союзников возненавидеть, вследствие чего новые победы Бонапарта над старинными династиями преподносятся русским читателям едва ли не с республиканской игривостью: «Дом Браганцский лишился Португалии; он подвергся участи всех тех владетелей, которые всю надежду свою полагали на Англию… Новая часть древней матерой земли паки освобождается от английского влияния. Достопамятно, что португальская королева, которая, как известно, весьма была расстроена в уме своем, весьма поправилась в своем здоровье, побыв два или три дни на море (во время бегства из Лиссабона)». В эту пору Мишель Лунин и Серж Волконский заводят в Петербурге пса, который бросается на прохожего и срывает шапку, если только скомандовать: «Бонапарт!» Наполеон владеет Европой от Балтики до Гибралтара и от Ла-Манша до Немана. Только Испания смеет сопротивляться по-настоящему, и Лунин, кажется, просит разрешения отправиться туда, пока русское правительство столь мирно и терпеливо. Сохранились смутные свидетельства, будто Александр запретил и гневался… Однажды Лунин нанимает в Кронштадте лодку и отправляется в море. Его арестовывают и доставляют к царю: «Александр потребовал объяснения этого дерзкого поступка. — Ваше величество, — отвечал Лунин, — я серьезно интересуюсь военным искусством, а так как в настоящее время я изучаю Вобана, то мне, хотелось сравнить его систему с системой наших инженеров. — Но вы могли бы достать себе позволение, вам бы не отказали в просьбе. — Виноват, государь, мне не хотелось получить отказ. — Вы отправляетесь один в лодке, в бурную погоду, — вы подвергались опасности. — Ваше величество, предок ваш Петр Великий умел бороться со стихиями. А вдруг бы я открыл в Финском заливе неизвестную землю? Я бы водрузил знамя вашего величества. — Говорят, вы не совсем в своем уме, Лунин. — Ваше величество, про Колумба говорили то же самое». Вполне возможно, что подчеркнутый риск, которому подверг себя Лунин, и фраза о Петре, который умел бороться со стихиями, были укором осторожному Александру. «Мне не хотелось получить отказ» — не намек ли на просьбу об Испании? Эпизод был записан со слов Лунина, и притом отмечалось, что Александр «не забыл»… Шапку с настоящего Бонапарта начали сбивать всего через несколько месяцев после этой истории, но серьезной военной карьеры Лунину теперь не сделать. «Шансы», приобретенные на глазах царя в ночь после Фридланда, теперь утрачены… 10.«Под Бородино, к счастью, был ранен» , — вспоминал один офицер; отступление с июня по сентябрь было тяжелее всякой битвы. Лунин же проделывает весь поход без царапины. Дальний родственник Николай Муравьев (будущий знаменитый генерал Муравьев-Карский) спит с ним в одной палатке, иногда под дождем. Лунин не жалуется и все время что-то пишет. Николаю Муравьеву тогда, под Смоленском, не понравилось кавалергардское общество: «Ничего святого у них не было: пересуживали всех генералов, любовь к отечеству было чувство для них чуждое, и каждый из них считал себя в состоянии начальствовать армиею». 11.«Лунин прочел мне заготовленное им к главнокомандующему письмо, в котором, изъявляя желание принести себя в жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали». Снова свидетельствует не слишком доброжелательный Николай Муравьев. Командование, однако, не разрешило покушения — нарушались рыцарские правила войны (зато, не спросившись, князь Гагарин по прозвищу «адамова голова» отправляется на пари к Бонапарту и дарит ему два фунта чая, после чего его отпускают обратно). 12. «26 августа 1812-го штабс-ротмистр Лунин участвует в действительном сражении при селении Бородино» — сначала у Багратионовых флешей, а затем в контратаке у батареи Раевского. Под ним убита лошадь, но он сам невредим и «пожалован золотою шпагою с надписью За храбрость». В этот день рядом с ним держат позицию Пестель и Дубельт, Якушкин и Воронцов, совсем юные Муравьевы и приятели их отцов, те, кто уйдет в Сибирь, и те, кто их пошлет. Но это — завтра, а теперь «Михаил Лунин октября 6-го в сражении под Тарутиным, 12 и 13 под Малым Ярославцем, ноября 4, 5 и 6 под Красным, а от оного при преследовании неприятеля до границы. 1813 года генваря с 1-го в Пруссии, 20-го в герцогстве Варшавском, марта с 31-го в Шлезии, апреля с 7 в Саксонии, 20 в сражении под г. Люценом, мая 8 и 9 под Бауценом… Августа 14 под Дрезденом, 17, а равно и 18, в действительном сражении под Кольмумом и за отличие награжден орденом св. равноапостольного князя Владимира 4 степени с бантом, октября 4, 5 и 6 — под Лейпцигом, а от оного при преследовании неприятеля до Франкфурта и до Рейна. 1814 года 20 генваря — в сражении под Брисоном. 13 марта при Фершампенуазе и награжден орденом св. Анны 2 степени. 18 марта при взятии Парижа». 13.«В ресторанах Палерояля все столы были постоянно заняты, и за попойками русские офицеры бросали из окон деньги толпившемуся народу». Война окончена… Молодцы же времен очаковских и покоренья Крыма сидят по особнякам и имениям да ждут писем от усатых и безусых победителей. Жесткому, неудовлетворенному жизнью сенатору Ивану Матвеевичу кланяются из Парижа 18-летний Сергей и бывалый (21 год) Матвей Муравьев-Апостол; добрейший барин Захар Матвеевич неспокоен за 20-летнего Артамона, который заканчивает войну в кавалергардах под присмотром доброго братца Мишеля Лунина, и еще более надеются на того же доброго братца тетушка Екатерина Федоровна Муравьева (вдова Михаила Никитича) и ее десятилетний Сашенька: «Шестнадцатилетний Никита бежал из дому на войну в гороховом сертучке и явился на аванпосты русской армии, где его схватили за лазутчика. По счастью, Кутузов узнал его…» Никита должен был удивить братцев феноменальными познаниями, так же как в Париже, остановившись на квартире дипломата Коленкура, поразил хозяина «своим образованием и сведениями в военной истории»… Но что же сам Мишель, старший из братцев, на радость отцу и сестре возвращающийся живым и невредимым? 26 лет, гвардии ротмистр, три ордена, золотая шпага, высокий, красивый, умный, образованный, популярный, богатый, сколько угодно женщин, вина, друзей. И вслед за Цезарем: «Скоро тридцать, но ничего для бессмертия». V 1. Михаил Лунин — Артамону Муравьеву. «22 октября 1814 г. Наилюбезнейший моему сердцу друг и братец Артамон Захарович, нет четырех месяцев как судьба соединила нас в Париже, а теперь вновь соединила, и где же? В опустелой, дикой, гнусной Тамбовской губернии. Событие странное, но не менее того для меня приятное. Прошу навестить меня в моей степи. В Париже ходили вместе к девкам (en bonne fortune)[22], а здесь пойдем вместе за волками, за медведями. Всякая земля имеет свои забавы, свои увеселения. Прощай, до свидания. Михаил Лунин». Это самое раннее из сохранившихся лунинских писем. Оно было опубликовано С. Я. Штрайхом в 1926-м и тотчас замечено Юрием Тыняновым, который на первых страницах «Смерти Вазир-Мухтара» извлек его сокровенный смысл. В лунинском письме нету ни слова о тайном обществе (в 1814-м и тайного общества еще не было), но по Тынянову оно есть — и Тынянов прав: таков дух письма! «Что была политика для отцов? Что такое тайное общество? "Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на Медведя" — так говорил декабрист Лунин… Тростью он дразнил медведя, он был легок…» Лунин в отпуску (кажется, по делам имения). Артамон Муравьев — в командировке. Эпитеты, коими награждается в письме Тамбовская губерния, нелестны, но, видимо, они сродни пушкинским впечатлениям в «Деревне»: Везде невежества убийственный позор… Здесь барство дикое… Здесь рабство тощее… Лунин и Артамон Муравьев торопятся отсюда скорее прочь; куда торопятся? «Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?» — взывает из гроба дядюшка Михаил Никитич. 2. Затем в череду туманных для нас лунинских лет, освещаемых лишь случайными письмами и анекдотами, столь же случайно попадает год, которому повезло. Все начинается с того, что семнадцатилетний француз Ипполит Оже жалуется русским офицерам в Париже; его дела после падения Наполеона совсем плохи… — Следовательно, вы возлагали какие-нибудь надежды на павшее правительство? — Да, я надеялся, что в каком-либо сражении меня убьют. — А что же настоящее правительство? — Оно лишило меня даже этой надежды… Офицеры пожалели юношу и уговорили перейти в русскую гвардию: «Великий князь Константин смирен как ягненок, нужно только уметь блеять заодно с ним». И не успел Оже опомниться, как очутился в Петербурге, одетый в Измайловский мундир и почти без гроша. Пока он размышляет, как быть, — успевает познакомиться с многими примечательными людьми и делается даже популярным благодаря остроумной болтовне, легкости пера и особенно из-за истории с «кузиной-певицей» Луниной, «которую тогда было в моде находить интересной» . Оже, поощряемый несколькими аристократами, пишет ей объяснение в безумной любви, Лунина верит и притворно гневается, меж тем как списки послания ходят по городу… Но тут француз вдруг знакомится с Михаилом Луниным, после чего начинается цепь их совместных приключений. 62 года спустя, в 1877 году, журнал «Русский архив» напечатал воспоминания Ипполита Оже (в то время еще живого и здорового) о его молодости и больше всего — о Лунине; совсем недавно мне удалось отыскать подлинную французскую рукопись этих воспоминаний, содержащую, между прочим, несколько отрывков, которые по разным причинам Петр Иванович Бартенев, издатель «Русского архива», печатать не стал. Эта рукопись сохранилась в Архиве литературы и искусства в фонде Вяземских («Остафьевском архиве») [23]. Из неопубликованного вступления к запискам видно, что Петр Андреевич Вяземский явился посредником между Оже и Бартеневым. Уважение к этим запискам за последние годы выросло, так как некоторые факты удалось точно проверить. Оже пользовался старыми дневниковыми записями и с 1847-го «хранил в специальном альбоме документы, которые могли бы когда-нибудь помочь моим воспоминаниям о России: визитные карточки, приглашения, деловые письма и т. п.». Не заведи Лунин столь склонного к писаниям приятеля, не будь этот приятель французом, запомнившим то, что в России полагалось забывать, и не вздумай он в глубокой старости опубликовать свои записи (пусть несколько приукрашенные), «не было бы» целого года, наполненного интересными событиями, как «не было» многих других, не менее интересных лунинских лет. 3. Зимой 1815-1816 года гвардия в Вильне. Лунин на очередной дуэли (по одним рассказам, с каким-то поляком, по другим — с неким Белавиным) [24] получает пулю в пах, и друзья просят Ипполита Оже остаться с раненым: «Скука для него хуже всякой болезни. Он был бы очень вам благодарен, если бы вы иногда навещали его. История с письмом ему очень понравилась, и он хочет поблагодарить вас. Его милая кузина всегда служит ему мишенью для шуток». Оже, конечно, уже слыхал про Лунина, который «был известен за чрезвычайно остроумного и оригинального человека. Тонкие остроты его отличались смелостью и подчас цинизмом. Но ему все сходило с рук». В рукописи эта фраза звучит несколько более рискованно: «Ум и оригинальность Лунина были столь же известны, как прекрасные плечи его кузины»[25]. Раненый обрадовался новому приятелю: «Если б я мог двигаться, то я бы вас обнял. Дайте мне вашу правую руку, которая так ловко владеет острым пером. О, какой эффект произвело ваше письмо!.. Кузине было лестно и выгодно получить такое послание, она и разыграла оскорбленную невинность». Несколько месяцев Оже посещает Лунина и наблюдает: «Хотя с первого раза я не мог оценить этого замечательного человека, но наружность его произвела на меня чарующее впечатление. Рука, которую он мне протянул, была маленькая, мускулистая, аристократическая; глаза неопределенного цвета, с бархатистым блеском, казались черными, мягкий взгляд обладал притягательной силой… У него было бледное лицо с красивыми, правильными чертами. Спокойно-насмешливое, оно иногда внезапно оживлялось и так же быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия, но изменчивая физиономия выдавала его больше, чем он желал. В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась с отталкивающей суровостью, как это бывает у людей дюжинных, которые непременно хотят повелевать другими. Голос у него был резкий, пронзительный, слова точно сами собой срывались с насмешливых губ и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника, нанося раны, которые никогда не заживали; логика его доводов была так же неотразима, как и колкость шуток. Он редко говорил с предвзятым намерением, обыкновенно же мысли, и серьезные, и веселые, лились свободной, неиссякаемой струей, выражения являлись сами собой, непридуманные, изящные и замечательно точные. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощила его силы. Во всем его существе, в осанке, в разговоре сказывались врожденное благородство и искренность. При положительном направлении ума он не был лишен некоторой сентиментальности, жившей в нем помимо его ведома: он не старался ее вызвать, но и не мешал ее проявлению. Это был мечтатель, рыцарь, как Дон-Кихот, всегда готовый сразиться с ветряной мельницею…» Так уже второй человек (не подозревая о первом) произносит «Дон-Кихот…». От Оже не ускользнуло, что Лунин «покорялся своей участи, выслушивая пустую, шумливую болтовню офицеров. Не то чтобы он хотел казаться лучше их; напротив, он старался держать себя как и все, но самобытная натура брала верх и прорывалась ежеминутно, помимо его желания… Он нарочно казался пустым, ветреным, чтобы скрыть от всех тайную душевную работу и цель, к которой он неуклонно стремился…». Меж новыми приятелями «все рождало споры и к размышлению влекло…». Оже весел, но благоразумен. Лунин упрекает: «Вы француз, следовательно, должны знать, что бунт — это священнейшая обязанность каждого». Французу нравится общество русских, Лунин же отвечает: «Не созрели, а уже сгнили. Мы… потомки Екатерины II». В рукописи эта цитата куда острее и двусмысленнее, чем в «Русском архиве». «Nous sommes les batards de Catherine II» («Мы — ублюдки Екатерины II»). 4. «Должно быть, я когда-нибудь слышал этот мотив, и теперь он мне пришел на память. — Нет, это ваше собственное сочинение. — Очень может быть…» Этот разговор происходит уже в Петербурге. Оже приходит в гости и застает Лунина за фортепьяно. Француз, мечтающий к о литературном успехе и предпочитающий стихи, выслушивает серию парадоксов: «Стихи — большие мошенники; проза гораздо лучше выражает все идеи, которые составляют поэзию жизни; в стихотворные строки хотят заковать мысль в угоду придуманным правилам… Это парад, который не годится для войны… Наполеон, побеждая, писал прозой; мы же, к несчастью, любим стихи. Наша гвардия — это отлично переплетенная поэма, дорогая и непригодная». Из французов он любит только «стихи Мольера и Расина за их трезвость: рифма у них не служит помехою… Стихи — забава для народов, находящихся в младенчестве. У нас, русских, поэт играет еще большую роль: нам нужны образы, картины; Франция уже не довольствуется созерцанием, она рассуждает». Прочитав стихи, принесенные Оже (разочарование, мировая скорбь…), Лунин снисходительно обличает: «Стих у вас бойкий, живой, но какая цель?» Выше прозы для него только музыка, самое свободное из искусств. «Я играю все равно как птицы поют. Один раз при мне Штейбель давал урок музыки сестре моей. Я послушал, посмотрел; когда урок кончился, я все знал, что было нужно. Сначала я играл по слуху, потом, вместо того чтоб повторять чужие мысли и напевы, я стал передавать в своих мелодиях собственные мысли и чувства. Под моими пальцами послушный инструмент выражает все, что я захочу: мои мечты, мое горе, мою радость. Он и плачет и смеется за меня. Я бы мог назвать ваш романс „разочарованный Михаил“, но не решаюсь из скромности…» Тут в «Русском архиве» эпизод обрывается, в рукописи же: «Он продолжал свои вариации. Я слушал и восхищался, когда внезапно, поместив на пюпитр мой листок, он запел, без голоса, но с душою, мои стихи о разочарованном, найдя такую прелестную и оригинальную мелодию, что я закричал от восторга, совсем забыв о своем авторстве». Лунин рассказал при случае о любимом композиторе, про которого Оже даже не слыхал, да и собеседник его узнал недавно от первейших знатоков музыки братьев Вьельгорских: «Они оба были в восторге от произведений одного немецкого композитора… Чтоб развлечь моего зятя, Матвей Вьельгорский послал за своим инструментом и стал играть. Жаль, что вас тогда не было! Вот это была музыка. Мы не знали, где мы, на небе или на земле. Мы забыли все на свете. Сочинитель этот еще не пользовался большой известностью; многие даже не признают в нем таланта. Зовут его Бетховен. Музыка его напоминает Моцарта, но она гораздо серьезней. И какое неисчерпаемое вдохновение! Какое богатство замысла, какое удивительное разнообразие, несмотря на повторения! Он так могущественно овладевает вами, что вы даже не в состоянии удивляться ему. Такова сила гения, но чтоб понимать его, надо его изучить. Вы же во Франции еще не доросли до серьезной музыки. Ну, а мы, жители севера, любим все, что трогает душу, заставляет задумываться…» Не восемнадцатилетний мальчик, а восьмидесятилетний парижский литератор, видавший на веку всякое, находит Лунина необыкновеннейшим из людей: «Он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политико-эконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями…[26] Я знал Александра Дюма и при обдумывании наших общих работ мог оценить колоссальное богатство его воображения. Но насколько же Лунин был выше его, фантазируя о будущем решении важнейших социальных проблем». 5. От музыки и поэзии перешли к делам житейским. Узнав, что Оже и его знакомый капитан подают в отставку, Лунин радуется: «Вот вы и свободны! Капитан ваш умно поступил, сбросив с себя цепи, приковывавшие его ко двору…[27]Я собираюсь сделать то же самое. — Вы? — Я еще более на виду: у меня парадный мундир белый, а полуформенный — красный». Служить в кавалергардах накладно, отец не дает денег, возможен арест за долги. Оже: «Вы не первый, не последний». Лунин: «Тем хуже. Как скоро это такая обыкновенная вещь, для меня она уже не годится. Если случилось такое несчастье, то нужно выпутаться из него иначе, чем делают другие». С родителем Сергеем Михайловичем Луниным почтительный сын Михаил Сергеевич заключает неслыханную сделку: отец платит долги и дает немного денег на дорогу, сын же делает завещание… в пользу отца, то есть отказывается от всех притязаний на имения, капиталы и прочее. Он объявляет, что собирается туда, где есть дело, — в Южную Америку, например в армию Боливара, — и на столе его уже лежит испанская грамматика. Любящая сестра Екатерина Сергеевна, ее муж Федор Уваров, сам отец, даже Оже, ошеломлены столь резким прекращением службы и карьеры[28]. Лунин, согласно записям Оже, отвечает импровизацией одновременно по-русски, французски и даже испански: «Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы, которая по-испански зовется libertad, a в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были. Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтобы я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получать чины и звезды, которые французы совершенно верно называют crachat[29]. Как? Я буду получать большое жалование и ничего не делать, или делать вздор, или еще хуже — делать все на свете; при этом надо мной будет идиот[30], которого я буду ублажать, с тем чтоб его спихнуть и самому сесть на его место? И вы думаете, что я способен на такое жалкое существование? Да я задохнусь, и это будет справедливым возмездием за поругание духа. Избыток сил задушит меня[31]. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий! Вот это настоящая жизнь! Прочь обязательная служба![32]Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения: я буду приносить пользу людям тем способом, каковой мне внушают разум и сердце. Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете. Свобода! Libertad! Я уезжаю отсюда…» 6. «В Париже я был у Ленорман. Оже: — И что же вам сказала гадальщица? — Она сказала, что меня повесят. Надо постараться, чтобы предсказание исполнилось». Оже не знал, где был Лунин в эти дни. 9 февраля 1816 года (в то самое время, когда Лунин выздоравливал после несчастной дуэли) на квартире кузенов Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, в гвардейских казармах Семеновского полка, состоялось первое собрание первого русского тайного общества. Кроме двух хозяев квартиры там сошлись еще четверо: родственники Лунина — подполковник Александр Муравьев и прапорщик Никита Муравьев, поручик князь Сергей Трубецкой и подпоручик Иван Якушкин. Средний возраст собравшихся боевых офицеров, недавно прошедших путь от Москвы до Парижа, не достигал даже 21 года, но как раз в этом обстоятельстве они видели свое преимущество: «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед»  И.Д. Якушкин С акварели Н. Уткина 1816 г. Никита Муравьев через десять лет напишет: «На 22-м году жизни моей я вступил в Союз спасения, которого правила возбраняли членам говорить свои мнения и сближаться с людьми чиновными и пожилыми, полагая их уже наперед противными всякой перемене того порядка, к которому они привыкли и в котором родились». Союз спасения — название достаточно откровенное. Ясно, кого и от чего должно спасать. Пройдет 60 лет — и Матвей Муравьев-Апостол, последний оставшийся из шестерки учредителей, усомнится даже в способности Льва Толстого постичь истинные настроения первых декабристов. Старик боялся, что странными и смешными покажутся внукам дедовское воодушевление, самоотвержение, мечты о всеобщем переустройстве. «В беседах наших, — напишет Якушкин, — обыкновенно разговор был о положении в России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет была каторга, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще». На самых первых сходках в основном говорили о крепостных с некоторой наивностью, свойственной искренним и молодым, награждали многих окружающих собственными добродетелями и помышляли о широком дворянском адресе царю с просьбой об освобождении крестьян. Впрочем, старики, отставшие «на 100 лет», быстро излечили их от чрезмерного добродушия и убедили в том, что крестьянский вопрос никак не сдвинется без «введения конституционного правления». Крестьянская свобода и Конституция: две главнейшие формулы русской истории произнесены, и за это слово и дело — одного из шестерых повесят, а остальных — в Сибирь, на срок куда больший, чем их нынешний возраст… Впрочем, Союз спасения недолго оставался делом шестерки. Лунин, судя по всему, был седьмым, и трудно представить, чтобы он не оказался среди кузенов-учредителей, если бы в феврале находился в столице. Позже следователи его спросят — кем принят? — и в ответ услышат: «Я никем не был принят в число членов Тайного общества, но сам присоединился к оному, пользуясь общим ко мне доверием членов, тогда в малом числе состоящих». Лунин, 29-летний, принят 20-летними братьями и друзьями, но почти в одно время с ним в Союз спасения вступает еще несколько солидных: 40-летний Михаил Новиков, племянник знаменитого просветителя, человек, чьи решительные убеждения, возможно, далеко бы его завели в 1825-м: если бы не преждевременная смерть в 1822-м, 30-летний штабс-капитан и уже известный литератор Федор Глинка. К ним следует добавить нового лунинского сослуживца 23-летнего кавалергардского поручика Павла Пестеля, 20-летнего семеновского подпоручика князя Федора Шаховского — и вот весь круг: 11 собеседников «во спасение России» (лето и осень 1816 года). Отдельные подробности о Союзе спасения теперь с трудом улавливаются из лаконичных воспоминаний и позднейших свидетельств; арестованных декабристов больше допрашивали об их последних делах, нежели о первых: многое забылось или было утаено, документы союза были своевременно уничтожены самими заговорщиками. Но, по крайней мере, один разговор — очевидно, похожий на многие другие — история сохранила. Время: конец августа или начало сентября 1816 года; участники: Лунин, Никита Муравьев и Пестель. Зашла, по всей вероятности, речь о том, как перейти от слов к делу спасения России: разрушить крепостное право и ограничить царя конституцией с парламентом (за республику был в то время только Михаил Новиков). Все были согласны, что в России многое меняется с переменой царствования, и Пестель, составляя через несколько месяцев устав союза, внесет туда пункт — не присягать новому царю, пока не согласится на коренные реформы… Как видно, уже тогда, в 1816-м, заговорщики «напророчили» себе 14 декабря 1825-го. Но будущее темно; зато в недавнем прошлом была ночь с 11-го на 12 марта 1801 года, ускорившая «благодетельную замену» одного монарха другим; и тут Лунин между делом заметил, что не трудно устроить заговор и убить Александра I на Царскосельской дороге, по которой он обычно ездит без большой охраны. Для этого достаточно собрать группу решительных людей и одеть их в маски (чтобы спутники царя не узнали убийц). Пушкин записал за Н. К. Загряжской следующий «разговор»: «Орлов… сел подле меня на лавочке. Мы разговорились о Павле I. „Что за урод? Как его терпят?“ — „Ах, батюшка, да что же ты прикажешь сделать? Ведь не задушить же его?“ — „А почему ж нет, матушка?“… Вот таков был человек!» Сходство ситуаций — павловской (Алексей Орлов) и александровской (Лунин) — велико, но между ними — почти 20лет; старики же отстали «лет на 100…»: Орловы готовы «придушить», чтобы получить своего самодержца и тысячи душ в придачу, Лунин — чтобы его лишили итого и другого… Пестель возражает, что прежде надо подготовиться ко взятию власти, «приуготовить план конституции». Лунин в такую прозу верит куда меньше, чем в поэзию набега («Пестель… предлагает наперед енциклопедию написать, а потом к революции приступить» ) . Он и не подозревает, что уже сделал почти все для оправдания репутации парижской гадалки, и даже нет необходимости отправляться за море. Но он собирается… Через несколько месяцев Лунин резко упрекнет Ипполита Оже за то, что тот не употребляет свои способности «на пользу отечества», сам же напряженно ищет, выбирая способ своего служения… Союз спасения его не связывает. Он не видит большой разницы — сражаться ли за свободу или libertad; судя по всему, надеется вернуться и привезти что-либо новое и важное для кузенов-заговорщиков. 7. Оже уговаривает ехать не в Монтевидео, а для начала хоть в Париж. Во-первых, он против людоедства, без которого, говорят, не прожить в пампасах или сельвасах. Во-вторых, «Старый Свет износился и обветшал; Новый еще не тронут. Америке нужны сильные руки — Европе, старой, беззубой, нужны развитые умы». В Париж так в Париж. Лунин заезжает к Уваровой — сестра спит; он не велит ее будить… Федор Уваров провожает до судна, которое увозит путешественника в Кронштадт. Старый отец дарит на прощание пуд свечей из чистого воска, 25 бутылок портера, столько же бутылок рома и много лимонов. Лунин несколько растроган и говорит Оже, что лимонов уж никак не ожидал и теперь видит, что с отцом можно было бы поладить. Впрочем, он обещает, может быть, вернуться через полгода… 10/22 сентября 1816 года в два часа пополудни груженный салом французский корабль «Fidelite» («Верность») отправляется из Кронштадта в Гавр с двумя пассажирами на борту. 8. Через три дня важный разговор на палубе, который Оже переписывает в свои мемуары из дневника: «Лунин разбирал все страсти, могущие волновать сердце человека. По его мнению, только одно честолюбие может возвысить человека над животною жизнью[33]. Давая волю своему воображению, своим желаниям, стремясь стать выше других, он выходит из своего ничтожества. Тот, кто может повелевать, и тот, кто должен слушаться, — существа разной породы. Семейное счастье — это прекращение деятельности, отсутствие, так сказать, отрицание умственной жизни. Весь мир принадлежит человеку дела; для него дом — только временная станция, где можно отдохнуть телом и душой, чтобы снова пуститься в путь… Это была блестящая импровизация, полная странных, подчас возвышенных идей. Я не мог с ним согласиться, но также не мог, да и не желал его опровергать; я слушал молча и думал: «Какая судьба ожидает этого человека с неукротимыми порывами и пламенным воображением?..» На рангоут села птичка, ее хотели поймать, но Лунин потребовал, чтобы ее оставили на свободе… Тут я мог представить ему опровержения на его теорию. Независимость — это единственная гарантия счастья человека, честолюбие же исключает независимость: оно ставит нас в зависимость от всего на свете. Независимость дает возможность быть самим собой, не насиловать своей природы. В собрании единиц, составляющих общество, только независимые люди действительно свободны. Бедный Лунин должен был признать справедливость моих доводов, как бы подтверждение противоречивости, присущей каждому человеку и в особенности честолюбцу… Когда я переписывал это место с пожелтевших листков старого дневника, мною овладело сильное смущение, как будто я заглянул в какую-нибудь древнюю книгу с предсказаниями. Действительно, в речах Лунина уже сказывался будущий заговорщик, который при первой возможности перешел от слов к делу и смело пошел на погибель. Мои же мнения обличали отсутствие сильной воли, что и было источником моей любви к независимости. По этой же причине я уберегся от многих опасностей и мог дожить до старости». 9. Буря задерживает плавание. Они задыхаются в каюте, пропахшей салом, но бодрятся. С палубы доносится бесхитростная матросская молитва: «Всеблагая богородица, на коленях молим тебя, не дай нам погибнуть в море». В «Русском архиве», видимо, из-за «католического колорита» эпизод этот сильно сокращен и почему-то не напечатан следующий рассказ: «Так как встречный ветер свирепел, нам пришлось повернуть к Борнхольму, где нас ждала более благоприятная погода, и мы встали на рейде… Остров Борнхольм, принадлежащий Дании, имеет окружность 25 лье, а число его жителей достигает 20 тысяч. После завтрака за нами пришла рыбачья шлюпка, и мы отправились на берег. Нас встречал губернатор острова, который, к счастью, говорит по-немецки. Он оказался любезным человеком, пригласил нас домой и представил семье. Страна эта печальна, городок беден. Громадные каменоломни и ветряные мельницы — его единственное богатство. В церкви мы обнаружили орган, находившийся в очень плохом состоянии. Однако Мишель, прикоснувшись к нему, добился какого-то сверхъестественного эффекта. Темой его импровизации стала буря, которую мы пережили: сначала легкое ворчанье ветра, затем рев и грохот волн — все это ожило во мне, когда вдруг в промежутках возникла мольба о помощи, обращенная к всеблагой богородице… Я был удивлен и очарован этой могучей имитацией. Многие окрестные жители сбежались, не веря, что инструмент, так долго безмолвствовавший, может звучать столь внушительно и нежно. На скале, возвышающейся над берегом моря, — живописные развалины замка Хаммерсхауз, построенного древними датчанами. В XVII веке он был тюрьмой графа Урфельда, честолюбца, обрученного с принцессой Элеонорой датской, которая мечтала о короне. Во главе шведской армии граф выступил против соплеменников-датчан, но был разбит и схвачен. Он окончил свои дни в этом замке вместе с принцессой Элеонорой, которая сама явилась, чтобы разделить его участь. Руины очень живописны, и Мишель сделал прекрасный рисунок. Этот замок называют «замком дьявола». Когда стемнело, мы вступили на верную палубу нашей «Верности»… 10. В Зунде стали на якорь против Эльсинора и отправились на берег, в гости к принцу Гамлету. Лунин вдруг принялся обличать рефлектирующего принца словами неунывающего Фигаро: «Люди, ничего не делающие, ни на что не годятся и ничего не добиваются». Оже это записывает и тогда же комментирует: «К несчастью, он сам непременно чего-нибудь да добьется». «Избыток сил», гордость, независимость завели Лунина на большую высоту: опасный момент! Еще немного, и можно сделаться «сверхчеловеком», демоническим героем, байроническим деспотом, который сражается и даже умирает — от скуки и презрения к человечеству. Но он слишком умен и начитан, чтобы не распознать угрозу, а распознав, легко спрыгнуть с опасной тропы, как с балкона прекрасной дамы… «Его образование, благодаря разнообразию элементов, вошедших в его состав, было довольно поверхностно; но он дополнял его собственным размышлением. Его философский ум обладал способностью на лету схватывать полувысказанную мысль, с первого взгляда проникать в сущность вещей… Он был самостоятельный мыслитель, доходивший большей частью до поразительных по своей смелости выводов». 11. После Зунда их еще долго носит по осенним водам. Наконец — после полуторамесячных скитаний — достигают Гавра, а на следующий вечер дилижанс доставляет странников в Париж. VI 1. 1817 год… «В Лувре выскабливали со стен букву N[34]. Аустерлицкий мост переименовали в мост Садов, что представляло двойную загадку, скрывающую в одно и то же время и Аустерлицкий мост и Ботанический сад. Наполеон находился на острове Святой Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, то он переворачивал наизнанку свои старые мундиры. Французская академия назначила темой для конкурса: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Большие газеты превратились в маленькие. Формат был ограничен, зато свобода была велика. В Академии наук заседал знаменитый Фурье, забытый потомством, а между тем на каком-то чердаке жил другой, неизвестный Фурье, память о котором сохранится навсегда[35]. На реке Сене плескалась и пыхтела какая-то дымящаяся странная штука, плавая взад и вперед под окнами Тюильрий-ского дворца; это была механическая игрушка, никуда не годная затея пустоголового мечтателя: пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту ненужную затею… Все здравомыслящие люди соглашались, что эра революции окончилась навеки…» В пестром обзоре Виктора Гюго не хватает лишь русского с кавалерийской выправкой, наследника громадных имений и тамбовских душ, который, прибыв в Париж, объявляет товарищу: «Мне нужно только комнату, кровать, стол и стул; табаку и свеч хватит еще на несколько месяцев. Я будут работать: примусь за своего Лжедмитрия» . Зачем же было ехать так далеко? Да затем хотя бы, что в Петербурге гвардейскому ротмистру, светскому человеку, жить своим трудом почти невозможно: сочтут издевательским чудачеством; да и литераторам как-то еще не привыкли платить. Скорее наоборот — знатным вельможам (Державину, Дмитриеву) привычнее печататься за собственный счет… Ипполит Оже узнает, что его друг собирается писать по-французски («разве я знаю русский язык?» ); сочинять, хотя в будущем «писательство должно отойти на второй план: его заменит живое слово, оно будет двигать вперед дело цивилизации и патриотизма»; но до тех пор писатели и поэты, сочиняющие по-русски, подготавливают почву «для принятия идей»[36]. 2.«Я задумал исторический роман из времен междуцарствия: это самая интересная эпоха в наших летописях, и я поставил себе задачею уяснить ее. Хотя история Лжедмитрия и носит легендарный характер, но все-таки это пролог к нашей теперешней жизни. И сколько тут драматизма! Я все обдумал во время бури…» Оже вспоминает, что пришел в восторг от плана романа. Работа пошла быстро, и француз пожелал показать ее результаты компетентному лицу. Лунин согласился, но просил не давать ученому: «Мысль моя любит выражаться образами. Доказывать, что дважды два четыре, я не берусь, но я хочу действовать на чувство читателя, и думаю, что сумею. Поэзия истории должна предшествовать философскому пониманию». Незаконченный роман прочитал Шарль Брифо, известный в ту пору литератор, будущий член академии: «Ваш Лунин чародей! Мне кажется, даже Шатобриан не написал бы лучше!» В 1817-м «не хуже Шатобриана» означало превосходнейшую степень. Брифо долго не мог забыть прочитанного, пытался порадовать успехом соотечественника некоторых русских аристократов, но однажды услышал от княгини Натальи Куракиной: «Лунин — негодяй» (вероятно, подразумевались шутки с императором)… От «Лжедмитрия» не сохранилось ничего, кроме заглавия. Можно лишь догадываться, что Смутное время с его анархическими страстями и характерами привлекло Лунина по закону сродства; свободой выбора, открывавшегося в 1600-х годах для деятельных натур, тогдашних Луниных. (Не слыхал ли Пушкин о том замысле?..) 3. Уварова — Лунину. «В тебе есть что-то такое, что невольно располагает с первого взгляда в твою пользу и вызывает любовь. Таким, как ты, везде удача… Ты чрезвычайно добр… У тебя только один недостаток, не очень важный: твоя неугомонная страсть рыскать по белу свету…» К письму жены Уваров приписывает, что у нее самой тоже один недостаток: «Она Вас слишком любит… Иностранные министры скоро возненавидят Вас: как только Катинька завидит кого-нибудь из них, сейчас вручает им письмо к Вам». Тот же, кому «везде удача», в это самое время пишет Ипполиту, на время отправившемуся навестить родителей: «Здоровье расстроилось, не мог встать с постели. Свечи я все сжег, дрова тоже, табак выкурил, деньги истратил. Я сумею перенести невзгоду: и в счастии и в несчастии я всегда был одинаков. Но о Вас следует подумать…» Он видит три выхода для приятеля — выпросить у отца три тысячи франков, поступить на службу или переехать к родным: «И там можно найти средство приносить пользу обществу, и там можно учиться и писать. Была бы только крепкая воля! Что же касается до меня, то я уже начал приискивать себе место. Всякий труд почтенен, если он приносит пользу обществу. Великий Эпаминонд был надсмотрщиком водосточных труб в Фивах…» К этому месту Оже сделал примечание, не попавшее в печатный текст: «В то время как русские армии еще оккупировали Францию, блестящий, умный кавалергардский полковник цитирует Эпаминонда и Цинцинната, толкуя о труде в ремесленной. лавочке на пользу отечеству». 4. «Лунин жил в мансарде у одной вдовы с пятью бедняками, у них на всех был один плащ, один зонтик и т. п., которыми они и пользовались по очереди». Рассказ декабриста Завалишина несколько сгущает подлинные краски: Лунин в Париже ходатайствует по делам англичан, нанимается «общественным писарем» и составляет для безграмотных письма, прошения и даже поздравительные стихи (платят за необыкновенный почерк!), наконец, дает уроки математики, музыки, английского и… французского языка. Чем и прожить русскому человеку, как не обучением парижан французскому языку?. Кажется, приравняв однажды бедность к дуэли или кавалерийской атаке, он преодолевает ее с не меньшим наслаждением. К тому же верит в судьбу в том смысле, что человек встречает достаточно всяких людей и обстоятельств, а искусство только в том состоит, чтобы вовремя заметить и выбрать нужных людей и нужные обстоятельства… 5. Мы любим все — и жар холодный числ, И дар божественных видений, Нам внятно все — и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений... Оже признается, что многие дела и мысли Лунина были ему неизвестны или недоступны. То, в духе века, он погружается в мудреные рассуждения о магнетизме и мистических тайнах («Лунин и тут являлся тем же привлекательным по своей оригинальности человеком, и я уверен, что, если б он остался в Париже, он вошел бы в большую славу» ); или вдруг появляется в салоне очаровательной баронессы Лидии Роже, где знакомится с неожиданными людьми — от Сен-Симона до бывшего шефа полиции полковника Сент-Олера[37] то отправляется вместе с Ипполитом навестить знакомого по Петербургу важного иезуита Гривеля, который находит, что «такие люди… нам нужны». Однако Лунин и Оже не желают «делаться иезуитами a la robe courte».[38] В рукописи Оже замечает по этому поводу, что «идеи порядка и дисциплины отталкивались свободной мыслью Лунина…». Но наступил день, когда Лунин «сделался несообщителен». Оже «не решался его расспрашивать, хотя и подозревал его в тайных замыслах, судя по тем личностям, которые начали его посещать… десять лет спустя Бюше, один из главных деятелей карбонаризма, сказал мне, что в их совещаниях участвовал какой-то русский[39], я думаю, что это был Лунин». Набраться политической науки, понять эти тайные союзы, оплетавшие едва ли не всю посленаполеоновскую Европу; может быть, в них найти вожделенный рычаг, на который должно бросить все способности, силы и честолюбие? Кажется, новые знакомые отвлекали от Лжедмитрия, а XIX век брал верх над XVII… 6. Неожиданно сестра извещает о смерти отца[40]: «Теперь я богат, но это богатство не радует меня. Другое дело, если бы я сам разбогател своими трудами, своим умом…» Оже спрашивает, собирается ли Лунин теперь домой? — Если дела позволят; какие это дела, вы не спрашивайте лучше, все равно я вам не скажу правды… Что бы стало с Луниным, проживи его отец еще лет десять — двадцать? Скорее всего не сносил бы головы — в Париже ли, Южной Америке или возвратившись на родину. Возможно, способности и ум как раз и погубили бы его, бросая то к одному, то к другому («избыток сил задушит меня…» ). Впрочем… при большей ограниченности, может, достиг бы своего раньше и легче. Выходом из этого противоречия могла вдруг явиться ограниченность искусственная — тюрьма, ссылка, где его дарования вынуждены были бы сосредоточиться в одном направлении: не было бы другого выхода… На прощальном вечере у баронессы Роже Лунин беседует с Анри де Сен-Симоном, маленьким, уродливым, удивительно вежливым, магнетически интересным собеседником. Философ сожалеет об отъезде русского: « — Опять умный человек ускользает от меня! Через вас я бы завязал сношения с молодым народом, еще не иссушенным скептицизмом. Там хорошая почва для принятия нового учения. — Но, граф, — отвечал Лунин, — мы можем переписываться! Разговор и переписка в одинаковой мере могут служить для вашей пели…» Сен-Симон, однако, предпочитает устный спор, где «всякое возражение есть залог победы». «Да и потом, когда вы приедете к себе, вы тотчас приметесь за бестолковое, бесполезное занятие, где не нужно ни системы, ни принципов, одним словом, вы непременно в ваши лета увлечетесь политикой…» Баронесса заметила, что Сен-Симон сам беспрерывно занимается политикой. « — Я это делаю поневоле… Политика — неизбежное зло, тормоз, замедляющий прогресс человечества. — Но политика освещает прогресс! — Вы называете прогрессом беспрерывную смену заблуждений». И Сен-Симон принялся развивать свои излюбленные мысли, что необходимо развивать промышленность и науку, освежая их высоким чувством, новым христианством, «а другой политики не может быть у народов». На прощание он говорит Лунину: «Если вы меня забудете — то не забывайте пословицы: „Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь“. Со времени Петра Великого вы все более и более расширяете свои пределы, не потеряйтесь в безграничном пространстве. Рим сгубили его победы; учение Христа взошло на почве, удобренной кровью. Война поддерживает рабство; мирный труд положит основание свободе, которая есть неотъемлемое право каждого». После ухода Сен-Симона русский, по словам Оже, «долго молчал, погруженный в размышления». Однако коляска и лакей, нанятые за деньги, присланные из Петербурга, уже ждут. Лунин говорит, что охотно взял бы Ипполита в Россию, но тот не захочет жить за его счет, да и не нужно это, — и с обычной дружеской беспощадностью объясняет на прощание: « — Я вас знаю лучше, чем вы себя, и уверен, что из вас ничего не выйдет и вы ничего не сделаете, хотя способности у вас есть ко всему. — Не слишком ли вы строги, милый Мишель? — О нет! С тех пор, как вы вернулись на родину, вы занимаетесь только пустяками; а между тем вам открыты все пути, и вы бы могли, употребив свои способности на пользу отечества, подготовить в то же время для себя хорошую будущность. — Я понимаю, что вы хотите сказать, мой друг! Вы уже не в первый раз стараетесь вразумить меня насчет политики, но это напрасный труд: из меня никогда не выйдет политического деятеля. — Тем хуже для вас. Ваше отечество теперь в таком положении. что именно на этом поприще можно приносить пользу. — Кроме этой, есть еще и другие дороги. — Большая дорога и короче и безопасней. Не думайте, что мое пребывание во Франции останется без пользы для России. Если б вы были таким человеком, каких мне надо, то есть если бы при ваших способностях и добром сердце у вас была бы известная доля честолюбия, я бы силою увез вас с собою, конечно, не с той целью, чтоб вы занимались всяким вздором в петербургских гостиных…» У заставы русский и француз обнялись и расстались навсегда. Оже заканчивает записки: «Я продолжал вести бесполезную жизнь, не понимая своей действительной пользы…» VII 1. «В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного недворянина… Все — потомки Рюрика, Гедимина, Чингисхана, по крайней мере, бояр и сановников древних и новых. Это обстоятельство свидетельствует, что в то время восставали против злоупотреблений и притеснений именно те, которые менее всех от них терпели, что в этом мятеже не было ни на грош народности, что внушения к этим затеям произошли от книг немецких и французских… что эти замыслы были чужды русскому уму и сердцу». Так Николай Иванович Греч «демократическим копытом» лягнул Рюриковичей и Гедиминовичей, предлагая свое объяснение непонятной российской аномалии. Не он первый.  Ф.В. Ростопчин С литографии О. Кипренского 1822 «У нас все делается наизнанку… В 1789 году французская чернь хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтоб потерять свои привилегии, — тут смысла нет!» Так умиравший Федор Васильевич Ростопчин, услышав про 14 декабря, впервые задал важнейший вопрос. «Федор Васильевич был умный человек, умевший не хуже фан Амбурга[41]обходиться с Павлом, не обжигаясь, и сжечь вовремя Москву, но и он со своей философией XVIII столетия не понял этого странного явления» «Тут смысла нет… » А ведь в самом деле странно. Разумеется, «белые вороны» вылетают из всех сословий и водятся во всех странах: но при этом белых не должно быть: ворону пристало быть черным… Философия XVIII века: сын князя — князь, сын сапожника — сапожник, но сапожник наделен естественными правами не меньше князя и, естественно, хочет стать вровень. А в Петербурге и у Днепра против собственных привилегий поднимается не один, а сотни, и среди них князья — Трубецкой, Шаховской, Оболенский, Щепин-Ростовский, да еще граф Орлов, Чернышев, Бестужев-Рюмин, Муравьевы — родня министрам, генералам и сенаторам. Любопытно было бы узнать, сколько же имелось в благородном сословии ноздрёвых, коробочек и сколько же «князей-отступников»? К 121 осужденному и четырем сотням привлеченных к делу надо прибавить членов их семейств, которые или разделяли декабристские взгляды, или хоть жалели, сочувствовали (но не всю родню, разумеется: Михаил Орлов — декабрист, его брат Алексей — будущий шеф жандармов). Еще, может быть, несколько десятков (если не больше) заговорщиков не было обнаружено (Кишинев, Кавказ). Наконец, вряд ли меньше числа взятых насчитывали «декабристы без декабря» (например, Вяземский, Денис Давыдов). В случае победы они, очевидно, примкнули бы к новой власти, представляя умеренную партию. Итогом крайне грубого подсчета будет несколько тысяч человек, ставших «в противность собственной выгоде»; некоторые декабристы полагали, что сочувствующих — раз в десять больше, чем активных. Николай I думал, что всех прикосновенных к движению было б-7 тысяч, то есть примерно 10 процентов всего русского дворянства[42]. Немного, да и немало. Вряд ли какое-нибудь иное сословие столь сильно раздваивалось: были купцы, презиравшие свое купечество и помогавшие революции, но единицы… Феодальные и самодержавные кандалы, в которые закована стремящаяся к развитию страна, исторически созревшие задачи — все это требовало появления деятелей, которые попытаются эти кандалы сбить… Так было и будет у всех народов, но здесь, в России, история мобилизует в армию прогресса необычных рекрутов. Почему же? Юный Лунин — дворянин, душевладелец. Богатство дает свободу выбора, и она была у Лунина, у Пестеля. И у Бенкендорфа. Каждый выбрал свое… Нам куда легче объяснить, как вообще появились дворянские революционеры, чем понять, отчего Лунин пошел к ним, а Бенкендорф — не пошел… Послушаем Герцена, одного из далеко ушедших и говорящего за многих. 2. «Внутренняя жизнь наша определяется вовсе не по обдуманной программе: в раннем отрочестве, иногда в ребячестве, инстинкт, окружающая среда без преднамерения, без полного сознания, без участия воли с той и другой стороны дают направление. Когда молодой человек впервые приостанавливается в раздумье и начинает разбор себя — его мысли уже подтасованы, движение по известному направлению уже дано. Остальное зависит от силы логики, от силы характера, от последовательности». Немало писано о 1812-м, о книгах, картинах народной жизни, воспитавших людей 14 декабря. Все так, но ведь эти же события, картины и книги были перед глазами и у тех, кто сделались генерал-адъютантами и цензорами. Мы почти всегда объясняем декабристов, Герцена именно с того момента, как они «приостанавливаются в раздумье», и забываем, что «движение уже давно дано» — дано, например, детством, семьей, подталкивающей к ироническому вольнодумству и мыслям о справедливости. Будь другое детство, другая семья — необыкновенная личность все равно бы проявилась — но как! Может быть, министром или камергером: а в революционеры, которые неизбежно, необходимо должны теперь появиться, — в революционеры пойдет кто-то другой… Все жизненные тропки, среди которых приходится выбирать, начинаются с одной точки — рождения: расходясь, они сначала еще недалеки друг от друга. Но чем дальше, тем больше расстояние, разница; и когда-нибудь тропки так далеко разойдутся, что невозможно даже представить их древнее пересечение в изначальной точке. 3. Но тому, кто уверен в своей правоте, все на свете ее подтвердит и усилит. Если уж богатый аристократ сошел на «дорогу торную», у него сразу некоторые преимущества, скажем, перед радикальным буржуа. Дворянин неплохо знает народ: крестьяне в его имении, солдаты в полку. Он меньше заражен буржуазной скаредностью, мещанскими устремлениями. Он имеет выгодные возможности развиваться, просвещаться. Самое трудное для аристократов — свернуть со старого тракта, протоптанного предками. Но как только свернут, их движение будет необычайно ускорено «благоприятными факторами». И будто из-под земли «среди пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников» вдруг появляется «фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Написав эти строки, Герцен спросил: «Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?» Затем ответил сам себе: «Она была в них, — для меня этого довольно теперь…» VIII 1. 15 марта 1818 года царь Александр I поднимается на трибуну варшавского сейма в польском мундире и с орденом Белого орла. «Образование, существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений… Таким образом вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уж с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут настоящей зрелости». Царь просит поляков доказать, что «законно-свободные учреждения, коих священные начала смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, — не суть мечта опасная. Вам принадлежит ныне явить на опыте сию великую спасительную истину… Могу ли я, не изменяя своим намерениям, распространить то, что уж мною для вас совершено?» Самодержавный император всероссийский с 1815 года был по совместительству конституционным царем польским. Речь при открытии сейма польские депутаты слушали сочувственно, зато посмеивались над всем этим театром съехавшиеся на церемонию солидные люди — великие князья, русские генералы и сановники. « — Что из этого будет? — спрашивает генерал Паскевич графа Остермана. — А вот что будет: что ты через десять лет со своею дивизиею будешь их штурмом брать». Паскевич замечает в своих записках, что его собеседник несколько уменьшил годы и чины: «Через 12 лет… я брал у них Варшаву штурмом как главнокомандующий». Даже убежденный монархист Ростопчин приходил в негодование при мысли, что побежденные поляки будут иметь то, в чем отказано победившим русским. «И если бы это была только мишура, — говорил он, — которую жалуют в знак милости…» 2. Ревность к Польше, слухи о возвращении украинских и белорусских провинций, ходившие в столице уже несколько месяцев, к тому же страшные известия из военных поселений — все это вызвало еще осенью 1817-го два порыва к цареубийству: Ивана Якушкина и Федора Шаховского. Лунин только что приехал в Москву, где ввиду прибытия двора и гвардии «в воздух чепчики бросали». Горящие глаза, «цареубийственные кинжалы» — все это вызывает у него подозрение, да и не у него одного. Сергей Муравьев-Апостол некоторое время не иначе величает Шаховского как «le tigre»[43], о Якушкине же гадают, не распален ли он несчастной любовью к Наталье Щербатовой (которая волею судеб вскоре выйдет замуж за другого «цареубийцу», Шаховского). С год назад Лунин охотно обсуждал планы покушения («партия в масках на Царскосельской дороге»), теперь же он — против; что изменилось? Автор монографии о Лунине профессор С. Б. Окунь думает, что все дело в расчете: «Если проект цареубийства, выдвинутый Луниным в 1816 оду, полностью вытекал из „целей“ и „духа“ Союза спасения, то о предложениях 1817 года этого сказать нельзя. В противоположность лунинскому проекту, предусматривающему при условии полной готовности общества к восстанию не убийство Александра как такового, а удаление верховного правителя с целью приблизить время установления нового строя, предложения Якушкина и Шаховского были направлены непосредственно против личности Александра и совершенно игнорировали готовность тайной организации к использованию результатов этого акта. Это был чисто импульсивный порыв…» Так-то оно так, да ведь год назад Лунин посмеивался над Пестелем, который хотел прежде «енциклопедию написать». Год во Франции, очевидно, прибавил терпения и опытности. К тому же слишком громкие слова произнесены для слишком большого числа свидетелей: Николай I 30 лет спустя записал: «По некоторым доводам я должен полагать, что государю еще 1818-м году в Москве после богоявления[44]сделались известными замыслы и вызов Якушкина на цареубийство: с той поры весьма заметна была в государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видал столь мрачным, как тогда…» 3. Министр двора Петр Волконский пытался успокоить царя насчет тайных обществ. Александр I отвечал: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении: к тому же они имеют огромные средства, в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды…» Действительно, Якушкин, Михаил Муравьев, Иван Фонвизин и Бурцов, использовав свои связи, быстро собрали деньги и, минуя правительство, спасли от голодной смерти тысячи людей. Декабристы — для человека нашего времени — в основном «люди 14 декабря», члены военных обществ, идущих на восстание. Первые же годы декабризма читателю обычно меньше знакомы. А время было интересное, и события — небывалые! Более двухсот человек составили в начале 1818 года новое общество — Союз благоденствия — с управами в Петербурге, Москве, Киеве, Тульчине, Кишиневе и других местах. План прост и замечателен: царь только что произнес в Варшаве, что ждет, когда Россия будет готова к принятию законно-свободных учреждений. Пока «царь-отец рассказывает сказки», надо воспользоваться его же лозунгом и самим по-своему подготовить Россию. Две сотни организованных, влиятельных молодых офицеров и чиновников — это немало. У каждого — сотни знакомых, чьи связи и средства могут быть осторожно использованы, а царь, даже если узнает, окажется в двусмысленном положении: не запирать же в тюрьму честных людей за желание «помочь» его собственным планам. Если бы еще был военный заговор или одобренный обществом план цареубийства, но ведь нет этого. 4. Членам предоставлялись на выбор четыре отрасли, в которых можно действовать: 1) человеколюбие, 2) образование, 3) правосудие и 4) общественное хозяйство… Правда, это лишь непосредственные цели. Есть еще — дальняя, сокровенная, но о ней после… И началось… «Порицать: 1) Аракчеева и Долгорукова, 2) военные поселения, 3) рабство и палки, 4) леность вельмож, 5) слепую доверенность правителя канцелярии (Гетгун и Анненский), б) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты, 7) крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях. Желать: открытых судов и вольной цензуры. Хвалить: ланкастерскую школу и заведение для бедных у Плавильщикова». М. В. Нечкина справедливо замечает об этом документе: «Такова беглая запись, случайно дошедшая до нас памятка о том, что должен делать один член Союза благоденствия (Федор Глинка) в течение какого-то дня или дней. А их было не менее двухсот, и действовали они в течение трех лет…» Помещик Маслов не выпускает на волю крепостного поэта Серебрякова — союз собирает деньги. Другой помещик запирает неугодного раба в дом сумасшедших — член общества узнает, его друзья быстро доводят до верхов, начинается скандал, человека выпускают (отрасль человеколюбия). Блестящий гвардеец, бывший лицеист Иван Пущин совершает неслыханный поступок: уходит в надворные судьи и вторгается в мир московского правосудия, куда доселе не ступала нога человека… Федор Глинка: «Таким образом, кажется, для пользы общей и правительства многие взяточники обличены, люди бескорыстные восхвалены, многие невинно утесненные получили защиту: многие выпущены из тюрем, и, между прочим, целая толпа сидевших по оговору воровского атамана Розетти, иные, уже высеченные (по пересмотрении дела), прощены и от ссылки избавлены; духовный купец Саватьев уже с дороги в Иркутск возвращен и водворен благополучно в семействе: а другой костромской мещанин, высеченный, лишенный доброго имени и сосланный в крепостную работу, когда успели сделать, чтобы дело о нем было пересмотрено, разумеется по высочайшему повелению, московским сенатором был найден невинным и освобожден от крепостной работы и возвращен восвояси, и отдано ему честное имя». 5. Ланкастерские школы взаимного обучения быстро распространяются. За малый срок 1000 человек обучено грамоте в столице, более 1500 на Украине, сотни в Бессарабии: все больше солдаты (отрасль образования). 6.«Нельзя же ничего не делать оттого, что нельзя сделать всего!» — восклицает Николай Тургенев. Лунин не принадлежит к людям, которые спокойно ждут, пока их не вынесет куда-нибудь поток обстоятельств. В его характере — больше брать на себя, совершить настоящие дела для себя,которые, естественно, будут и делами для других. Такие люди всегда уверены, что от самого человека зависит куда больше, чем ему кажется, а жалобы на «трудные обстоятельства» констатируют не столько чужую силу, сколько собственное бессилие. Теперь же, в обществе, чем Лунину заняться; в какой «отрасли» проявится его «личный максимум»? Бунт, «партия в масках на Царскосельской дороге» — этого пока не требуется, зато судьба тысячи человек прямо зависит от его воли. Николай Тургенев, о чем бы ни говорил или писал, — все сворачивает к тому, что крепостного рабства не должно быть, и «предвидел в сей толпе дворян освободителей крестьян». Якушкин пытается освободить своих крепостных в 1819-м. Михаил Лунин тогда же (а возможно, и прежде) замышляет освобождение крестьян с землей. Составляется черновик первого завещания; затем переписывается и заверяется другой документ: минуя сестру (видимо, из недоверия к «черному Уварову»), все тамбовские и саратовские деревни завещаются богатому либеральному кузену Николаю Александровичу Лунину. Выкупа — никакого, о земле же и прочем кузен должен договориться с крестьянами, действуя согласно инструкции прежнего владельца: очевидно, на словах было решено, что крестьянам отойдет по крайней мере часть земли, хотя прямо об этой земле во втором документе ничего не сказано… Любопытно, что Лунин, будто предчувствуя, что его «естественное существование» продлится недолго, завещает имение бездетному родственнику, который только на два года его моложе. В это же время в лунинских деревнях заводятся пенсии для престарелых, училище и другие просвещенные меры: крестьяне от сергиевского барина не бегали… Таков был вклад члена Коренного союза Михаила Лунина в отрасли человеколюбия, образования и общественного хозяйства… 7.«В это время свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком» (Якушкин). «Либо масонством, либо другим каким мистическим обществом люди, помогая друг другу на пути каждого пособиями, рекомендацией и проч., взаимно поддерживали себя и тем достигали известных степеней в государстве преимущественно перед прочими… В обществе была мода на этот союз, все за честь поставляли быть в нем» (из показаний И. Н. Горсткина). 8.«Хороший журнал теперь был бы в самую пору, и назвать его „Восприемником“. Он за толпу дул бы и плевал…[45]И принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу»(П. А. Вяземский — Н. И. Тургеневу). Тургенев пытается начать журнал, собирает авторов, заказывает статьи, но ничего не выходит. И все же «ученая республика» существует, хоть и полуанархически: литературные общества, рукописи, ноэли Пушкина… Почти все лучшие литераторы сочиняют, говорят и пишут в духе общества, даже и не являясь формальными членами. 9. Несколько высших лиц увлечены потоком, уже стыдно не делать добра! Например, братья Перовские, будущий министр и генерал-губернатор. «Никакого нет сомнения, что Киселев[46]знал о существовании тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы» (Якушкин). Федор Глинка действует около Милорадовича, хитро руководя «хозяином столицы»; Илья Долгоруков — около Аракчеева. «Улей, окруженный роем пчел» и буквы «СБ» — печать Союза благоденствия и символ деятельности. 10.«В это время главные члены Союза благоденствия вполне ценили предоставленный им способ действия посредством слова истины, они верили в его силу и орудовали успешно… Во всех кругах петербургского общества стало проявляться общественное мнение» (Якушкин). В это время генерал Ермолов, увидев прежнего своего адъютанта Михаила Фонвизина, вскричал: «Пойди сюда, великий карбонари! Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он[царь]вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». В это время Лунин приобретает для нужд общества литографический станок новейшей системы и, возможно, литографирует несколько экземпляров «Зеленой книги» — устава союза… Итак, тайно-явный союз, заговор добрых: тихо, мирно овладеть всеми главными отраслями государственной и народной жизни, постепенно улучшить мнения и учреждения, внушить законно-свободные начала, «а между тем, отыскивая повсюду людей с благородным духом и независимым характером, беспрестанно ими усиливаться…», пока, наконец, как спелый плод, свобода сама не пойдет в руки или сорвать ее не составит труда — и не станет ни крепостного рабства, ни самодержавия, а над отечеством свободы просвещенной взойдет, наконец, прекрасная заря! «Везде пробивается зелень конституционного порядка! — восклицает в то время Вяземский. — Она выживет гниль самовластия и в самой закоснелой пошве. Это — эпоха человечества, подобная той, которая возникла от новой прекрасной религии 1800 лет назад…»  П.А. Вяземский Акварель Т. Райта 1844 г. Спустя годы Чаадаев напишет Пушкину: «Ваш почерк напомнил мне время, которое, правда, немногого стоило, но все же было не лишено надежд; пора великих разочарований тогда еще не наступила…» 11. Таков замысел. Сколько же дожидаться «обломков самовластья»? Одни полагали — 20-25 лет. Александр Муравьев говорил — 50, то есть на одно или два поколения… Но возможно ли ждать 20 или 50 лет, допуская, что не дождешься? Подвиг ожидания или подвиг нетерпения? Позже известный педагог Ушинский запишет для себя: «Не будем спешить, побуждаемые эгоистической жаждой вкусить от плодов дел наших!» Что важнее — обстоятельства или силы, способные их переменить? Историческое предопределение или свобода выбора и воли? Уж давно во гробе спит Михаил Никитич Муравьев, а его сыновья и племянники все спорят с ним и с собою… 12. Друг Марса, Вакха и Венеры, Тут Лунин дерзко предлагал Свои решительные меры И вдохновенно бормотал… Сначала Пушкин написал «друг Венеры», выбрав Лунину одно главное божество, затем появились еще два. Было «Лунин резкий», но затем смягчено: «Лунин дерзко…»; в том же духе вместо «губительных мер» — «решительные»… Наконец, «вдохновенно бормотал» — лучше, живее, хоть и насмешливее, чем верное, но скучноватое «… им развивал». Нерешительные были — например, «осторожный Илья», то есть князь Илья Долгоруков. Кузен же Никита — «беспокойный» . тоже один из самых резких и дерзких. В бумагах следственного комитета сохранился список членов Коренного союза (руководящего органа Союза благоденствия). С 10 по 13-й номер — все братья: 10. Сергей Муравьев-Апостол. 11. Матвей Муравьев-Апостол. 12. Никита Муравьев. 13. Лунин[47]. В январе 1820-го на петербургской квартире Федора Глинки главные члены обсуждают конечную цель, и все высказываются за республику, Лунин был там и позже утверждал, что его не слишком интересовала разница — монарх, ограниченный конституцией, или президент: главное, чтоб было народное представительство, действительно контролирующее главу государства… Решение важное, с виду чрезвычайно смелое, но за него проголосовали и дерзкие и нерешительные именно потому, что пока это только общее рассуждение: «лучше бы иметь республику», «конечная цель — республика» (то есть через 20-50 лет); как известно, юному Александру I его учителя доказывали преимущество монархического устройства, Александр же с жаром защищал республиканское… На другой день, однако, перешли запретную черту и вошли в опаснейшую зону. У подполковника Шипова из вчерашних собираются, кроме хозяина, Пестель, Никита Муравьев, Илья Долгоруков, Сергей Муравьев-Апостол и еще некоторые. Лунина как будто не было. Вопрос, давно просившийся наружу, вышел; Никита и Пестель спросили: ежели цель — республика, не ускорить ли пришествие ее цареубийством? Почти все восстали против, Сергей Муравьев в том числе. Илья Долгоруков рисовал после цареубийства «анархию и гибель России». Тогда и после не раз говорилось, что страна еще не подготовлена к свободе многолетним влиянием Союза благоденствия и будет подобна голодному, которому разом дали наесться… Пестель готов к этим возражениям и предлагает для обуздания будущей анархии «временное правление, облеченное верховной властью, дабы обеспечить порядок и ввести новый образ правления», но тут впервые в умах некоторых членов появилась формула «Пестель — Бонапарт» и раздались жаркие возражения против замены одного деспотизма другим. Лунина мы не слышим в этих спорах (он вообще не слишком заметен и не всегда понятен нам в Союзе благоденствия). Судя по всему, он в это время действует заодно с кузеном Никитой, отдавая предпочтение его уму и знаниям. Подвиг ожидания или подвиг нетерпения? 13. Позже, в Сибири, Лунин похвально отзовется об англичанах, которые терпели унижения от Тюдоров, но сохраняли выдержку, ожидая, пока пройдет 25… 50… 100 лет и плод созреет: «Великой Хартии присягали и подтверждали ее до 35 раз, и, несмотря на это, она была попрана ногами Тюдоров. Однако в ту политически незрелую эпоху англичане не взялись за оружие для обеспечения ее существования. Они оценили важность самых форм свободного правления, даже лишенного того духа, который должен их одушевлять, и они вынесли гонения, несправедливости и оскорбления со стороны власти, чтобы сохранить эти формы и дать им время пустить корни».  Граф Н.С. Мордвинов Рисунок Дж. Доу Но в России не было ничего похожего на парламент и Хартию вольностей, ради чего стоило бы терпеть. «Лестницу метут сверху», — говорит Николаю Тургеневу адмирал Мордвинов, видный либерал, член Государственного совета. Иначе говоря — сражаться за преобразования сначала «в верхах»… Николай Тургенев пытается что-то сделать в Государственном совете, новом совещательном учреждении при царе, но не выдерживает: «Чего ожидать от этих автоматов, составленных из грязи, из пудры, из галунов и одушевленных подлостью, глупостью, эгоизмом?» Был в России лишь мощный тайный союз, но это ведь не Хартия и не палата. 14. Подвиг нетерпения или ожидания? Вековая опытность или детская горячность, святое нетерпение или тупое терпение: преобладание одного над другими иногда — дело случая, но чаще обусловлено хорошей или дурной историей, привычкой, традицией. Герцен позже сравнит «хирурга» Бабёфа с «акушером» Оуэном: «Бабёф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось овладеть Парижем, комитет insurrecteur[48]приказал бы Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис[49]он втеснил бы французам свое рабство общего благосостояния, и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру великую мысль в нелепой форме, — мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство довольных. Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны, он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был New Lanark[50]; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, его главный путь водворения нового порядка — воспитание. Заговор для Оуэна был ненужен, восстание могло только повредить ему…» Хирург или акушер?. Герцен понимает, что проблема воспитания, изменения неизмеримо сложнее, чем думали Оуэн и Бабёф. Но все же: «Лекарств не знаем, да и в хирургию мало верим» . Хирургическая традиция в России (школа Петра!) не в пример сильнее, чем акушерская, и если Михаил Никитич Муравьев еще был попечителем и министром, то другого акушера, Новикова, хирурги «укоротили». Союз благоденствия освободит десятерых — Аракчеев поработит тысячу: союз обучит грамоте 3000 солдат, а один полковник Шварц c 1 мая по 3 октября 1820 года только 44 семеновским солдатам отпустит 14250 ударов. Появится десяток честных судей, но что они против десяти плохих законов? 20 отличных стихотворений — и один взмах цензорского пера… Тихое распространение требует мудрости змия. Придется улыбаться аракчеевым, но при этом как бы себя не потерять и по дороге к свободе самим не поработиться. Затруднения этих молодых людей наперед вычислил дальнозоркий Дени Дидро, потолковав с их отцами-дедами: «В империи, разделенной на два класса людей — господ и рабов, как сблизить столь противоположные интересы? Никогда тираны не согласятся добровольно упразднить рабство, для этого требуется их разорить или уничтожить. Но, допустим, это препятствие преодолено, — как поднять из рабского отупения к чувству и достоинству свободы народы, столь ей чуждые, что они становятся бессильными или жестокими, как только разбивают их цепи? Без сомнения, эти трудности натолкнут на идеи создания третьего сословия, но каковы средства к тому? Пусть эти средства найдены, сколько понадобится столетий, чтобы получить заметный результат?»[51] Долготерпения «на десятилетия и столетия» хватило года на три. 15.«Революция, завершенная в 8 месяцев, при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилия, одним словом ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное, — что вы об этом скажете? Происшедшее послужит отменным доводом в пользу революции» (П. Я. Чаадаев — брату). Полковник Риего в новогоднюю ночь 1820 года поднимает полк, и не в Мадриде, а на окраине королевства, Кадиксе; другие войска присоединяются, через два месяца вступают в столицу, король вынужден созвать парламент, дать конституцию. В переводе на русский язык это — если бы восстал, например, Черниговский полк, пошел на Киев, дивизии и армии присоединились; затем — поход на столицу, там тоже поднимаются, и почти без крови — свобода, конституция… В июле 1820-го восстает Неаполь и получает конституцию, в августе — сентябре — Португалия и там парламент. 16. 16 октября 1820-го в Петербурге внезапный бунт Семеновского полка, которого Союз благоденствия не ожидал, «проспал». «Потешный полк Петра-Титана» разогнан… Но солдат-конногвардеец через несколько месяцев скажет: «Ныне легко через семеновцев стало служить; нам теперича хорошо и надо молчать. А если поприжимать будут, то и мы позаговорим». Гвардейских саперов отныне велено наказывать лишь за крупные проступки — «не более 10 лозанов». Один бунтовской день смягчил режим во всех полках раз в десять сильнее, чем это смогли бы сделать все 200 членов Союза благоденствия со всеми их связями. 17. Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет. Народы тишины хотят. И долго их ярем не треснет... Это написано Пушкиным весной 1821-го: в Неаполе конституция («та») погибает, хотя «те» (карбонарии) еще шалят. Мелькнуло сомнение — не желают ли народы тишины вместо свободы? — но тут же отступило перед уверенностью оптимизма: решительные действия лучше тихого смирения. Ужель надежды луч исчез? Но нет, мы счастьем насладимся, Кровавой чаши причастимся — И я скажу: Христос воскрес. Самый осторожный член общества, опасающийся российской дикости и незрелости, не мог в те дни не подумать, что в конце концов Испания и Португалия не слишком уж просвещенные, а добились своего, что, может быть, и в России не через 20 лет, а сразу… Раскол дерзких и осторожных приблизился. 18. «При прощании, показав на меня, Орлов сказал: „Этот человек никогда мне не простит“. В ответ я пародировал несколько строк из письма Брута к Цицерону и сказал ему: „Если мы успеем, Михайло Федорович, мы порадуемся вместе с вами; если же не успеем, то без вас порадуемся одни“. После чего он бросился меня обнимать». Описанная Якушкиным сцена завершила московский съезд 1821 года, когда на квартире Фонвизина тайно съехались делегаты от разных управ Союза благоденствия и решали коренной российский вопрос — «что делать?» (Н. Муравьев и Лунин не смогли быть). Орлов потребовал столь решительных мер, что его серьезно заподозрили, будто он нарочно взял влево, чтоб получить отказ и выйти из общества. Якушкин, наоборот, верит в более разумные пути, не склонен теперь к «цареубийственному кинжалу» и отвечает Орлову как деятельный член ушедшему. Но события поворачиваются круто. Решение распустить Союз благоденствия и как можно шире о том объявить рассматривалось как фиктивное (обмануть выслеживающих шпионов, отделаться как от слабых, так и от слишком горячих членов и образовать новое общество). Уходящих сопровождало утешительное напутствие: «Пока в России существует настоящий порядок вещей, Общество благоденствия может достигаться лишь путем усилий отдельных личностей; никто не мешает, впрочем, человеку, одушевленному лучшими намерениями, прийти к соглашению с одним или двумя из его друзей»[52]. Но формула для других вдруг обратилась формулой для себя — и вскоре Якушкин оказывается в деревне, не у дел, подобно Орлову, Фонвизиным и многим видным членам. 19.«Я очень хорошо помню, что в то же время Никита Муравьев предлагал мне присоединиться к нему и к Лунину для составления нового общества. При сем случае он показал мне какой-то листок литографированный, содержащий правила предполагаемого общества. Это было в его доме на Каменном острову… Видя мой отказ и зная, что недоброжелательствовавшие к нему другие члены бывшего общества показывали всегда, напротив того, доверенность ко мне, он мог, конечно, подумать, что и я отказываюсь от его предложения, потому что думаю завести или завел другое общество с сими членами. Он мог даже сделать сие заключение из моих ответов на его предложение и особенно на настояния Лунина, которые были гораздо сильнее и которым, казалось мне, и Муравьев следовал. Но я, конечно, не отвечал ему именно, что принадлежу к другому обществу: я никогда никого не обманывал ни в обществе, ни в свете». Николай Тургенев пишет это в 1826-м из-за границы, оправдываясь, уменьшая роль тайных обществ. Но, учтя «поправочный коэффициент», увидим и правду. Действие происходит в Петербурге через несколько месяцев после съезда. Лучшим членам объяснен фиктивный роспуск союза, и братья Мишель и Никита, как обычно, настроены решительно (Лунин даже более настойчив). Однако Николай Тургенев не склонен торопиться и сопротивляется натиску кузенов. В это же время на юге Бурцов, в согласии с московскими решениями, пытается оставить вне общества «крайних» — Пестеля и его сообщников. Очевидно, Тургенев также желает оттеснить слишком беспокойного Никиту и дерзкого Лунина. Но кончается тем, что Муравьев и Лунин находят Пестеля, умеренные же — Бурцов, Якушкин, Фонвизин, позже Тургенев — почти все, кто составлял московский съезд, оказываются «на покое». Никто не мешает «осторожным» действовать по-прежнему и, не забывая сокровенную цель (отмену рабства, конституцию), выкупать из неволи, помогать голодным, выступать в «ученых республиках». Но это означало бы создать второе общество — Союз благоденствия рядом с партией революции. Раскол: если многие уйдут в заговор, борьба за человеколюбие, просвещение, правосудие, и без того недостаточная, захиреет… Проще говоря, выбор: либо — к оружию, либо — на покой. Грустная, трагическая в сущности, ситуация — резкие черно-белые цвета, не оставляющие места для полутонов. Новые общества приобретут многих, но многих и потеряют, и не только бездеятельных, но также умных, сильных, деловых. В Союзе благоденствия сходились все — и умеренные, и нетерпеливые. В Северном и Южном союзах при всех течениях и оттенках, конечно, преобладает нетерпение и самопожертвование… 20. С Союзом благоденствия ушла целая эпоха, целая система взглядов. Акушерство отступало перед хирургией. «25 лет» — перед несколькими годами подготовки. Позже, в казематах и Сибири, декабристы не раз заспорят — как же надо было; не раз будет сказано, что действовали правильно, и если бы Трубецкой вышел на площадь, если бы Панов и Сутгоф повернули ко дворцу, если бы Якубович застрелил Николая I, — тогда взяли бы власть, сразу издали бы два закона — о конституции и отмене рабства, — а там пусть будут междоусобицы, диктатуры — истории не повернуть, вся по-другому пойдет! Но говорилось и о том, что, может быть, следовало еще попробовать по-старому, «роем пчел вокруг улья и СБ ». Вот два свидетельства с двух российских полюсов: И. Д. Якушкин (в августе 1826 года его везут в цепях из Петербурга вместе с Александром Бестужевым, Арбузовым и Тютчевым): «На одной станции, где мы обедали в особенной комнате, завязался очень живой разговор между мной и Бестужевым о нашем деле; я старался доказать ему, что несостоятельность наша произошла от нашего нетерпения, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием под землей, никем не замеченным, но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз — „И потому упали вниз“, — сказал наш фельдъегерь, стоявший сзади меня и о присутствии которого мы совершенно забыли. На этот раз его вмешательство было так кстати, что мы все расхохотались». М. Я. Фон-Фок (помощник Бенкендорфа, один из основателей III отделения) анализирует в секретном докладе «планы и намерения заговорщиков» и между прочим пишет: «Первоначально составленный ими Союз благоденствия был в нравственном отношении гораздо извинительнее последовавших замыслов и покушений; но в отношении государственном, политическом — гораздо оных опаснее. Умысел против любимого, законного государя, явное возмущение, употребление средств безнравственных и злодейских возбуждают ужас, негодование и омерзение и в правительстве, и в народе. Но тайное общество людей, полагающих или хотящих быть добродетельными, действующее тихо, медленно, но верно, под благовидными предлогами вооружающее против явных злоупотреблений, жертвующее общему благу собственным достоянием и проч., — есть опасный внутренний нарост, который со временем, нечувствительно, без видимых потрясений, может задавить государственную жизнь или, сделавшись орудием злодейства, ниспровергнуть правительство, мало-помалу лишенное им уважения, доверенности и силы». 1821-й разделил, но не решил… Кажется, место Лунина во всем происходившем ясно (хотя сведения о нем за эти годы очень скудны, а большинство писем и других исторических документов, видимо, было уничтожено в ожидании ареста): три года, с 1818-го, участвовал в «заговоре благородных», но был в числе решительных; посмеивался над пустословами, пугал осторожных, вместе с Никитой стоял за республику — и таким, кажется, ему и быть впредь. Действительно, целый год еще таким и был — но, кажется, только год… IX 1.25 апреля 1821 года. Из дневника Н. Тургенева (Петербург): «Из клуба заходил с Чаадаевым к Муравьеву. Видел приехавшего недавно Лунина. Он говорил, что будто бы порода сенаторов переводится и хотят завести сенаторский завод для улучшения породы и подобный вздор». Взгляды и шутки Лунина не слишком серьезны для Тургенева.  Н.И. Тургенев С литографии А. Зенефельдера Апрель-май. Гвардию выводят на 15 месяцев «проветриться» в Литву и Белоруссию. Никита Муравьев и Лунин намерены вернуться на службу, уже подали прошения и отправляются вместе с полками (или вослед). Интерес к службе, армии — в духе событий (Риего, Семеновский полк). 1 октября. Никита Муравьев официально принят на службу в Гвардейский генеральный штаб. Осень 1821-го.Лунин прибывает в местечко Бельмонт близ Полоцка, где находится Преображенский полк. Вместе с Шиповым он принимает в общество Александра Поджио, говорит ему о будущем покушении на паря, восстании войска и «что Риего с одним батальоном сие произвел в Испании». У Лунина «Зеленая книга», то ли рукописная, то ли изготовленная на его литографическом станке, и он предъявляет ее новому товарищу. «Уверен я, — писал Александр Поджио, — что если бы Лунин там остался, то мы бы склонили к сему и других». Ревностный заговорщик хорошо виден. Пока Лунин таков, каким он «должен быть». Много лет спустя Завалишин вспомнит, что «по показанию Лунина это именно [адмирал]Головнин предлагал пожертвовать собою, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-нибудь корабля». «Показания» такого в бумагах Лунина нет, но если есть в этом рассказе хоть тень истины, то умысел Головнина, известный Лунину, должно датировать примерно 1821 годом. 20 января 1822 года. Высочайшим приказом Лунин зачислен с прежним чином ротмистра в Польский уланский полк в подчинение великому князю Константину Павловичу, управляющему Польшей и западными губерниями. Конец 1821-го — начало 1822-го. Никита Муравьев «вдруг» «удостоверился в выгодах монархического представительного управления и в том, что введение оного обещает обществу наиболее надежд к успеху». В Минске он составляет первый вариант конституции: будущую Россию должен возглавить император, ограниченный народным вече; крестьяне освобождаются, но без земли. Тогда же. Пестелю и его сообщникам не по душе проекты Никиты: желают республики и освобождения крестьян с землей. Явно вырисовываются два общества — Северное и Южное. Начало 1822 года. Лунин прибывает к своему полку в Слуцк. Через два года переводится подполковником в Варшаву, командиром эскадрона лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. С того же времени — адъютант великого князя Константина. 2. «Что, унялся теперь от проказ? — спросил цесаревич Лунина. — Тогда мы, ваше высочество, молоды были, — отвечал последний, намекая не на одно свое прошлое» (из записок Ульянова). Ответ вполне лунинский: намек на несостоявшуюся дуэль или известные всем бесчинства, которым Константин предавался в юности. Все это время Лунина в тайных обществах не видно и не слышно. На допросах скажет: «Определяясь на службу, в 1822 г., я действовал, по-видимому, сообразно правилам тайного общества, но сокровенная моя в том цель была отдалиться и прекратить мои с тайным обществом сношения». Что случилось? Есть ли связь между неожиданной умеренностью Никиты, решительностью Пестеля и уходом Лунина? Да был ли сам уход? 3. Профессор С. Б. Окунь пишет: «Лунин… не лгал, когда утверждал на следствии, что „отдалился“ от общества. Он лишь не договаривал, какое общество здесь имеется в виду. Он действительно вскоре после приезда в Польшу отошел от Северного общества, но, оставшись верным единомышленником Пестеля, поддерживал непосредственную связь с Южным». В защиту этой мысли Окунь затем приводит несколько доводов. Во-первых, известно, что Лунину в 1820 году нравились наброски «Русской правды» Пестеля, он сам стоял за цареубийство, и, значит, ему не могла понравиться монархическая конституция Никиты Муравьева. Во-вторых, Пестель хотел поставить Лунина во главе «обреченного отряда» [53]. В-третьих, «выдвижение Лунина в качестве посредника Южного общества при переговорах с Польским обществом». Проблема остра, документов мало… В 1821-м Лунин стоял за цареубийство — но ведь и Никита был точно таким, да вдруг переменился: почему с Луниным не могло случиться того же? Пестель действительно думал поставить Лунина во главе «обреченного отряда», но притом объявил на следствии, что Лунина о своем намерении не оповещал и «не имел с самого 1820 года никакого известия о Лунине»[54]. И этому должно верить. Если б Пестель «знал», то на допросах не скрыл бы (подробнее об этом — ниже). Александр Поджио, видный деятель Южного общества, объявляет следствию: «С 1821 года я Лунина не видал и ничего не слыхал о нем уже в возобновившемся обществе: знаю, что сношений с обществом никаких не имел, по крайней мере, о сем ничего не слыхал; что, вероятно, Муравьевы, как родственники ему, мне бы передали» (и этому тоже должно поверить, исходя из общего духа показания Поджио в этот момент). Переговоры с поляками Пестель действительно думал вести через посредство Лунина, но согласия самого Лунина, очевидно, не имел. Ни один из польских заговорщиков не сообщил о своих переговорах с адъютантом Константина (причем далеко не все держались стойко: князь Яблоновский, например, многое открыл, но притом показал, что Лунин «избегал всякого политического разговора» ). Таким образом, решительность Лунина, оставшаяся в памяти южан, сохраняла надежду на его привлечение, но, кажется, не более того. 4. Почти через 20 лет, в Сибири, Лунин завершил свою работу о Польше словами, свидетельствующими, что примерно те же мысли он проповедовал между 1822-м и 1826-м: «Мы думаем, что выполним долг благодарности перед Народом, оказавшим нам гостеприимство в бурную эпоху нашей политической карьеры, сказав ему непритворную и беспощадную правду. Мы говорили одним и тем же языком при дворе его (польского народа)короля и в салонах его вельмож, но нас не хотели понять. Мы надеемся, что наша речь будет лучше понята в более скромных жилищах, где мы часто находили пристанище после усталости и опасностей охоты, где картины домашнего счастья и соединения семейных добродетелей открывали нам источник гражданских доблестей, которые служат украшением характера поляка, и тайну прекрасного будущего, которое предназначено этому народу, когда он будет действовать в согласии со своим естественным союзником». О чем же он говорил при дворе, в салонах и «скромных жилищах»? 5. «Вы осуществили желание вашей отчизны и оправдали мое доверие. Моя задача теперь — убедить вас, какое влияние будет иметь образ ваших действий на ваше будущее». Так говорил Александр I 13 июня 1825 года при закрытии сессии польского сейма. Царь был благодушен, потому что сейм на этот раз вел себя смирно: все предложения, исходившие от правительства, одобрены, ожидаемых выступлений оппозиции не было, а шумный депутат Немоевский схвачен при въезде в Варшаву и отправлен домой… При этом, правда, была нарушена парламентская неприкосновенность, здание сейма окружено войсками и шпионами, дебаты не публикуются, цензура объедается книгами и газетами, арестованных же ввиду переполнения тюрем запирают в монастыри… Но депутаты терпят, царь ободряет, и российский произвол все же ослаблен кое-какими важными свободами: за несколько лет службы в Польше Лунину случается .видеть вещи, его приятелям незнакомые. 6. Вот Новосильцев к нам приехал из Варшавы. «А знаешь ты, как пан сенатор разъярен?..» Адам Мицкевич не обошел в «Дзядах» этого «злого духа» Польши. «Царство Польское всегда будет кремень, который от удара дает искры» — так начал Николай Новосильцев один из докладов императору. Императорский комиссар контролирует не только варшавское правительство, сейм и армию, но от имени царя присматривает и за Константином, который этого надзирателя боится и ненавидит. Дьявольски .умный и опытный Новосильцев чувствовал в варшавском обществе неистребленный вольный дух, догадывался, конечно, о тайных мечтах Константина надеть польскую корону и постоянно предлагал царю урезать чахлые польские свободы. Один из проектов ссылался на финансовый дефицит польского хозяйства: Россия не может покрывать польские расходы, если Польша ей не подчинена полностью… Другой план был еще тоньше и предполагал удушение Польши через посредство… конституции. 7. «Таким образом, избиратели могут, пожалуй, назначить, кого им вздумается, например Панина» — так отреагировал Александр на проект общероссийской конституции, которую по царскому приказу в глубочайшей тайне разрабатывал Новосильцев. Обещание 1818 года-распространить законно-свободный режим с Польши на всю империю привело к составлению «Уставной грамоты», то есть Российской конституции. Лунин, как и другие осведомленные люди, без сомнения, знал о ее существовании. Царь прочел и задумался: будет конституция, и вдруг изберут ненавистных ему. Например, Никиту Панина (организатора свержения Павла I, давно сосланного в деревню). Новосильцев, однако, успокоил Александра — в будущем российском парламенте можно ведь избирать на каждое место трех депутатов, а царь из них после отберет одного, кого пожелает… Как совместить репрессии, вдохновленные российским комиссаром, и конституцию, писанную под его началом? Новосильцев думал, что такая конституция укрепит режим. Одна из любезных ему идей заключалась в том, чтобы «растворить» польский сейм в общероссийском; в последнем большинство будет всегда за великой державой, свободные привычки на Неве не так укоренились, как на Висле, и в сумме власть русского царя выиграет. Пока же. министр продолжал упражняться в зловещей диалектике: сажает, запрещает, высылает, чтобы… «освободить»; ибо для приближения дня конституции подданным должно вести себя хорошо и заслужить доверие государя: «образ ваших действий будет иметь влияние на ваше будущее»[55]. 8. Грамотная Польша разделилась: меньшинство (несколько вполне продавшихся министров, вроде Грабовского, и их ставленники) шло с Новосильцевым/запирало в тюрьмы соотечественников, укорачивало газеты и университеты. Многие ушли в заговоры, тайные общества. Как раз в «лунинские годы» выслали в Россию Мицкевича, схватили несколько активных заговорщиков, и один из них, Валериан Лукасинский, 37 лет проведет в Шлиссельбургской крепости, не ведая, что происходит на воле: в 1854-м па тюремной прогулке он столкнется с Бакуниным и успеет спросить, — кто царствует и жив ли Константин? (а Константин уже 24 года в могиле!..) Но было еще и третье направление. Министр просвещения Станислав Потоцкий добивался открытия Варшавского университета и нескольких институтов, довел число учащихся в стране до 36 тысяч, и хотя позже люди Новосильцева это число сильно сократили, но важный толчок был дан. Новосильцев не без умысла ставит во главе министерства финансов своего приятеля Любецкого, а тот вдруг сумел так поставить дело, что дефицит исчез, и даже Александр I вынужден похвалить… Школы, экономика, сейм: постепенное подведение крепкого фундамента под некрепкую свободу — так вела дело «умеренная партия». И снова старые вопросы в духе русского Союза благоденствия. Подвиг ожидания или подвиг нетерпения? 9. Лунин знаком со многими нетерпеливыми и понимает их чувства не хуже, чем язык[56]. Тайный агент докладывал Константину, что Лунин, вернувшись с охоты, отправил подстреленную дичь «хворой княгине Яблоновской» (жене арестованного заговорщика). Рассказывали, будто Лунин, как прежде в Петербурге, выходил прогуляться по парку Вилланова с медведем, и хозяйка парка графиня Потоцкая умоляла его прекратить эту забаву. Лунин вежливо отвечал, что «если бы среди поляков не оказалось предателей, то она не имела бы неудовольствия видеть в своем дворце ни двуногих, ни четвероногих медведей». Но есть и другие документы. 10. «Лунин делал много добра полякам, но не доверял им в политическом отношении» (Завалишин). В одном из поздних писем он сообщил друзьям, что польские заключенные к нему хорошо отнеслись и что он не ожидал«столько добродетели в недрах Святой Польши». О восстании 1830-го напишет: «Соблазн, которого следует избегать, и печальный признак духа нашего времени…» 11. Он оригинален и одинок, потому что в разладе и с большинством поляков и почти со всеми русскими: находит, что в Польше были в те годы условия «для справедливого и легального сопротивления произвольным действиям власти». Конституция 1815 года, варшавский сейм, о котором могут только мечтать Москва и Петербург, — вот, по Лунину, позиция, которую должно защищать действиями «пассивными, но действительными». Одним языком он говорит «при дворе короля» (очевидно, в резиденции Константина) и среди польских аристократов: пытается смягчить «прения сторон», проповедуя естественность союза, а не вражды двух народов, и охлаждая горячие страсти, рвавшиеся к незрелому бунту («но нас не хотели понять»). Сдерживая польский бунт, Лунин противодействует и русскому «бунту наоборот» — системе Новосильцева. Однако и здесь «не было понимания». 12. «С большим сожалением узнал я о смерти одного из моих политических противников, председателя Государственного совета графа Новосильцева. Когда он был главой дел в Варшаве, я противодействовал принятой им системе, от которой возникли такие скорбные результаты для королевства и империи. Но разность политических мнений не мешает мне отдать ему справедливость. Он имел много ума, большой навык в управлении и пламенную ревность к исключительным пользам России» (из письма Лунина, 1838 г.). Характерное лунинское уважение к убежденному и умному противнику. Подполковник мог противодействовать могучему министру разными способами, и, надо думать, Константин прислушивался к советам адъютанта. Лунин, кажется, ладил со странным самодуром, которого некогда вызвал на дуэль (впрочем, не потому ли Константин его и возлюбил?). Разумеется, гусар знал цену и прочность такого благоволения, но не был чужд признательности (позже просил сестру помолиться за упокой души великого князя). Совместные планы Южного и Польского тайных обществ предполагали цареубийство в России и одновременно уничтожение Константина в Варшаве. Именно для этого Пестель и хотел иметь Лунина «постоянным представителем». Но Лунин вряд ли хотел того же — и в покушении на Константина мог увидеть нарушение привычных понятий о чести… 13. Среди гродненских гусар такому популярному командиру, как Лунин, ничего бы не стоило набрать членов тайного общества (как это он сделал за короткий срок в Бельмонте среди преображенцев). Но за полтора прошедших века ни в документах, ни в мемуарах, ни в рассказах, переставших быть опасными в более свободные времена, не сохранилось даже намека на такую деятельность Лунина, и почти невозможно представить, чтобы она была… 14. «Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам…» Это написано через много лет, в течение которых Лунин не смирялся. Такая формула, произнесенная в золотые дни Союза благоденствия, понятна, но как ее объяснить в устах того, кто «вдохновенно бормотал»? Приведенные строки, правда, были в письме, посланном через почту, и, может быть, маскировали настоящую мысль. Но в интимной записной книжке находим: «Их [членов обществ] усилия стали казаться осуществимыми и вызвали самые бурные страсти приверженцев неограниченного правления. Движение было чисто нравственным и духовным, но они почувствовали необходимость задушить его в зародыше. Неотъемлемые права человека. 26/14 декабря — только досадное столкновение». 15. Косвенным подтверждением удаления Лунина от тайных обществ могут явиться, между прочим, следующие строки из неопубликованного письма к нему Екатерины Федоровны Муравьевой (матери Никиты) от 6 марта 1825 года: «Ты спрашиваешь, мой друг, меня о Матюше и Сереже. Первый в отставке и живет в деревне, Сережа в полку генерала Рота, около Киева. Поль Пестель был прошедшего года в Петербурге на короткое время, ему дан полк, который находится недалеко от Одессы. Вот, мой друг, ответы на все твои вопросы»[57]. Трудно, конечно, представить конспиративные связи Лунина с Южным обществом, если только от тетушки он узнает известия за несколько последних лет, касающиеся вождей этого общества — кузенов Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов и старинного приятеля Павла Пестеля.  М.И. Муравьев-Апостол С акварели Н. Уткина 1823-1824 г.  С.И. Муравьев-Апостол С акварели Н. Уткина 1815 г.  А.В. Поджио С акварели Н. Бестужева 1823-1824 г. 16. Что-то важное должно было произойти с 34-летним Луниным, чтобы он перестал «дерзко предлагать…». Могли, разумеется, явиться личные причины (невеста Александра Муравьева ведь пела «Марсельезу», но, когда стала женою, увлекла мужа прочь от опасных затей). У Лунина были «личные причины», но трудно представить этого человека сложившим убеждения к ногам прекрасной панны. Нет, тут что-то иное, более сложное и общее, и, коль скоро существует это иное, к его влиянию могут прибавляться уже и личные обстоятельства… 17. 1 декабря 1823 года Пушкин из Одессы пишет Александру Тургеневу, сообщая отрывки из стихотворения «Наполеон»: … Хвала! Ты русскому народу Высокий жребий указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал… Процитировав, Пушкин замечает: «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года — впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басни умеренного демократа Иисуса Христа („изыде сеятель сеяти семена своя“ ): Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвинной В порабощенные бразды Бросал живительное семя — Но потерял я только время, Благие мысли и труды… Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич. Два года назад, хотя народы тоже «хотели тишины», но все же — «кровавой чашей причастимся…». Теперь же — «паситесь, мирные народы…». 1820-й-год быстрых революций и конституций, а 1821 — 1823-й — это войны Священного союза, подавляющего революции и конституции при молчании или пассивности освобожденных. Конгресс императоров в Лайбахе торжествующе объявляет: «Войска государей союзных, коих назначением единственным было усмирение бунтующих, а не приобретение или охранение каких-либо особенных выгод, пришли на помощь народу, порабощенному мятежниками. Он в сих воинах увидел защитников свободы его, а не врагов его независимости…» Как видно, «с той стороны» энергично включаются в споры о просвещенности, которая неминуемо несет народную свободу. «Вот кесарь — где же Брут?» Можно быть уже просвещенным, но еще недостаточно просвещенным… Испания восстает в 1820-м, а в 1823-м испанские крестьяне выдают Риего палачам. Те же страны, которые год-два назад обнадеживали, теперь разочаровывают: народ (значит, и солдаты) куда менее готов, куда более привержен к тем, кто «режет и стрижет». Интуиция Пушкина приводит его к пересмотру многого, внутреннему кризису. Сходные причины вызывают кризис, серьезные раздумья и у других. 18. Н.М. Дружинин в своей книге о Никите Муравьеве, вышедшей в 1933 году, объясняет поворот во взглядах декабриста громадным наследством, полученным от деда со стороны матери: Муравьев сделался владельцем многих тысяч душ и миллионных капиталов. М. В. Нечкина, однако, справедливо заметила, что доходы и взгляды Муравьева меняются не слишком синхронно, и видит главную причину перемены в усилении реакции: «В период реакции общественное движение протекает в особых условиях и всегда резко поляризуется. Колеблющиеся отходят, менее стойкие подаются вправо. Репрессии после семеновского восстания, дикий „профессорский процесс“, свирепствование цензуры, гонение на всех свободомыслящих, далее — веронский конгресс, запрещение правительством тайных обществ содействовали движению Никиты Муравьева вправо». К этому можно добавить, что Муравьев сделался умереннее не из страха (его конституция была для властей всегда достаточно преступной. После окончательного запрещения масонских лож и тайных союзов, 1/VIII 1822 года, даже умеренное общество — нарушение закона). Вряд ли случайно, что новые взгляды появились у него во время похода гвардии и многомесячного общения с солдатами и офицерами. Одно дело «резко витийствовать» в компании единомышленников, другое — присмотреться к силам, соразмерить лозунги и аудиторию. Приближение к народу открыло Муравьеву силу, стойкость монархического идеала, и, будто предчувствуя, что 14 декабря солдаты выйдут на площадь с криком «Да здравствует царь (Константин)!», Муравьев помещает монарха в свою модель будущей России. Между прочим, на первых порах он объяснял Пестелю, что сохраняет монарха, «как занавес, за которым мы сформируем наши колонны». Присматриваясь к России и Западу, Муравьев с грустью убеждался, что «народы тишины хотят» : не следует ли отсюда, что надо рассчитывать на самые восприимчивые, грамотные слои народов? Не повлияла ли эта мысль на введение в муравьевский проект имущественного ценза? Новые события — новые взгляды; но события еще не настолько сильны, чтобы Муравьев сейчас же ушел на покой… 19. Дружина Пестеля более устойчива: реакция делает ее злее; но утихающие западные бури и российская косность охлаждают даже самых горячих. О кризисе, посетившем Пестеля в 1825-м, скажем после. Еще раньше «заболел» Матвей Муравьев-Апостол. Сохранилось его письмо к брату Сергею от 3 ноября 1824 года. Основная мысль — несозревшие условия, неготовность людей к решительным переменам. К сожалению, многие соображения старшего из троюродных братьев Лунина были верны. Осудив сначала слабую конспирацию общества, Матвей Муравьев продолжает: «Я глубочайшим образом убежден, что в данный момент нельзя предпринять абсолютно ничего, — в Петербурге нет ничего такого, что оправдало бы [мнение] твоих друзей. Скажу тебе, что я проверил на опыте, что сделать тут ничего нельзя. Приезды [в Петербург], имевшие место, оставили зародыш разъединения — иначе и быть не могло. С одной стороны, говорили о чувстве, с другой — о вероятности, что очень уж холодно. К чести тамошних я должен сказать, что они с уважением отзываются обо всех вас, чего не делают с вашей стороны… И я спрашиваю тебя… скажи по совести: такими ли машинами возможно привести в движение столь великую инертную массу? Принятый образ действий, на мой взгляд, никуда не годен, не забывай, что образ действия правительства отличается гораздо большей основательностью. У великих князей в руках дивизии, и им хватило ума, чтобы создать себе креатур — Я уж и не говорю о их брате [царе], у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают. Эти господа дарят земельные владения, деньги, чины, а мы что делаем? Мы сулим отвлеченности, раздаем этикетки государственных мужей людям, которые и вести-то себя не умеют. А между тем плохая действительность в данном случае предпочтительнее блестящей неизвестности. Допустим даже, что легко будет пустить в дело секиру революции; но поручитесь ли вы в том, что сумеете ее остановить? Армия первая изменит нашему делу. Приведи мне хотя бы один пример, который бы, не скажу, доказывал, но хотя бы позволил подозревать противное. Нашелся ли хотя бы один офицер Семеновского полка, который подверг себя этому, но дело идет не о пользе, которую это принесло бы, а о порыве к иному порядку вещей, который был бы сим обнаружен. Признаюсь, я еще более недоволен вашими переговорами с поляками… Силы наши у вас в обществе — одна видимость, нет реши-тельно ничего надежного. Дело не в том, чтобы торопиться, — я в данном случае и не понимаю применения этого слова. Нужен прочный фундамент, чтобы построить большое здание, а об этом-то меньше всего у нас думают. Будет ли нам дано пожать плоды нашей деятельности — предоставим это провидению; нам же надлежит делать то, что мы должны делать, — и ничего более… Мне пишут из Петербурга, что царь в восторге от приема, оказанного ему в тех губерниях, которые он недавно посетил. На большой дороге народ бросался под колеса его коляски, ему приходилось останавливаться, чтобы дать время помешать таким проявлениям восторга. Будущие республиканцы всюду выражали свою любовь, и не думайте, что это было подстроено исправниками, которые не были об этом осведомлены и не знали, что предпринять. Я знаю это от лица вполне надежного, друг которого участвовал в этой поездке. Я был на маневрах гвардии; полки, которые подверглись таким изменениям, не подают больших надежд. Даже солдаты не так недовольны, как мы там думали. История нашего полка[58]совершенно забыта… Вот, мой друг, что я хочу тебе сообщить при свидании, которое, я надеюсь, должно вскоре состояться. Не удивляйся перемене, происшедшей во мне, вспомни, что время — великий учитель». Пушкина, Никиту Муравьева, Матвея Муравьева, Пестеля — всех примерно в одно время посещают сходные мысли: несоответствие мечтаний и действительности. «Я вышел рано, до звезды…» «Время — великий учитель…» Снова вернуться к длительной обработке «порабощенных борозд» (в духе Союза благоденствия) заговорщики уже (или еще?) не могли. Оставалось две возможности: Действовать все резче и решительнее, «штурмовать небо». На этом стоит большинство южан и соединенных славян, а позже, в столице, — Рылеев. Или остановиться: не дезертировать, но удалиться «в запас». Завтра, если ситуация переменится и явится нечто незамеченное, — присоединиться… Тут не робость (робкие давно ушли!) — честность: верим по-прежнему, что свобода лучше рабства, но пока не видим средств и отдаляемся. Кое-кто пытается, правда, поискать третью тропу, но все попадает на одну из двух. Так, Никита Муравьев, в 1822-м не вышедший из общества, но отвергнувший «Крайности», в 1824 — 1825 годах все же отходит от практического руководства северянами и живет с молодой женой в имении. Зато петербургское общество оживляет человек «южного склада» — Кондратий Рылеев. 20.«Не поставляю себе в оправдание отдаление мое от тайного общества и прекращение моих с оным сношений, ибо я продолжал числиться в оном и при других обстоятельствах продолжил бы, вероятно, действовать в духе оного». Лунин, написавший эти строки, не оставил следователям столь яркого документа о «других обстоятельствах», как письмо одного Муравьева-Апостола другому. Только несколько строк, которые он счел нужным представить комитету: «Причины, побудившие меня к тому (прекращению сношений с тайным обществом), были: непостоянный и безуспешный ход занятий общества, изменения в предположенной цели и в средствах к достижению оных, бесполезное разумножение членов общества, уклонение от законно-свободных правил, ложное истолкование моих собственных мнений и наконец: я не имел того влияния на общество, которое хотел иметь и которое, я надеюсь, было бы не бесполезно для общей пользы». Разумеется, Лунин не откровенен и нарочно смешивает «причины» разных лет («разумножение членов» было опасностью во времена Союза благоденствия, другие же причины, очевидно, более поздние). Но все же из ответа видны два важных обстоятельства: общество не такое, как Лунин желал бы. У него были какие-то столкновения с другими членами («ложное истолкование», «не имел того влияния, которое хотел иметь» ). Первое остается нераскрытым. О втором тоже почти ничего не ведаем, кроме каких-то споров с Николаем Тургеневым, впрочем не помешавших Лунину потом активно действовать в Белоруссии… Может быть, там, в Бельмонте или Минске, произошли какие-то неприятные разговоры (членов общества на маневрах собралось немало). Однако с кузеном Никитой, судя по сохранившимся письмам, отношения не ухудшались. «Уклонение общества от законно-свободных правил» можно истолковать двояко: или подразумевается курс на «нарушение закона», мятеж («изменение в предположенной цели и средствах»), или задета«священная и неприкосновенная» личная свобода Лунина и его тяготит положение, описанное Вяземским: «Всякая принадлежность к тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей воле вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя!..» Лунин устал. Обстановка ухудшилась. Шансы на успех военного бунта a la Риего казались весьма небольшими. X 1. Бывший гродненский гусар И. Ульянов вспоминает, «что слышал от генерала Бердяева и что сам знал»: «Лунин был мужчина высокого роста, стригся коротко, имел привычку кусать нижнюю губу. Впрочем, выражение глаз давало разуметь, что у него голова поставлена на своем месте. В обращении со старшими Лунин заметно не стеснялся… Слышал я, что у него была большая библиотека и еще большая свора собак, что он человек богатый и вел разгульную жизнь, что старшим никогда не успевал рапортовать о своей части, зато угощал по-гусарски. В замковую церковь Лунин чаще всего приезжал, что называется, к шапочному разбору, и приход его нередко вызывал замечание, что он уже после завтрака, к чему подавало повод и самое выражение лица, невольно возбуждавшее мысль, что Лунин не чуждался удобствами жизни». 2. Многие побились «о фунте конфект»: «Лунин взялся доказать непригодность уланской амуниции для настоящего дела. Константин скомандовал своим уланам: — Принимать команду от подполковника Лунина! Лунин скомандовал: «С коня!» и, не дав времени коснуться земли, снова скомандовал: «Садись!» При этой поспешности все крючки, шнурочки и пр. полопались, разорвались, отстегнулись, и пышные уланские наряды оказались в самом плачевном состоянии. «Свой брат! Все наши штуки знает», — заметил при этом Константин». Ценитель фрунта, Константин был высокого мнения о службе Лунина и его образцовом эскадроне[59]. Не раз, конечно, было говорено, что следует наверстать упущенное по службе; если бы не проказы и семилетняя отставка — давно был бы Лунин генералом (как Волконский или Чернышев). Даже троюродный братец Артамон Муравьев — уже полковник… Может быть, libertad, «истинное честолюбие», подавлено, и он уже готов, как Чаадаев, допускать существование счастья в «единообразии повседневных привычек»? 3. «Отправлено родным и в погашение долгов 21 297 рублей 64 и 1/2 копейки… Выдано жалований и пенсий по положению Михаила Сергеевича — 3293 рубля 89 с половиной копеек. Отдано в опекунский совет 10 262 рубля 40 копеек. Михаил Сергеевич взял себе лично 10 000 рублей. Сестре Екатерине Сергеевне Уваровой дано 2000 рублей. На отправку лошади Михаилу Сергеевичу в Слуцк — 500 рублей. Почтовые и другие расходы 2535 рублей 24 1/2 копейки… Пожертвовано по нашему судебному делу секретарю и приказным казенной палаты 85 рублей, для присутствующих — сахару, чаю и кофею 23 рубля 81 копейка, ренских вин 51 рубль 60 копеек: без сей политической мази будут скрипеть колеса. Сами вы изволите знать, что у нас все основано на выгодах, на неправосудии… За купленных двух мальчиков у господина Гурьева заплачено 800 рублей…» Так отчитывается перед барином Луниным управляющий его тамбовскими и саратовскими имениями Евдоким Федорович Суслин. Мирные заботы: «политическая мазь», мальчики за 800 рублей, в 1823 году — неурожай, 24-й — «очень хорош», 25-й — «так себе…». Постепенно долги, оставшиеся после покойного батюшки, погашаются, и Суслин поэтически извещает: «Плывущий ваш корабль при помощи божьей достигает своей цели и близок желаемого пристанища, а потому кормчий утешает себя, так как имеет в виду берег и несколько страшится волн и подводных камней…» Барин из Варшавы напоминает, что «и у берега потонуть можно» , а для порядку замечает, что в последнем финансовом отчете Суслина не хватает полушки. Однако отношения слуги и господина, кажется, вполне доверительные, так как управляющий ворчит, что в дробях не силен, а «гусарские правила не все годятся для местных жителей». И снова — о горохе, гречке, мельницах, оброке, пенсиях, двадцати лунинских мужиках, отправленных в столицу обучаться клавикордному, поваренному, фельдшерскому, бронзовому, портняжному делу (впрочем, в тех, кто возвращается, управляющий находит «избалованность», а кое-кто «не выдерживает» : печник Иван Федоров вдруг «вернулся из Петербурга пешком и в самом худом рубище» ). «Заботливым душевладельцем» назвал Сергиевского барина историк Б. Д. Греков, изучавший его бумаги по имению. Правда, сокровенная цель — освободить фамильную вотчину от долгов (и от возможного перехода к другому владельцу!) к весне 1825 года достигнута; правда, крестьяне на барина и приказчика вроде бы не жалуются; правда, завещание предусматривает их освобождение… [60] Но не безнравственно ли свободному человеку пользоваться трудом тысячи душ? И отчего бы тому, кто не боится лишений и зарабатывал в Париже перепискою прошений, не отпустить всех крепостных сразу? Положим, безнравственное в одну эпоху не ощущается безнравственным в другую: Аристотель и Вергилий жили за счет рабов и, кажется, не очень тосковали… Но Лунин и его друзья, если б взяли власть, первым указом отменили бы крепостное право. Сам-то Лунин хорошо понимал противоречие своих идей и положения, но разумного и быстрого выхода не видел. Отпустить крестьян на волю так, как хочет, не сумел бы (имелись определенные законы, предусматривающие, как переводить крепостных в вольные хлебопашцы). К тому же совсем не ясно, что крестьянину лучше: жить за хорошим барином или выйти в вольные, то есть попасть в объятия государственных чиновников. Ведь не зря либеральный адмирал Мордвинов однажды проголосовал против закона, запрещавшего продавать отдельно членов крестьянских семей. «На редьке не вырастет ананас», — объявил он и объяснил, что при существующем порядке, может статься, крепостному сыну даже выгодней расстаться с крепостным отцом, от которого исходит второе тиранство. Дон-Кихот, отказываясь от имения и доходов, должен иметь на этот случай ясный план новой жизни: уйти из армии? Поступить в статскую или частную службу, то есть пополнить число несвободных? Кто знает, какие планы зреют в голове гусарского подполковника, пока он водит свой эскадрон по дорогам Польши, и чего он ждет; неожиданных событий в стране, которые разом разрешат противоречия, или внутреннего откровения, после которого последуют совершенно неожиданные поступки (уход в монастырь, поездка за океан). От него можно было ожидать чего угодно и даже вдруг совсем прозаического: Мой идеал теперь хозяйка, Мои желания — покой… Николай Александрович Лунин 7 августа 1824 года наставляет кузена Михаила: «Береги себя. Теперь едва только наступает то время, и по службе, и по домашним делам, чтобы тебе жить приятно. Женись, если найдешь достойную себя — и я с сердечной радостью приеду на свадьбу»[61]. 4. 15 лет спустя Лунин запишет: «Помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На ней черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены. Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галереи молча! Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ее желтые .волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась…» «Она» — это Наталья Потоцкая, внучка министра, родственница последнего польского короля. Ее роман с русским офицером мог начаться во время его службы в Варшаве, то есть в 1824-1825 годах. Потоцкой было семнадцать лет, Лунину тридцать семь… [62] Мы не знаем, что прервало их отношения. Девушка из королевского рода, конечно, была не ровня тамбовскому дворянину. Через несколько лет после встречи с Луниным ее выдают за князя Сангушко, одного из первых польских магнатов, но красота ее, по воспоминаниям современников, была необыкновенна и сохранилась в восторженных стихах французской поэтессы Дельфины Гэ: Ellem'estapparueaumilieud'unefete Commel'etreidealquicherchelepoete[63]. Наталья Потоцкая-Сангушко прожила на свете всего 23 года и умерла в 1830-м, оставив единственную дочь. 5. Спустя полвека, в 1870 и 1871 годах, два старика-декабриста, пережившие Сибирь, Петр Свистунов и Дмитрий Завалишин, заспорили, и довольно резко. Завалишин вынес на свет многое, о чем декабристы предпочитали не говорить[64]. Свистунов соглашался, что «рассказ о том, чему сам автор был очевидец или в чем лично участвовал, заслуживает полного доверия», но поймал Завалишина на нескольких ошибках, произвольных истолкованиях и самовосхвалении. Спор обострялся тем, что Завалишин выступал в своих записках смело, радикально, Свистунов же начинал свои ответы с выпада против декабристских публикаций Герцена, «сильно предубежденного в пользу всякой революционной попытки и поэтому неспособного к беспристрастному суждению о факте, мало притом и ему известном». Завалишин намекал на чрезмерную откровенность, допущенную Свистуновым перед комитетом. Свистунов же в старости (умер в 1889-м) называл себя «последним декабристом», утверждая, что еще здравствующий Завалишин (умер в 1894-м) к декабристам причислен быть не может, так как на следствии оправдывался, будто вступил в общество, чтобы выдать его власти, но не успел[186]. Оба противника были, по их утверждению, близки с Луниным, каждый представил свой рассказ о его «совращении в католичество», и уж в чем сходятся, тому должно поверить. Завалишин: «По вечерам (на каторге) предметы разговоров были политические, и особенно религиозные, потому что Лунин всегда говорил, что я единственный человек в каземате, с которым он может беседовать о религии, т. к. по серьезному изучению мною источников я один компетентен для подобной беседы, и потому только с одним мною он рассуждал о причинах того, что называли его совращением в католичество, и просил объяснить это его сестре, если я когда-нибудь с ней увижусь…» По Завалишину, переход в католичество произошел в Париже: «Переход от неверия к верованию, а вид и форма последнего определились чистою случайностью… Неверие его поколебали умные аббаты, которые ему показали, как он сам говорил, что в неверии менее логики и больше нелепости, чем в самой нелепой даже религии… В русском духовенстве Лунину пришлось видеть тогда много соблазнов; он рассказывал, что, сопутствуя одной своей родственнице в путешествии ее по монастырям, видел, например, как в Киеве кощунственно торговали святынею, когда даже схимонахи пьянствовали и добивались… личных целей, тогда как во Франции, во время пребывания Лунина там вскоре после реставрации, католическое духовенство, еще не вполне укрепившееся, держало себя очень строго». Окончательно же «Лунин перешел в католичество, бывши в Варшаве учеником и приверженцем известного Мейстера»[65]. Свистунов: «Выехавший из Петербурга после низвержения Наполеона I в 1815 г., М. С. Лунин до отъезда своего за границу в 1816 г. нисколько не занимался религиозными вопросами и, встречая графа де Местра в петербургских салонах, соперничал со знаменитым стариком в остроумии и светской любезности. По смерти отца своего… воротился он из Парижа ревностным католиком. Должно полагать, что быстрый переход из великосветского петербургского омута в то одиночество, в коем очутился он в Париже, имело на него отрезвляющее действие. В душе его, пресытившейся суетностью, возникли неизбежные вопросы о призвании человека и о загробной жизни. Он почувствовал недостаток верования и, убедившись в необходимости его восполнить, с свойственной ему решимостью тотчас приступил к делу и обратился за помощью к пресловутым иезуитам Розавену и Гривелю, о которых в Сибири говаривал часто со мною, потому что и я их знал. По свойству ума своего Лунин быстро обхватывал предмет, но не способен был углубляться в него и не охотник был до отвлеченных умозрений. Иезуиты, отличающиеся умением распознавать людей и пользующиеся этой способностью, чтобы их привязывать к себе, приспособляют религию к характеру лица, жаждущего духовной пищи, на том основании, что легче исказить учение, чем изменить человека; поэтому они наделяют всякого по мере предполагаемой в нем потребности. Лунину, как человеку практическому, жившему больше умом, чем сердцем, они признали более удобным сообщить правила, выраженные в сокращенной формуле, не допускающей никакого мудрования, и вот в каком виде упростили для его употребления христианское учение: «Спасение души должно быть целью нашей жизни, а для стяжания его необходимы лишь молитва и подаяние». Что таким сухим учением мог довольствоваться человек замечательно умный и развитый, нелегко себе объяснить. Доверившись этим иезуитам, слывшим за людей умных и ученых и (по выражению его)специалистов по части религии, он, должно быть, заранее решился положиться на них безусловно, отказавшись навсегда от всякого мышления о предмете, превышающем, по его убеждению, наш разум. Но чтобы слепо подчиниться такому верованию и не допустить до себя тлетворного сомнения, нужна та сила воли, какою он обладал. Поэтому он держался правила ни в какие рассуждения и в прения о религиозных предметах не вступать, даже с людьми верующими…» И Свистунов и Завалишин, ссылаясь на беседы с самим Луниным, утверждают, что обращение произошло в Париже, но Завалишин добавляет, что новое верование укрепилось в Польше (заметим, никто из них не знает или не помнит, что Лунин уже с детства был воспитан в католичестве). Завалишину, хотя он не удерживается от некоторого самохвальства («единственный человек, с которым Лунин мог беседовать о религии…» ), тут следует доверять больше, потому что он действительно был образованнее Свистунова. Однако, судя по запискам Оже, посещение аббата Гривеля вовсе не вызывало еще прилива религиозных чувств у Лунина (в «штатские иезуиты» не поступил). Католицизм Лунина как-то никем не был замечен во времена Союза благоденствия, зато множество свидетелей подтверждают его религиозность в 1826-м и позже… Вероятно, эти противоречия примиряются просто: в детстве аббат Вовилье обращает Михаила и Никиту Луниных в католичество, но до поры до времени этот факт еще не слишком влияет на молодого офицера. В Париже и после возвращения на родину впервые обнаруживается серьезная склонность к вере и католичеству. В Польше «совращение» завершается. Лунин становится ревностным католиком (Б. Г. Кубалов, изучая перечень культовых предметов в сибирском доме Лунина, полагал, что тот втайне принял сан католического священника). Зачем ему все это? Зачем — Чаадаеву, Владимиру Печерину и другим? 6. Завалишин и Свистунов согласно утверждают, что в Париже Лунин «почувствовал недостаток верования» и нашел свой атеизм неосновательным. Лунин «все читал», и основные философские системы были ему, конечно, знакомы. Много позже в его дневнике появляется запись, обобщающая давние размышления: «Философия всех времен и всех школ служит единственно к обозначению пределов, от которых и до которых человеческий ум может сам собою идти. Прозорливый вскоре усматривает эти пределы и обращается к учению беспредельного Писания. Но философия опасна для обыкновенных умов своим пустословием…» Тут, вероятно, какое-то воспоминание об избавлении от «опасного пустословия», когда ему доказали, что «в неверии меньше логики и больше нелепости, чем в самой нелепой даже религии». Понятно, подразумевается не религиозная философия, но прежде всего материалистические (или приближающиеся к ним) системы, предшествовавшие французской революции. В ту пору, когда крушением Наполеона завершилась целая историческая эпоха, память Дидро, Руссо, Гельвеция, Вольтера тревожили не раз. Материализм — якобинцы — Наполеон: вот какую историческую последовательность обличали умеренные и крайние реакционеры, поклонники Священного союза и незыблемых устоев монархии и веры. Интерес к религии сделался даже модою, и вчерашние вольтерьянцы ударялись в религиозные и мистические искания. Но не одни короли и аристократы размышляли о философии и вере. Революция переменила мир, но совсем не так, как желали философы. На строгих законах разума был воздвигнут якобинский алтарь, и тут же потребовались страшные жертвоприношения. Какая-то темная стихия влекла людей, которые могли, каза-лось, все объяснить и предсказать, и все складывалось не так, как они ожидали, и вместе с XIX веком не снизошел рай на землю. Последовательными логическими доказательствами утверждали свою правоту десятки партий и школ. У революционеров — своя истина, у либералов — своя; «все сходится» в пропаганде Наполеона, но стройна и система аргументов Священного союза, Определенным подбором фактов можно обосновать что угодно. Все правы — и никто не прав! И если так, то как же жить, искать верного пути? Или нет такого пути и все на свете одинаково хорошо и плохо? Противоречия, одолевавшие разум после четверти века революций и потрясений, требовали какой-то новой системы, которая откроет истину. «Кризис рационализма» многих толкал к вере, стоящей над логикой. Это было убежищем, но не всем уже доступным. Ум ищет божества, а сердце не находит… «Вера, постигающая бесконечное, — записывает Лунин, — подчинена разуму, который ограничен. В этом заключается внутреннее противоречие. Вера превышает наш разум; но причины, побуждающие веровать, находятся в его компетенции и должны быть ему ясны. «Для разумного служения нашего» (из послания апостола Павла к римлянам)». Противоречия разума, разочарование в философии — вот откуда лунинская потребность в вере. Но экзальтированного, эмоционального ухода от неверия он не знает — и его, кажется, не пугает, что «сердце не находит…». Он заставляет свой ум сделать усилие и поверить: умным патерам легко демонстрировать ему «тупики разума», «нелепость неверия» — он сам может им подсказывать… Человека спокойного, не алчущего познания, кризис разума не слишком взволнует. Он вздохнет — и будет жить по-прежнему. Если б Лунин отмахнулся от этих вопросов, остался неверующим или хотя бы полуатеистом (каких множество было в тогдашней России просто оттого, что копаться во всем этом было неохота), возможно, сделался бы более спокойным, бездеятельным, неинтересным; так же, как другую натуру именно религиозность погубила бы… 7.«И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль скоро атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в бога насилием, оттого что отечество нашел, которое здесь просмотрел… От воспаления, от жажды горячечной…» Князь Мышкин произносит эти слова по приказу своего создателя Достоевского, православно не терпевшего католицизм, ибо «атеизм только проповедует нуль, a католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует». Но даже сквозь неприязнь — видит «боль духовную, жажду духовную». Герцен посмотрит на русских католиков с жалостью: «Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими… Но в русских я камнем не брошу, — они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха». 8. Но отчего же Лунин делается именно католиком, «да еще из самых подземных» ? По Свистунову и Завалишину, все дело в умных священниках, встретившихся ему в критическое время. Завалишин даже видит тут простую случайность: захотелось верить — могла быть принята и другая вера, но православные схимонахи оттолкнули пьянством и корыстью. Кроме этого объяснения, указывают обычно еще на два обстоятельства. Первого — записи Лунина касаются не раз: «В Российской империи, как издревле в Византии, религия, отвлекаясь от ее божественного происхождения, есть одно из тех 79 установлений, посредством которых управляют народом… Служители церкви — в то же время прислужники государя». Второе обстоятельство сложнее. О новом христианстве, соединенном с преобразовательными идеями, толковали в ту пору очень часто. Социальные реформаторы, разочарованные во французских результатах, мечтали использовать, «верно истолковать» католическую религию, мощную, древнюю идеологическую систему. Аббат-социалист Ламеннэ едва начал проповедь, но Сен-Симон уже провозгласил новое христианство важнейшим элементом будущего справедливого устройства. С. Б. Окунь пишет, что знакомство с Сен-Симоном и его учениками поощряло религиозные размышления Лунина, но вслед за тем утверждает: «Переход Лунина в католичество никакого влияния на его общественно-политические взгляды и конкретную политическую деятельность не оказал… Выполняя внешние обряды, он думал и боролся за счастье людей на земле, а не в небесах». Вряд ли, однако, приведенная формула исчерпывает суть дела. Проблема остра и сложна… 9. Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной… Разница православного и католического христианства настолько мала, что богословы и религиозные философы часто признавали: дело вовсе не в спорах о «роли бога-сына в нисхождении святого духа» и некоторых различиях в обряде; и не в том, что православные отрицают непогрешимого папу. Такому человеку, как Лунин, важно было иное… В его записной книжке — целый гимн изящному в католичестве. Для него красота — знак присутствия истины: «Храмы их [других церквей] не оживляются вздохами органов и гармониею музыкальных орудий, которую одни голося не в состоянии заменить. Одежда священников не отвечает условиям изящного в живописи, устройство церкви — изящному в архитектуре… Католическая религия воплощается, так сказать, видимо, в женщинах. Она дополняет прелесть их природы, возмещает их недостатки, украшает безобразных и красивых, как роса украшает все цветы. Католичку можно с первого взгляда узнать среди тысячи женщин по осанке, по разговору, по взгляду. Есть нечто сладостное, спокойное и светлое во всей ее личности, что свидетельствует о присутствии истины. Последуйте за ней в готический храм, где она будет молиться; коленопреклоненная перед алтарем, погруженная в полумрак, поглощенная потоком гармонии, она являет собою тех посланцев неба, которые спускались на землю, чтобы открыть человеку его высокое призвание. Лишь среди католичек Рафаэль мог найти тип мадонны… Католические страны имеют живописный вид и поэтический оттенок, которых тщетно искать в странах, где владычествует Реформация. Эта разница дает знать о себе рядом смутных впечатлений, не поддающихся определению, но в конце концов покоряющих сердце. То видимый путнику па горизонте полуразрушенный монастырь, чей дальний колокол возвещает ему гостеприимный кров, то воздвигнутый на холме крест или богоматерь среди леса указуют ему путь. Лишь около этих памятников истинной веры слышится романс, каватина или тирольская песня. Для бедной Польши воскресенье — семейный праздник, для богатой Англии — это день печали и принужденности. Эта противоположность особенно сильно чувствуется в дни торжественных праздников. Католики окружают свою Мать-церковь, в простоте сердца, с самозабвением и полным упованием исполняют предписанные ею обряды, счастливы ее радостью; сектанты[66]суровы и необузданны, ищут причины, ничему надо радоваться, или погружаются в излишества, чтобы избежать терзающего их сомнения». Эти записи сделаны не в Польше, а в Сибири, но в них видны польские наблюдения и переживания. Однако лунинский католицизм отнюдь не только «эстетическая потребность». Принцип «свободы воли», особенно хорошо разработанный римскими теоретиками, деятельная сторона католицизма — вот что должно было Лунина привлечь. Он мечтает о переустройстве мира и России, но православие ведь сочтет грехом любое выступление против законной власти: «Патриархи и митрополиты, враждуя между собою, не могут определить взаимных отношений. Одни сгибаются под палку мусульманина, другие покорствуют тайной полиции…» Католицизм же более гибок, разносторонен: он превзойдет восточных коллег способностью сгибаться,сотрудничать с тайной полицией, разводить костры для инакомыслящих, но притом с начала XIX века соглашается участвовать в обновлении мира: или — «политикой», или, вслед за Сен-Симоном, перестраивая планету промышленностью, наукой и новым христианством… Русские обстоятельства увлекли Лунина в политику, слишком «западными» казались промышленные и научные рычаги, чтобы сдвинуть самодержавно-крепостническую плиту. Сначала политика, потом «промышленность»: примерно так мог рассудить Лунин в день прощания с Сен-Симоном… 10.«Содействовать духовному возрождению, которое должно предшествовать всякому изменению в политическом порядке, чтобы сделать последний устойчивым и полезным» (лунинская запись, сделанная 20 лет спустя). Распространение католицизма, как ему кажется, могло бы ускорить русскую свободу. Для него это один из элементов освобождающего просвещения. Подобные мысли, конечно, укрепились в Польше, где Лунин видел большию, чем в России, свободы и связывал это обстоятельство с гражданственностью и культурой, «настоянными» на католицизме. Складывая разные причины, сделавшие Лунина католиком, видим, что случайностей тут немного: кризис старой философии, кризис «разума», неудовлетворенная духовная жажда вызывают веру. Католическое воспитание в детстве, деятельное начало в католицизме, соответствующее общественному темпераменту этого человека, социальные и политические вопросы, решение которых связывалось с этой религией, знакомство с «умными аббатами», а также с Сен-Симоном и де Местром, польские впечатления и влияния, соответствие внешних католических форм европейскому воспитанию Лунина и его чувству изящного, меньшая зависимость католицизма от светской власти по сравнению с провославием — такова в самой общей форме разгадка лунинского «обращения». Но вслед за Свисту новым повторим: «Все сказанное недостаточно обрисовывает его загадочный характер, весь сложенный из противоположностей…» 11. Лунин не угадал. Католическое просвещение в России не распространилось. Но усилие порою много ценнее результата: ни одна серьезная, страдательная мысль в мире не пропадает, а преобразившись, сохраняется и продолжается. Католицизм не был угадан, но было понято, что нужно думать, мучиться, искать. «Не город Рим среди веков» искать, но подлинное просвещение: высокую идею, которая воспитает, улучшит, объединит, пропитает убеждения и учреждения. Это была критика тогдашнего российского просвещения и духовности — примерно тогда же придирчивый сторонний наблюдатель заметит: «У русских слишком увлекающиеся характеры, чтобы они могли любить идеи, особенно идеи отвлеченные: их занимают только факты, у них еще нет ни времени, ни вкуса на то, чтобы переводить эти факты в общие понятия…» (мадам де Сталь). Обращаясь к поздним сочинениям Лунина для объяснения его более ранних мыслей, мы рискуем — но что же делать? Ранних тетрадей не сохранилось, а преемственность убеждений, конечно, была… Вот важные строки, занесенные в записную книжку в 1836-м, но, очевидно, обдуманные прежде: «Западная церковь никогда не прибегала к сомнительному и опасному опыту — взывать к страстям и народной буйности; она хотела действовать на разум, искоренять злоупотребления посредством постепенного улучшения национальных учреждений. У нее была та сила, которая дастся глубоким убеждением, честною целью и благородными стремлениями». Здесь едва ли не высказан принцип прежнего Союза благоденствия. Погружение в католицизм не отняло у Лунина желания действовать, но связано с другим направлением этих желаний. И кто же скажет, что раньше в нем переменилось — политические взгляды или вера? Рост религиозности происходил одновременно с удалением от тайных обществ 1822-1825 годов, «взывающих к страстям» и желающих не «постепенного», но быстрого улучшения национальных учреждений. Лунин менялся, но, как писал Пушкин,«глупец один не изменяется — ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют». Однако наступает 14 декабря, и додумывать, меняться приходится при иных обстоятельствах. Находясь в Варшаве, Лунин о восстаниях на Севере и Юге узнает с опозданием на несколько дней… Его битвою становится политический процесс над декабристами. Часть 2 ДВЕСТИ ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ Я и в цепях буду вечно свободен. I 1. Простояв пять часов на Петровской площади и потеряв не менее 80 человек, восставшие полки рассеялись. Николай I велел записать в свой формуляр, что 14 декабря 1825 года участвовал в защите дворца. Революция, которая могла бы совершенно изменить российскую историю, не удалась.  Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года С акварели К. Кольмана, 1830-е гг. На третий день, 17 декабря, начал работать следственный комитет, и из его журналов видно, что происходило каждый день. Но комитет создался, когда уже было кого приводить. С 14-го по 17-е без всякого комитета победители неустанно преследовали побежденных и захватили немало пленных. Но откуда знали, кого именно хватать? Большая часть военных, вышедших 14-го к памятнику Петру, стояла на глазах у знакомых офицеров и генералов «с той стороны». Знакомые узнавали в «преступном каре» Оболенского, Якубовича, Одоевского, Бестужевых. Узнавали и рапортовали. Однако довольно быстро стали брать и тех, кто не выходил к памятнику (Трубецкой, Корнилович), или стоял среди победителей (Анненков, Александр Муравьев), или, наконец, отставных и штатских, то есть почти неизвестных в лицо своим противникам (Рылеев, Каховский, Сомов). 2. Вечером 14-го Николай I начинает свое длинное письмо к брату Константину в Варшаву. Приходится, однако, все время отрываться: рядом, в большую залу, приводят захваченных солдат и офицеров, наскоро снимает допросы мастер этого дела генерал-лейтенант Василий Васильевич Левашов, арестованных вместе с их показаниями тут же передают молодому царю, и на первых попавшихся листках Николай пишет имена подлежащих аресту. Левашов «припечатывает», листок становится ордером — полицеймейстер с казаками скачет забирать… Лишь к ночи 16 декабря, в семь приемов, Николай сумел закончить и отправить брату свое послание, похожее на репортаж о событиях. Первый, самый ранний, отрывок письма заканчивается словами: «В настоящее время в нашем распоряжении находятся трое из главных вожаков, и им производят допрос у меня. Главою этого движения был адъютант дяди, Бестужев, он пока еще не в наших руках. В настоящую минуту ко мне привели еще четырех из этих господ». Тут Николаю пришлось прервать письмо в первый раз. «Несколько позже» — так помечает он начало второго отрывка. «Несколько позже», то есть, видимо, после того, как он отвлекся для первых допросов. Но за этот промежуток царь узнал важную новость: «У нас имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев, статский, у которого происходили тайные собрания, и что много ему подобных состоит членами этой шайки». 3. Согласно разным свидетельствам первым привели князя Щепина-Ростовского, в парадном мундире, но с оторванными эполетами. Он был захвачен прямо на поле боя и отдал саблю генерал-майору Шипову (в 10 вечера уже значится в крепости; выходит, допрашивали его много раньше). Вторым был, вероятно, Александр Шторх. Этот 20-летний лейб-гренадерский подпоручик вместе с 40 солдатами прятался от картечи в погребе Сената, где его арестовал 19-летний Измайловский подпоручик князь Вадбольский. На другое утро, впрочем, забрали самого Вадбольского (выяснилось, что 14-го он собирался бунтовать измайловцев). Третьим был тоже взят на площади лейб-гренадерский поручик Александр Сутгоф [67] — одно из главных действующих лиц восстания. Панов и Сутгоф вывели целый лейб-гренадерский полк и, по свидетельству самого Николая, могли без труда захватить дворец, но прошли мимо и направились к своим, стоявшим у памятника Петру. Шторха быстро послали на гауптвахту — он действительно немного знал: увидел свой полк и, не понимая, куда и для чего идут солдаты, пошел за ними. Зато Щепина и Сутгофа Левашов и царь, видно, взяли в оборот. Времени не было, секретарь едва успевал записывать, обычных начальных вопросов («как ваше имя и отчество, сколько от роду лет» и т. п.) Не задавали: некогда… В первых показаниях уйма грамматических ошибок (не до грамматики!), вместо 14 декабря пишут за Щепиным «14 ноября», в показаниях Сутгофа первое лицо спотыкается о третье… «Я дал обещание корпусному адъютанту князю Оболенскому и всем его сообщникам на случай присяги Константину Павловичу[68]поддержать оное всеми силами. Сочинитель Рылеев, корнет Одоевский, адъютант Бестужев, находясь у Рылеева, уговорили его, Сутгофа, чтобы всеми мерами держать сторону Константина Павловича». Кроме того, Сутгоф отметил, что «вообще во время сего происшествия многие люди во фраках подстрекали солдат». 4.«Люди во фраках»… эти слова, без сомнения, обрадовали Николая; возможно, это замечание даже было подсказано офицеру. Тут мог быть разговор в духе: «Да как же вы, гвардеец, сын генерала, с какими-то фрачниками связались?» Во всяком случае, слова Сутгофа о штатских тут же были размножены. Последние минуты генерала Милорадовича были смягчены обрадовавшим его сообщением, что стрелял в него не солдат, а какой-то фрачник (то есть отставной офицер Каховский, одетый в штатское!). Николай в ту же ночь сообщил Константину, что «выстрел был сделан почти в упор статским», а на другой день добавил, что надеется открыть «еще несколько каналий-фрачников («quelque canailles en frac»), которые представляются мне истинными виновниками убийства Милорадовича». Наконец, первое же газетное известие о происшедших событиях извещало жителей, что во всем виновато несколько людей «гнусного вида во фраках». Как мечталось, чтобы все были фрачники, а не армия, гвардия! Все же через несколько дней «фрачный бунт» пришлось отставить, поступали новые и новые военные, да еще из лучших полков. Однако вечером 14-го, после допроса Сутгофа, царь еще сохранял надежду. Поэтому любое статское имя, попадавшееся ему в те часы, тут же шло под арест: кинулись за Кюхельбекером, литератора Сомова схватили и объявили в газетах одним из зачинщиков (потом пришлось специально в тех же газетах объявлять о его невиновности, а бедного Сомова, столь быстро выпущенного «главаря», приятели стали подозревать в каких-то доносах на декабристов). Рылеев, вождь во фраке, — это было подходяще. Конечно, не за фрак его казнили, но статская одежда все же тяжелее тянула… Последняя фраза, записанная вечером 14 декабря за Сутгофом, обобщала: «Из вышеупомянутого видно, что к обществу Рылеева принадлежали Каховский, Сутгоф, Панов, Кожевников, адъютант Бестужев, Жеребцов, князь Одоевский, князь Оболенский». Сутгофа — тут же в равелин, за остальными послано. «Остальных» вскоре упомянут и некоторые другие арестованные, не ведавшие, о чем власть знает и чего не знает. 5. В «11 1/2 вечера» Николай в третий раз берется за письмо к Константину: «Мне только что доложили, что к этой шайке принадлежит некий Горсткин, вице-губернатор, уволенный с Кавказа; мы надеемся разыскать его. В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это — поимка из наиболее важных». Горсткин спутан с Горским (в конце концов взяли и того и другого): «вице-губернатор», крупная персона, может быть, наиглавнейшая, да вдобавок штатская! (Николай еще не может пока отличить главных действователей от второстепенных.) Письмо Константину еще продолжается несколько строк — видно, Рылеев стоял перед царем, а царь дописывал. Затем письмо отложено, из разных зал и комнат приходят генерал-адъютанты Левашов, Толь и Бенкендорф — допросить… Из записок Николая Бестужева известно, как утром 14-го, когда Рылеев выходил с ним из дома, чтобы идти на площадь, жена поэта залилась слезами: «"Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на гибель". Потом крикнула: „Настенька, проси отца за себя и за меня!“ — маленькая дочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал». Жена не ждала его живым, но он пришел. Позже на квартире Рылеева появились еще Пущин, Штейнгейль, Каховский, Оржицкий, Батеньков. О чем они говорили? Бежать им не хотелось, да и неловко было перед своими; переживали поражение, толковали, конечно, о том, что вот-вот нагрянет полиция… Потом разошлись. В это время во дворце уже допрашивали Сутгофа. Ранние петербургские сумерки сгущались. Всю ночь по темным улицам бродили привидения… Не зная ничего друг о друге, шагали Бестужевы; угрюмый и подавленный, брел ко дворцу так и не вышедший на площадь полковник Булатов; не находил места Трубецкой, дожидаясь ареста; не мог усидеть и Каховский — снова отправился к Рылееву и увидел возле его дома казаков. Тогда пошел к себе, а там уж и его ждали, потому что за ним, как за Рылеевым, поехали после допроса Сутгофа… Утомленный, едва ли спавший хоть несколько часов за несколько суток, потрясенный поражением и двойным прощанием с семьей — таким был введен Рылеев во дворец. 6. Первые же показания его — собственноручные. То ли власть несколько успокоилась и перестала спешно снимать допросы, то ли сам Рылеев потребовал бумагу: нам, к сожалению, неизвестен его первый разговор с Николаем. Не сохранились и заданные вопросы, но из самого показания видно, что их было по крайней мере два: как и почему родилась идея выходить на Сенатскую площадь и о тайном обществе. То, что написал затем Рылеев, очень важно и характерно: «Во время болезни моей, продолжавшейся около десяти дней, посещали меня многие мои знакомые, в том числе князь Трубецкой, Бестужевы, князь Одоевский, Сутгоф, Каховский… Все единогласно говорили, что, раз присягнув, будет низко присягать другому императору. На этой мысли, каждый утвердясь, все совокупно решились не присягать… Если солдаты увлекутся примером офицеров (что, по словам сих последних, было верно, ибо солдаты говорили уже об том между собою), то положено было выйти на площадь и требовать Константина Павловича… Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади. Он не явился, и, по моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились». Насчет общества Рылеев ответил так: «Общество точно существует. Цель его по крайней мере в Петербурге — конституционная монархия. Оно не сильно здесь и состоит из нескольких молодых людей. Все вышепоименованные суть члены его. Трубецкой, когда был здесь, Оболенский и Никита Муравьев, а по отъезде Трубецкого в Киев, я — составляли Думу. Я был принят Пущиным, и каждый имел свою отрасль. Мою отрасль составляли Бестужевы два и Каховский. От них шли Одоевский, Сутгоф, Кюхельбекер. Это общество уже погибло с нами. Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение. Открыв откровенно и решительно что мне известно, я прошу одной милости — пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени такая сила, пред которою они не в состоянии были устоять. Все показанное мною истинно и справедливо. Кондратий Рылеев». Бенкендорф уже заверил своей подписью снятое показание, но затем, очевидно, спросил, кто таков Пущин, потому что рукою Рылеева приписано: «Иван Иванович Пущин, коллежский асессор, служит в 1-м департаменте московского надворного суда». И наконец, несколько строк, внесенных другим следователем, генералом Толем: «По окончании собственноручного признания г. Рылеев объявил мне на сделанное замечание мое — не вздор ли затевает молодость, не достаточны ли для них примеры новейших времен, где революции затевают для собственных расчетов? На что он весьма холодно отвечал: невзирая на то, что вам всех виновных выдал, я сам скажу, что для счастия России полагаю конституционное правление самым наивыгоднейшим и остаюсь при сем мнении. На что я ему возразил: «… С нашим образованием выйдет это совершенная анархия». Что он сие показал, — то утверждаю моею подписью. Генерал-адъютант барон Толь». Допрос Рылеева был недолгим: в 11 1/2 его ввели к царю, а в 12 часов Николай уже писал записку коменданту Петропавловской крепости генералу Сукину: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук, без всякого сообщения с другими. Дать ему и бумагу для письма, и что будет писать ко мне собственноручно, мне приносить ежедневно»[69]. 7. Здесь остановимся на время. Попробуем понять, почему Рылеев нашел нужным так отвечать (разумеется, не навязывая ему логику и мораль, несвойственную его времени). Первое показание тем важнее, что на нем нет отпечатка мучительных тюремных месяцев. Большая часть имен, встречающихся в показаниях Рылеева, власти уже известна (вероятно, от Рылеева и не скрыли, про кого уже знают; цитировали или даже показывали ответы Сутгофа). Новые имена: Трубецкой, Никита Муравьев, Пущин — лидеры тайного общества. Названо, правда без имен и подробностей. Южное общество… Николай, впрочем, о южных уже осведомлен, генерал Чернышев производит на Украине аресты, Пестель взят еще 13 декабря, но Рылеев ведь об этом, кажется, ничего еще не знает! С другой стороны, он не называет при первом допросе десятки людей, собиравшихся у него перед 14-м, так или иначе участвовавших в заговоре. Названы только главные, ответственные — и больше, по Рылееву, и брать никого не нужно: «Общество уже погибло вместе с нами…», «всех виновных выдал». Молодых людей, вовлеченных в общество, он просит пощадить. «Немолодые» — это прежде всего Трубецкой (35 лет), Николай Бестужев (34 года), сам Рылеев (30 лет), Никита Муравьев (29 лет). Рылеев, кажется, допускает, что наказание не может быть слишком суровым: пощадив молодых за молодость, его, Рылеева, не казнят, как отца семейства; Трубецкой не вышел на площадь и, стало быть, виновен лишь в намерении; Муравьева и в столице не было — еще менее виновен; наконец, южане, пока не поднялись, в сущности, невиновны — одно намерение… Но дело, конечно, не только в том, что Рылеев не знал, каков будет приговор. Кажется нелогичным «всех виновных выдал», то есть вроде бы раскаялся, но притом «дух времени — сила…», «конституционное правление самое выгоднейшее…» Однако Рылеев в этот самый главный и самый страшный день своей жизни видит здесь логику. Какую же? Он за конституцию и видит в том мощный дух времени: цели, идеалы продолжает считать верными, благородными. Средства: средства кажутся плохими. Рылеев видит в поведении Трубецкого символ: «Мы мечтали, полагаясь на таких людей». Казалось бы, тут такая мысль: появись диктатор, мы бы атаковали и победили. Но в том же показании Рылеев объявляет неявку Трубецкого «главной причиной всех беспорядков и убийств». О каких беспорядках и убийствах идет речь? Видно, о выстрелах из каре, убийствах Милорадовича, Стюрлера и т. п. Выходит, Трубецкой мог бы установить более твердый порядок на площади — и что же? Не дал бы царской картечи ударить в восставших?.. Тут, конечно, концы с концами не сходятся, но в противоречиях этого ответа есть что-то очень родственное тому, что случилось за прошедшие сутки. С одной стороны — надо выступить, «подлецы будем, если не используем момент» (слова Пущина). С другой стороны — сил мало, полки ненадежны. Рылеев восклицал: «Тактика революции заключается в одном слове „дерзай“, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других». Но в то же время они собирались выждать, избежать кровопролития. Каховскому и Якубовичу Рылеев предлагал убить царя, но временами сомневался в пользе цареубийства и желал, чтобы Николай с семьей покинул дворец. Накануне говорил: «Я уверен, что погибнем» (Одоевский восклицал: «Ах, как славно мы умрем!» ), но тут же: «может быть, мечты наши сбудутся!» 14 декабря 3 тысячи человек вышли, заняли позицию, могли сделать многое — и, простояв на месте пять часов, погибли… Та же «несообразность» и в первом показании Рылеева: Трубецкой подвел, но если бы вышел — не пролилась бы кровь… [70] И еще одна логичная нелогичность: вечером 14 декабря Рылеев посылал Оржицкого предупредить южан об измене Трубецкого и Якубовича, но через несколько часов объявил следствию о существовании Южного общества. На допросе мы видим то же, что и на площади. Уверенность в целях, сомнение в средствах. Историки много пишут о дворянской ограниченности, хрупкой дворянской революционности, породившей это сомнение. Конечно, трудно оправдать сомнение, когда люди уже выведены, когда в дело втянуты тысячи солдат. Сомнение гибельно, но полное отсутствие сомнений, может быть, не менее гибельно, ибо исключает обдумывание, серьезное размышление. Колебания декабристов оставили потомкам не только отрицательное поучение («вот как не надо делать»); отсюда же начиналось позитивное («вот о чем надо думать»). Если серьезные и смелые люди погибли вследствие своих излишних сомнений и колебаний, значит, дело не просто. Пусть в трагической форме, но важнейший вопрос о соотношении революционных целей и средств, о методах, способах освобождения был декабристами поставлен. «Мы своей неудачей научим других»: научим и драться, и думать… Но какова же связь этих колебаний с тем, что Рылеев «всех виновных выдал»? Еще раз заметим: названы только основные, формальные члены общества, главные ответчики за все. Вероятно, вечером 14-го, перед арестом, они успели на квартире Рылеева поговорить о том, как вести себя на суде, и условились раскрыть высокие цели, которыми это общество руководствовалось. Весьма характерно, что почти никто не думал бежать: это не по-товарищески, нельзя, чтобы за одного отвечали другие. Заварили кашу — надо самим расхлебывать (эти мотивы известны по многим декабристским мемуарам) [71]. Итак, члены общества отвечают за все. Следуя этой логике, Рылеев их называет. Следуя этой же логике, он позже раскроет историю и дела общества, не оправдывая себя и прося помиловать молодых. Но трагедия Рылеева, и не его одного, что на избранной им линии самозащиты не удержаться без страшных потерь! Слишком легко, независимо от воли заключенного, откровенность благородная превращается в откровенность вынужденную, одни имена ведут к другим именам, самоотверженность становится самооправданием, сожаление о средствах — раскаянием. Власть имела надежное оружие для превращения благородства Рылеева в ту искренность, которая была этой власти нужна. И вот логика ответов ведет Рылеева к новым открытиям и новым раскаяниям, и через несколько недель ему придется говорить куда больше, чем он намеревался сказать сначала. Рылееву казалось, что, защищаясь по-своему, он сохранит силу человека, говорящего высокую правду…  И.И. Пущин, 1825 г. лит. с рис. Д.М. Соболевского Некоторые узники Николая действовали иначе. На первом же допросе Пущин, спрошенный, кто его принял в тайное общество, ответил: «Капитан Беляев». Так и прошел капитан Беляев сквозь все следствие неразысканным, хотя об его аресте был подписан высочайший приказ. Лишь в конце, когда Пущину представили собственное признание Бурцева, что это он принял когда-то лицеиста в общество, — только тогда Пущин «извинился», признавшись, что Беляева он выдумал. Пущин с теми же намерениями, что и Рылеев, избрал другой путь — не открывать людей и обстоятельства. Вообще, Пущин был на процессе одним из самых стойких и мужественных, отвечал разумно, осторожно, порой брал показания назад, ссылаясь на неважную память, сумел отвести угрозу от Бориса Данзаса, Зубкова и некоторых других друзей… Пущин нашел иную линию поведения, чем Рылеев. Слабее многих оказался Трубецкой. От Сутгофа — к Рылееву, от Рылеева — к Трубецкому и далее — к Лунину… II 1. 21 декабря в Варшаве Лунин вместе со своими усачами приносит присягу Николаю. Все кричат «рады стараться», зная, что великий князь Константин слышать не может русского «ура!». О восстании в Петербурге и первых арестах уже известно; в ближайшие дни Лунин узнает о мятеже Черниговского полка и злой судьбе девяти близких родственников: 18-летний троюродный брат Ипполит Муравьев-Апостол убит, взято семь Муравьевых и Муравьевых-Апостолов, а также Захар Чернышев (на чьей сестре женат Никита Муравьев). «Угроза сильнее выполнения», — утверждают психологи: гусарский подполковник веселеет, дожидаясь неприятеля, но денег взаймы уж не берет… 2. 17 декабря 1825 года после шести вечера в одной из комнат Зимнего дворца зажглось множество свечей. Затем туда вошли шесть важных начальников и несколько секретарей. Разошлись в полночь, после чего был составлен протокол 1-го заседания «Тайного комитета для изыскания о злоумышленном обществе» (месяц спустя ведено было не называться «тайным», а потом «комитет» был переименован в «следственную комиссию» из каких-то едва ли доступных нам бюрократических соображений насчет разницы между «комитетом» и «комиссией»). Под протоколом — шесть подписей, они вполне отчетливы и сегодня, почти полтора века спустя. Сначала — военный министр Татищев, древний старик, отвечавший за армию, то есть и за взбунтовавшихся офицеров. Имя свое он выводит архаическим екатерининским почерком — так расписывались во времена Потемкина и Никиты Артамоновича Муравьева. За прошедшие 30 лет письмо столь же переменилось, как и язык, — и все следующие пять росчерков дышат новизною, независимо от воли их исполнителей… Татищев был не самым ревностным следователем, и хотя пропустил только одно из 146 заседаний, но больше председательствовал, чем действовал[72].«Он лишь иногда замечал слишком ретивым ответчикам: „Вы читали все, и Детю-де-Траси, и Бенжамена Констана, и Бентама, и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только священное писание — и смотрите, что заслужил“, — показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его». Если же верить Завалишину, то Татищев на одном из допросов отвел его в сторонку и уговаривал не сердить дерзким запирательством самых строгих членов комитета (Чернышева, Бенкендорфа). После Татищева в протоколе заседания разгулялась удалая подпись: «Генерал-фельдцехмейстер Михаил», то есть младший брат царя Михаил Павлович. Росчерк обличал персону, которая не забывает, что она единственное здесь «высочество». Впрочем, «рыжий Мишка» был в комитете тоже не самым сердитым и усердным. Позже вообще перестал являться на заседания. Рассказывали, будто, побеседовав с только что арестованным Николаем Бестужевым, великий князь сказал, перекрестившись, своим адъютантам: «Славу богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня» [73]. Под одним из завитков Михаиловой подписи разместились аккуратные, каллиграфические слова: «Действительный тайный советник Голицын», единственный в комитете невоенный человек, обязанный знать законы, по которым ведется дело. Современность почерка напоминала про «дней Александровых прекрасное начало», когда Голицын был в числе молодых друзей императора, позже возглавлял министерство просвещения, но был отставлен по монашеским наветам. Надежды на просвещенное обновление остались где-то далеко позади, и сейчас этот человек судит людей, тоже имевших надежды, но не желавших ждать. Генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов расписывается обыкновенно, обыкновенное всех других. Это уже человек нового царствования — Николай только что назначил его ведать столицей на место убитого Милорадовича. По должности ему предстоит семь месяцев спустя повести на виселицу пятерых из числа тех, кого сейчас допрашивает; сорвавшийся Рылеев, как говорили, крикнул: «Подлый опричник тирана, отдай палачу свой аксельбант, чтоб нам не погибать в третий раз!» Обыкновенность почерка и человека теперь — знамение времени. Он будет важным человеком, этот генерал, хотя и не столь важным, как его сосед, следующий за ним по старшинству. Росчерк генерал-адъютанта Александра Христофоровича Бенкендорфа не уступает в игривости великому князю Михаилу Павловичу. Сразу видно, что человек имеет право так расписываться в таком документе: хозяин, достигший того, что в царстве обыкновенностей — уже может себе позволить едва ли не царскую необыкновенность. 212 дней процесса были лучшей подготовкой для будущего 18-летнего владычества Бенкендорфа над III отделением, и не раз он один отправлялся допрашивать преступников в крепость или разбирать бумаги, подобно тому 39-летнему генерал-адъютанту, чья подобранная и аккуратная фамилия замирает, ударившись о хвост буквы «д» в длинном слове «Бенкендорф».  Граф А.Х. Бенкендорф с женой, 1840 г. Рисунок Е. Риджби Василию Васильевичу Левашову не быть первым, но он мозг всего дела. Николай I позже вспомнит: «Так как генералу Толю, по другим его обязанностям, не было времени продолжать допросы, то я заменил его генералом Левашовым, который с той минуты в течение всей зимы, с раннего утра до поздней ночи, безвыходно сим был занят и исполнял сию тяжелую во всех отношениях обязанность с примерным усердием, терпением и, прибавлю, отменною сметливостью, не отходя ни на минуту от данного мною направления, т. е. не искать виновных, но всякому дать возможность оправдаться». Через несколько дней после открытия комитета Левашов представил туда 43 допроса, отобранных им в первые дни. Позже, с 26 декабря, появится еще одна фамилия, потому что дела будет много — шестерым не сладить. Дежурный генерал Главного штаба Потапов расписывается мелко, как Левашов, но с некоторой претензией. Это был важный человек, через которого осуществлялась связь комитета, начальника Главного штаба Дибича и царя. Наконец, с 2 января, вернувшись после охоты за южными декабристами, появился генерал-адъютант Александр Иванович Чернышев, будущий военный министр, пока расположившийся «на пятом месте» — между Кутузовым и Бенкендорфом. А ведь десяти лет не прошло с тех пор, как он громко восхищался представительной системой и мечтал о ней для России! О большинстве членов комитета в декабристских мемуарах разноречие (о Левашове и Бенкендорфе, например, кое-кто вспоминает не худо, а иные — с отвращением). Но насчет Чернышева все едины. «О, Чернышев!!» — восклицает Александр Поджио. Худшего не было. Не он один одобрил бы пытку для вышибания показаний, но он одобрил бы первым[74]. Чернышев, Бенкендорф, Левашов — ударная, боевая группа комитета, рядом с более мирными, дремлющими сочленами. 27 января 1826 года, почтительно отступая перед восемью генералами к нижнему обрезу страницы, начал расписываться в протоколах и флигель-адъютант Адлерберг. Тут — преемственность властвующих поколений: от дряхлых стариков из прошлых царствований, через энергичных сорокалетних «николаевских орлов» — к молодому человеку, который тоже наберет чинов в начавшемся царствовании, но в первейшие люди выйдет лишь при следующем монархе. До появления в протоколах имени Адлерберга внизу расписывался «правитель дел Боровков». Татищев, как только был назначен, получил повеление составить соответствующий манифест, которым Николай оповестил бы своих подданных о создании комитета. Царь пришел в восхищение от полученного текста, особенно от следующих строк: «Руководствуясь примером августейших предков наших, для сердца нашего приятнее десять виновных освободить, нежели одного невинного подвергнуть наказанию». Царь обнял военного министра: «Ты проникнул в мою душу». Министр же тотчас назначил настоящего автора манифеста, своего военного советника Александра Дмитриевича Боровкова, правителем дел комитета. Ситуация была такова: нужен умный, очень толковый человек. Правда, если умен по-настоящему, то почти обязательно вольнодумец, но пусть вольнодумец, лишь бы дело знал как следует… Боровков был литератором, одним из основателей Вольного общества любителей российской словесности. Среди помощни-ков его по комитету Андрей Андреевич Ивановский, как и Боровков — литератор, тайно сочувствовавший многим попавшим в беду. Александр Бестужев и Кондратий Рылеев для него — «командиры»: они ведь были издателями альманаха «Полярная звезда», где печатались произведения Ивановского. Что могли сделать эти пешки среди таких ферзей, да еще в соседстве с другими, менее жалостливыми коллегами (аудитор Попов, впоследствии одна из главных фигур III отделения, военный советник Вахрушев и др.)? С первого же дня у комитета оказалось столько дела, что генералы и советники захлебнулись: целых шесть заседаний, с 17 по 22 декабря, заключенных не вызывали — только разбирались в кипах бумаг. Прежде всего три больших доноса: первый извещает о 46 заговорщиках-южанах (в их числе 16 генералов и 14 полковников). Из них на первом же заседании комитета были представлены к аресту 24 человека (25 декабря вызывается в столицу «сделавший донесение о сем обществе Вятского пехотного полка капитан Майборода» ). Рядом — донос Бошняка, прокравшегося в доверие к южанину Лихареву, и доносы Шервуда, обманувшего Федора Вадковского. Все это надо «сообразить с другими сведениями»[75], с массой захваченных писем и рукописей Бестужева, Одоевского, Кюхельбекера, с каким-то «адресом и паролем», найденным у Пущина, с 43 допросами, представленными Левашовым. Да еще надо решить, как быть с двумя десятками дворовых людей, доставленных в крепость вместе с господами, разобраться в сообщении некоего Лешевича-Бородулича, будто какой-то монах Авель еще летом 1825 года предсказывал бунт (комитет не пренебрег Авелем и наводил о нем справки). Надо удовлетворить жалобщиков вроде фейерверкера Белоусова, который доказывает, что именно он был главным лицом при поимке Николая Бестужева и что декабрист почему-то лишает его законной награды, приписывая его поимку брандмейстеру Говорову «без участия в сем деле Белоусова». Наконец надо бы составить смету на обмундирование арестантов (788 рублей 30 1/2 копейки на 51 человека), оформить дело«о назначении из придворной конюшни коляски с лошадьми для привоза арестантов из казематов в присутствие комитета дли допросов», разобраться, надежны ли писари Иван Степанов, Парфен Тарасов, Михайло Козлов, объяснить лакею Ивану Бахиреву, когда подавать членам закуски, а истопнику Никите Михайлову — когда затапливать… Всю черную работу Боровков и его люди вынесли на себе и тем сразу приобрели в комитете вес куда больший, чем это полагалось по их чинам. Генерал-адъютанты совершенно бессильны без сопоставлений, анализов и планов ведения каждого дела, которые каждый вечер им подкладывает Боровков. И тогда-то военный советник попытался кое-что сделать для узников. Завалишин в своих мемуарах сообщает подробность, кажущуюся фантастической: один из его товарищей по камере, полковник Любимов, сумел каким-то образом выкрасть из следственных дел компрометировавшие его документы Пестеля. Никто ничего «не заметил», и Любимова, продержав в крепости, выпустили. Тот же Завалишин утверждает, что за деньги, полученные от заинтересованных лиц, плац-адъютанты ходили по камерам Петропавловской крепости и уговаривали отречься от показаний, сделанных на очных ставках. Возможно, этого и не было, но зато достоверно установлено, что, например, все письма Пушкина, Вяземского, Грибоедова и других писателей, адресованные Рылееву, Бестужеву, Корниловичу и другим декабристам, — всего около ста документов, тайно добыл и сохранил у себя сотрудник комитета Андрей Ивановский. Боровков же, где мог, смягчал формулировки и, кажется, не упускал случая обратить внимание начальства хотя бы на один благоприятный для заключенного шанс (он сам считал, что смягчил участь по крайней мере десяти декабристов). Дела все равно шли своим ходом, писцы строчили, дрова трещали, закуски подавались. Что бы изменилось, если бы Боровков относился к узникам с меньшим состраданием, более строго? Может быть, некоторые приговоры были бы чуть пожестче («чуть» — это несколько добавочных лет каторги), а нравственные потери — чуть побольше… [76] Но пока — карающая машина не переставала работать, приводимая в движение толковыми механиками… Однако вернемся к нашему рассказу. Когда члены комитета в полночь с 17 на 18 декабря расселись по своим экипажам и, ошалевшие от бесчисленных бумаг, отправились домой, Боровков заполнил первые листы той книги, которая и составила после журнал следственного комитета[77], затем сделал копию для царя, чтобы, проснувшись рано утром, Николай уже знал, что происходило накануне. «Конечно, — вспоминает Боровков, — эти мемории, написанные наскоро, поздно ночью, после тяжкого, утомительного дня, без сомнения, не обработаны, но они должны быть чрезвычайно верны, как отражение живых, свежих впечатлений». Бумага, возвращенная с пометками Николая, будет вшита в другую книгу [78]. 3. Пока комитет разгребал бумаги и готовил новые вопросы Рылееву, Трубецкому и другим, Василий Васильевич Левашов все отвлекался для допросов. 18 декабря к нему из крепости с большими предосторожностями и весьма секретно доставили 25-летнего прапорщика Нежинского полка Федора Вадковского (прежде он был в гвардии, но за дерзкую выходку переведен в армию). В первый раз Левашов допрашивает человека, не только не участвовавшего в бунте 14 декабря, но даже не подозревающего о том, что произошло в тот день: приказ об аресте Вадковского был подписан Дибичем еще 9 декабря, и взяли его раньше всех, даже прежде Пестеля. Унтер-офицер Шервуд сумел войти к нему в доверие. «Англичанин, непреклонной воли, проникнутый чувством чести, верный своему слову и устремленный к одной цели» — так характеризовал этого предателя несчастный Вадковский как раз в том письме к Пестелю от 3 ноября 1825 года, которое Шервуд представил властям. В письме же упоминалось 9 членов тайного общества или близких к нему людей (Свистунов, Граббе, Михаил Орлов, Толстой, Барятинский, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Гофман, Бобринский). Вадковский — «козырь» в игре Николая (велено содержать «под строгим караулом и в глубокой тайне» ). Никто из декабристов не должен знать об его аресте — пусть новые жертвы не догадываются, откуда про них дознались, пусть растеряются от неожиданности… Сначала Вадковского даже держали вне столицы — в Шлиссельбурге; затем перевели в Петропавловскую крепость, но не в Алексеевский равелин, где его случайно могут узнать, а в пустой еще Зотов бастион. Вероятно, внезапный арест и густая тайна ошеломили и сломили нервного и впечатлительного офицера: первый же левашовский допрос открыл куда больше новых имен, чем донос Шервуда. О Волконском, Швейковском, Александре Поджио, Лопухине, братьях Муравьевых-Апостолах Левашов уже знал (впрочем, именно после допроса Вадковского был подписан приказ об их аресте). Но главное открытие — имена гвардейских офицеров, надеявшихся, что их «обойдут», — некоторые, как отмечалось, стояли на Сенатской площади «с той стороны», и, возможно, им действительно повезло бы, если б не злосчастное письмо и откровенность Вадковского. К вечеру 19 декабря 15 гвардейских офицеров, в их числе Свистунов, Захар Чернышев, Анненков, Кривцов, Валериан Голицын, Александр Муравьев (брат Никиты), Горожанский, были арестованы. А в самом конце своего списка Вадковский припоминает еще одного: «Ротмистр Лунин, Гродненского гусарского полка». Этого имени не ведал ни один из трех главных доносчиков, и оно звучит на следствии впервые. 22 декабря Вадковский «с закрытым лицом, под строжайшею стражею и под присмотром плац-адъютанта Трусова, отправлен на дворцовую гауптвахту». Николай пожелал познакомиться с секретным арестантом. Беседа офицера с царем не зафиксирована в протоколах. Но из переписки Николая видно, что между прочими именами был обсуждаем и Лунин! Через день, 24 декабря, появляется документ: «Взять под арест… ротмистра Лунина, лейб-гвардии Гродненского гусарского полка ». В приказе Лунин был один из 19 арестуемых. Восемнадцать были взяты в течение нескольких ближайших дней. Лунина же мог взять только Константин, но он согласия не давал. Это был как бы приказ впрок — пока не поступят новые показания. 4. 23 декабря в шесть часов вечера начинается седьмое заседание комитета. Сначала разбирали оставшиеся бумаги, затем — до часа ночи «в присутствии комитета допрашиван князь Трубецкой, который на данные ему вопросы, при всем настоянии членов, дал ответы неудовлетворительные. Положили: передопросить его, составя вопросы против замеченных недостатков, неясностей и разноречий». Затем — шесть подписей, причем «генерал-фельдцехмейстер Михаил» и«генерал-адъютант Бенкендорф» так размахнулись, что уже совсем оттеснили других с листа. Открыв дело Трубецкого, находим, что он показывал в этот вечер: подробнее всего освещает историю тайного общества преимущественно за первые годы (1816-1820), называет и лидеров, пусть давних, но важных. Про 14 декабря Трубецкой в основном повторяет уже известное и даже утверждает, что не знает или почти не знает многих арестованных. Однако в тот вечер Трубецкой решился назвать членов Южного общества и объявить про их республиканские планы (на первом допросе он еще предлагал спросить обо всем Пестеля). Про южан уже знали от Майбороды, но на многих приказа еще не было: стремились соблюсти законное правило — брать лишь после двух свидетельств. Второе показание Трубецкого поэтому ускорило арест Бестужева-Рюмина, Волконского, Давыдова, Барятинского, Тизен-гаузена, Повало-Швайковского, Капниста, Канчеялова, Ентальцова, Кальма и Нарышкина. Наконец, впервые упомянуты Батеньков, Митьков, Грибоедов, Хотяинцев, Моллер, Шаховской, Вольский и командир Ахтырского гусарского полка, лунинский кузен полковник Артамон Муравьев. Итак, комитету 23 декабря было чем поживиться, но, судя по протоколу, генерал-адъютанты недовольны. На том заседании Трубецкому, вероятно, угрожали, ибо догадывались (по намекам одних и показаниям других), что он знает больше, чем говорит… Если сравнить Трубецкого этих дней с Рылеевым, легко заметить одно обстоятельство: Рылеев открывает или скрывает то, что, по его мнению, в пользу общества, — Трубецкой же прежде всего защищает себя: его покаяния скоро переходят в просьбы о пощаде; он не склонен, как Рылеев, оправдываться, что если средства были нехороши, то все же цели — благородны. Правда, Трубецкой скажет, что «не должно полагать, чтобы люди, вступающие в какое-либо тайное общество, были все злы, порочны или худой нравственности», но заметит, что в тайном обществе рано или поздно непременно появляются люди «с дурными и преступными намерениями». Рылеев же в эти дни просит: «Государь… будь милосерд к моим товарищам. Они все люди с отличными дарованиями и с прекрасными чувствами». У Трубецкого: «Предлог для составления тайных обществ есть любовь к отечеству… Сие худо понятое чувство любви к отечеству составляет тайные политические общества». То, что у Трубецкого «предлог», у Рылеева — «цель»; не «худо понятое», а истинное «счастье России». Позиция Трубецкого более чем уязвима. Ее легко взять даже с помощью простых угроз, в то время как «осада» Рылеева требует более сложных средств… 24 декабря, на другой день, комитет был так занят вновь нахлынувшими сведениями, что вынужден был опять заседать до часу ночи, и утомленный Боровков даже забыл сначала внести в журнал последний, 5-й, пункт повестки дня, но потом спохватился: «Допрашиван Рылеев. Положили: записать в журнал». О том же, что снова допрашиван Трубецкой, ничего не записано. Между тем именно в тот вечер произошел переворот в его деле. 25 декабря Трубецкой пишет из камеры Татищеву, вспоминая о двух последних приводах в комитет: «Дозвольте несчастному человеку взять смелость излить пред вами всю благодарность, которою вы его одушевили оказанием вчерашним вечером участия в жестокой участи его. Благодарность сия относится также к его императорскому высочеству и другим господам членам комитета. Вы не знаете, ваше высокопревосходительство, сколько мне добра сделал вчерашний прием, которым меня комитет удостоил после того, который я испытал третьего дня». Затем следует капитуляция. Страшная исповедь Трубецкого о том, как прежние его убеждения, определявшие прежние поступки, сменяются нынешними: сначала боязнь быть перед товарищами «бесчестным и гнусным» и потому — запирательство… А затем — «бог помиловал меня» (то есть избавил от этой боязни!). Человек и в падении старается как-то оправдаться (и если даже не оправдывается, так в горьком цинизме — тоже своего рода оправдание: «Я вот такой, и все тут!»). Царь обещает Трубецкому жизнь, комитет играет на этом («вчерашний прием»). Неблагодарность-подсказывает услужливый мозг — это хуже, чем предательство. Даже сравнение найдено: предатель хуже «гнуснейшего разбойника», но неблагодарный хуже «даже и самых свирепых зверей»… Трубецкого после покаянного письма снова доставляют в комитет и задают новые вопросы, сначала устно (25-го вечером), а затем письменно. Вечером 27 декабря, на 11-м заседании: «Слушали дополнительные показания Трубецкого с присовокуплением изложения истории общества, различных его отраслей и списки членов… Во уважение полного и чистосердечного показания князя Трубецкого насчет состава и цели общества дозволить ему переписку с женою». Что же еще нового открыл Трубецкой в порыве раскаяния? Больше всего — о намерениях, планах, тайных встречах и спорах заговорщиков. Эти сведения иногда стоили больше, чем лишнее имя декабристов. Были сообщены важные, прежде скрытые, подробности о Рылееве, Якубовиче и других. Комитет мог теперь легче подавлять новых арестантов, не предполагавших, как много власть уже знает. Как раз в этот день, 27-го, с юга в столицу повезли Пестеля, который на первых допросах (в Тульчине) об обществе «знать не знал». Но Трубецкой в те же часы уже излагал подробности… Список членов, прежних и нынешних, приложенный Трубецким к своим показаниям, был велик, и 12 имен в нем были совсем «новые». Нескольких давно отдалившихся членов в конце концов «оставили без внимания», другие же, по мнению Трубецкого тоже отошедшие, так легко не отделались: Федор Глинка был сослан в Олонец, а Горсткин (тот самый, которого Николай путал с Горским) — в Вятку. Впервые был помянут и Якушкин (Трубецкой написал о нем, что «давно отстал» ). Затем еще четыре фамилии, но уже без смягчающего «отстал»: Семенов, фон дер Бригген, Штейнгейль и «полковник Лунин — из лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». Трубецкой признался также, что «возле печки, в комнате жены, где ванна», у него лежит литографический станок, когда-то полученный от Лунина. 5. Михаил Лунин был не полковником, как представил его Трубецкой, и не ротмистром, по Вадковскому, а гусарским подполковником. Две тропы, которыми комитет к нему подбирается, сошлись: Вадковский — Лунин. Сутгоф — Рылеев — Трубецкой — Лунин. Два показания есть, приказ об аресте подписан еще 24 декабря, непременно должны взять… Однако ввиду совершенно особенных обстоятельств не берут и теперь. Рассказывают, что, когда декабристам читали приговор, Трубецкой удивился, увидев Лунина, ибо о нем давно ничего не слыхал… Закон падения существует, видимо, не только в физике. Падая, но цепляясь за каждый бугорок, всячески сопротивляясь этому падению, можно не все открыть даже побеждающему, толкающему в пропасть следователю. Но, как только известный рубеж перейден, начинается падение свободное, стремительное, неудержимое… До 23-25 декабря Трубецкой отступает с тяжелыми потерями, после 25-го сдастся. Нарочно забыть того или другого мог еще Рылеев, сохранявший и в самой тяжелой обстановке веру в благородство декабристских целей и намерений. А Трубецкой уже капитулировал полностью: он падал, он говорил все и, сказав все, впервые за много дней обрел некоторый покой. 14 декабря и после 14-го была мучительная раздвоенность: идти или не идти на площадь? Называть или не называть друзей? Но любому человеку необходима внутренняя цельность, чтобы сошлись концы с концами и совесть с делами. Трубецкому заговор, революция такой гармонии не дали. И тут вдруг сама власть предлагает возвратиться «блудному сыну», обрести хоть какое-то подобие внутренней цельности. И уже где-то далеко товарищи, и предательства как будто нет: так легко и хорошо на душе, когда правда говорится… Не назвать Лунина, с которым Трубецкой давно не встречался, или других, «давно отставших», — это изменить обретенной искренности, вернуться к ужасной раздвоенности, невыносимой даже физически (можно поверить Трубецкому, что 14 декабря, бродя между домом и площадью, он испытывал приступы дурноты…). Такой же кризис, такой же переход на «свободное падение» наблюдался на следствии у нескольких декабристов: так пал Александр Одоевский, так после тщетных попыток обороняться, удержаться пал и Евгений Оболенский. Во все века и во всех странах — перед судом римских цезарей и турецких султанов, испанских инквизиторов или русских монархов — у многих несчастных жертв тирании, сломленных жестокостью испытаний, наступал такой миг, когда уже невозможно было остановиться, когда — пропади все пропадом! — и душевная боль на время унимается. Оставайся Трубецкой на людях, сиди он даже в камере с одним или несколькими товарищами, возможно, все сложилось бы иначе. Позже, на каторге и поселении, он ожил и остался в памяти других декабристов добрым, хорошим другом… III 1. Приближение нового, 1826 года власть встретила хорошо. Один только московский генерал-губернатор требовал 8400 рублей за доставку арестованных в Петербург (позже один иностранец напишет, что при коронации Николая в Москве было «задавлено мужиков на 8000 рублей»; к этому можно добавить, что с воцарением Николая из Москвы было доставлено на 8400 рублей арестантов). Успехи велики. В Петропавловской крепости сидят 300 нижних чинов, в Кексгольме — еще 400. 25 декабря «представлены к арестованию» 19 человек, 26-го — еще 9, 27-го — 16, 28 декабря — 9, 30 декабря — еще 11. Власть торжествует. Ей кажется, что все в ее руках: и заговорщики, и их планы, и их идеи; ей кажется, что весь итог десятилетней жизни тайных обществ подбивается здесь, в эти дни, в этих бумагах. Генерал-адъютанты — люди практические, и нелегко им вообразить, что захваченный Рылеев, кающийся Трубецкой или закованный Вадковский — это еще не весь Рылеев, Трубецкой, Вадковский; что созданная ими и их друзьями ситуация, провозглашенные ими принципы — по природе своей необратимы и неистребимы, как луч света, который распространяется по вселенной, даже если источник его уничтожен. Много лет спустя Лунин запишет: «От людей можно отделаться, от их идей нельзя». Мысль столь же ясная одним, сколь смешная другим. Где же Лунин? Выписку из показаний Трубецкого отправляют в Варшаву Константину Павловичу. Тот отвечает, что пока не видит в действиях Лунина ничего, что служило бы основанием для его ареста. Он обещает не спускать со своего адъютанта глаз. Перед новым годом пишет Николаю I: «Перехожу к Лунину. Все замешанные либо его родственники, либо старые товарищи по школе, либо друзья детства. Возможно, что он, слыша непристойные разговоры или речи, старался в свое время удалиться от их общества и найти прибежище в войсках, состоящих под моим командованием, они же из мести хотят его впутать. Я ему не покровительствую, еще менее хочу его оправдывать: факты и следствие докажут его виновность или невиновность; к тому же за ним здесь пристально следят. Что до него, — он занят только своей службой и охотой. За три дня до получения Вашего письма от 23 числа он испросил у меня частную аудиенцию, которую я ему дал, и в присутствии Опочинина и Жандра он изложил мне свое более чем трудное положение ввиду того, что вся его родня замешана в заговоре. Я допытывался узнать от него самого, не было ли его возвращение на службу удалением, вынужденным обстоятельствами его прежних знакомств; на это он мне ответил в таком смысле, что это возможно было предположить. Я должен сказать в его пользу, что он не раз просил меня не щадить его и судить строжайшим образом, чтоб правда была обнаружена и чтобы он был либо наказан, либо оправдан. Вот все как оно есть». Через фельдъегеря Евтушенко Николай поздравляет брата с Новым годом и признается; «Досадно, что я не могу назвать никого, кроме Лунина». Константину нравится, что братцу-царю досадно, и в ответном послании он делает любопытное замечание насчет декабристских показаний: «Признаюсь Вам откровенно, дорогой брат, эти показания или признания после происшествия очень мало достоверны и даны только для самооправдания: ими старались запутать дело, замешав в него различные имена и личности и навлекая на них подозрение и сомнение; известно, что во всех делах такого рода все виновные держатся правила — чем больше замешанных, тем труднее будет наказать». Запомним это суждение, чтобы потом к нему вернуться… Время от времени Николай еще напоминал брату про адъютанта, но Константин вежливо требовал новых, убедительных доказательств: «Статься могло, что [Лунин], находясь в неудовольствии противу правительства, мог что-либо насчет оного говорить… Даже его императорское величество изволит припомнить, что мы сами иногда между собою, сгоряча и одушевившись, бывали в подобных случаях не всегда в речах умеренными». Кроме литографического станка («возле печки» у Трубецких), новых улик пока не являлось… Лунин в те дни не был взят, хотя вне Варшавы был бы заарестован немедленно. В одном из писем Константин ехидно намекнул на милости брата к некоторым членам тайных обществ. Николай не тронул генерала Шипова и Долгорукова («осторожного Илью» из Х главы «Онегина»), отличившихся 14 декабря при ликвидации мятежа. Они только получили из комитета несколько не слишком обременительных письменных вопросов. Самодержавие чинило беззаконие и произвол как «во зле», так и «в добре» [79]. 2. Власть торжествовала.«Здесь одно рвение, — пишет Николай,— чтобы помогать мне в этом ужасном деле: отцы приводят своих сыновей; все желают примерных наказаний». За предшествовавшие восстанию 60 лет самодержавие относилось к свободомыслию если не со страхом, то с известным уважением: в моде был просвещенный абсолютизм; все помнили о переворотах, умертвивших двух самодержцев-самодуров. Во всяком случае, образованное меньшинство не давало власти повода к чрезмерной самоуверенности (исключение — время Павла I, так ведь Павел плохо кончил!). Теперь же сверху видели побежденных, кающихся. Через несколько дней царь и двор еще испугаются восстания Черниговского полка и волнений в Литовском корпусе; но, опять победив, еще больше поверят в себя и в течение десятилетий будут позволять себе многое, чего прежде не посмели бы. «Обратите внимание, — писал Константин Николаю, — нарушители общественного спокойствия держатся друг за друга; в этом отношении нужно им подражать. Если зло объединяется для действия, нужно, чтоб и добро, в свою очередь, желало то же самое для разрушения его замыслов».  Николай I Гравюра У. Сэя с оригинала Дж. Лонсдейла, 1826 г. Власть торжествовала. Только островки сопротивления и свободного духа не были захлестнуты этим океаном силы и страха. Иван Пущин все рассказывает небылицы о мифическом капитане Беляеве. 30 декабря в протоколе 14-го заседания среди разных успешных допросов и дознаний вдруг мелькает следующая запись: «Введен был статский советник Горский, которого Сутгоф уличал, что во время 14 декабря он был на Сенатской площади со шпагой в руках; однако Горский в держании шпаги в руках не признался. Положили: как Горский в ответах своих оказывает всегда упорство, а притом употребляет дерзость в выражениях, то для обуздания того и другого заковать его в железа, на что испросить высочайшего соизволения» . Царь «не соизволил» — вероятно, потому, что у Горского был слишком высокий, почти генеральский чин. В гот же день протокол засвидетельствовал твердость духа и другого декабриста: «Слушали: объяснение генерал-майора Михаила Орлова государю императору на французском языке о учреждении и ходе тайного общества. Положили: как в объяснении сем не видно ни признательности, ни чистосердечия, и объяснения его неудовлетворительны и запутаны противуречиями, его обвиняющими, то испросить высочайшего его императорского величества соизволения, дабы запрещены были всякие сношения с генерал-майором Орловым и таковое запрещение в подобных случаях распространить впредь на всех прочих». Новогоднюю ночь члены комитета встретили за рабочим столом. 31 декабря, с шести вечера до двенадцати — 15-е заседание, а в шесть часов вечера 1 января уже началось 16-е. Рылеев, Трубецкой, Вадковский, Сутгоф, Щепин-Ростовский, Пущин и десятки других декабристов встречают новый год в казематах. Михаил Лунин в последний раз отмечает новый год среди варшавского бомонда. Павел Пестель начало последнего года своей жизни встречает в середине последнего своего путешествия, которое окончится 3 января в 13-м номере Алексеевского равелина.  Павел Пестель 3. Первым известил комитет о его прибытии комендант Петропавловской крепости генерал Сукин: вечером 3 января 1826 года он, войдя в присутствие (т. е. на 18-е заседание), объявил, что «при полковнике Пестеле, присланном для содержания в крепости, найден яд». Нелегко входить в подробности трагической борьбы вождя южных декабристов со следствием; тогда, в начале 1826 года, он, конечно, не мог угадать, когда и чем все для него кончится, мы же, потомки, знаем, что всего полгода отделяло первые его допросы от эшафота. Предельной ценой пришлось ему заплатить за свои убеждения и дела, за 10 лет пребывания в тайных обществах, за «Русскую правду» и южное восстание, за «восхищение и восторг», в которые, по его словам, приходил, воображая для будущей России «живую картину счастья». Много раз, при разных обстоятельствах сходились пути Павла Пестеля и Михаила Лунина: в первый раз-в 1816 году, у начала первого тайного союза, когда начали говорить о переменах и цареубийстве; еще и еще раз — в трехлетие Союза благоденствия; теперь, в 1826 году, сложные перипетии следствия над Пестелем во многом определяют судьбу Лунина. В будущем, через много лет, Лунин первый напишет о погибшем Пестеле и его делах… Утром 4 января 1826 года Пестеля «в железах» везут во дворец; «сняв с него оковы, он приведен был вниз, в Эрмитажную библиотеку». Царь допрашивает, Левашов пишет. В начале протокола генерал поставит «№ 100», что означает, видимо, сотый, начиная с 14 декабря, допрос. Поскольку при первых допросах — в Тульчине — Пестель не открыл ничего и повторял, что «не знает о сем тайном обществе», — Левашов, вероятно, решил ошарашить пленника объемом своих сведений. В течение 99 допросов генерал, действительно, узнал слишком много, и перед Пестелем встал выбор: либо продолжать запирательство и ничего не говорить, либо признать молчание нецелесообразным. Без сомнения, при аресте и по дороге в столицу Пестель обдумывал оба варианта, и если бы убедился, что комитет знает мало, то продолжал бы ту же тактику, что и на юге. Допускал он, конечно, и многознание Левашовых… Не пытаясь восстановить весь ход размышлений декабриста, мы можем, зная его воззрения, предположить, что отрицать показания товарищей он считал поступком некорректным: получалось бы, что вождь движения не берет вину на себя и даже ухудшает положение более слабых (эта нота, как мы видели, встречается и в ответах Рылеева; позже — у Сергея Муравьева-Апостола и других декабристов). К тому же не признавать явного — значит быть закованным, может быть, подвергнуться пыткам, сильно ухудшить свою участь, не принеся особой пользы друзьям. Надежды на спасение, как увидим, у Пестеля сохранялись… 4. Сказанное еще может объяснить, почему Пестель решился давать показания. Но этого мало, чтобы понять, какие он давал показания Левашову: он кратко поведал десятилетнюю историю общества (хорошо уже известную его «собеседникам» из ответов Трубецкого и других), не скрыл республиканских планов южан («царствующую фамилию хотели посадить, всю без изъятия, на корабли и отправить в чужие края, куда сами пожелают!»). Затем Пестель называет более шестидесяти имен заговорщиков. Понятно, здесь имена северян — Рылеева, Трубецкого и др., на которых Левашов, безусловно, ссылался. Много южных имен, но Пестелю, когда он сидел в Тульчине, друзья сообщили о доносе Майбороды, да и Левашов опять же мог «подсказать» фамилии[80]. Между прочим, упомянут и Лунин, но не слишком для того плохо: Пестель сообщил, что около 1820 года Лунин был членом Северной думы, но затем его место занял Трубецкой. Выходило, что Лунин от общества удалился! Вот как реагировал на первое показание Пестеля следственный комитет. 4 января (19-е заседание): «Читали показания Пестеля. Положили: поименованных им участников в обществе сообразить с теми, кто были уже в виду комитета, и о вновь открывшихся составить доклад присутствию». 5-го днем Боровков и его чиновники составили этот доклад, и вечером, на 20-м заседании, первым рассматривался «Список о лицах, поименованных в показании Пестеля, коих прежде в виду не было и коих надо взять». В списке было 17 человек. Сначала — 7 деятелей польского общества, с которыми южане были в сношениях: граф Хоткевич, генералы Тарновский и Хлопицкий, князь Яблоновский, Гродецкий, Княжевич, Проскура. В список не попал упомянутый Пестелем польский поэт граф Густав Олизар. Дело в том, что его уже прежде «имели в виду» и показание Пестеля было только последним аргументом для приказа об аресте (последовал 4/I) [81]. После поляков в списке Пестеля — семь членов Южного общества: Враницкий, Фролов, Пыхачев, Заикин, Аврамов, Фаленберг, Жуков. В протоколе нет имени Иосифа Поджио, которого, как Олизара, уже подозревали, и упоминание Пестеля решает… Затем был представлен ко взятию отставной полковник Александр Николаевич Муравьев. После показаний Трубецкого, что Муравьев был одним из основателей общества в 1817 году, но отошел в 1819-м, его взяли «на заметку». Пестель же сообщил о нем: «В 1817 году, когда царствующая фамилия была в Москве, часть общества, находящаяся в сей столице под управлением Александра Муравьева, решилась покуситься на жизнь государя». Тут же Пестель пояснил: «Жребий должен был назначить убийцу из сочленов, и оный пал на Якушкина: служил некогда в Семеновском полку, вышел в армию и теперь живет в отставке». Хотя Пестель тут же добавил, что он и Трубецкой были против этого намерения, а Трубецкой поехал в Москву, «где нашел их уже отставшими от сего замысла», однако приказ об аресте Якушкина составлен в тот же день, 4 января. В «Списке» его имя отсутствует по той же причине, что и имена Олизара и Поджио: Якушкина уже имели в виду после показаний Трубецкого. Тогда же Пестель взволновал следствие сообщением о возможном существовании тайного общества на Кавказе. «С корпусом ген. Ермолова не было у нас никакого сношения прямого, но слышал я, что у них есть общество. Даже членов некоторых оного называли, а именно: Якубовича, адъютанта генерала Ермолова Воейкова и Тимковского, который теперь губернатором в Бессарабии. Мне также сказывали, что общество сие хотело край, вверенный г. Ермолову, от России отделить и начать новую династию г. Ермоловым, но сие токмо в случае неудачи общей революции. Все сии подробности извлек Волконский от Якубовича, который, несколько выпив, был с ним откровенен». Читая внимательно первое показание Пестеля, нельзя не заметить его стремление — сказать даже о том, про что не спрашивают, расширить круг замешанных. Кроме сведений о Кавказском обществе он сообщил также, со слов польских заговорщиков, что «общество их было в сношении с обществом прусским, венгерским, итальянским и даже в сношении с английским правительством, от коего получали деньги». Два последних показания на следствии не были доказаны, хотя явились предметом многих допросов и долгого разбирательства. Не вникая сейчас в сложную проблему, существовало ли на самом деле Кавказское общество и так ли богаты были международные связи поляков, заметим только, что все это было достаточно скрыто, и, казалось бы, не было нужды так много припоминать… Левашов, очевидно, спросил, какие практические меры намечали южане, чтобы достигнуть своей цели. Пестель отвечал: «Положительного о приведении цели нашей в исполнение не было, но говорено было, что при смотре 3-го корпуса государем сделать сие было бы удобно, потому что в сем корпусе много людей из бывшего Семеновского полка, которые неудовольствие личное свое разделяли с полками и тем приготовили оные ко всем предприятиям». Эти слова сразу обращали внимание власти на многих солдат, прежних семеновцев, высланных из столицы после 1820 года. В воспоминаниях декабристов мы ничего не найдем о пламенном раскаянии Пестеля, наподобие Трубецкого. Правда, в камере его не заковывали «в железа», но царь, несомненно участвовавший в первых допросах Пестеля, представил того в своих мемуарах следующим образом: «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелостью в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг». «Без малейшей тени раскаяния…» — это действительно было и могло особенно разъярить императора. Действительно, в первом показании — ни слова о «преступности» самого намерения, сожаления о случившемся. Только спокойные, лишенные всякой театральности, математически точные ответы. Разумеется, Пестель не рассказал тогда, в Эрмитажной библиотеке, о множестве известных ему фактов. Царь и Левашов имели основание думать, что он умалчивает о более важных обстоятельствах, обходит значительные подробности, и они усмотрели в этом«дерзкую смелость в запирательстве». И все же, мы видим, Пестель многих назвал и о многом, слишком многом рассказал на первом допросе… Как совместить эту трезвую холодность математического ума, отсутствие «тени раскаяния» и такую откровенность? Может быть, тут была слабость, позже преодоленная? Через день, 6 января, Пестель пишет в своей 13-й камере несколько дополнений к своим первым показаниям (вероятно, и по требованию следствия и но своей инициативе). Он снова раскрывает далеко идущие намерения революционеров, подробно и логично развивает свою мысль о том, как надо было готовить переворот («вот ход революции так, как я ее мыслил, говоря всегда, что лучше не торопиться, но Дело сделать Делом…» ), впервые сообщает о своей «Русской правде». Но комитет всем этим не слишком интересуется: он требует новых имен, новых «отраслей» заговора. В тот же день Пестель извещает комитет еще о пяти обществах, неизвестных или почти неизвестных властям. Во-первых, «слышал от поляков» о многочисленном Малороссийском обществе (и сейчас же начнут выяснять, брать и допрашивать, пока в конце концов не решат, что «общества сего в Малороссии не существовало» ). Во-вторых, «говорили поляки Бестужеву-Рюмину… будто бы они в сношений с другим русским политическим обществом, имеющим название Свободные садовники». Вскоре будут допрашивать поляков и Бестужева-Рюмина, но такого общества тоже не найдут. Третий и четвертый тайные союзы, которые Пестель решил назвать, — это Русские рыцари («слыхал от генерала Орлова» ) и Зеленая лампа («кажется, что Трубецкой о том знал» ). Допросили Орлова и Трубецкого, выяснили, что общества эти существовали давно и за участие в них не преследовали. Наконец, еще одна ссылка на Бестужева-Рюмина, который «сказал мне, что он слышал о существовании тайного общества под названием Соединенные славяне; члены его — артиллерийские офицеры третьего корпуса, коих имена я не любопытствовал узнавать, но кажется, что некто из них называется Борисов». Так было заявлено одно из самых решительных революционных обществ, и комитет уже велит Борисова «иметь под бдительным надзором» — придет еще одно свидетельство, и братьев Борисовых арестуют. Пестель, конечно, знал о Славянах гораздо больше (позже это откроется), но здесь он не назвал многих: ему важно сообщить сразу о целом обществе. Какое последовательное стремление представить тайный союз как можно шире, открыть его отрасли, филиалы, связи с другими городами, другими странами[82]. 5. Тут своя четкая логическая система. Чтобы понять ее, нужно вернуться на несколько месяцев назад, к осени 1825 года, когда Пестель еще был на свободе и возглавлял набиравшее силу и рвавшееся в дело Южное общество… По многим сохранившимся свидетельствам видно, что перед восстанием Пестель пережил глубокий внутренний кризис. Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и другие самые решительные члены общества склонялись к скорейшему выступлению на юге, Пестель же сдерживал слишком нетерпеливых товарищей от преждевременных порывов, которые могли бы разом погубить все дело. Кроме внутренних споров между южанами оставались неразрешенными и многие противоречия с северянами. Мысль об опасности выступления при таком несогласии и о возможных трагических последствиях этих споров, даже в случае успеха, — все это чрезвычайно огорчало наиболее умных и дальновидных заговорщиков. С другой стороны, нельзя было и медлить. Пестель уже знал, что властям известно о тайном обществе. М.В. Нечкина в своих работах суммировала сохранившиеся сведения о душевном кризисе Пестеля. Ивашев показал, что Пестель в начале 1825 года говорил ему о своем желании покинуть общество. Барятинский, прибывший в Тульчин примерно тогда же, свидетельствовал: «Пестель… уже часто мне по дружбе, которая нас соединяет, говорил, что он тихим образом отходит от общества, что это ребячество, которое может нас погубить, и что пусть они себе делают что хотят». Весной 1825 года Пестеля влечет к религии, что видно из переписки с родителями. После пятилетнего перерыва он впервые был «у исповеди и святого причастия». Наконец, известное свидетельство в мемуарах близкого к Пестелю южного декабриста майора Николая Лорера: «Однажды, придя к Пестелю вечером, по обыкновению я застал его лежащим. При моем входе он приподнялся и после краткого молчания, с челом сумрачным и озабоченным, сказал мне как-то таинственно: — Николай Иванович, все, что я вам скажу, пусть останется тайной между нами. Я не сплю уже несколько ночей, все обдумываю важный план, на который решаюсь… Получая чаще и чаще неблагоприятные сведения от управ, убеждаюсь, что члены нашего общества охладевают все более к нашему делу, что никто ничего не делает в преуспеяние его, что государь извещен даже о существовании общества и ждет благовидного предлога, чтобы нас всех схватить, — я решился дождаться 26 года (мы были в январе 1825 г.), отправиться в Таганрог и принесть государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений прав, каких мы добиваемся… Недавно я ездил в Бердичев, в Житомир, чтобы переговорить с польскими членами, но у них не нашел ничего радостного. Они и слышать не хотят нам помочь и желают избрать себе своего короля в случае нашего восстания…» Через несколько дней после первых петербургских допросов Пестель решился рассказать следствию о своих сомнениях перед арестом. Сначала, 6 января, — лишь в нескольких строках: «Уместным будет сказать, что при суждениях и разговорах о конституциях и предполагаемом общем порядке вещей весьма часто говорено было, что ежели сам государь подарит отечество твердыми законами и положительно постоянным порядком дел, то мы тогда вернейшие его будем приверженцы и оберегатели, ибо нам дело только до того, чтобы Россия пользовалась благоденствием, откуда бы оное ни произошло». Еще через несколько дней Пестель получил в камере «вопросные пункты» и решил, что настало время для заранее обдуманного признания. На 7-й пункт — «С какого времени и откуда заимствовал первые вольнодумные и либеральные мысли и каким образом мнения сего рода в уме вашем укоренялись?» — Пестель ответил знаменитым развернутым объяснением о том, как подтолкнули его к «вольнодумным мыслям» рабство и бедность народа, недостатки российского управления, освободительные революции в других странах, как, «входя в восхищение и, можно сказать, в восторг», представлял себе «живую картину всего счастья» , которым свободная Россия может пользоваться. В тот же день в другом показании он напомнит о нынешнем веке, который «ознаменовался революционными мыслями… Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать». Однако завершился ответ на этот пункт следующим признанием: «Объявив таким образом в самом откровенном и признательном изложении весь ход либеральных и вольнодумных моих мыслей, справедливым будет прибавить к сему, что в течение всего 1825 года стал сей образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно уже было совершить благополучно обратный путь. „Русская правда“ не писалась уже так ловко, как прежде. От меня часто требовали ею поспешить, и я за нее принимался, но работа уже не шла, и я ничего не написал в течение целого года, а только прежде написанное кое-где переправлял. Я начинал сильно опасаться междуусобий и внутренних раздоров, и сей предмет сильно меня к нашей цели охладевал. В разговорах иногда, однако же. воспламенялся я еще, но ненадолго, и все уже не то было, что прежде. Наконец, опасения, что общество наше открыто правительством, привело меня опять несколько в движение, но и тут ничего положительного не делал и даже по полку оставался на сей счет в совершенном бездействии до самого времени моего арестования». Пестель не оправдывался здесь тем, что хотел открыться Александру I, но можно сказать, что весь ответ этот был тем самым признанием,которое в часы душевного спада он собирался сделать покойному царю[83]. Перед арестом — надежда; открыть царю все общество, царь же взамен «предупреждает его развитие дарованием России тех уложений прав, каких мы добиваемся». Теперь, в крепости, Пестель пробует с опозданием осуществить тот же план: он называет людей, перечисляет отрасли, даже те, о которых смутно знает, даже те, которых, кажется, и не было. Все это для того, чтобы создать впечатляющую картину: едва ли не вся Россия в заговоре и так мыслит… Арестовать и наказать всю Россию невозможно, лучше даровать ей «уложение прав», то самое, которое подсказывает полковник Пестель, рисуя российские неустройства. По этой логике надо назвать больше отраслей общества, больше людей, и это будет уже не выдача, а наоборот: путь к скорейшему освобождению этих людей. Пестель, конечно, хотел жить и придумывал способы самозащиты, искал самооправдания, но вместе с тем понимал, что, если его вдруг помилуют, то других и подавно, а это значило бы для правительства признать многое в декабристских мнениях справедливым. Но, признав такое, нельзя не взяться за серьезные реформы… Разумеется, узнику равелина невозможно прямо требовать или даже просить этих реформ. В том несбывшемся плане встречи с Александром I Пестель еще мог мыслить себя своего рода парламентером, являющимся к противнику с полномочиями от имени вооруженной армии.Теперь же он — пленник в руках врага, и переговоры происходят на допросах и очных ставках… 6. Отчаянная попытка договориться с властью была, однако, обречена. Одно дело-что Пестель думал, предполагал; другое — что из этого на следствии получалось. Из журнала 27-го заседания от 12 января мы узнаем, что «допрашиван в присутствии полковник Пестель». Впервые его видели все члены комитета: они интересовались новыми именами и новыми подробностями. Пестель сам избрал свою линию; шире представить общество и рассказывать обо всем с откровенностью, чтобы его искренность не могла быть подвергнута сомнению. В этот вечер он называет имена некоторых деятелей самых ранних тайных союзов, сообщает еще подробности о Польском и Малороссийском обществах; не упуская случая показать значение и влияние заговорщиков, признается, что «графу Полиньяку, отправившемуся во Францию, поручили объявить о существовании в России тайного общества, если он найдет во Франции подобное». Наконец, Пестель сообщил, что «секретные бумаги свои отдал в конце ноября Крюкову 2-му, чтобы спрятать оные где-нибудь в Тульчине, а в случае опасности предать огню». Между тем именно в те дни поручик Николай Крюков 2-й решительно отрицал и свое участие в Южном обществе, и осведомленность насчет бумаг Пестеля. На следующий вечер, 13 января, в журнал 28-го заседания были занесены следующие строки: «Допрашивали поручика квартирмейстерской части Крюкова 2-го, который, несмотря на явные против его улики, не только от всего отказывался незнанием, но еще в выражениях употреблял дерзость, даже тоном некоторого презрения, а в бумагах его найдены выписки из самых соблазнительных мыслей из новейших философов». Для приведения Крюкова к раскаянию и кротости комитет представляет и царь утверждает «закование его в железа». Открыв дело Крюкова, мы найдем слова, вызвавшие в тот вечер гнев комитета: Вопрос:«Когда, где и каким образом передал вам полковник Пестель, как он сам показывает, тайные бумаги свои и именно „Русскую правду“ и разные проекты законов? В чем заключались оные? Где вы скрыли их у себя, или кому именно, когда, в каком место вручили для хранения? Вы непременно должны указать место, где бумаги сии теперь скрываются, дабы можно было отыскать их в полной целости, под опасением строжайшего взыскания за малейшую утайку». Ответ: «Господин полковник Пестель, называя меня деятельным членом одного с ним тайного общества и показывая, что передал мне свои тайные бумаги, может быть, желает спасти того, кому, верно, в самом деле их отдал; или, лучше сказать, я не постигаю, почему меня погубить хочет, ибо он мне никаких бумаг не вручил. И я надеюсь, что господин полковник Пестель не только что не в состоянии будет уличить меня в этом, как обещается, ибо для сего потребны доказательства, но даже не посмеет в глаза сказать сего, предполагая в нем совесть». Генералы, понятно, обиделись, услыхав намек, что комитет лжет. Николай Крюков молчал до апреля, когда его начали прижимать очными ставками. Крюкову пришлось согласиться с очевидным, по ничего лишнего он не сказал и долго настаивал, что в общество был принят покойным капитаном Филипповичем. Лишь после очной ставки с Лорером он сознался, «что принял его не Филиппович, а ротмистр Ивашев, которого он не хотел назвать, дабы не вовлечь в ответственность». В заключении к делу Крюкова Боровков вынужден был констатировать: «Обстоятельств, принадлежащих к ослаблению вины, кроме 20-летнего возраста при вступлении в общество и искреннего сожаления о родителе и семействе, из дела не открывается»[84]. Меж тем допросы Пестеля продолжались, и следствие брало от него то, что ему было нужно, не обращая внимания на то, что нужно было Пестелю. Заметим, что комитет хотя и доискивался сведений о кавказской, малороссийской и других «боковых отраслях», но не слишком глубоко. Если Пестель был заинтересован в том, чтобы представить общество как можно шире, то царю и комитету это было не очень выгодно: ведь пришлось бы судить вдесятеро большее число людей! Зайдя в своей логической расчетливой откровенности очень далеко, Пестель уже не мог остановиться, тем более что питал еще надежду на хотя бы частичный успех — легкий приговор ему и товарищам. Поэтому он н впредь будет откровенен, поэтому, не получив ответа на покаянное письмо Левашову от 12 января, он пишет еще раз через неделю (письмо не сохранилось) и в тот же день или накануне дает новые откровенные показания. Наконец, 31 января Левашову отправляется еще более униженное послание… 7. Много лет спустя о Пестеле размышлял Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, человек очень прогрессивный и осведомленный (в 1850 — 1860-х годах он был фактическим главою «землячества» возвратившихся из ссылки декабристов, многим помогал и не только собирал их мемуары, но часто стимулировал их написание, передавая записки одного декабриста другому для замечаний и уточнений, а также пересылая важные декабристские материалы в Вольную печать Герцена). В своих замечаниях к воспоминаниям декабриста А. М. Муравьева Евгений Якушкин, между прочим, пишет: «Из декабристов один только Пестель отличался глубоким практическим смыслом — нам говорят все знавшие его и читавшие его „Русскую правду“… „Русская правда“ была написана в республиканском и чисто демократическом духе. Впрочем, Пестеля нельзя и ставить наряду со всеми остальными членами общества. Об нем все говорят, как о гениальном человеке… Ни у кого из членов тайного общества не было столь определенных и твердых убеждений и веры в будущее. На средства он не был разборчив… Когда Северное общество стало действовать нерешительно, то он объявил, что ежели их дело откроется, то он не даст никому спастись, что чем больше будет жертв — тем больше будет пользы, и он сдержал свое слово. В следственной комиссии он указал прямо на всех участвовавших в обществе, и ежели повесили только пять человек, а не 500, то в этом нисколько не виноват Пестель; со своей стороны он сделал для этого все, что мог». Свидетельство Евгения Якушкина очень важно. Этот человек принадлежал к демократическому лагерю, в приведенной выдержке он не скрывает своего уважения к Пестелю как к решительному революционеру. Но в строках Евгения Якушкина не нужно искать буквальной исторической точности: здесь, конечно, отзвуки множества бесед со стариками-декабристами, особенно с Матвеем Муравьевым-Апостолом, который читал «Русскую правду» и лучше кого бы то ни было из близких знакомых Евгения Якушкина знал Пестеля. Важно, что идея Пестеля «чем хуже — тем лучше», «чем больше будет жертв — тем больше будет пользы» осталась в памяти и представлениях других участников восстания. Нетрудно заметить, что метод самозащиты Пестеля близок к тактике Рылеева, старавшегося, по словам Н. Бестужева, «перед комитетом выставить общество и дела оного гораздо важнее, чем они были на самом деле. Он хотел придать весу всем нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали. Согласно с нашей мыслью, чтобы знали, чего хотело наше общество, он открыл многие вещи, которые открывать бы не надлежало…» Два вождя двух декабристских обществ, попавшие в тяжелейшие условия следствия, выбирают сходные линии поведения (заметим, что Бестужев говорит: «Наша мысль, чтобы знали, чего хотело наше общество» ). Им во многих их отношениях труднее приходится, чем, скажем, Крюкову 2-му или Цебрикову, которых за грубость и презрение к судьям заковали в кандалы. Они держатся — Крюков, Цебриков и некоторые другие, — но они «рядовые», отвечают только за себя или, в крайнем случае, еще за небольшую группу друзей, чья судьба зависит от их показаний. Пестель же и Рылеев за все в ответе. Они про все и рассказывают, не жалея ни себя, ни других. Их мечта — высказать всю правду и, может быть, так выиграть… Пестель, Рылеев и многие их друзья дорого заплатили за свои ошибки. Первая плата — проигранное восстание. Вторая плата — проигранное следствие и гибель на виселице. У Рылеева, правда, не было мысли уйти из дела до взрыва, но было сомнение в средствах и результатах, перешедшее в горькое разочарование после 14 декабря. Пестель, крайний, решительный революционер, перед восстанием также отягощен мрачными предчувствиями и даже размышляет уже о переговорах с врагом. Пестель и Трубецкой — герои множества сражений. Рылеев — храбрейший дуэлянт. Они — люди высокой нравственности, хорошие товарищи. Петрашевец Ф. Толь записал в Сибири за Матвеем Муравьевым-Апостолом: «Когда члены комиссии спросили Матвея Ивановича, были ли в обществе некоторые молодые люди, известные своим кутежом, он отвечал: „Они были слишком безнравственны, чтобы быть принятыми“. — „Так, стало быть, вы были очень нравственны?“ — сказали ему. „Я только отвечал на ваш вопрос!“ — сказал он». Можно легко представить этих людей попавшими в плен, скажем, к Наполеону или к туркам. Они перенесли бы худшие мучения, но никогда бы не унизились перед врагом, не согласились вступить с ним в какую-либо сделку, противоречащую их долгу и чести. Должна была сложиться исключительная ситуация, прежде этим людям неизвестная, чтобы многие из них так оплошали, так выдали товарищей. Ситуация эта очень сложна, но основное в ней определяется одним словом: Неуверенность… Если бы пришлось выбирать между двумя путями — примирение с гнусной действительностью или бунт, было бы легче. Но и перед восстанием и после возникала часто мысль: а может быть, не следует ставить на карту сразу все накопленное за десять лет? Может быть, не надо идти на риск — потерять в случае неудачи сотни столь ценных для России людей? Но как же было и упустить такой момент, как междуцарствие? Подвиг ожидания или нетерпения? Сейчас нам важен не ответ, а сама задача: она была, о ней не могли не думать в казематах, и одна мысль — «а может быть, следовало иначе!» — усиливала горечь сомнения, неуверенность. М. В. Нечкина, описав в своей книге переживания Пестеля за месяцы, предшествовавшие восстанию, обобщает: «Дворянский революционер с его колебаниями сказывался и в Пестеле». Тут, однако, можно заметить противоречие: много говорится о незрелости российских условий, неразвитости буржуазии и рабочего класса, отсутствия связей у передовых дворян с народом. Часто отмечается, что в том не столько вина, сколько историческая беда декабристов. Объективные условия 1820-х годов сильно уменьшали вероятность удачи… Но если так, тогда колебания революционера, так сказать, в природе вещей. Будь он абсолютно убежден в средствах и успехе, не имея на то оснований, мы бы сказали, что он недальновиден или даже глуп. Откажись он действовать, мы бы сказали, что он смирился и капитулировал. Ситуация 1825 года — трагическая. Колебаться было нельзя. Не колебаться было невозможно. Но ведь недостатки — продолжение достоинств, достоинства иногда — продолжение недостатков: из декабристских сомнений,свидетельствующих, что эти люди всерьез видели почти непреодолимые препятствия, выросли страшные поражения на Сенатской площади и на следствии. Из поражений же вырастает новая мысль — новая вера, новые планы и новые сомнения… Вскоре на процессе всплыли неизвестные факты. Пока еще не прямо из допросов Пестеля, но в близкой связи с ними правительство получило важные сведения, позволившие захватить еще не захваченных. Последним из них будет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка подполковник Михаил Лунин. IV 1. История братьев Поджио — одна из самых печальных. Среди сорока шести лиц, представленных доносчиком Майбородой, под № 28 значится: «Майор Поджио, вышедший в отставку из Днепровского пехотного полка[85]. Находится Чигиринского уезда в своей деревне. Лично говорил о обществе» (то есть говорил при Майбороде). С приказом об аресте медлили несколько дней, пока имя Поджио не прозвучало в ответах Рылеева от 24 декабря. Рылеев вспомнил только, что видел Поджио «несколько лет назад на собрании у Митькова». Этого оказалось достаточно, и Николай начертал: «Поджио взять и привести». Приказ полетел в южные края, 3 января — арест, 8 дней везут и 11 января водворяют в 7-й каземат Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. По дороге Поджио 1-й мечтает, чтобы в комитете забыли про старшего брата, Иосифа Поджио[86] (его действительно капитан Майборода не заметил), но не ведает, что в первом же петербургском показании, перечисляя южан, Пестель скажет: «Майор Поджио и его брат». 21 января штабс-капитан Иосиф Поджио уже значится в 11-й камере Кронверкской куртины Петропавловской крепости. Начались допросы. Подполковник Поджио держится осторожно, на первом «левашовском» экзамене ссылается на болезнь, удалившую его от тайного общества, называет 15 сочленов (всех уже взяли прежде, и он это знал). Не скрывает также, что слыхал о Польском обществе, о «связи с Грузией через Якубовича, о чем говорил Пестель». Из всех ответов Поджио создается, однако, впечатление, что не он первый вспомнил об этих обществах, а Левашов спросил о них как о фактах, уже известных. В письменных показаниях Александр Поджио несколько каялся, ссылаясь на свой «буйный характер и самолюбие», но затем нарисовал впечатляющую картину российских безобразий и отрицал, будто основные идеи свои заимствовал из книг. «Скажу… что вольнодумства не было в России вне общества нашего, но был ропот». Как видим, Александр Поджио взял линию, которой держались многие декабристы: умеренно раскаиваясь, пользоваться случаем, чтобы говорить правду о положении в стране. Он как бы пытается говорить с властью на ее языке, но тюремщики тем же языком сразу требуют весомых доказательств искренности и раскаяния. 17 января, па 32-м заседании, Поджио 1-й предстает перед комитетом и, хотя «сохраняет лицо», вынужден все же сказать больше, чем прежде. В протоколе читаем: «Поджио… дополнил, что слышал он, будто Сергей Муравьев-Апостол принял в общество даже и солдат, и что таковых членов считал он до 800 человек, наиболее в Черниговском и Алексапольском полках». Возможно, и Поджио надеялся, что чем шире представит общество, тем лучше все кончится. Александра Поджио после допроса оставили в покое, Иосифом же вообще занимались умеренно, так как не ждали от него больших откровений. 5 февраля Поджио 2-й сообщил, что «был принят Давыдовым и Бестужевым-Рюминым против воли, потому единственно, что боялся отказом навлечь неприязнь Давыдова, в племянницу которого (теперешняя его жена) он был влюблен»[87]. В этом признании его нет ничего особенного: типичная попытка самооправдания, каких немало было за 212 следственных дней. Но вдруг через пять дней комитет получает неожиданный подарок: 55-е заседание: «Слушали дополнительные показания штабс-капитана Поджио, что его брат, отставной подполковник, когда стало известно об арестовании Пестеля, написал с ведома Давыдова к князю Волконскому, вызывая его восстать с 19-й дивизией и идти освободить Пестеля; что письмо сие послал с подполковником Ентальцовым, которому Волконский ответил словесно, что не будет действовать, и что тогда подполковник Поджио пожелал отправиться в Петербург и посягнуть на жизнь ныне царствующею императора, и что, когда его арестовали, он сказал, что через то лишен сделать благо России». Комитет был охвачен немалым волнением: цареубийство! — вот что им нужно было больше всего и о чем за два месяца еще не собрали желанного количества сведений. Правда, Пестель уже рассказал о намерении Якушкина в 1817 году и о некоторых других старых планах. Но Поджио преподносит им свежий факт, о котором разговора еще не было: ведь речь шла о планах покушения не на прежнего царя, Александра I, а на ныне царствующего императора Николая! Трудно судить, что произошло за 20 тюремных дней со старшим и житейски более опытным Поджио: тоска, отчаяние, мысли об оставленных детях, беременной жене, матери? Одно только заметим: когда сдается, кается один, за ним — другой, третий, тогда невыносимо трудным становится положение даже самых стойких. В воздухе — психоз поражения, моральные нормы сдвигаются. Когда на очных ставках товарищи, потупившись, говорят правду, «что хуже всякой лжи», и призывают тебя к тому же, когда другой узник при тебе называет имена и факты, которые ты скрыл, когда враги говорят чистую правду, а ты вынужден лгать, тогда и сам невольно начинаешь изъясняться не своим языком, а «петропавловским». Коллективный, массовый психоз может быть обезврежен, остановлен, если сквозь пораженную группу людей искрой пробежит новая спасающая идея. Но камеры-одиночки усиливали, еще больше нагнетали уныние и упадок. Как только братья Бестужевы начали перестукиваться через разделявшую их стенку, сопротивляемость значительно возросла; согласовывая свои показания, они оправились от первых промахов, и одного этого оказалось достаточно, чтобы по измученной, мечтающей о бодрящих вестях толпе одиночек пополз слух об исключительном мужестве Николая Бестужева. Если же возможность какого-либо общения с соседями исключена, узникам остается только одно: внутреннее сопротивление[88]. Иосиф Поджио ни с кем не мог переговариваться, а внутренне был слаб. За первые же недели его пребывания в крепости — чего только вокруг не произошло, кого только за это короткое время не ломали и не подавляли — от знакомого с Пестелем тульчинского еврея Давыдки Лошака до генерала и князя Сергея Волконского; поражения других Иосифу Поджио вскоре уж хорошо известны, хотя бы из вопросов следователей. Тяжкое давление многочисленных признаний было, конечно, одной из главных причин, побудивших его 10 февраля совершить поступок, о котором в «Алфавите декабристов» сказано: «Водимый раскаянием, он в ответах был весьма чистосердечен и даже не скрыл обстоятельств, служивших к вящему обвинению брата его…» Перед 10 февраля Иосиф Поджио переступил предел, после которого (как это случилось и с Трубецким) у него можно было добыть любые показания. Проходит несколько дней, и на 60-м заседании от 15 февраля в комитете читают новые показания Поджио против Поджио: подполковник Александр Поджио, оказывается, пожалел при аресте, «что не было там подполковника Ентальцова, который бы восстал со своей ротой и, освободив его, пошел бы в военные поселения; кроме того, Поджио 1-й надеялся на полковника Вольского…». Тяжелейшее впечатление, которое оставляет весь протокол этого заседания, уменьшается, однако, последним его пунктом: «Слушали показания подпоручика Андреевича 2-го,который, не раскрывая никаких новых обстоятельств, оправдывает свои и сообщников действия, восхваляет Сергея Муравьева, почитает его и себя жертвами праведного дела и в заключение обнаруживает преступнейшие мысли и чувства». (Царь: «Заковaть» .) После того дня внимание комитета сосредоточилось на деле Поджио, в особенности на подробностях цареубийственных планов, которые должны быть подтверждены не одним, а многими лицами. План атаки против цареубийц разработан умелыми стратегами, и после нескольких очных ставок Поджио 1-й сознался… Комитет постановил «цареубийцу… Александра Поджио — заковать». Николай дал согласие. В камере закованный Поджио переживает худшие часы своей жизни. Ему приносят вопросные пункты, чтобы он написал то, о чем уже сообщил при допросе. Поджио размышляет, — как облегчить свое положение и несколько уменьшить страшную, грозящую казнью вину. И он приходит все к тому же характерному для Пестеля и Рылеева пути: растворить свое преступление в других, подчеркнуть его «обыкновенность», может быть, поставить власть перед выбором: всех казнить или всех миловать… 18 февраля, на 64-м заседании, члены комитета с удивлением узнали, что в своих письменных показаниях Александр Поджио не просто зафиксировал свои признания, сделанные третьего дня, но сообщал и нечто совсем новое: «Коль богу угодно, — пишет Поджио, — открыть было все наши злодеяния и неслыханные помышления и явить признанием нашим, сколь мы преступны в отвержении всего добродетельного и отечественного, — скажу о всех умышлениях, мною слыханных, скажу, сколь они были по несчастию обыкновенны мыслям членов общества и сколь они невозможны…» Затем Поджио поведал о пяти планах цареубийства, из которых четыре были комитету в общем известны[89], пятый же вызвал особый интерес. Поджио пишет: «Мне Матвей Муравьев говорил, что Пестель имел предприятие исполнить сие злодеяние составлением из некоторых людей, наименовав сие „Cohorte perdue“[90], хотел ее препоручить Лунину и с сим привести в действие цель Южного общества». Комитет постановил: «О сем обстоятельстве спросить Пестеля и других, могущих о том знать». Около этой записи рукою Дибича поставлено четырежды подчеркнутое нотабене. Оно выражало чувство высокого начальника, знавшего все мысли царя по поводу ведения процесса. Давно уже замечено, что планы цареубийства были основной темой для следователей. На десятках заседаний обсуждались многочисленные подробности неосуществившихся намерений; на бесконечных очных ставках одни декабристы утверждали, что хотели истребить только государя, другие же уличали их, что «не только государя, но и всю императорскую фамилию». Если бы человек, ничего не слыхавший о декабристах, прочитал следственные дела и журналы комитета, он мог бы подумать, что стремление во что бы то ни стало извести монарха было чуть ли не единственной целью заговорщиков. Самовластье, надо признать, нашло самый верный путь ведения такого процесса: цареубийство — это звучит внушительно, это устрашит и убедит народ; цареубийство — это максимальное принижение обвиняемых, которые выставляются жестокими, кровожадными злодеями; цареубийство позволит поднять авторитет императорской власти (все внимание преступников, выходит, на ней сосредоточивалось). Наконец, раздувая дело о цареубийстве, можно будет в массе «впечатляющих подробностей» утопить главные намерения и цели декабристов: ликвидацию крепостного права и военных поселений, установление конституционного строя, введение свободы слова, печати, суда присяжных и т.п. При этом, по мнению верхов, ни один, даже самый пристрастный, критик не мог бы придраться к следственному процессу; ведь цареубийственные планы действительно были, и в немалом количестве; это не вымысел комитета… Вот почему признание Поджио 1-го о пестелевском «обреченном отряде» и о Лунине были царю и комитету очень и очень на руку. Во-первых, еще один план цареубийства. Во-вторых, план, непосредственно исходящий от Пестеля, которого до сей поры прямо не удавалось уличить в подобных замыслах. Пестель, наоборот, подчеркивал, что сдерживал слишком горячих соратников, стремившихся преждевременно покуситься на царя. В-третьих, представлялась, наконец, возможность предъявить Лунину такое обвинение, что и покровительство Константина будет бессильно (попутно цесаревичу «утрут нос»: пригрел цареубийцу!). Но поскольку требовалось убеждать Константина, необходимо было и поработать хорошенько над показаниями Поджио, а главное, найти тех, кто их подтвердит. Работа нелегкая — но что не по плечу добрым молодцам Бенкендорфу, Чернышеву, Левашову? 2. С 25 февраля по 13 марта 1826 года было всего семь заседаний: из Таганрога привезли тело Александра I, шла многодневная траурная церемония, и члены комитета дежурили у гроба. Работал в эти дни только генерал-адъютант Чернышев. Именно он ведет расследование вопроса про «обреченный отряд». Прежде чем спросить самого Пестеля, генерал старается собрать сведения у других декабристов, чтобы у вождя южан не было отступления. «Мне Матвей Муравьев говорил…» — так начал Поджио свое показание про «обреченный отряд». И Чернышев в первую очередь допрашивает отставного подполковника Матвея Муравьева-Апостола. Душевное состояние этого декабриста было чрезвычайно тяжелым. Он, пославший брату Сергею разочарованное письмо в 1824-м, все же участвовал в восстании Черниговского полка, видел, как Сергея ранили и схватили и как тут же, на поле боя, застрелился самый молодой из братьев, 18-летний Ипполит. Старший из Муравьевых-Апостолов, возможно, предчувствует, что Сергея, вождя мятежа, не помилуют, да и для себя он не ждет ничего хорошего — 32-летний герой Бородина, Тарутина, Малоярославца, Кульма, Лейпцига, один из основателей первых декабристских союзов, с нарастающим отчаянием размышляет в камере о загубленном деле, гибнущих товарищах и друзьях. Его охватывает депрессия — продолжение внутреннего кризиса, начавшегося еще до восстания и во многом напоминающего известные сомнения Пестеля. Чернышев, посылая свой вопрос, рассчитывает, конечно, на слабую сопротивляемость этого декабриста, и его ожидания отчасти оправдываются. Было спрошено: «Подполковник Поджио показывает слышанное от вас, что Пестель для исполнения умышленного покушения… хотел составить из нескольких членов партию под названием „La garde perdue“ и поручить оную Лунину[91]. Поясните: справедливо ли сие показание Поджио?» Матвей Муравьев-Апостол отвечает: «Когда еще Лунин был в чужих краях — полковник Пестель, не спрашивая его согласия, действительно полагал составить „обреченный отряд“ и поручить ему начальство над оным. Я это слышал от брата моего Сергея — тогда я был в Полтаве. Брат мой всегда был против его плана». Чернышеву такого заявления было, разумеется, мало: неизвестно, знал ли сам Лунин, какую роль готовил ему Пестель. Видно также, что Матвей Муравьев явно хотел улучшить шансы своего брата Сергея за счет Пестеля. Но прежде чем подступиться к Пестелю, допросят вождя черниговцев Сергея Муравьева: ведь он был «против этого плана» — значит, знал о нем… 3. В ночь с 20 на 21 января 1826 года его привезли во дворец, и царь в своих записках рисует следующую сцену допроса: «Муравьев был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был в мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой раны и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что — причиной несчастья многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал: Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный и образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтобы считать ваше предприятие сбыточным, а не тем, что есть, — преступным, злодейским сумасбродством? Он поник голову, ничего не отвечая, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно. Когда допрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки». Действительно, Сергея Муравьева угнетала мысль о том, что он погубил других: Николай и Левашов скоро заметили эту душевную рану. Царь вспомнил только, что говорил с ним как со старым товарищем и «увещал… не усугублять вины упорством», то есть намекал на то, что в противном случае его может постигнуть худшая участь. Но царь умалчивает о том, что он дал в ту ночь предводителю черниговцев куда большие обещания. Это хорошо видно из письма, которое Сергей Муравьев послал 25 января царю. Вопрос о его казни, можно считать, предрешен, а он — о чем он пишет! «Что касается лично меня, то если мне будет дозволено выразить вашему величеству единственное желание, имеющееся у меня в настоящее время, то таковым является мое стремление употребить на пользу отечества дарованные мне небом способности; в особенности же если бы я мог рассчитывать на то, что я могу внушить сколько-нибудь доверия, я бы осмелился ходатайствовать перед вашим величеством об отправлении меня в одну из тех отдаленных и рискованных экспедиций, для которых ваша обширная империя представляет столько возможностей — либо на юг, к Каспийскому и Аральскому морю, либо к южной границе Сибири, еще столь мало исследованной, либо, наконец, в наши американские колонии. Какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному исполнению ее, ваше величество, убедитесь в том, что на мое слово можно положиться». Как боевой офицер, отдающий шпагу победителю, он сдается, сохраняя честь, и завершает послание словами: «Благоволите, государь, милостиво отнестись к просьбе того, кто с этой минуты объявляет себя вашего императорского величества верным подданным. Сергей Муравьев». Его откровенность была ответом на «хорошее обращение». Однако это не было ни откровенностью-капитуляцией, как у Трубецкого, ни откровенностью-тактикой, как у Рылеева и Пестеля. Сергею Муравьеву, привезенному 20 января, могли за несколько минут разъяснить, кто взят и о ком уже многое известно. Поэтому он называл имена, факты, раскрывал планы, но, судя по журналам комитета, почти все это уже знали и без него. Так Сергей Муравьев-Апостол отступал, но не сдавался; сожалел, но не каялся; рассказывал, но старался не выдать… Между пятью декабристами, позже казненными, Сергей Муравьев-Апостол был на следствии самым стойким. Одна благородная мысль особенно отчетливо выступает в его показаниях: взять на себя,самому отвечать за все. Боевая решимость, которую он сохранял перед восстанием, видимо, не совсем изменила ему и на следствии. 5 апреля 1826 года Боровков внес в протокол 97-го заседания (возможно, не без тайного сочувствия) следующие строки: «Допрашивали Черниговского пехотного полка подполковника Сергея Муравьева-Апостола: утверждал, что на истребление покойного государя не делал он предложения и даже соглашался на сие предложение единственно потому, что было общее принятое мнение всего общества; он же сам почитал меру сию излишнею и оную не одобрял. Сверх того, пояснил некоторые обстоятельства, но вообще более показал искренности в собственных своих показаниях, нежели в подтверждении прочих, и, очевидно, принимал на себя все то, в чем его обвиняют другие, не желая оправдаться опровержением их показаний. В заключение изъявил, что раскаивается только в том. что вовлек других, особеннее нижних чинов, в бедствие, но намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем бог один его судить может и что составляет единственное его утешение в теперешнем положении. Положили: дать ему допросные пункты». Но вернемся к тем дням, когда Чернышев пытался узнать от Сергея Муравьева о Лунине и «garde perdue». Генерал понимал, что у этого человека он многого не добьется, и поэтому для большего воздействия сослался не столько на Поджио, сколько на Матвея Муравьева. Ответ: «На совещаниях 1823 года был Пестелем предложен вопрос: при введении „Русской правды“ как поступить со всею императорскою фамилиею? А также различные мнения присутствующих. На сих совещаниях действительно было говорено Пестелем о средстве исполнить сие предприятие составлением отряда решительных людей под предводительством одного, и он тогда действительно назвал Лунина. Но не так, как в решительно постановленном плане, а как в одном только предположении. Лунина же он назвал, как человека, известного решительностью своею». Сергей Муравьев не только не выдает троюродного брата, но и Пестеля защищает, насколько это в его возможностях: не было решительного плана — «одно только предположение». Тропа к Лунину казалась еще более непроходимой. Мало ли что могли за него решить, не спросясь? Комитет понял, что для обнаружения «настоящих цареубийц» надо искать других свидетелей, и двинулся допрашивать Бестужева-Рюмина, Барятинского, Соединенных славян[92]. Желание Николая заполучить Лунина в Петербург казалось в начале марта настолько несбыточным, что Пестеля пока даже не спрашивали про «обреченный отряд»: понимали, что в лучшем случае он покажет о своем намерении привлечь Лунина, даже не имея еще на то согласия самого Лунина. И ничего не докажешь: Пестель — на Украине, Лунин несколько лег не покидал Варшаву… 4. Едва намечался, правда, еще один путь для захвата адъютанта его высочества, но сколько их уже было, неудавшихся путей! Имя Лунина несколько раз мелькнуло в показаниях других декабристов о давних совещаниях вождей Союза благоденствия. Сюжет был опасен: на квартирах Федора Глинки и Шипова толковали о республике, цареубийстве и т. п. Впрочем, одни говорили, будто его на тех совещаниях не было, другие — что он в тех совещаниях участвовал, но смутно помнили, о чем говорил… В феврале комитет представил царю очередную выписку о подполковнике Лунине и совещаниях 1820 года, но всем было ясно, что за столь неопределенную, приблизительную вину Константин его не отдаст. Бумага пошла в Варшаву, и .великий князь немедленно передал на имя Дибича отношение, чтобы с Луниным поступить «сообразно с порядком, который был наблюдаем по высочайшему повелению насчет… князя Ивана Долгорукого и Ивана Шипова». Иначе говоря, Долгорукий и Шипов, «люди царя», тоже участвовали в тех совещаниях; пусть же с «моим человеком», Луниным, поступят так же, как с ними… Между тем процесс быстро двигался к концу: уже прервали на несколько дней заседания (из-за ледохода, разделившего дворец и крепость и уносившего в море трупы, с 14 декабря примерзшие к льдинам), уже перестал Михаил Павлович ходить в прискучивший комитет; 26 марта на 87-м заседании Дибич объявил царскую волю (проект предложил Боровков), чтобы комитет «при открытии новых лиц, участвовавших в тайном обществе, представлял бы о взятии тех только, кои по показаниям и справкам окажутся сильно участвовавшими в преступных намерениях и покушениях общества, а о прочих уведомил бы начальство, смотря по обстоятельствам для учреждения за ними бдительного надзора или для арестования при своих местах, впредь до другого распоряжения». Казалось, Лунин уцелеет, кривая вывезет… После того как прошел ладожский лед и среди обширных финансовых материалов комитета появился документ «о назначении катера, который отвозил бы господ членов комитета от пристани Мраморного дворца в Петропавловскую крепость», генералы и секретари заработали с удвоенной энергией, уже отчетливо понимая, что им остается выяснить. Через день, иногда несколько дней подряд, в 11 или 12 часов дня члены комитета собирались в крепости — в комнатах коменданта — и до трех-четырех часов допрашивали и проводили очные ставки. Затем обед, короткий отдых, а к 8 часам вечера — в Зимний дворец, где читали и обсуждали письменные показания. К концу марта накопилось, наконец, немало свидетельств о разных цареубийственных планах Пестеля, и поэтому решили основную часть первого апрельского заседания посвятить новому допросу Пестеля и послушать, между прочим, насчет «обреченного отряда» во главе с Луниным. V 1. После полуденного удара петропавловской пушки господа члены комитета и секретари заняли места за своими столами. Дежурному офицеру приказали доставить Пестеля на 93-е заседание. Шел уже четвертый месяц его заточения. Первоначальные надежды договориться с правительством таяли. Все более настойчивые вопросы о планах покушения на царя были зловещим предзнаменованием. Если бы спрашивали об основных целях общества — это было бы добрым сигналом с. той стороны, признаком, что нашелся общий язык. Но они говорили только своим, все более жестким языком, и Пестель убеждался, что его метод самозащиты не оправдался. Скорее по инерции он продолжал держаться своей январской тактики, да, видно, еще тлела искорка надежды. 1 апреля Пестеля спрашивают о многом, но все клонится к теме цареубийства. Он пытается доказать, что «не делал от себя предложения ввести республиканское правление, истребив прежде всю императорскую фамилию», но стоял за республику, потому что таково было постановление общества. С полмесяца Пестель будет еще отрицать свою личную инициативу в подготовке цареубийства. В журнал 93-го заседания внесена следующая запись о его допросе: «Пестель… вообще казался откровенным и на все почти вопросы отвечал удовлетворительно; многие показания, на него сделанные, признал справедливыми, многие совершенно отверг, принося в доказательство их неосновательности искреннее его сознание в преступлениях, не менее важных. Причиной сих многочисленных обвинений, несправедливо на него взводимых, полагает то, что, будучи главнейшим и ревностнейшим лицом в тайном обществе, членом директории, более других уважаемым, всякий для привлечения других или дабы придать себе более важности выдавал собственные свои мысли и предложения за мысли и предложения его, Пестеля». Тогда ему предъявляют показания Александра Поджио, как они вместе по пальцам считали подлежащих истреблению лиц императорской фамилии, как не остановились перед тем, чтобы считать и женщин, «и число жертв составилось тринадцать». Пестель защищается, утверждая, что по именам считали Романовых не для истребления, а для определения их судьбы в случае установления республики, «но без всех этих театральных движений, о коих Поджио упоминает. Напрасно старается он с таковым красноречием меня в этом жестоком виде представить». Вопрос о Лунине и «обреченном отряде» был задан Пестелю четырнадцатым. «Подполковники Сергей и Матвей Муравьевы, и Поджио, и Бестужев-Рюмин показывают, что вы, для исполнения преступного намерения, означенного в предыдущем пункте, предполагали составить из нескольких отважных людей партию под названием „обреченный отряд“ и поручить оную Лунину, известному по его решительности». Легко заметить, что комитет передергивает (игру ведет Чернышев!), представляя Пестелю четырех свидетелей. Бестужев-Рюмин ничего о Лунине не говорил, только об отряде цареубийц. Поджио ссылался на Матвея Муравьева-Апостола, а тот — на брата Сергея. Значит, не четыре свидетельства, а одно, да и то с оговорками, что Пестель, кажется, говорил о Лунине, но неизвестно, знал ли о том сам Лунин… Пестель начал свой ответ на этот вопрос так, как, вероятно, от него и ожидали: «Я с Поджио никогда про Лунина не говорил и сего намерения в отношении к Лунину не имел и не мог иметь, ибо одно уже местопребывание Лунина делало сие невозможным. К тому же не имел я с самого 1820 года никакого известия о Лунине». Несколько позже он заметил, что свидетели как будто предполагают «точное намерение» Пестеля привлечь Лунина, в то время как это было самое общее рассуждение. На этом Пестель мог бы и закончить свой ответ на 14-й вопрос; так бы и сделали на его месте многие декабристы. Но вождь южан, верный избранной им линии «расширений и дополнений», находит нужным добавить то, о чем его непосредственно и не спрашивают. Прежде всего он добавляет, что Бестужев-Рюмин составлял отряд для нападения на Александра I в Белой Церкви, причем батальон Сергея Муравьева должен был «подкрепить сию партию». О намерении Бестужева-Рюмина комитет уже знал, но сам Бестужев, признаваясь, отрицал участие Сергея Муравьева в том замысле и с трогательной самоотверженностью пытался выгородить своего друга, Пестель же подтверждал. И далее, как бы размышляя вслух, откуда же всплыло имя Лунина в заданном ему вопросе, Пестель вспоминает: «Лунин же в начале общества, в 1816 или 1817 году, предлагал партиею в масках на лице совершить цареубийство на Царскосельской дороге, когда время придет к действию приступить». Еще один неизвестный план покушения на царя и новый, на этот раз, кажется, верный «подход» к адъютанту Константина. Одного свидетельства Пестеля, правда, недостаточно было, чтобы осудить Лунина, но вполне достаточно для того, чтобы востребовать его в Петербург для допроса и тем самым вывести из-под опеки цесаревича. 2. «По получении из Петербурга допросных пунктов начальник штаба [Константина] генерал Курута, заключая по ним о важности обвинения, доложил великому князю о том, что домашний арест, наложенный до того на Лунина, следовало бы заменить содержанием на гауптвахте, на что великий князь ему сказал: «Я бы с Луниным не решился спать в одной комнате, но что касается до побега, опасаться нечего, давши слово, он не бежит; я за это поручусь». Так рассказывает декабрист Свистунов. По другой версии, Лунин перед тем попросился «на силезскую границу поохотиться на медведей». — Но ты поедешь и не вернешься! — Честное слово, ваше высочество! — Скажи Куруте, чтоб написал билет… Лунин едет охотиться, возвращается, а его уже ждет фельдъегерь… С. Б. Окунь интересно проанализировал двойственное чувство Константина: великий князь ненавидит декабристов, но Лунину предоставляет с декабря 1825-го много времени и возможности уехать за границу. Константин склонен наказать тех, кто близок к заговорщикам, бегство адъютанта его бы компрометировало; но притом желает и спасения Лунина, которому, по-видимому, доверял свои сокровенные мысли, в частности желание надеть польскую корону. 3. Сопоставляя две даты — роковое показание Пестеля от l апреля и арест Лунина в Варшаве 9 апреля, профессор С. Б. Окунь полагает, что Константин перестал защищать Лунина именно тогда, когда получил из Петербурга отчет о 93-м заседании комитета. Однако очень большую роль в судьбе декабриста сыграли и те ответы, которые он дал на присланные из столицы письменные вопросы. Ответы были даны 8 апреля, едва ли не одновременно с плохими для Лунина вестями из комитета. Именно «сумма» этих ответов и пестелевских показаний все решила… Лунин прекрасно понимал, что первым будет читать его ответы Константин, затем — комитет и Николай. То, что ему прислали вопросы, а не потребовали к допросам, говорило, что дело еще не решено. Константин, надо полагать, советовал Лунину отвечать в покаянных тонах, признать свои прежние грехи и подчеркнуть, что от общества ушел и что, вероятно, его оговаривают друзья, которым «обидно», что он на свободе (такую мысль, как уже говорилось, Константин отстаивал в одном из писем к Николаю). Лунин отнюдь не желал дать господам из Петербурга лишний повод — упечь его в крепость и Сибирь. Но человеку высокой чести и нравственности претит даже тень пресмыкательства «во спасение». Как же найти, отвечая, такую идеальную линию, чтобы и в ловушку не попасть и чести не уронить? Вот извлечения из петербургских вопросов и варшавских ответов с комментариями, не претендующими на полноту и в основном относящимися к линии поведения Лунина на следствии: Вопрос: «Комитет, имея утвердительные и многие показания о принадлежности вашей к числу членов Тайного общества и действиях в духе оного, требует откровенного и сколь возможно обстоятельного показания вашего в следующем: Когда, где и кем вы были приняты в число членов Тайного общества и какие причины побудили вас вступить в оное?» Заметим, что комитет не открывает, как это часто делал, от кого он получил свои сведения, и к тому же лжет, будто имеет «утвердительные и многие показания», на самом деле располагая лишь немногими и предположительными показаниями. Не сообщая, что именно они знают, члены комитета сразу ставят Лунина в тяжелое положение. Он, конечно, осведомлен, кого забрали, и догадывается, кто на него мог бы показать. Но ведь ему совершенно неизвестно (разве что смутно, по слухам), кто и в чем признался: а вдруг Трубецкой, Никита Муравьев, Пестель упорствуют, отрицая свое участие в тайных обществах? Тогда, назвав их, Лунин им повредит. Ответ: «Я никем не был принят в число членов Тайного общества, но сам присоединился к оному, пользуясь общим ко мне доверием членов, тогда в малом числе состоящих. — Образование общества, предположенные им цели и средства к достижению оных не заключали в себе, по моему мнению, зловредных начал. Я был обольщен мыслию, что сие тайное политическое общество ограничит свои действия нравственным влиянием на умы и принесет пользу постепенным приуготовлением народа к принятию законно-свободных учреждений, дарованных щедротами покойного императора Александра I-го полякам и нам им приготовляемых. — Вот причины, побудившие меня по возвращении моем из чужих краев присоединиться к тайному обществу в Москве, в 1817 году». Ни одного имени… На вопросы «когда » и «где » Лунин отвечает, вопроса «кем » будто и не замечает. Ответ предельно краток. Это особенность всех будущих ответов Лунина, и не одного Лунина: Пущин, Якушкин и другие, державшиеся стойко, старались вообще поменьше говорить, — понимали, что одно неосторожное слово может обогатить следствие лишней информацией, дать ему в руки новые козыри[93]. Но Лунин не только сдержан в своих ответах. Он на первом же допросе начинает тонко издеваться над вопрошающими и в таком же духе будет продолжать вплоть до последнего допроса, состоявшегося 15 лет спустя. В только что приведенных нами словах Лунин фактически объявляет основоположником тайного общества не кого иного, как… царя Александра I, и прямо намекает на царскую речь при открытии польского сейма (15 марта 1818 года), где говорилось о постепенной подготовке России к принятию законно-свободных учреждений. Самый этот термин — из речи царя. В ней были слова «institutions liberales». Петр Андреевич Вяземский, переводивший речь с французского языка на русский, свидетельствует, что русский эквивалент этого выражения — «законно-свободные учреждения» — был предложен самим Александром (буквальный перевод — «свободные институты» был бы слишком якобинским; «законно-свободные» звучало с должной умеренностью). Лунин и в последующих ответах не перестает «назойливо» цитировать покойного царя: «Законно-свободные… Законно-свободное…» Вопрос: «Как бывшему члену Коренной думы, вам известно время появления в России тайных обществ, равно и постепенный ход изменения и распространения оных; а потому объясните с возможной точностью сие». Из Петербурга дают понять, что знают о Лунине как об одном из главных деятелей Союза благоденствия. Он не подтверждает и не опровергает: «Первые тайные политические общества появились в России в 1816 году. Постепенный же ход изменения и распространения оных мне в подробности и с точностью не известны». На следующий вопрос — о причинах, которые «предшествовали и родили» мысль о тайных обществах, Лунин, казалось бы, мог сказать что-либо уничижительное, тем более что он ведь будет ссылаться на свое удаление от тайных союзов. Но снова он избирает опасный путь самозащиты, подчеркивая, что само правительство положило основание обществу. «По мере успехов просвещения начали постигать в России пользу и выгоды конституционных или законно-свободных правлений; но невозможность достигнуть сего политического изменения явно понудила прибегнуть к сокровенным средствам. Вот, как я полагаю, причины, которые предшествовали и родили мысль основания тайных политических обществ в России». Как видим, Лунин не упустил случая намекнуть на естественность появления общества. О том же писали в своих показаниях и Александр Бестужев, и Пестель, и Штейнгейль, и многие другие. Но беда в том, что они часто сопровождали свои смелые суждения и советы выдачей новых имен в надежде, что власть, увидев ту искренность, которая ей нужна, внимательно отнесется к искренности, которой декабристы дорожат… Лунину также был предложен вопрос, уже не дававший возможности «не замечать», что и от него требуют новых имен: «Когда, где и кем начально основано было сие общество и под каким названием?» Ответ: «Тайное общество, известное впоследствии под наименованием Союза благоденствия, основано в Москве в 1816 году. Основателей же оного я не могу назвать, ибо это против моей совести и правил». Математически кратко: «… Это против моей совести и правил». Не занесен на бумагу, но ясно слышится тут скрытый иронически контрвопрос комитету: «А по вашей совести и правилам разве допустимо выдавать друзей?» Из «вопросника», присланного Лунину, он легко мог узнать, что члены комитета знали о его сношениях с Никитой Муравьевым, Трубецким, Глинкой, Шиповым, Пестелем. Следовательно, он мог, кажется, хотя б их назвать. Но Лунин предпочитает не досказать, чем сказать лишнее. Ведь не исключено, что перечисленные комитетом лица упорствуют, не признаются!. Предстояло ответить на несколько вопросов о структуре, отделениях, тайных и явных намерениях прежнего, уже несколько лет не существующего Союза благоденствия. Лунин по-прежнему математически сдержан, краток, «злоупотребляет» только царским прилагательным «законно-свободный». Вопрос: «Кто, когда и для какого общества писал уставы и в каком духе; изъяснить главные черты оных». Ответ: «Уставы Тайного общества писаны вообще в законно-свободном духе. Стремление к общему благу, правота намерений и чистая нравственность составляют главные черты оных, Когда сии уставы писаны — с точностью не упомню; в составлении же оных участвовали все члены». И снова читающим предлагается решить: кто же они сами, если судят людей, стремившихся к общему благу и чистой нравственности? Об именах Лунин опять умалчивает, хотя меняет приемы: иногда отказывается говорить, иногда «растворяет»: «Все члены участвовали…» Вопрос: «Кто были председателями, блюстителями и членами Коренной думы?» Ответ: «Я постановил себе неизменным правилом никого не называть по имени». «Неизменным…» В этом слове несколько раздраженное напоминание, что однажды, чуть выше, он уже высказался на эту тему, полагает дело ясным и не требующим новых разъяснений. Вопрос: «Кто из членов наиболее стремился к распространению и утверждению мнений общества советами, сочинениями и личным влиянием на других?» Ответ: «Все члены общества равно соревновали в стремлении к сей цели». Как только спрашивают о делах тайных союзов более позднего времени, непосредственно предшествующих восстанию 14 декабря, Лунин отвечает незнанием: «Прекратив сношения мои с Тайным обществом в начале 1822 года, я потерял из вида все до оного касающееся… Я посвятил все свое время и все усилия на точное исполнение возложенных на меня по службе обязанностей. Вследствие сего я совершенно прекратил всякого рода сношения с Тайным обществом, не получал уведомлений о его дальнейших действиях, и никому не писал, и не хотел писать по сему предмету. Касательно же моих поступков в продолжение службы, с 1822 года по сие время, осмеливаюсь сослаться на мнение высокого начальства, под коим имею счастье служить» (реверанс Константину!). Лунину не приготовили вопроса, почему он прекратил сношения с обществом, но он мог бы при желании ответить обстоятельней, намекнуть хотя бы одной фразой на то, что не одобрял некоторых намерений заговорщиков. Однако ответ предельно краток и логичен: его не спрашивают, почему «прекратил сношения», он и не отвечает. Вопрос: «С какого времени революционные мысли и правила появились и сделались господствующими в умах членов общества?» Ответ: «Революционные мысли и правила появились в обществе, вероятно, с 1822 года, ибо до того времени не было явных признаков оных». Вопрос: «Кого и когда вы приняли в члены общества?» Ответ: «Во время пребывания моего в Тайном обществе ни одного члена ни в какое время к оному не присоединил, не находя в том необходимости как для видов общества, так и для пользы новопринимаемых». Иначе говоря, не принимал лишь потому, что «не находил необходимости» . Поверил бы в необходимость — принимал бы… Снова ни тени покаяния. (А там, в Петербурге, уж и по этому пункту против Лунина кое-что подбирается.) Вопрос: «Что известно вам о намерении капитана Якушкина в 1817 году покуситься на жизнь в бозе почившего государя императора? Какие причины подвигли его к тому… кто подавал утвердительные или отрицательные мнения?» Ответ: «Г. Якушкин мне весьма мало знаком… Преступная мысль его Тайному обществу была небезызвестна; но сие злодеяние, совершенно несогласное с целью и духом общества, было единогласно принято, как происходящее от расстройства способностей ума его, г. Якушкина, и никто из членов не полагал, чтобы он принял меры для приведения сего преступного намерения в исполнение, основываясь на том, что г. Якушкин (как потом всем стало известно) имел припадки сумасшествия и следственно, позабыв о сем, не будет упорствовать в своем заблуждении. Последствия оправдали мнение общества». К сожалению, никто из ранее арестованных не додумался до такой формулы, ведь знали, что Якушкин вполне нормален… Только Никита Муравьев сказал нечто близкое — что Якушкин был распален безумной и неразделенной любовью. Вопросов много. Интересуются совещаниями руководителей Союза благоденствия на квартирах Федора Глинки и Шипова… Лунин «не помнит», «не знает», с железной монотонностью повторяет: «О предполагаемом заседании, как я выше сказал, мне неизвестно, и следственно не могу отвечать»… и т. д. Вопрос: «С кем из членов общества были в сношениях?..» Ответ: «Объяснение моих личных сношений, с кем именно — представить не могу, дабы не называть по имени». Вопрос: «В чем состояло ваше совещание с Пестелем в 1820 или 1821 году?.. Читал ли вам Пестель им приготовленную конституцию „Русская правда“?» Как отвечать? Из вопроса видно, что о знакомстве и встрече с Пестелем знают. Глупо говорить «не помню», «не читал». Никто не поверит, легко докажут обратное… Значит, надо сознаться. Но смирение, уничижительная откровенность — не в духе Лунина. Ответ: «Находясь всегда в дружеских отношениях с Пестелем, я в 1821 году, на возвратном пути в Одессу, заехал к нему в Тульчин и пробыл там три дня. Политических совещаний между нами не происходило… Давность времени препятствует мне упомнить о предмете отрывков, читанных мне Пестелем из его „Русской правды“. Но я помню, что мнение мое при чтении сих отрывков было одобрительное, и помню, что они точно заслуживали сие мнение по их достоинству и пользе, по правоте цели и по глубокомыслию рассуждения». 4. Константин, а затем и комитет были, вероятно, немало изумлены, читая, как человек, которому грозит крепость и каторга, подчеркивает свои дружеские отношения с вождем декабристов и расхваливает «Русскую правду»… Так, отвечая, Лунин не позволяет себе даже малейших покаяний. А ведь, если б он осторожнее выразился о «Русской правде», ему бы, возможно, зачлось… Правда, в одном отношении ему было легче, чем товарищам в крепости. Те замешаны в военных восстаниях, то есть нарушили действующие законы и формально являются преступниками, Лунин же неуклонно логичен и ведет все время одну линию: в восстаниях и тайных обществах после 1822 года не замешан; конституционные убеждения его, Лунина, и Союза благоденствия нельзя признать преступными, ибо таковы были убеждения Александра I, согласно его же словам. Он ведет с властью опасную игру, как бы испытывая, осудят ли его за действия, формально не преступные? Он будто не знает — хотя, конечно, хорошо знает — один из основных принципов самовластья, позже сформулированный Щедриным: «Я ему — резон, а он мне — фьюить!..» Вопросы подходят к концу. Его спрашивают еще о литографическом станке, найденном у Трубецкого. Лунин отвечает, что приобрел его для «переписывания писем по делам имения», но, «видя, что сим не облегчил трудов… подарил его князю Трубецкому для употребления на какой предмет ему заблагорассудится. Сей же станок, по малости, будучи более изобретением замысловатым, нежели полезным, не мог быть употреблен к чему-нибудь касательно Тайного общества». Последний, 15-й вопрос: «В заключение присовокупите все, что вам известно насчет тайных обществ и лиц, к оному принадлежащих — сверх изложенных здесь вопросов». Ответ:«Сообщив высочайше утвержденному комитету все, что мне известно о тайных обществах, я заключаю сим мои ответы, не имея более ничего к дополнению пояснений моих. Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка подполковник Лунин Третий. Варшава, 1826 года, апреля 8 дня». Неправдоподобно красивый, «готический» почерк, которым Лунин писал свои показания (Тынянов находил его «издевательски ясным» ), лишь усиливал насмешливые нотки: те же слова, будь они выведены неразборчивым, кривым почерком усталого, взволнованного человека, звучали бы несколько иначе. Но короткие, жесткие, иронические фразы, да еще в столь изысканной каллиграфии, — этого уж совсем невозможно выдержать. 5. На следующее утро Лунина вызывают во дворец великого князя Константина; оттуда он уезжает вместе с дежурным генералом Кривцовым. Коляска ждет его до двух часов, пока вышедший из дома полковник не велит кучеру отправиться домой. Один очевидец рассказывает, что Лунин и генерал Кривцов «разговаривали громко по-французски, смеялись, а оставаясь один, Лунин ходил по комнате и посвистывал, как будто арест его был за какую-нибудь служебную провинность». 9 апреля, очевидно, состоялось последнее свидание Лунина с Константином. О нем сохранились два очень непохожих документа. Рассказ декабриста Завалишина (со ссылкой на Лунина): «Теперь ты пеняй на себя, Михаил Сергеевич, — сказал великий князь. — Я долго тебя отстаивал и давал тебе время удалиться за границу, но в Петербурге Я ничем уже помочь тебе не могу!» Лунин поблагодарил, объяснив, что бежать «было бы малодушием», и, в свою очередь, предостерег Константина: «А что касается до Вас, то, помяните мое слово, от того, что Вы не хотели послушать нашего (общего с Новосильцевым и другими) совета, Вы не выберетесь подобру-поздорову из Варшавы». «Совет» заключался в том, что «после того, как цесаревич отказался от престола, ему не следует уже оставаться в Варшаве, а надо жить или в России, или за границей и уже частным человеком»[94]. Другой документ, сохранивший фрагменты последнего разговора, был написан самим Константином на имя Татищева и вложен в пакет вместе с варшавскими ответами Лунина. «Из ответов сих изволите усмотреть, что подполковник Лунин не хотел пояснить именно тех лиц из злоумышленников, с коими он был в сношениях; по поводу чего и так как по производимому здесь в комитете следственному делу не предвидится в нем никакой надобности, я, приказав его арестовать, отправляю… к Вашему высокопревосходительству под арестом при фельдъегере и двух казаках, для дальнейшего производства об нем следствия в высочайше учрежденном комитете. К сему нужным нахожу присовокупить: 1-е) На счет ссылки оного подполковника Лунина между прочим в ответах о службе его с 1822-го года, — я по справедливости обязываюсь свидетельствовать, что он, состоя сперва в Польском уланском полку, а потом, быв переведен лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк, действительно всегда был из отличнейших офицеров старанием и усердием его, и вверенный ему эскадрон всегда был мною находим во всех отношениях в примерном порядке; и 2-е) Когда означенному подполковнику Лунину были, по приказанию моему, присланы от Вашего высокопревосходительства вопросы с требованием… ответов, то он после прочтения оных сказал: «Почему не упомянули тех лиц, кои противу его показывают, и из показаний коих составлены ему оные вопросы?» На сие было ему ответствовано, что ему знать о том нет никакой надобности, а долг его есть изложить свои ответы со всею искренностью и откровенностью все, что только он знает. После сего он, подполковник Лунин, промолвил, что, судя по предлагаемым вопросам, виноватые могут оставаться невинными, а невинные будут обвинены. — Из каковых его слов я заключаю, что можно будет от него узнать о таких из злоумышленников, кои, может быть, еще высочайше учрежденному комитету неизвестны». Константин, так долго не отдававший своего адъютанта петербургским молодцам, теперь «махнул рукой» и полагает неудобным посылать такие ответы без «приложения» в виде их автора (а тут еще и первые сведения о его «цареубийственных разговорах»!). И все-таки он пытается еще что-то сделать для «своего человека»: вносит в записку теплые слова о его службе, истолковывает в его пользу выражение «судя по предлагаемым вопросам, виноватые могут оставаться невинными, а невинные будут обвинены». Мы же, зная ироническую и дерзкую манеру гусара-острослова, имеем право предположить, что под «виноватыми» Лунин разумел не кого иного, как высшую власть, возбудившую несколько лет назад надежды на конституцию, а теперь карающую тех, кто принял эти надежды всерьез. 10 апреля 1826 года в сопровождении фельдъегеря, двух казаков и константиновского пакета на имя Татищева Лунина отправляют с Вислы на Неву. 6. Судьба его, однако, еще не решена окончательно. За дерзкие ответы на письменные вопросы ему грозит не слишком многое. Другое дело — «партия в масках на Царскосельской дороге». Но пока об этом сказал только один Пестель… 8 апреля, как раз в тот день, когда Лунин в Варшаве заканчивал свои ответы, состоялось «юбилейное», сотое заседание комитета. Утром Чернышев отправляется в крепость и задает Пестелю несколько дополнительных вопросов и, между прочим, относительно «партии в масках», о которой когда-то говорил Лунин. «Когда именно, где, кому и при каком случае Лунин в 16 или 17 году предлагал составить партию цареубийц в масках, было ли предложение его принято прочими членами, кем именно, и ему ли, Лунину, или кому другому поручено самое составление сей партии? И когда, где и кем именно вообще говорено было о таковой партии не для всей императорской фамилии, а для одного покойного государя?» Тут был еще шанс на спасение Лунина: если бы Пестель не вспомнил, кто, кроме него, слыхал тот разговор, следствию пришлось бы наудачу допрашивать других декабристов. Возможно, что оно не нашло бы искомых лиц, свидетельство же одного человека достаточным не считалось… Но Пестель дополняет: «В 1816-м или в 1817-м году, в каком именно месте — не помню, говорил Лунин во время разговора нашего об обществе, при мне и при Никите Муравьеве, о совершении цареубийства на Царскосельской дороге с партиею в масках, когда время придет к действию приступить. Было ли сие предложение сообщено им или Никитою Муравьевым кому еще другому, кроме меня, я по сущей истине не знаю, но в заседаниях самого общества о сем предположении Лунина при мне говорено не было. Я же тогда мало обратил внимания на сие предположение, потому что слишком отдаленным считал время начатия революции, и необходимым находил приуготовить наперед план конституции и даже написать большую часть уставов и постановлений, дабы с открытием революции новый порядок мог сейчас быть введен сполна, ибо я не имел еще тогда мысли о временном правлении. Сие мнение мое побудило Лунина сказать с насмешкою, что я предлагаю наперед энциклопедию написать, а потом к революции приступить. Долгом считаю заметить, что Лунин и Никита Муравьев близкие родственники, что Матвей Муравьев утверждает слышанное им от его брата, а не прямо от меня, и что Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин составляют, так сказать, одного человека». Таким образом, революционность Лунина (пусть десятилетней давности) подчеркнута дважды. Правда, Пестель тут же пытается внушить Чернышеву, что всего сказанного еще недостаточно для обвинения Лунина: «Все вышеприведенные суждения о пользе и необходимости таковой партии („обреченного отряда“) и о способности Лунина к оной… не доказывают, чтобы я имел намерение сам таковую партию составить и ее Лунину вручить для действия…» Можно допустить, что Чернышев про себя согласился с Пестелем. Лунин в «обреченном отряде» вообще больше не интересует его, партия же «в масках» пока засвидетельствована одним лишь человеком — Пестелем; другого — Никиту Муравьева — надо еще спросить. Следователь, правда, надеется, что, кроме двоюродного брата Лунина, найдутся и другие свидетели, и желает, чтобы они нашлись поскорее — раньше, чем будет допрошен Никита Муравьев: тогда последнему трудно будет выгородить родственника. Субботний день 10 апреля (как раз тот день, когда Лунина повезли из Варшавы) комитет решил посвятить не бумагам, а непосредственному общению с заключенными и с этой целью в 11 часов утра отправляется в крепость. Сначала вызывают на допрос троюродного брата Лунина и Никиты — Матвея Муравьева-Апостола; несколькими неделями раньше он показал кое-что об «отряде обреченных»: именно он ближе и чаще большинства южан общался с северянами, в том числе с их вождем и своим родственником Никитой Муравьевым. Настроение и состояние Матвея Муравьева все ухудшаются, и следователи на эти обстоятельства надеются… Его забрасывают, оглушают новыми фактами и, как бы невзначай, задают следующий хитрый вопрос: «Полковник Пестель показывает, между прочим, что принадлежавший к обществу Лунин еще в 1816 или в 1817 году предлагал составить партию отважных людей для покушения на жизнь блаженной памяти государя императора на Царскосельской дороге в марках и что о сем и впоследствии говорено было неоднократно. Сие обстоятельство Пестель приводит в доказательство, что не он предлагал составить партию «обреченный отряд» и что таковая предназначалась на Юге для белоцерковского предприятия Бестужевым-Рюминым…»[95] Здесь нарочно все перемешано: планы и намерения, «обреченный отряд», «люди в масках» и т. д. Матвей Муравьев не подозревает уловки и, возможно, считает, как и прежде, что Лунина легко выгородить, если сказать, что Пестель решал за него и без него. Поэтому он отвечает: «Я слышал от Никиты Муравьева в 1821 году о предложении Лунина поехать нескольким человекам на Царскосельскую дорогу в масках для покушения на жизнь блаженной памяти государя императора, — но я повторяю, что я не знаю, говорил ли Пестель Лунину, и думаю, что Лунин не согласился быть предводителем его „обреченного отряда“. Какая неожиданная удача для допросчиков! С какой-то. безнадежностью, случайно вспомнив, Матвей Муравьев называет Никиту и тем сильно «продвигает» дело Лунина. Ведь если Никита Муравьев будет отрицать показание одного Пестеля, с ним не справиться; но против двух свидетелей ему не устоять; а если не устоит — даст второе показание о нападении на царя «в масках» — судьба Лунина будет решена… Матвей Муравьев, быть может, и понял, вернувшись в камеру, свою оплошность. К тому же он на этом допросе признал, что не только южане, но и многие северяне соглашались в 1824 году на цареубийство [96]. В полном отчаянии Матвей Муравьев-Апостол решается умереть от голода, и только священник Петр Мысловский сумел его успокоить. Завершающие дело Матвея Муравьева письма в комитет, полные ужаса и унынья, почти невозможно читать. Но все шло своим чередом. Пока Матвей Муравьев думает о самоубийстве, Лунина везут в Петербург, а за Никиту Муравьева сейчас возьмутся. 7. По вечерам в комитете читают, по утрам допрашивают. Через день после допроса Матвея Муравьева, утром 12 апреля, в крепость отправляется Бенкендорф. Бенкендорф: «В 1816 или 1817 году в разговоре об обществе Лунин говорил при вас и Пестеле о совершении цареубийства на Царскосельской дороге с партией в масках, когда придет время приступить к действию. Объясните: a) Точно ли Лунин первый заговорил о составлении сей партии? При ком, кроме вас и Пестеля, он сделал сие предложение и как оное было принято? b) Из кого полагали и надеялись составить оную? c) Для всей ли императорской фамилии или для одного только государя предполагалось составить сию партию? d) Ему ли, Лунину, или кому другому поручено было составление партии? e) По каким причинам отложено было составление сей партии?» Никита Муравьев: «Честь имею донести, что Лунин в моем присутствии такого предложения не делал и что я об оном никогда не слыхал». На этом же листе карандашом — начальственная (Дибич?) резолюция: «Очные ставки с Пестелем и Матвеем Муравьевым». Бенкендорф в тот день еще не обрушил на Никиту показаний Матвея Муравьева, потому что эти показания пока существовали только в устной форме (лишь вечером того же 12 апреля в комитет поступили письменные «пункты»). Прошло еще три дня, и снова Бенкендорф вызывает Никиту Муравьева. На этот раз предъявляются два свидетельства относительно «партии в масках»: первое — Пестеля, второе — Матвея Муравьева. Что остается делать Никите Муравьеву? Два свидетельства налицо: если «запрется» — будут тягостные очные ставки, но, с другой стороны, дело давнее, почти 10 лет прошло! И если бы Муравьев «забыл», власть оказалась бы в заколдованном кругу: есть один свидетель разговора — Пестель; он же ссылается на Никиту Муравьева, но Никита не помнит! Еще свидетельствует Матвей Муравьев, но ведь сам он лунинских слов о «партии в масках» не слыхал, значит, его свидетельство — косвенное. Поэтому, не вспомни Никита Муравьев разговора, обвинение еще не может считаться доказанным. Но Никита Муравьев не разгадал всего этого. Может быть, осведомленность комитета представлялась ему сильно преувеличенной (если уже все знают, то и Лунину не помочь и себе повредить!). К тому же ему неизвестно, где его кузен, может быть, он и сам уже признался? Так или иначе, но Никита Муравьев показывает: «После сделанного мне насчет Лунина запроса я вспомнил, что он в 1816 году, незадолго до отъезда его во Францию, говорил при Пестеле и при мне о возможности такого предприятия. Я не помню, чтобы я рассказывал это обстоятельство подполковнику Матвею Муравьеву-Апостолу, но не имею причин сомневаться в истине его показания». Но Бенкендорфу мало: ведь отчет пойдет к скептику Константину, и все должно быть оформлено лучшим образом… Никита сначала не признался, теперь признался — может быть, завтра отречется? Через четыре дня, 19 апреля, на 110-м заседании, Никита Муравьев был вызван для очной ставки с Пестелем, но, не допуская этого, еще раз признал, что Лунин говорил при них обоих о плане цареубийства, который должна была осуществить «партия в масках». Комитет положил: «Взять в соображение». Именно в тот день, когда Никита Муравьев сделал это признание, его двоюродного брата доставили на главную петербургскую гауптвахту, а затем в № 8 Кронверкской куртины (Николай не пожелал его видеть и допрашивать — очевидно, из «этических» соображений: неудобно перед Константином). Быстрый перевод прямо в крепость означал, что к арестанту относятся плохо: некоторых на гауптвахте долго держали и только после того, как накапливалось достаточно обвинительного материала, переводили в казематы… VI 1. Лунина привезли в столицу на пасху и после предварительного допроса оставили в покое — слушать из камеры веселый перезвон городских колоколов… В субботу 17-го комитет собрался на 109-е заседание в 11 часов утра, чтобы освободить себе вечер. Заключенных не вызывали — читали показания. «Взяли в соображение», что Владимир Лихарев продолжает отвергать большую часть показаний провокатора Бошняка; нашли удовлетворительными показания Бобрищева-Пушкина и Аврамова; восьмерых подозреваемых решили не забирать, шестерых выпустить под «бдительный надзор». Наконец Боровков заносит в журнал следующие строки: «По случаю праздника светлого Христова воскресенья завтрашнего числа положили заседание не иметь и собраться в понедельник 19-го в 1 час дня в Петропавловской крепости». Заключенным этот весенний день было нелегко пережить. Ведь почти у каждого с Христовым воскресеньем были связаны воспоминания о детстве, юности, безмятежной жизни в помещичьих усадьбах или веселящихся городах. Незадолго до праздника протоиерей Петр Мысловский известил комитет об успехе своей миссии по обращению Ивана Якушкина, единственного, кто с января закован в ручные и ножные кандалы. Якушкин пожелал исповедаться и причаститься, и царь 14 апреля разрешил «на первый раз снять ножные железа». По случаю праздника император совсем смягчился, и в самое Христово воскресенье Якушкина полностью расковали[97]. Передохнув сутки, комитет 19 апреля приехал к часу дня в крепость в составе Татищева, Голицына, Голенищева-Кутузова, Чернышева, Бенкендорфа, Левашова, Потапова. Начался последний период следствия. Если бы пятеро обреченных, знали, что этого же числа через три месяца их уже не будет!.. . Если бы знали, как повели бы себя в этом случае? Но они еще надеялись — особенно Рылеев. Гадали о своей участи и остальные заключенные и ввиду беззакония гадали в пределах: «выпустят — казнят?». Дело идет к концу… Уже пройдены все пути, которыми власть подбиралась к последнему арестанту — Михаилу Лунину (Вадковский — Лунин; Сутгоф — Рылеев — Трубецкой — Лунин; Майборода — Пестель — Иосиф Поджио — Александр Поджио — Матвей Муравьев-Апостол — опять Пестель — Никита Муравьев-Лунин…). Но впереди еще отчаянные, последние схватки. Теперь, когда победители почти все знают, они обрушивают на каждого запирающегося и уклоняющегося десятки фактов, улик, очных ставок. Если в январе — феврале велась битва главным образом за имена и шли под арест все новые и новые декабристы, то сейчас доискиваются уже не имен, а поступков. Все в камерах понимают, что в самом конце следствия оправдаться вдесятеро важнее и вдесятеро труднее, чем в начале или середине. Поэтому не было раньше на допросах такого обилия страшных, душераздирающих ситуаций, как в апреле и мае 1826 года, и почти каждое заседание стоило вызванным многих сибирских каторжных и поселенных лет. Решалась в те дни и судьба Лунина. Теперь, когда он уже не находился под опекой Константина и когда его намерение к цареубийству достаточно подтверждено, — теперь комитету больше нечего было беспокоиться. 2. 16 апреля Лунина допрашивает Чернышев, а после 3 мая комитет уже не имеет к нему вопросов. Но вот фрагменты из хроники тех 17 дней, что длилась «активная часть» лунинского дела — хроника того, что происходило рядом и вокруг нового, «необвыкшего» узника: 16 апреля. Долго державшийся Арбузов делает признание о нелегальной деятельности Завалишина, много месяцев водившего за нос следователей. 19 апреля. Соединенных славян уличают, что они готовы были к революции и клялись в том Бестужеву-Рюмину. Митьков пытается опровергнуть показания на него Александра Поджио и Матвея Муравьева, что он был согласен с идеей истребления императорской фамилии. 20 апреля. Бестужев-Рюмин признается, что капитан Рачинский знал от него о существовании тайного общества (капитана — под секретный надзор). Артамон Муравьев и Повало-Швейковский отказываются дать требуемые показания, но их обезоруживают очными ставками. 21 апреля. Пестель опровергает Повало-Швейковского, отрицающего свое участие в подготовке цареубийства. Гангеблов припоминает о давнем тайном обществе в Пажеском корпусе и его членах (тут же запрос и надзор). Торсон сообщает, что Николай Бестужев знал и его посвятил в цареубийственные планы южан. Арбузов сообщает новые подробности о Завалишине. 22 апреля. Одиннадцать очных ставок Пестеля с южанами. Пестель подтверждает, что его прежние соратники давали согласие на республику и уничтожение царской фамилии. Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Давыдов решительно отрицают, будто Сергей Муравьев стоял за истребление «фамилии». После третьего возражения Пестель соглашается, что относительно Сергея Муравьева, может быть, и не помнит точно… 23 апреля. Еще 7 очных ставок южан с южанами — в основном по вопросу о цареубийстве. Один из самых стойких, Крюков 2-й, запутанный перекрестным допросом, признает на очной ставке с поручиком Загорецким, что принял последнего в общество. 24 апреля. Рылеев на допросе пытается скрыть планы северян насчет убийства императора и роль Каховского в этих планах. Штейнгейль, Александр Бестужев и Сутгоф дают показания, невыгодные Одоевскому; в частности, о том, что накануне 14 декабря он воскликнул: «Умрем! Ах, как славно мы умрем!» 25 апреля. Андреевич 2-й «умоляет о снятии с него оков». В журнале 116-го заседания записано: «Андреевич был по высочайшему повелению закован за то, что сначала решительно и дерзко объявлял, что почитает действия свои и сообщников благими и праведными; ныне же, ответствуя откровенно и без малейшей утайки и на все данные ему вопросы, оказывает величайшее раскаяние и признает действия свои пагубными и преступными» (Николай I: Расковать» ). 26 апреля. 11 очных ставок, на которых Александр Муравьев и Матвей Муравьев-Апостол уличают Шаховского, Александр Поджио — Валериана Голицына, Перетц — Синявина, Пыхачев — Швейковского и Бестужева-Рюмина, Бестужев-Рюмин — Андреевича и Нащокина, Бечаснов — Борисова. Николай Бестужев дал важное показание против Каховского, Искрицкий сообщил, что его дядя, Булгарин, знает об обществе, а брат-лицеист, как и другие братья, «имеют образ мыслей либеральный»[98]. 27 апреля. Батеньков требует новых допросов, утверждая, что все прежние его показания «были писаны в помешательстве рассудка и потому несправедливы»[99]. Артамон Муравьев сознался, что вызывался на цареубийство, и назвал как членов общества прежде неизвестных комитету генерала Акинфьева и полковника Гурко[100]. Волконский, и Сергей Муравьев-Апостол подтверждают, что Лукашевич знал о существовании Польского тайного общества. Митьков просит, «избавя его от очных ставок, признать его виновным в том, что на него показывают». Рылеев, пытавшийся оказать сопротивление, сломлен свидетельствами других заключенных и сам дает новые показания на Трубецкого, Якубовича, Арбузова и Каховского; с этого дня начинается окончательное разоблачение Каховского, ведущее его на виселицу. 28 апреля. 10 очных ставок в основном для выяснения планов цареубийства: изобличались Повало-Швейковский, Сергей Муравьев, Давыдов, Артамон Муравьев, Митьков, Вадковский. 29 апреля. Идет расследование о связях южан с поляками. Свистунов свидетельствует, что семь товарищей знали о «цели Южного общества» (подразумевается установление республики и истребление императорской фамилии). Зато Борисов 1-й представил показания, которые (согласно журналу 120-го заседания) «раскрывают, что нимало не раскаивается в своем преступлении и почитает намерение, его к тому побудившее, благим и добродетельным». 30 апреля. Штейнгейль показывает, что слышал, как Каховский «тем происшествием хвастался, что убил графа Милорадовича». Мичман Дивов отрекается от своих же показаний, изобличавших Петра Бестужева[101]. 1 мая. Завалишин еще раз пытается оправдаться, но без успеха. 2 мая.Гангеблов называет корнета Скалона, который 14 декабря «воспламенил Гангеблова и Лаппу». Скалона требуют в комитет. Начало серии допросов и очных ставок для выяснения, кто убил 14 декабря на площади Милорадовича и Стюрлера. Одоевский дает второе (после Штейнгейля) показание о роли Каховского. Никита Муравьев на очной ставке обвиняет Пестеля, что тот полагал истребить императорскую фамилию людьми, стоящими «вне общества». Пестель отрицает. 3 мая. Сутгоф свидетельствует, что подозревает Каховского в ранении Стюрлера. На очной ставке Штейнгейль свидетельствует о роли Каховского на площади, Дивов пытается взять назад некоторые свои показания, компрометирующие товарищей. Муханов после долго запирательства согласился с показаниями Митькова и Якушкина, что после 14 декабря он говорил о необходимости мстить Николаю I за «начинщиков возмущения»… Такова была дьявольская карусель допросов и дознаний, вертевшаяся вокруг новичка Лунина. Дрогнули даже Якушкин, Крюков 2-й и Андреевич, пытался, но безуспешно, выпрямиться Рылеев, и только Борисов 1-й находит в эти мучительнейшие дни силы для новых дерзостей. Сумел и Лунин в столь трудных условиях удержаться на большой высоте, хотя и не без некоторых потерь… 3. 16 апреля — дата первого петербургского допроса Лунина. В журнале комитетского заседания записано: «Сего числа снят с него [Лунина] генерал-адъютантом Чернышевым допрос, который согласен с ответами, данными на пункты, в Варшаву к нему посланные. Положили: приготовить ему с кем следует очные ставки». Эти строки не раскрывают, что в то утро решалась, и во многом решилась, человеческая судьба… Генерал-адъютант Чернышев приехал в крепость, имея два категорических показания — Пестеля и Никиты Муравьева — о давних словах Лунина насчет убийства царя «партией в масках». Лунин о такой осведомленности противника не подозревает. Поэтому он считает свое положение довольно прочным и намеревается даже сегодня дразнить власть, надеясь, что либо его освободят, либо осудят за Союз благоденствия, законно-свободные правила и прочие, в сущности, неподсудные провинности. Но Чернышеву одного «козыря» в схватке с Луниным было мало, поэтому он в то утро первым, раньше Лунина, вызывает Александра Поджио. Поджио 1-й с января по апрель перенес уже немало допросов, очных ставок, признаний, в том числе изобличений, сделанных родным братом. Чернышев умеет, перед тем как допросить кого-либо из упорных, извлечь нужные сведения у заключенных более податливых. Так он использовал Матвея Муравьева против Никиты. А сейчас Поджио 1-й нужен ему против Лунина. Ведь именно от Александра Поджио два месяца назад впервые узнали о существовании «обреченного отряда» и некоторые другие подробности. Чернышев спрашивает: «Комитету известно, что вы, находясь с гвардиею в Виленской губернии в прошлом, 1821 году, были в сношениях с членами Союза благоденствия Шиповым и Луниным. Объясните откровенно: в чем именно заключались сношения ваши с сими лицами, в особенности же, каким образом вы познакомились с Луниным? Что он говорил вам о цели общества, к которому принадлежал, и о средствах, какие предполагались к ее исполнению? Предлагал ли он, Лунин, покушение на жизнь покойного государя, как мнение, или положительную мысль общества, или же просто, как собственное его предположение?» Поджио откровенно объясняет, как в 1821 году общался с Луниным, как Шипов вместе с Луниным приняли его, Поджио, в тайное общество: «Не помню — при Шилове или без него говорили о мерах и цели общества, не помню именно — как свое ли мнение или целью общества он мне говорил о покушении на жизнь покойного государя, но я с сим согласен был… Средства, которые он предполагал, то меры самые, что и наши, те же, что и прежде мне были известны, — произвести сие восстанием войска. Говорил мне, что Риего с одним батальоном сие произвел в Испании. Уверен я, что если бы Лунин там остался, то мы бы склонили к сему и других… С тех пор, то есть с 1821 года, я Лунина не видал и ничего не слыхал о нем уже в возобновившемся обществе; знаю, что сношений с обществом никаких не имел, по крайней мере о сем ничего не слыхал; что, вероятно, Муравьевы, как родственники ему, мне бы передали…» Чернышев доволен: ведь Лунин утверждал в своих варшавских ответах, будто новых членов не принимал и за восстание не стоял; к тому же выясняется, что Лунин о цареубийстве толковал не только в 1816 году, но и в 1821-м. Теперь Чернышев был готов к поединку с бывшим адъютантом Константина. Два лишних выстрела — за генералом: первый и наиболее важный — план цареубийства «партией в масках на Царскосельской дороге»; второй заряд — рассказ Поджио. Поджио уводят — Лунина приводят. Лунин — против Чернышева. Они почти ровесники, Чернышев только на два года старше. Оба крупные, сильные, дерзкие; старые знакомые, бывшие кавалергарды-однополчане. Подполковник — «друг Марса, Вакха и Венеры». Генерал также храбрый солдат, один из первых ловеласов и кутил. Узник-твердый, ироничный. Тюремщик — циничный, умный, тоже склонный к юмору. Одному через три месяца — каторга, через 10 лет — поселение, через 15 лет — вторая каторга, через 20 лет — трагическая смерть. Другой через 4 месяца — граф, через год — военный министр, через 15 лет — князь, через 22 года — председатель Государственного совета, через 23 года — светлейший князь, через 30 лет его армия будет разбита в Крымской войне, через 31 год — отставка и смерть. Чернышев, вероятно, не без удовольствия рассматривал и допрашивал Лунина, потому что пришлось немало потрудиться, прежде чем стали возможны этот допрос и несомненная погибель этого гусара, осмелившегося так вызывающе отвечать в Варшаве. 4. Чернышев спрашивает, Лунин отвечает, секретарь записывает. Вопросов не фиксировали, но из ответов ясно видно, в каком порядке все протекало. Сначала были заданы те же, варшавские, вопросы — о тайном обществе, его целях и членах. И ответы те же, а один ответ о членах общества — даже более решительный, чем в Варшаве: «Открыть имена их почитаю противным моей совести, ибо должен бы был обнаружить братьев и друзей». И дальше в протоколе читаем: «Кто были основатели общества — сказать не могу вследствие вышеприведенного правила, которое я принял…» «Кто же начальствовал в отделениях общества, я наименовать не могу по тому же правилу…» «Кто же там именно находился… никак вспомнить не могу…» И в конце; «Членов же Польского общества никого не знаю, а ежели бы знал, то назвать не остановился»[102]. Спрошено было и о воспитателях. Ответ: «Воспитывался я в доме моих родителей; учителей и наставников было у меня много, как русских, так и иностранных (следует несколько иностранных фамилий), — и многие другие, коих не припомню». «Не припомнит» Лунин как раз русских педагогов, которых можно было этим подвести. Ни одним вопросом Чернышев не собьет Лунина с его позиции: до 1822-го участвовал в обществе, позже, когда началась подготовка к восстанию, не участвовал (хотя и был зачислен в северные «без ведома»). В заслугу себе ставит, что пытался приготовить Россию к принятию конституции. Но, к сожалению, покойный царь (вопреки самому себе) явно делать этого не разрешал, пришлось прибегнуть к «сокровенным средствам». Прежде, в Варшаве, Лунин говорил, что революционные идеи в обществе, вероятно, возникли после его ухода из общества. Но Чернышев, очевидно, настаивает на своем понимании революционности, и Лунин соглашается: «Революционные мысли или желания были с самого начала основания общества». Тогда-то Чернышев, убедившись, что Лунина не сбить, вводит в разговор тему цареубийства. Сначала — знакомый вопрос о намерении Якушкина. Допросчик явно дал понять, что ему известно об участии Лунина в том самом совещании, где Якушкин вызвался нанести удар. Как только сам Чернышев «признается» в том, что знает, Лунин охотно соглашается. «Но было сделано, — говорит он, — только предложение о сем, но положительно ничего не решено, а впоследствии или вскоре совсем отвергнуто». (О сумасшествии Якушкина в этом протоколе ничего нет: если Лунин не повторил своей гипотезы, то оттого только, что Чернышев сам сообщил ему о многочисленных признаниях, в том числе самого Якушкина, — что никакого безумия не было…) 5. И тут генерал-адъютант выложил, наконец, свой главный козырь. Старый друг Пестель и близкие родственники — Никита и Матвей Муравьевы — свидетельствуют, что сам Лунин замышлял убийство царя«партиею в масках на Царскосельской дороге». Это тяжелая минута. Впервые Лунин четко видит, что противники могут предъявить серьезные обвинения: умысел на цареубийство по всем российским законам и уложениям — преступление тягчайшее. Решительное отречение ничего уже не даст: два (даже три!) показания достаточны, все равно сочтут роковой факт доказанным, нельзя упираться так глупо; во всяком изобличении есть элемент унижения, а Лунин ведь держится все время на позиции собственной правоты. И он решает признаться, но как бы между прочим, сводя значение злосчастного разговора к минимуму. «Намерения или цели покуситься на жизнь блаженной памяти государя императора я никогда не имел, в разговорах же, когда одно предложение отвергалось другим, могло случиться, что и я упоминал о средстве в масках на Царскосельской дороге исполнить оное; но полковнику Пестелю и капитану Никите Муравьеву никогда сего преступного предложения от себя не делал. Будучи членом Коренной думы, я присутствовал на совещаниях о конституции, и мое мнение всегда было конституционное монархическое правление с весьма ограниченной исполнительной властью». Главное в этом ответе — небрежно брошенное «могло случиться, что и я упоминал…», то есть подчеркивается, что речь идет о деле столь маловажном, — даже вспомнить трудно: мало ли что сорвется с языка в пылу разговора? Разве можно судить за туманное намерение, случайное слово? Да и не за намерение, собственно, а за указание на некую абстрактную возможность: вот-де можно, например, «в масках» совершить покушение на царя, на дороге убить его и т. п. В виде доказательства, что такое высказывание могло быть только случайностью, Лунин объявляет, что он не сторонник республики, но даже и сейчас не хочет унизиться. Другой просто воскликнул бы: «Я — монархист!» Но Лунин, чтобы Чернышев, не дай бог, не подумал, будто он оробел, считает нужным добавить: конституционная монархия «с весьма ограниченной исполнительной властью» (каково читать самодержавным!). Чернышев все это выслушивает и пускает в ход свежее показание Поджио. Лунин мгновенно догадывается, что главное сейчас — отвести новое обвинение в цареубийственных намерениях: «В 1821 году, когда гвардия выступила из Петербурга в Виленскую губернию, близ Полоцка с Шиповым я виделся и имел сношения; тут же сошелся я и с служившим в Преображенском полку Поджио, который о цели общества, может быть, говорил и мог он видеть у меня написанный на листках устав Союза. О покушении же на жизнь покойного государя ему, Поджио, мог не иначе говорить как в разговоре о мнении некоторых членов общества. О подобных разговорах, со времени вызова Якушкина, слыхал неоднократно, но, почитая их безумными и неосновательными, не обращал на оные внимания». Снова невзначай — «может быть, говорил…» — ничего особенного, трудно вспомнить; о цареубийстве же разговор действительно был — так ведь Чернышев только что спрашивал о поведении Якушкина: ясно, что о его намерении все толковали — как же иначе? Но толковали как о мысли «безумной и неосновательной»… После того как Лунин повторил в то утро похвалу «Русской правде» Пестеля (комитету вроде бы не придраться: это же только проект будущего устройства — ни о цареубийстве, ни о бунте прямо там не говорится…), Чернышев спрашивает о пресловутом литографическом станке. Генерал, видимо, опять «признается», что об этом станке рассказал комитету сам Трубецкой. Лунин не стал настаивать, будто станок он приобрел для «писем по имению»: «… куплен мною с той целью, чтобы литографировать разные уставы и сочинения Тайного общества и не иметь труда или опасности оные переписывать. Станок был взят у одного мастера на Невском проспекте». Лунин нисколько не стыдится тайного общества, а значит, и станка. Он снова подчеркивает незначительность эпизода: «Не помню теперь, у кого оный станок оставил…»; «кажется, его отдал князю Трубецкому…» Последний вопрос: От кого Лунин узнал про восстание 14 декабря, а также о планах южан и поляков? О 14 декабря — из официальной печати; о южанах и поляках — вообще не знал… 6. Допрос окончен. Оба собеседника говорили на совершенно разных языках: Чернышев — правительственным, Лунин — свободным. Лунин исходит из таких аксиом, как право на независимое суждение, право действовать по совести, право бороться за законно-свободные начала тайно, если нельзя явно. Поэтому почти все, в чем Чернышев его обвиняет, он признает, но по словам и тону его выходит, что этим гордиться следует и что Чернышев вроде бы сам не может того не признать. Так или иначе, но после первого петербургского допроса комитет мог считать доказанным и подтвержденным собственным признанием обвинение насчет «партии в масках». Все остальное более зыбко и для обвинения недостаточно: ведь около полусотни известных членов Союза благоденствия, не замешанных в более поздних делах, оправданы и освобождены, а среди них — нынешние и будущие сенаторы, флигель — и генерал-адъютанты. Даже намекают на близкого к прежним союзам генерала Б. (кажется, Бенкендорф). Лунина отправляют в камеру, два дня (в том числе Светлое воскресенье) он проводит в размышлениях и 18 апреля направляет в комитет примечательное послание. «На вопросные пункты высочайше утвержденного комитета, сообщенные мне в Варшаве касательно основателей тайного общества и лиц, к оному принадлежащих, я не мог по совести отвечать удовлетворительно, ибо, называя их поименно, я изменил бы родству и дружбе. Но при первом моем здесь допросе, 16-го числа сего месяца, я узнал удостоверительно и несумненно, что как все лица, принадлежащие к обществу, так и действия их уже совершенно известны высочайше утвержденному комитету, и потому, исполняя волю высочайше утвержденного комитета, дополняю теперь, что в числе членов Тайного общества мне известны: князь Сергей Трубецкой, Пестель, Новиков, Николай Тургенев, полковник Глинка, полковник Николай Шипов, Якушкин, князь Илья Долгоруков (который впоследствии отделился от общества), Никита Муравьев, Артамон Муравьев, полковник Александр Муравьев, Сергей Муравьев-Апостол, Матвей Муравьев-Апостол и граф Толстой. Вот члены, с коими я находился в непосредственных сношениях и из коих многие исполняли, поочередно, обязанности блюстителей, председателя и начальников управ. Сверх того, в Тайном обществе находилось множество членов, кои мне мало или совсем не были знакомы». Издевательское письмо даже не отмечено в журнале комитета, хотя формально к этому документу не придерешься. Признание — честь по чести. Лунин просит у комитета извинения за то, что молчал, ибо только теперь узнал, что члены общества известны власти «удостоверительно и несумненно»: из 14 имен 9 были названы Лунину еще при варшавских допросах, пятерых «выдал» 16 апреля генерал Чернышев. Других членов, «кои мне мало или совсем не были знакомы», Лунин не именует и еще настоятельно внушает комитету, насколько его, Лунина, правила хороши, и комитет, если хочет быть справедлив и великодушен (а как же ему не хотеть?), не станет сердиться по поводу естественного нежелания доносить на друзей и братьев; ведь в противном случае пострадает нравственность, а разве хорошо для государства, когда страдает нравственность? 7. Лунин больше не интересует Чернышева. Его следственное дело — одно из самых коротких: для того чтобы осудить этого офицера, материала, по их мнению, собрано вполне достаточно. Стоит ли в таком случае тратить время на новые допросы и давать новые очные ставки столь упорному, если можно нажать на слабых и павших духом? 27 апреля Николай, прочитав ответы Лунина, извещает Константина: «Вы должны уже знать, что Лунин, наконец, заговорил, хотя раньше отрицал все, и между прочим признался, что перед своим отъездом отсюда предлагал убить императора по дороге в Царское Село, употребив для этого замаскированных лиц! По окончании следствия мы, по установленному порядку, приступим к суду, отделив виновных и изобличенных в государственном преступлении от тех, которые не ведали, что творили…» Последние строки — ироническая перефразировка последних строк из сопроводительного письма Константина относительно Лунина («Подполковник Лунин промолвил, что, судя по предлагаемым вопросам, виноватые могут остаться невинными, а невинные будут обвинены» ). Николай, конечно, патетически сгущает краски, изображая Лунина «наконец заговорившим». Зато так можно вернее поддеть брата; однако главное сказано: за фразу, произнесенную когда-то при Пестеле и Никите Муравьеве, Лунину уже не выйти… Константин, видимо, искренне надеялся, что Лунин вывернется, что, кроме Союза благоденствия, за ним других грехов нет. Ответное его письмо царствующему брату (7 мая) звучит как эпитафия прежним попыткам что-то сделать для своего адъютанта: «Известия, которые вы благоволите сообщить мне, относительно всего, что происходит у вас, меня очень живо заинтересовали, и я опомниться не могу от ужаса пред поведением Лунина. Никогда, никогда я не считал его способным на подобную жестокость, его, наделенного недюжинным умом, обладающего всем, чтобы сделаться выдающимся человеком! Очень обидно; мне жаль, что он оказался столь дурного направления. Вообще, мы живем в век, когда нельзя ничему удивляться и когда нужно быть готовым ко всему, исключая добра…» Дело Лунина закончено, но ограничиться одним допросом все-таки неудобно. 8. 30 апреля в полдень 121-е заседание в крепости. Вводят Лунина, и комитет в полном составе видит его в первый и последний раз. Снова все о том же: требуют подробностей о «партии в масках». Декабрист не помнит: случайный разговор, намерения такого не было и т. д. Вопрос: «Было ли известно вам о предположении Пестеля составить под начальством вашим означенную партию „обреченный отряд“, и не было ли с его стороны каких-либо о том сношений с вами во время пребывания вашего в Литовском корпусе и в Варшаве?» Лунин уже знает — надежды на молчание Пестеля слабые, а из вопроса все же не ясно, что, собственно, показывал сам Пестель. Поэтому Лунин, как и на вопрос о «партии в масках», отвечает кратко и туманно: «О проекте Пестеля составить партию вне общества под моим начальством я не имею ясного и подробного сведения. Может быть, Пестель и говорил мне об оном, но я никогда не обращал внимания на бесчисленное множество проектов, которые занимали воображение членов общества и на которые я не редко предварительно соглашался, избегая излишнего и бесполезного словопрения. Покорнейше прошу притом высочайше утвержденный комитет принять в уважение, что я в продолжение без малого пяти лет потерял из вида не токмо бывшие проекты, но и настоящие действия Тайного общества». Еще спрашивают, какие Лунин имел «виды в духе общества», отправляясь служить в Польшу. И снова осторожный ответ, позволяющий маневрировать, в зависимости от того, что известно следствию. «Определяясь на службу, в 1822 году, я действовал, по-видимому, сообразно правилам Тайного общества, но сокровенная моя в том цель была отдалиться и прекратить мои с Тайным обществом сношения». Наконец его спрашивают, почему же он отошел от общества, и он кратко ссылается на «непостоянный и безуспешный ход занятий общества», «уклонение от законно-свободных правил», свое малое влияние на общество и др. Сказав немного и не покаявшись (чего комитет, возможно, ожидал именно теперь), Лунин опасается, что следователи хоть на миг сочтут его отступником, и тут же извиняется (никто так не извинялся на этом процессе). «Не поставляю себе в оправдание отдаление мое от Тайного общества и прекращение моих с оным сношений; ибо я продолжал числиться в оном и при других обстоятельствах продолжал бы, вероятно, действовать в духе оного». Снова вопрос не из приятных — правда, касающийся не его лично: «В показании своем комитету вы говорите, что были на совещании в Москве в 1817 году. На совещании сем, сколько известно комитету, находился и отставной майор князь Шаховской, который предложил, чтобы для исполнения покушения на жизнь покойного императора воспользоваться тем временем, когда Семеновский полк будет в карауле, и вообще только то и говорил, что готов посягнуть на жизнь государя, после чего Сергей Муравьев назвал его „le tigre“. Объясните подробно и со всей откровенностью, действительно ли было все сие и не говорил ли Шаховской еще чего подобного?» Лунин отвечает: «На заседании находился князь Шаховской, и сколько могу припомнить, говорил то, что ему приписывают; наименования же „le tigre“, данного ему по сему поводу Сергеем Муравьевым-Апостолом, я не помню. — Но невзирая на невоздержанность речей князя Шаховского, свойственную в тогдашнее время пылкости молодых его лет, я как в князе Шаховском, так и в других членах общества не приметил готовности к исполнению предположенного намерения. Последствия оправдали мое, по сему предмету, мнение». Лунин не повредил Шаховскому, потому что у комитета уже было несколько показаний: первым рассказал 10 апреля о намерении Шаховского Матвей Муравьев-Апостол, 21 апреля подтвердил полковник Александр Муравьев (но при этом заметил, что «говорили в тот вечер все вместе, не выслушивая друг друга, и он точно не помнит, как было дело» ). Сергей Муравьев-Апостол помнил о предложении относительно Семеновского полка, но не уверен — Шаховскому ли оно принадлежит или кому-либо другому; не помнил он и прозвища «le tigre» и подчеркивал, что «действие было столь же мгновенно принято, как и отвергнуто». Шаховской оказался «двойником» Лунина по процессу: тоже был когда-то активным деятелем общества, затем отошел, после 14 декабря арестован; утверждал, что за ним только Союз благоденствия, и тут-то всплыл давний, полузабытый, мимолетный разговор о цареубийстве… Шаховской, как и Лунин, стоял на своем твердо, хотя и не выказывал лунинского презрения к допрашивающим. На очных ставках с Матвеем и Александром Муравьевыми Шаховской решительно отрицал все — даже свое присутствие на том заседании 1817 года, где говорилось о цареубийстве. Но комитет уже считал все это настолько ясным, что спросил Лунина только «для порядка», и его свидетельство в конце концов даже не было приобщено к делу Шаховского. И все же… в духе взятой Луниным линии — полностью забыть слова своего «двойника»: ведь 9 лет прошло! Правда, вопрос о Шаховском был задан не в письменной форме, а на заседании комитета, а там не всегда фиксировались высказывания допросчиков. Скорее всего, допытываясь у Лунина некоторых подробностей, члены комитета не скрыли от него, что у них уже есть показания на Шаховского, и даже сказали чьи, и Лунин, видимо, решил: все равно знают — можно и подтвердить, добавив несколько слов в пользу Шаховского — вроде того, что разговор был «мимолетный», что он, Лунин, ни в Шаховском, ни в других членах общества «не приметил готовности к исполнению предположенного намерения» и т. п. Итак, Шаховскому он не повредил, но и не помог ничем. Если бы Лунин «не вспомнил» — комитету было бы труднее обвинить Шаховского. Ведь только двое подтвердили факт разговора — Матвей и Александр Муравьевы (последний даже с некоторыми колебаниями). Но были и другие участники совещания, не поддержавшие их свидетельств, категорически заявившие, что «не помнят»: Якушкин, Фонвизины, Никита Муравьев, Сергей Муравьев-Апостол. Обвинение, приведшее Шаховского в Сибирь, было одним из самых «липовых». Позднее дело Шаховского не раз упоминалось как образец неправосудия… VII 1. 3 мая Лунин отослал письменные ответы на те же вопросы, на которые 30 апреля отвечал устно. С тех пор его не трогают. Он сидит в своей камере и наблюдает через окно за разгорающимся петербургским летом, светлеющими ночами и, вероятно, воспитывает, укрепляет себя по собственной, продуманной и разработанной, системе. Впоследствии он, человек бывалый и непритязательный, будет вспоминать, как трудно бывало заснуть от духоты и насекомых… Ни новых допросов, ни очных ставок, ни известий извне… На другой день после получения его письменных ответов комитет уже читает проект, составленный Блудовым, — «Донесение…», призванное увенчать дело декабристов. Лишь через несколько месяцев Лунин узнает, как в те самые дни, когда его уже не трогали, — вспыхивали и гасли последние схватки узников и следователей: брат на брата, друг на друга, запоздалое отчаяние проговорившихся, явственный признак виселицы перед Каховским… 2.«Некоторые из содержавшихся были закованы в кандалы, посажены в темные ямы и пытаны голодом; другие — спутаны попами… или поколеблены сказками своих обманутых родных; почти все — подкуплены лживым обещанием всепрощения» (Лунин). К концу следствия выявились, кажется, все непосредственные причины, отрицательно повлиявшие на поведение многих декабристов перед комитетом и царем. Отсутствие сколько-нибудь значительной и сплоченной группы или партии революционеров на воле («всех взяли…»). М.В. Нечкина заметила, что иное положение было у «первого декабриста» — В.Ф. Раевского, арестованного еще в 1822 году, — он знал, что за стенами тюрьмы остались друзья-соратники, тайное общество, и это очень помогало ему сохранять стойкость, внушало какие-то надежды. Трудное положение у дворянских революционеров: и на площади и на следствии — борьба против людей «своего круга», родственников, вчерашних приятелей, однополчан; для многих психологически трудно преодолеть иллюзии относительно царя как носителя «высшей справедливости» [103]. Отсутствие твердой законности порождало у заключенных непрерывную смену светлых и черных ожиданий (надежды на «всепрощение»). В этом смысле неожиданно звучит тютчевское «Вас развратило самовластье…». Сожаление о пролитой крови, погибших офицерах, солдатах, мирных жителях. Неопытность, отсутствие революционных традиций, мысли о неправомерном, может быть, риске, погубившем разом все, что накоплено за десятилетие, размышления о возможности «третьего выхода» (в духе Союза благоденствия). Лукавое инквизиторство Николая и следственного комитета. Угроза пытки и фактические пытки (кандалы, абсолютная изоляция и др.). Недаром декабрист А. Розен вспоминал: «Согласитесь, что эти меры стоили испанского сапога британского короля Иакова II и всех прочих орудий пытки. Пытка при Иакове продолжалась несколько минут, часов, иногда в присутствии короля, а наша, крепостная, продолжалась несколько месяцев». Наконец, молодость… Из-за границы Николай Тургенев, оправдываясь, напишет о «вздоре ребятишек» и тут же спохватится: «…"ребятишки", — сорвалось с языка. Этот упрек жесток, ибо они теперь несчастливы…» Средний возраст тех, кто был наказан каторгой, поселением, крепостью, солдатчиной, Кавказом, надзором, составлял 27,4 года (от 17-летнего Львова до 59-летнего Горского). Если же прибавить сюда тех, кто был в Союзе благоденствия и других ранних обществах, то средний возраст заговорщиков — всего 30,3 года; многим из вождей не — было и тридцати; 38-летний Лунин был среди декабристов — стариком. Перечень непосредственных причин, ослаблявших сопротивляемость узников, можно было бы увеличить. Но уже отмечалось, что все эти обстоятельства не имели бы столь большой силы, если бы не главная, коренная причина. Действие ее подобно действию серьезного недуга, делающего организм беззащитным против многих других недомоганий. Коренной недуг принято называть «дворянской ограниченностью»… Мы же говорили о внутренней неуверенности, о важнейшей нерешенной проблеме — средствах, формах, методах борьбы. Эти люди были очень честными: они не могли скрыть своей неуверенности на процессе, и как только комитет уловил это, он не замедлил обрушить на ослабленный организм увещания, угрозы, посулы, провокации и тому подобные приемы, которые не в состоянии были сильно воздействовать на революционеров более позднего периода — 60-х, 80-х, 900-х годов… Проблеме соотношения целей и средств революционеры всех поколений уделяли очень много внимания. Почти всегда возникали поиски наиболее действенных методов борьбы за свои идеалы, всегда на определенных этапах возникали также и крайности: ультралевая («цель оправдывает средства» ) и либерально-умеренная. Одна из заслуг декабристов в том, что своим печальным опытом они поставили эти важнейшие проблемы перед русским освободительным движением. 3. После 17 мая комитет заседает не каждый день. Уже отправляют на Кавказ и в дальние гарнизоны «малозамешанных»; уже представлен наверх проект награждения средних и низших сотрудников комитета, вплоть до лакея Ивана Бахирева и истопника Никиты Михайлова. Но всех ли преступников они знают? Сами подозревают, что не всех, что многие «отпущенники» (например, Грибоедов, Липранди) сумели сохранить свои тайны. Подозревают, что десятки, а может быть, и сотни причастных людей остались на свободе благодаря молчанию арестованных. М. Бестужев рассказывал, как много лет спустя, находясь в Сибири, его благодарили прежние сослуживцы по полку: если бы он их назвал в 1825 году, не быть бы им генералами в 1850-х. Не собралось достаточных улик и против Пушкина (а он ведь знал от Пущина о существовании тайного общества, знал — и не донес!). Лунин, конечно, тоже знал имена, которые комитет «не имел в виду» (одним из них был, возможно, адмирал Головнин). В начале июня, когда уже начали оформлять и сдавать дела, вдруг спохватились, что Лунину не были заданы «первоначальные вопросы» об имени-отчестве и т. п. Декабрист снова вызывающе краток и даже сейчас позволяет себе вежливую дерзость. Вопрос: «В каких предметах старались вы наиболее совершенствоваться?» Ответ: «В политических предметах». Вопрос: «Не слушали ли сверх того особых лекций, в каких науках и где именно, объяснив в обоих последних случаях, чьим курсом руководствовались вы в изучении сих наук?» (Снова выпытывают имена, чтобы присмотреться к профессорам, воспитавшим таких учеников.) Ответ: «Особых лекций не слушал». Вопрос (последний): «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» (Здесь же подпись: «Генерал-адъютант Чернышев» ). Ответ: «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оного способствовал естественный рассудок». Это последний ответ Лунина на следствии-суде. Через 12 лет он напишет в Сибири суровые слова о тех, кому показалось, будто можно переменить «естественный рассудок»: «Не зная, за что приняться, они разыгрывают раскаяние. Как будто можно допустить раскаяние в науке! Люди раскаиваются в пороке, недостатке, слабости, а не в идее, которую стоит исправить, если доказательства достаточны… Что касается до кающихся, о которых речь, они не могут вменить себе в заслугу даже перемену мыслей, потому что у них никогда не было мысли ясной и установившейся. Я до сих пор не понимаю, как мы могли и из чего искали обманывать себя за их счет. Это избиение младенцев». На фоне всяческих успехов, донесений, наградных листов и прочих деловых бумаг, чрезвычайно удлинившихся в конце процесса, неделовое заявление Лунина о естественности свободного мышления (и, следовательно, неестественности иного мышления) едва ли было замечено. Мимолетный эпизод, штрих в громадном деле вырастет в событие первой величины лишь спустя десятилетия… 4. Военный советник Александр Дмитриевич Боровков составляет «Записку о силе вины» Михаила Лунина. Боровков, конечно, понимает, чего стоят все обвинения, предъявленные этому человеку, но в то же время видит: комитет разгневан и может так все повернуть и истолковать, что Лунину не поздоровится. И вот советник составляет такую записку, которой позавидовал бы самый опытный адвокат, приведись ему выступить на гласном процессе по делу Лунина[104]. Вот выдержка из этой записки: «Лунин при первых допросах сознался, что в 1817 году присоединился к Тайному обществу, имевшему целью введение конституции, или, как он выражается, законно-свободного правления. Цель сию почитал он согласной с намерениями самого правительства. Средства к достижению, обществом избранные, ограничивались постепенным приготовлением народа к принятию законно-свободных учреждений; революционные же мысли появились впоследствии времени, когда он уже отклонился от общества». Как видим, мысли Лунина о вине самой власти и законности Союза благоденствия Боровков ловко использует в защиту декабриста. Издевательское признание Лунина, когда он,наконец, назвал «сообщников», Боровков также истолковывает «во благо» — «дал и на сей вопрос удовлетворительный ответ». Подчеркнутое нежелание говорить о других — только о себе — подается так: «Относительно собственных его действий он с первого допроса оказался откровенным». Насчет показаний про «партию в масках» и «отряде обреченных» Боровков говорит, по сути дела, словами Лунина: «это… простой разговор, а не цель его действий и политических видов». В духе лунинских показаний освещает советник беседу с Поджио и другие невыгодные для Лунина эпизоды. Не раз подчеркивается, что Лунин уже пять лет как отошел от тайного общества. Наконец, отсутствие покаянных нот в ответах подается как откровенность, дающая право на снисхождение: «Лунин чистосердечно сознается, что отделение его от общества и прекращение с ним сношений не поставляет себе в оправдание, ибо продолжал в оном числиться, и при других обстоятельствах, вероятно, действовал бы в духе оного». Первоначально в записке Боровкова было даже помещено свидетельство великого князя Константина об отличной службе Лунина. 5. Однако все старания Боровкова ничего не дали. Мы не знаем точно, в какой из июньских дней начальники Боровкова рассмотрели составленный документ, но нельзя сомневаться, что он был предъявлен царю, и если Боровков пытался «подменить» адвоката, то Николай и его помощники с еще большим успехом сыграли прокурорские роли. По тому, как Боровков осветил показания Лунина, можно было дать ему 8-й разряд (пожизненная ссылка, замененная 20-летней, как Шаховскому) или как Александру Муравьеву, осужденному по 6-му разряду, но с сохранением чинов и дворянского звания. При желании же можно было «случайные разговоры» о цареубийстве вообще не принимать во внимание: ведь причастен был к таким разговорам, например, Шипов: даже подал в 1820 году голос за республику, но отделался тем, что был послан на Кавказ командовать сводным гвардейским полком (в котором находились многие, полупрощенные за 14 декабря); по возвращении же был возведен в генералы. Советник умолчал в своем заключении о литографическом станке, лежавшем «возле печки… у Трубецкого», а также о принятии Луниным новых членов общества. Но в окончательном приговоре Лунину все это вспомянуто. «Партию в масках» высокие начальники не собирались, разумеется, забыть. Если настаивать, что Лунин предлагал цареубийство, тогда он попадал бы сразу в 1-й, то есть самый тяжелый, разряд. Но мимолетный разговор — не густое доказательство. Легче утверждать, что разговор о масках означал «согласие Лунина на цареубийство», и представить дело таким образом: Якушкин первый предложил убить царя; начали спорить; Лунин выдвигает свой «проект». Тогда главный виновник, Якушкин, получает 1-й разряд, Лунину же должно дать 2-й («участие в умысле согласием» ). Одиночное и зыбкое обвинение «прокуроры» подкрепят «участием в умысле бунта, принятием членов и заведением литографии». Участие в «умысле бунта» тоже подлежит 2-му разряду. Разряды, как известно, были сочинены Сперанским, процедура же распределения преступников по этим разрядам происходила позднее, на суде. Но всё решали впечатления, мнения, настроения царя и комитета. Сперанский знал, что делает, отправляя Лунина во 2-й разряд. Во-первых, нельзя давать Константину повода для намека, будто Лунин, мол, не так уж и виновен; надо, следовательно, представить его в наихудшем виде; во-вторых, не видно раскаяния, как, например, у Александра Муравьева. Чернышев и другие по достоинству оценили и тон и улыбки Лунина. Сильно, слезно покаявшись, Лунин, вероятно, дал бы Константину повод заступиться за своего бывшего адъютанта, и с ним обошлись бы помягче: ведь покаяние числилось добродетелью, за которую облегчали приговор[105]. Начиная с процесса декабристов сквозь все русское освободительное движение проходят две линии самозащиты, к которым прибегали твердые противники власти (о павших духом или искренне раскаявшихся сейчас речь не идет) : Линия первая: бросить судьям «подачку», покаяться притворно, уронить слезу, чтобы ускользнуть от наказания или хотя бы облегчить его, а может быть, и убедить в чем-нибудь власть. Добиваться свободы или смягчения наказания любыми средствами (тут могут быть разные оттенки). Линия вторая: не хитрить, дерзить, не вступать в переговоры с судьями, не ронять себя даже для вида. Представителем первой линии был, очевидно, Пестель; второй — Лунин. В 1850 — 1860-х годах к первому способу защиты прибегает Бакунин (слезная «Исповедь» царю), ко второму способу — Николай Серно-Соловьевич, Чернышевский. Каждый способ имеет свои отрицательные и положительные стороны. Лунин, как свидетельствует вся его жизнь и сочинения, полагал, что в рабской стране особенно необходимы подлинно свободные души. Ему казалось, что малочисленность таких людей — важнейшее препятствие для явной и тайной борьбы за российское обновление. Купить свободу ценою унижения… Но для чего, собственно, нужна ему такая свобода? Чтобы продолжать революционную деятельность? Но ведь основная цель этой деятельности — внутреннее и внешнее освобождение народа. Как же не начать с самого себя? Может быть, насмешки, гордость на закрытом следствии-суде покажутся кому-то донкихотством (все равно никто не узнает, не услышит). Но Лунин вряд ли видит в своем поведении на процессе только средство. Здесь присутствует и высокая цель: не дать тем, в аксельбантах, успокоиться, поверить в свою полную победу; заявить — пусть пока только для этих генералов, секретарей, для протокола, для себя прежде всего,— что нельзя трусить и каяться, а должно утверждать, что свободный образ мыслей так же «естественно укоренился» в одних, как самодовольство и рабство — в других. Мнение свое о Лунине высшая власть выразила, отнеся его к очень высокому «разряду». Это мнение должен был утвердить суд, которого, собственно, и не было… VIII 1. «Как? Разве нас судили?» — воскликнул один декабрист, когда осужденных привели, чтоб огласить приговор. Действительно, суда не было: в России и знать не желали в ту пору о британских выдумках — присяжных, адвокатах, прокурорах. К чему, право, судебная процедура, ежели следствие уже обладает всеми нужными материалами, да еще написанными в основном руками самих обвиняемых? Им только дадут их дела: пусть подтвердят или опровергнут вот эти свои собственноручные показания. Большинство не успело и понять, что это и есть суд, — расписались, не читая. Впрочем, как же декабристам и требовать «нормального суда», когда такое требование, между прочим, и вменяется им в вину? Николай, Михаил или Татищев были бы искренне удивлены, услыхав, что их суд в какой-то мере неполноценен: ведь обвиняемых не только обвиняли, но и давали им возможность оправдаться. Действительно, давали. Кто-нибудь из «статских» — Голицын, например, или Сперанский — легко развил бы мысль, что для другого суда (гласного, с нейтральными присяжными, адвокатами и т. п.) должно иметь твердые законы, в России же никто не отменял Уложения царя Алексея Михайловича, а по тем законам, изданным в 1649 году, за 63 вида преступлений полагается смертная казнь. Никто не упразднял и Устава Петра Великого: смерть за 112 родов преступлений! По тем и другим старинным актам едва ли не всех декабристов следует — на эшафот. Выходило, что при самовластье, пожалуй, беззаконие получше иных законов[106]. 2. В июне царь назначил Верховный уголовный суд, который должен был вынести приговор в отсутствие подсудимых. 72 человека: 18 членов Государственного совета, 36 сенаторов, 3 духовных лица из Синода и 15 особоуполномоченных военных и гражданских чиновников. Средний возраст их — около 55 лет[107], вдвое больший, чем у декабристов: одно поколение судит другое. 122 подсудимых. С 11 по 27 июня разрядная комиссия во главе со Сперанским разделила их всех по 11 разрядам[108]. Когда она представит свой проект суду, большинство, понятно, проголосует, не рассуждая, за то, что предложено. Сперанский ведь не просто сочиняет разряды: он все время сносится с монархом — и уместны ли в этом случае особые мнения, рассуждения, лишние разговоры? Декабристы сидят в своих камерах, ожидая, чем кончится дело, а во дворце уже голосуют. Утром 30 июня начали с тех, кого Сперанский поставил «вне разрядов», то есть кого царь решил казнить. Первым обсуждался Пестель. Председатель суда князь Петр Лопухин, престарелый, глухой, отслуживший уже пяти императорам, пишет на своем бюллетене: «Четвертовать». 10 членов Государственного совета — князь Куракин, граф Петр Толстой, генерал Сукин (комендант Петропавловской крепости), Балашов (тот, кто ездил к Бонапарту из Вильны летом 1812 года и попал в «Войну и мир»), Васильчиков, Нессельроде, Салтыков, Ливен, Болотников, Сперанский — пишут в своих бюллетенях тот же гуманный глагол. Впрочем, это дипломатический ход: почти все знают, что царь не утвердит приговора, заменит четвертование более легкой казнью. И вот голосуют круто, чтобы дать простор царевой милости. Другие члены Государственного совета поддержали приговор, прибегнув, однако, к менее определенным формулировкам: граф Морков требует «поносную и лютую казнь», Ланской (дядя декабриста Одоевского) — «позорную смертную казнь», министр юстиции Лобанов-Ростовский — «поносную смертную казнь», Карцев проявил либерализм — «казнить смертью» (то есть фактически предлагал перевести Пестеля из категории «вне разрядов» в 1-й разряд, и тогда не исключено, что царь подарит ему жизнь). Наконец, знаменитый адмирал и литератор Шишков высказался совсем неясно: «Принадлежит к первым преступникам» (можно понять как угодно, но по крайней мере прямо не требует четвертования). Три члена Синода (митрополиты Серафим и Евгений и архиепископ Авраам) написали, что «согласны с большинством голосов», но позже больше так не писали, ибо получалось, что они за четвертование, а духовным лицам такая откровенность не пристала. 13 присутствовавших особо назначенных чиновников дружно и единодушно — за четвертование[109]. Столь же единогласны 35 сенаторов[110]. Среди голосующих — несколько лиц, на которых заговорщики рассчитывали в случае победы. Первый — сам Сперанский, о котором спрашивали Батенькова и других декабристов: при другом исходе восстания он, безусловно, заседал бы во Временном революционном правительстве и, возможно, размещал бы по разрядам своих нынешних коллег по Верховному уголовному суду. Рассчитывали декабристы и на знаменитого адмирала Сенявина, — старший сын адмирала был замешан в заговоре и только в июне освобожден («арест вменить в наказание» ). Испуганный адмирал голосует едва ли не жестче всех других. В проектах заговорщиков фигурировали также имена Сумарокова и Баранова. Сумароков ответил на эти слухи лютой свирепостью голосования, с Барановым же, когда Николай намекнул ему о расчетах декабристов, случился такой приступ дурноты, что царь должен был зажать нос и выбежать. Царь еще проявил некоторое великодушие, не заставив заседать в суде сенатора Ивана Муравьева-Апостола, трое сыновей которого подняли Черниговский полк… Из судей император подозревал и генерала Бистрома: он, по мнению Николая, держался 14 декабря на площади странно и выжидательно. Но особенно настороженно относились к человеку, на которого декабристы рассчитывали, кажется, больше, чем на всех других высоких персон, — к 72-летнему адмиралу Николаю Мордвинову. Царь в своих записках вспоминает, как он читал в Государственном совете манифест об отречении Константина: «Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились, причем отличился Н. С. Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон, так что мне странным показалось». В ночь с 14-го на 15-е в Государственном совете царь уже сообщал о подавлении восстания: «Против меня первым налево сидел Н.С. Мордвинов. Старик слушал особенно внимательно, и тогда же выражение лица его мне показалось особенным. Потом мне сие объяснилось в некоторой степени». На Мордвинова не только рассчитывали. Николай I остался в убеждении, не лишенном основания, что адмирал и сам немало знал. Дело осталось невыясненным, но при дворе «либеральная репутация» Мордвинова не вызывала сомнений. Долгие годы он будоражил Государственный совет и просвещенное общество своими «особыми мнениями» по разным вопросам. Мнения эти всегда носили определенный характер: за законность, против произвола, за разумные начала в деспотическом, своевольном управлении: за обновление экономической жизни страны постепенными реформами, за более широкое просвещение народа и т. п. Мордвинову посвятил оду Рылеев, позднее — Пушкин. И вот этого либерального законника, оставшегося в сильном подозрении по поводу 14 декабря, Николай I вводит в состав членов Верховного суда. Царю любопытно: как поведет себя государственный муж, которого едва ли не самого следует арестовать и допросить? На первом заседании суда Мордвинов не присутствовал, и в списке голосовавших его имени нет. Но это не было хитростью: адмирал все же подал особое мнение о тех, кому грозила смертная казнь, то есть о пяти «внеразрядниках» и 31 «перворазряднике». «По древним российским узаконениям заслуживают смертную казнь. Но, сообразуясь с указами императрицы Елисаветы 1753 апреля 29 — 1754-го годов сентября 30-го, также с наказом императрицы Екатерины Великия и с указом императора Павла 1799 г. апреля 20-го, я полагаю: лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу. Н. Мордвинов». В этом кратком мнении содержится несколько мыслей: во-первых, в стране нет твердых законов (по древним уложениям — так, но «позднейшие указы» — иначе) [111], во-вторых, явное предпочтение более поздним законам, выражающим дух нового времени; иначе говоря, казнить значит, по Мордвинову, вернуться из XIX века в XVII. Разумеется, можно было только просить о замене смертной казни каторгой. И Мордвинов попросил… Мордвинов не сочувствовал бунту, мятежу, революции, но своим широким умом он понимал, что эти молодые люди по-своему боролись за то же прогрессивное обновление России, за которое и сам он сражается по-другому. И вот грустная российская действительность: высшее мужество, заслуживающее восхищения, — это просьба о замене смертной казни каторгой… Смелое мнение подозреваемого Мордвинова, если можно так выразиться, — поступок в лунинском духе. 30 лет спустя Герцен напишет о старом адмирале: «Мы до того привыкли видеть судьбу России в руках неспособных стариков, получивших места вроде премии от общества застрахования жизни за продолжительную крепость пищеварения, что нам кажется каким-нибудь чудаком иностранцем, „чужим между своих“ — лицо вроде Мордвинова». Но вернемся на суд. В то же утро, 30 июня, быстро проголосовали и за четвертование Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Никто, конечно, не заметил — вернее, не хотел заметить, что если Рылеев или Муравьев-Апостол действительно вышли с оружием в руках, а Каховский убил двух человек, то Пестель, как ни преступен с точки зрения этой власти, все же обвиняется только в намерении, умысле: ведь он не произвел ни одного выстрела и был взят под арест за полмесяца до южного восстания. Затем еще два вечерних и одно утреннее заседания занимались 1-м разрядом, который пока что, до царского милосердия, тоже означал смертный приговор. Все прошло гладко: правда, Оболенскому не хватило трех, а Якубовичу только двух голосов, чтобы оказаться «вне разрядов», и тогда царю пришлось бы решать непредвиденную задачу — казнить или не казнить еще двоих… Из родственников Лунина Матвей Муравьев-Апостол получил 51 голос «за простую казнь», 11 человек потребовали «четвертовать» и только два голоса против убийства (Шишков и, конечно, Мордвинов). Артамон Муравьев «прошел» примерно так же (51 — казнить, 8 — четвертовать, трое — не казнить). Зато Никита Муравьев вызвал раздоры. Хотя он и считался вождем общества, но в восстании не участвовал. Поэтому только сенатор Маврин просил четвертовать, но 21 человек высказались против смертной казни. Были голоса за перевод Муравьева в 4, 5, б и даже 9-й разряд, предусматривающий поселение без каторжных работ. (За «самый мягкий» разряд подали голос сенаторы Вистицкий и Куракин.) Случай с Никитой Муравьевым любопытен: в конце концов он получит тот же разряд, что и Якубович. Оболенский, хотя суд расценивает их вину по-разному… Затем быстро приговорили Пущина, Якушкина, Волконского, Александра Поджио, Сутгофа, Панова, Завалишина, Щепина-Ростовского и других… Вечером 2 июля, покончив с 1-м разрядом, суд немедленно приступает ко 2-му, куда Сперанский внес 17 декабристов, в том числе Лунина. 2-й разряд сперва означал политическую смерть и вечную каторгу. Некоторые судьи потребовали смертной казни для тех, кого не намеревалось казнить правительство. Нашлись и более мягкосердечные. Но в целом, как водится, было принято предложение разрядной комиссии. Трех офицеров из Соединенных славян суд склонен был скорее казнить, чем пощадить: Тютчеву: 33 — за 2-й разряд, 26 — за казнь, только 2 — за большее смягчение приговора. Громницкому: соответственно — 32, 22 и 3. Мордвинов просит дать этому офицеру 9-й разряд, Вистицкий — 8-й. Кирееву: 35, 24 и 3. Крюков 2-й получил 35 голосов за «свой» 2-й разряд. 25 судей требуют смертной казни (никак еще не остынут после 1-го разряда, да и учитывают, что этот декабрист на следствии упорно не сдавался). Один Мордвинов дает на несколько разрядов ниже. Характерно, что председатель князь Лопухин одному за другим пишет «1-й разряд» или «казнь», не соглашаясь с излишней мягкостью правительства. Вслед за Крюковым 2-м — Михаил Лунин. Два сенатора, Болгарский и Казадаев, потребовали для него не простой казни, а четвертования. Для 2-го разряда этого никто еще не требовал: видно, Лунин чем-то их особенно огорчил. Еще 18 человек голосуют за казнь Лунина: двое, генералы Башуцкий и Бистром, настаивают на расстреле («казнь военная» ), 16 — за казнь по 1-му разряду. Кто же эти шестнадцать? Старый екатерининский дипломат граф Морков, граф де Ламберт, который даже не для всех перворазрядников требовал смерти, адмирал Сенявин (пока что всем назначающий казнь), сенаторы Обресков, Гладков, граф Хвостов, Хитрово, Мартенс, Шулепов, Маврин, Мансуров, Лавров, Сумароков (написавший «по примеру Мировича — смерть» ), а также сенаторы Куракин и Вистицкий, просившие для некоторых осужденных по 1-му разряду значительного смягчения — до 8-го или 9-го. Лунин их обозлил: может быть, запирательством, насмешкою или тем, что состоял при Константине, и его долго нельзя было взять?.. Из 61 судьи 20 высказались за более суровое наказание для Лунина, хотя и предложенный 2-й разряд, безусловно, был бы отвергнут на мало-мальски свободном процессе. Нашлись, однако, люди, заметившие, что виновность Лунина преувеличена (возможно, некоторые думали тем самым услужить Константину?). Мордвинов написал: «Лишить чинов и сослать в Сибирь» (заметим: без лишения дворянства и без каторги!); в сущности, он предлагает наказание более мягкое, чем предусмотренное последним, 11-м разрядом. Министр иностранных дел Нессельроде написал — 3-й разряд, член Государственного совета Болотников — то же (вообще члены Государственного совета в среднем голосовали менее сурово, чем сенаторы и чиновники); 3-й разряд для Лунина предложили два сенатора — князь Гагарин и Михайловский, а Нелидов и граф Кутайсов — 4-й. Мрачный, почти всех обрекавший на казнь сенатор Батюшков «по родству отказался» голосовать; почему-то не подал никакого голоса всеказнящий председатель суда Лопухин. Осталось 32 человека — более 50 процентов всех голосующих и 44 процента ко всему составу суда. Они согласились со Сперанским, то есть с правительством, что Лунину нужно дать 2-й разряд за «участие в умысле цареубийства согласием, в умысле бунта — принятием в Тайное общество членов и заведением литографии для издания сочинений общества». Нелегко понять и современникам Лунина и потомкам, в чем заключалось принципиальное отличие вины Лунина от вины, скажем, Беляева 1-го. Последний «знал об умысле цареубийства и лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов». Принятие членов в общество и «заведение литографии» как будто не могут перевесить «личного участия в мятеже и возбуждения нижних чинов», а между тем Беляев получает более легкий, 4-й разряд, то есть почти вдвое меньший срок каторги! Полковник Александр Муравьев осужден по еще более легкому 6-му разряду, хотя формула его вины тоже мало чем отличалась от лунинской: «Участвовал в умысле цареубийства согласием, в 1817 году изъявленном, равно как участием в учреждении Тайного общества, хотя потом от оного совершенно удалился, но о цели его правительству не донес». Ни одного факта не могли ни комитет, ни суд привести в подтверждение того, что Лунин после 1822 года поддерживал связи с обществом. Однако об этом смягчающем вину обстоятельстве приговор не упоминает[112]. Лунин в тот июльский вечер обсуждался последним. По вынесении приговора судьи разошлись. Не будем подробно описывать следующие заседания Верховного уголовного суда. Отметим только несколько примечательных подробностей: Из второразрядников еще хуже, чем к Лунину, судьи отнеслись к Крюкову 1-му, Митькову, Вольфу. Зато более благоприятное отношение встретили Свистунов, Басаргин, Анненков, Иванов, Фролов, Норов, Торсон, Николай и Михаил Бестужевы. Таким образом, Лунин — «восьмой из 17-ти» — типичный среднестатистический «преступник 2-го разряда». Затем суд перешел к более слабым разрядам, и вскоре 122 приговора были готовы. Мордвинов, как правило, предлагает наказания, значительно более легкие, чем все предусмотренные разрядами: «В деревню…», «в солдаты с выслугой…» и т. п. Дольше всех настаивал на казнях допотопный сенатор Лавров и адмирал Сенявин (последний явно усердствовал из страха). О Корниловиче, например, представленном к 5-му разряду, граф Морков напишет «освободить», де Ламберт — «лучше в крепость посадить», а Сенявин — «казнить»; для младшего лунинского кузена 18-летнего корнета Александра Михайловича Муравьева даже непреклонный генерал Башуцкий просит снисхождения:«Должно расстрелять, но, если молодость будет принята во внимание, заменить ссылкою в каторжные работы»; Сенявин и тут не унимается, требует «смерти», и его поддерживает… граф Морков, только что предлагавший за ту же вину освободить Корниловича. Неразбериха в разрядах, вакханалия непродуманных мнений — все это казалось пародией на представительную систему, о которой мечтали декабристы и за мечты о которой эта самая пародия их и судила. IX 1. Много лет спустя Лунин вспомнит: «В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника — внезапно слух мой поражен был голосом, говорившим следующие стихи: Je passerai sur cette terre Toujours reveur et solitaire, Sans que personne m'aie connu. Ce n est qu'a la fin de ma sarriere Que par un grand trait de lumiere On verra ce qu'on a perdu [113]. — Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос. — Сергей Муравьев-Апостол…» Возможно, той же ночью к голосу Сергея Муравьева прислушивался и осужденный по 11-му разряду Николай Цебриков: «Сергей Муравьев-Апостол… с стоицизмом древнего римлянина уговаривал [Бестужева-Рюмина] не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как Мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства! Шум от беспрерывной ходьбы по коридору не давал мне все слова ясно слышать Сергея Муравьева-Апостола; но твердый его голос, и вообще веденный с Бестужевым-Рюминым его поучительный разговор, заключавший одно наставление и никакого особенного утешения, кроме справедливого приговора потомства, был поразительно нов для всех слушавших, и в особенности для меня, готового, кажется, броситься Муравьеву на шею и просить его продолжать разговор, которого слова и до сих пор иногда мне слышатся…» Пятерых казнили. Были слухи, что Николай хотел расстрела, но Бенкендорф сумел настоять на более позорящем наказании — повешении. Сквозь белую ночь Горбачевский видел из окошка своей камеры, как вели обреченных, как Бестужев-Рюмин запутался в своих цепях и солдат ему помог. Подошли к виселице. Встали спиной друг к другу, пожали скованные позади руки, расцеловались — знакомые и незнакомые: ведь Пестель, Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол, кажется, впервыеувидели Каховского, а Рылеев — Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина. Накануне испытывали прочность петель: моделью служили тяжелые кули с песком. Однако во время казни трое — Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский — сорвались, и Рылеев последний раз в жизни, даже, собственно, уже в полусмерти, протестовал и будто бы назвал генерала Голенищева-Кутузова «подлым опричником»… Древний обычай — миловать упавшего с виселицы — был процедурой не предусмотрен (зато в инструкции был учтен особый случай, если кто-либо из пятерых пожелает на эшафоте сделать какие-либо новые признания). Бестужев-Рюмин оставил сторожу Трофимову «образ Спасителя, несущего крест, овальный, вышитый его двоюродной сестрой». На нем некогда клялись Соединенные славяне. Розен пытался выменять его у Трофимова, но неудачно, Лунин же сумел убедить стража и получил образ.  Титульная страница герценовского издания 2. Остальных выводят; первому разряду читают смертный приговор, замененный вечной каторгой, второму — вечная каторга, замененная 20 годами. Швыряют в огонь ордена и мундиры. Бенкендорф, Чернышев, Голенищев-Кутузов наблюдают. В связи с коронацией Николая некоторым декабристам сроки ссылки и заключения были несколько уменьшены, некоторым же были сделаны особые послабления: так, Матвея Муравьева-Апостола, «по уважению совершенного и чистосердечного его раскаяния», отправили прямо на поселение, Александру Бестужеву за то, что «лично явился с повинной головою», каторга была заменена солдатчиной (без каторжных работ). Кое-кому из перворазрядников дали несколько меньший каторжный срок: Никите Муравьеву — «по уважению совершенной откровенности и чистосердечного признания», Сергею Волконскому — «по уважению совершенного раскаяния», Вильгельму Кюхельбекеру — «по уважению ходатайства его императорского высочества великого князя Михаила Павловича»[114], Ивану Якушкину — «по уважению совершенного раскаяния»[115]. Из причисленных ко 2-му разряду сделано было послабление Норову. Лунину, как и другим, 20 лет каторги по случаю коронации заменили 15 годами. (Фактически же он пробыл на каторжных работах около десяти лет, как и другие товарищи по разряду.) Осужденные изумляются, увидев Лунина, и еще больше, узнав о его приговоре. «Михаил Лунин… по окончании чтения сентенции, обратясь ко всем прочим, громко сказал: „Il faut arroser le sentence“ («Господа! прекрасный приговор должен быть окроплен») — преспокойно исполнил сказанное. Прекрасно было бы, если б это увидел генерал-адъютант Чернышев». Так рассказывают Цебриков и Анненков. «Когда прочли сентенцию и обер-секретарь Журавлев особенно расстановочно ударял голосом на последние слова: „на поселение в Сибирь навечно!“, Лунин, по привычке подтянув свою одежду в шагу, заметил всему присутствию: „Хороша вечность — мне уже за пятьдесят лет от роду“ (и будто после этого вместо слов «навечно» стали писать в приговорах — «пожизненно» ) . Так рассказывает Розен. История эта вызвала споры и сомнения: другие осужденные не слыхали таких острот, Лунину было не «за пятьдесят», а «около сорока». Впрочем, он был столь легендарен, что молва могла уже шутить и «окроплять» за него. Из сотни известных его поступков современники имели право вычислить или сконструировать несколько неведомых… 3. Кое-кому из осужденных показалось, что в те часы, когда им объявляли приговор, Бенкендорф смотрел на них с грустью и сожалением. В этом видели известное благородство и помнили о том много лет спустя. На самом же деле Бенкендорф был удивлен преображением людей, которых он допрашивал и часто видел кающимися и наговаривающими друг на друга. Куда девались сейчас их подавленность, приниженность, отчаяние? Отовсюду — шутки, смех (особенно отличаются Пущин и Лунин). В письмах Николая хорошо видно недовольство, разочарование по поводу того, что приговоренные, вопреки всем ожиданиям, не грустили и не глядели друг на друга волками. 13 июля 1826 года, сразу же после казни, царь пишет матери: «Презренные и вели себя как презренные — с величайшей низостью. Чернышев уезжает сегодня вечером и, как очевидец, сможет сообщить вам все подробности». (Цебриков вспоминает:«Чернышев в самое время экзекуции сжигания мундиров и ломания шпаг послал к Николаю фельдъегеря с запиской, доносившей о нашем равнодушии к новому своему положению…» ) В тот же день Николай еще раз открыл свою обиду на тех, кого избавил от казни. «Подробности… убедили всех, что столь закоснелые существа и не заслуживали иной участи! Почти никто из них не высказал раскаяния. Пятеро казненных смертью проявили значительно большее раскаяние, особенно Каховский»[116]. 4.«Всего превосходнее было то, что между нами не произносилось никаких упреков, никаких даже друг другу намеков относительно нашего дела. Никто не позволял себе даже замечаний другому, как вел он себя при следствии, хотя многие из нас обязаны были своею участью неосторожным показаниям или недостатку твердости кого-либо из товарищей. Казалось, что все недоброжелательные помыслы были оставлены в покинутых нами казематах и что сохранилось одно только взаимное друг к другу расположение» (Басаргин). Чистота их намерений смывала грязь и копоть. Люди, только что сообщившие многолишнего Левашову, терпевшие насмешки Чернышева и каявшиеся царю, оказалось, имели столько нерастраченных сил, что через год-другой уже сообща спорят и мыслят, пишут «Струн вещих пламенные звуки…», не стыдятся своих цепей и, хотя не застрахованы от новых спадов, все же выходят из ада очищенными, закалившимися. В 212 днях восстания, суда и следствия — их взлет, падение и искупление. Один из главных интуитивно и сознательно найденных способов сохранить свою внутреннюю силу и свободу они нашли в отказе от взаимных упреков. Сведение счетов за страшные нравственные провалы на следствии — под запретом. «Довелось мне видеть возвращенных из Сибири декабристов, — пишет Лев Толстой, — и знал я их товарищей и сверстников, которые изменили им и остались в России и пользовались всяческими почестями и богатством. Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после 30 лет бодрые, умные, радостные, а оставшиеся в России и проведшие жизнь в службе, обедах, картах, были жалкие развалины, ни на что никому не нужные, которым нечем хорошим было и помянуть свою жизнь: казалось, как несчастны были приговоренные и сосланные, и как счастливы спасшиеся, а прошло 30 лет, и ясно стало, что счастье было не в Сибири и не в Петербурге, а в духе людей, и что каторга и ссылка, неволя было счастье, а генеральство и богатство и свобода были великие бедствия». 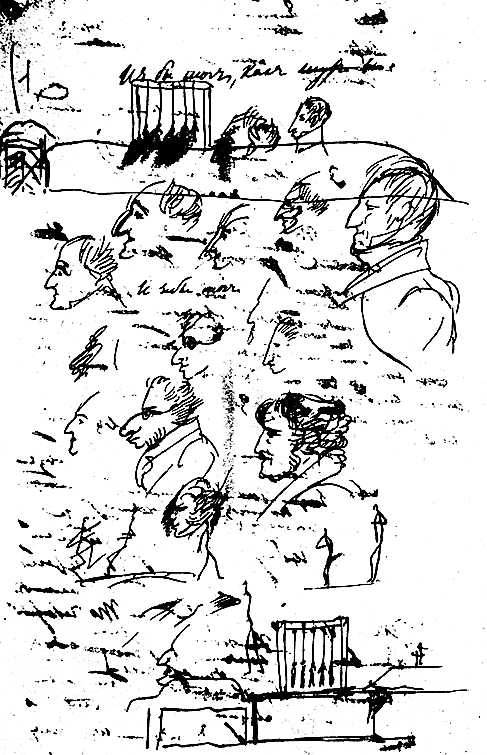 Листок из пушкинских черновиков: «И я бы мог…» Часть 3 ЕЩЕ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ… … В этом мире несчастливы только глупцы и скоты. I 1. «Мой прислужник Рослов… рассказывал, что застает Лунина молящимся, всегда на коленях, по нескольку раз в день. Один из соседей… попытался посылать Лунину свою долю чаю. Когда, — рассказывал Рослов, — я принес к ним первый стакан, то они заплакали, что аж жалко стало. С той поры я, утро и вечер, чай им приношу, и всякий раз сердешный старик велит благодарить… В Лунине, несмотря на его преклонные лета, на его далеко недюжинное образование, было много чего-то ребячески-чванного. Он часто заводил речь о какой-то своей истории с великим князем Константином Павловичем… Еще охотнее и еще чаще он заговаривал об отношениях его к своим крестьянам и в заключение не забывал прибавить, что его пять тысяч душ крестьян взбунтовались, когда до них дошла весть о приговоре их барина к ссылке в Сибирь. Не понимаю, каким путем слух этот мог дойти по адресу кого-либо из заключенных… Когда Лунину предложили вопрос со стороны комитета, «откуда он заимствовал свободный образ мыслей», то он будто бы отвечал: «Из здравого рассудка». … Лунина случилось мне видеть только один раз. и то мимоходом: когда меня вели на прогулку по крепости, на площадке лестницы на скамье сидел старик, очень, должно быть, большого росту, с бледным, обрюзглым лицом, с усталыми глазами. Что это был Лунин, я узнал тогда только, когда мы уже спустились с лестницы…» Действие происходит в конце лета и осенью 1826 года, когда приговор уже вынесен, но приговоренные еще не вывезены. Воспоминания Александра Гангеблова вообще точны и правдивы, так что и этой записи должно верить, хотя она сделана 60 лет спустя, 24-летнему поручику естественно находить стариком 38-летнего подполковника; но прежде никто не замечал обрюзглого лица, усталых глаз и слез. Нервы, затвердевшие с декабря по июль, могли теперь расслабиться — все кончено. Но 85-летний Гангеблов-мемуарист сохранил юную насмешливую жалость к ребяческой чванливости старика. Лунин как будто поучал и наставлял молодых, расспрашивая, как они держались перед комитетом, Гангеблов же, который сломился и сказал много лишнего, кажется, не очень верит в смелые ответы Лунина [117]. А ведь все было чистая правда — и про «свободный образ мыслей», и про Константина; и о крестьянах, видимо, тоже правда… 2. В августе 1826 года коронационные торжества в Москве. По рассказам очевидцев, «император Николай возбудил особенный восторг народа следующим, в сущности, обыкновенным поступком. Император после своего коронования проследовал под великолепным балдахином и облаченный во все императорские регалии из Успенского собора в Благовещенский, а отсюда к Красному крыльцу. Взошедши на верхнюю ступень крыльца, государь обратился лицом к необозримой массе народа, наполнявшей весь Кремль, и троекратным наклонением головы приветствовал своих верноподданных. Восторг народа в эту минуту положительно не знал границ; громкие, неумолкаемые крики огласили воздух; бесчисленные шапки полетели вверх; толпы шумно волновались; незнакомые между собою люди обнимались, и многие плакали от избытка радости… Император сам открыл народный праздник, прибыв на Девичье поле в первом часу… Народ, подобно морским волнам, гонимым ветром, хлынул к столам, на которых в одно мгновение не осталось ничего от поставленных на них яств. От столов народные толпы бросились к фонтанам, бившим белою и красною влагою. Фонтаны скоро скрылись под облепившим их народом и один за другим разрушались. Упавши в развалины, вытесняя один другого, иные черпали вино шляпами. Весельчаки гуляли по полю, таща с собою кто курицу, кто ногу баранины, а кто ножку от стола. По отъезде императора подгулявший народ набросился на ложи зрителей и начал обдирать красный холст. Число участвовавшего народа простиралось до двухсот тысяч человек». Милостей было множество; Катерине Уваровой разрешено свидание с братом. Тогда-то Лунин и мог узнать, что крестьяне жалеют его и «бунтуют» (вероятно, услыхал также, что муж сестры, Федор Уваров, очень недоволен шурином). Брат просит сестру вызволить из Варшавы его частную переписку, которая может скомпрометировать даму, Уварова пытается, но неудачно; варшавские бумаги остались погребенными в делах Государственной канцелярии [118]. Знала бы Катерина Сергеевна, что видится с братом в последний раз… 3.Гангеблов: «В клетках этого коридора сидели: Ентальцов, Анненков, против него — Лунин… В разговоры Лунина и Анненкова вмешиваться я большей частью затруднялся как потому, что обсуждаемые предметы были, по своей выспренности, не совсем для меня доступны, так и по той причине, что разговор велся всегда по-французски, а по этой части таким собеседникам я оказывался не по плечу… Беседы Анненкова и Лунина большей частью витали в области нравственно-религиозной философии, с социальным оттенком. Анненков был друг человечества с прекрасными качествами сердца, но увы! он был матерьялист, неверующий, не имеющий твердой почвы под собою. Лунин, напротив, был пламенный христианин. Оба они говорили превосходно. Первый выражался с большой простотой и прямо приступал к своей идее; Лунин же впадал в напыщенность, в широковещательность и нередко позволял себе тон наставника, что, впрочем, оправдывалось и разностью их возрастов. Лунин старался обратить своего молодого друга на путь истинный. Не раз слышалось: «Но, милый мой, Вы слишком упрямы; верьте мне, что Вам достаточно четверти часа несколько сосредоточенного внимания, чтобы вполне убедиться в истине нашей веры». К несчастью, эта четверть часа тянулась чуть ли не более месяца, и я, получив свободу, оставил их обоих с прежними убеждениями. Однажды Анненков после долгого, горячего спора воскликнул: «Надо признаться, что человечество не стоит того, чтобы для него жертвовать собою». Когда разговор истощался, они коротали время игрою в шахматы… тот и другой начертили каждый на своем столике клетки, вылепили из ржаного хлеба (после приговора — только черный…) статуэтки фигур и, перекликаясь между собою, сыгрывали по партии или более в день; большей частью выигрывал Лунин». Интересно, какими доводами вызвал Лунин у «друга человечества» Ивана Анненкова восклицание «человечество не стоит того, чтобы для него жертвовать собою»? В духе спора старший, возможно, огорчал юного собеседника рассуждениями о бесплодности прямых и «грубых» усилий изменить мир («мятежи, свойственные толпе; заговоры, приличные рабам» ): нет смысла жертвовать собою, не просветившись внутренне (по Лунину — религиозно). Только тогда, когда «познал самого себя», можешь проповедовать, бороться или жертвовать… Но каковы бы ни были тезисы Анненкова и антитезисы Лунина, примиряющим синтезом был общий каземат, и оставалось только лепить и жертвовать ржаные фигуры. 4. «Громницкого, Киреева, Лунина, Митькова 21 октября, по наступлении ночи, отправить в Свеаборгскую крепость для содержания их там под строгим арестом, впредь до назначения им мест в Сибири». 5. «Она заставила свои карманные часы прозвонить в темноте и после двенадцатого удара поздравила ямщика с Новым годом». Так встретила 1827 год Мария Николаевна Волконская, несшаяся из Москвы в забайкальские каторжные края. В Благодатском руднике Волконский, Трубецкой, Якубович, Борисовы, Артамон Муравьев, Давыдов и Оболенский начали новый год без огня, уже погашенного (только что начальнику Нерчинских заводов было донесено, что преступники «довольно спокойны, даже иногда бывают и веселы» ). — Какой сегодня день? — спрашивал забытый в Шлиссельбурге Иосиф Поджио [119]. — Не могу знать, — строго по инструкции отвечал тюремщик. Пушкин накануне рождества лежит больной в псковской гостинице и пишет «Мой первый друг, мой друг бесценный…» (не зная, что «первый друг» недалеко, в Шлиссельбурге). Только через год, в Чите, это послание нашло Пущина. Лунин, встречавший 1826 год в Варшаве с князьями и гусарами, провожает его в средней куртине острова Лонггерна, за непроницаемыми двойными дверями («отчего всякое сообщение между преступниками будет невозможно» ). Двери сооружены недавно («при этом приняты все возможные меры, чтобы арестанты не сообщались с мастеровыми» ). В стыде и печали провожают 1826 год Уваровы. Катерина Сергеевна еще не привыкла к беде, а Федор Уваров и привыкать не собирается: родственника, однополчанина и бывшего друга он не перестает проклинать. Лунин завещал имение кузену Николаю, чтобы избавить своих крестьян от своеволия «черного Уварова». Последний поднимает шум, доказывает, что завещание каторжника недействительно. «Уварова, — как писал Николай Лунин, — все делала и подписывала из страха к мужу». Однако за два дня до Нового года царь пишет «согласен» на документе, приостанавливающем притязания Уварова на тамбовские и саратовские деревни Лунина. 7 января 1827 года Федор Уваров выходит из дому и исчезает навсегда. Молва (устами почт-директора Булгакова): «Жил, поступал дурно, а умер еще хуже…» Утонул в Неве? Сбежал в Америку? Ушел в монастырь? Много догадок высказывалось по этому поводу, но ни одна не могла быть подтверждена. В 1923 году историк К. В. Кудряшов написал книгу, в которой доказывал, что Уваров — это и есть «старец Федор Кузьмич», появившийся в 30-х годах прошлого века в Сибири: таинственное лицо явно аристократического происхождения[120]. Катерина Сергеевна — вдова, быть может, при живом супруге: носит траур пять лет. Имения Лунина достаются в конце концов все же ей, а не двоюродному брату Николаю (но теперь, когда Федора Уварова не было, прежний владелец меньше беспокоился за крестьян). Лев Толстой через 50 лет заинтересуется этой историей и будет расспрашивать стариков декабристов о подробностях, стремясь увидеть в исчезновении «черного генерала» осуществление идеи, мучившей самого писателя: отречение от суетного мира, смирение, опрощение… 6. «Генерал-губернатор Закревский, посетив тюрьму по служебной обязанности, спросил [Лунина]: «Есть ли у вас все необходимое?» Тюрьма была ужасная: дождь протекал сквозь потолок — так плоха была крыша. Лунин ответил улыбаясь: «Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика»» . (Из записок Марии Николаевны Волконской.) Эта сцена происходила в шестиэтажной башне Выборгского замка, куда Лунина, Норова и Муханова перевели из Свеаборга. Кроме зонтика, не хватало книг, но Лунин никогда не просит. Сестра настойчиво посылала Шиллера, Байрона, Шекспира, Лессинга, Купера, Вальтера Скотта, альманах Дельвига «Северные цветы» с новыми сочинениями Пушкина, но генерал Закревский устоял перед славными именами и не разрешил ничего, кроме Нового завета. Уварова не унимается, пытается передать письмо, но генерал и тут не оплошал… 7.«В Выборге… Лунин содержался в ужасающих условиях». «Лунин в Выборгской крепости страдал не столько от физических неудобств, сколько от моральных лишений». «Пребывание в Выборге считает он [Лунина] самою счастливою эпохою в жизни». Первые две цитаты принадлежат исследователям биографии Лунина С.Б. Окуню, а также С.Я. Гессену и М.С. Когану; последняя — декабристу Свистунову, которому эти исследователи доверяют. Все правы. Трудно писать биографии… Здесь, очевидно, ключ к постижению последующей жизни Лунина, но ключ потерянный. О 20 месяцах свеаборгского и выборгского заточения остался лишь анекдот о зонтике да пара документов, запрещающих передачу книг и писем. Зная Лунина, мы можем лишь догадываться, что он окончательно преодолел некоторую слабость, непривычку к новому состоянию, и победа «озарила заточение». Впоследствии он запишет: «Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мною на эшафот, в темницу и ссылку…» 8. 25 октября 1827 года «в Ярославле Якушкина с матерью имела свидание с мужем, который едет перед нами. Мы приезжаем туда вечером пить чай, и вдруг являются к нам люди и спрашивают, не имеем ли мы в чем-нибудь надобности — мы набрали табаку и прочих вещей для дороги. Это был человек Уваровой, сестры Лунина, которая ждала своего брата Лунина. Она пришла в дом и вызвала фельдъегеря; от него узнала, что здесь Муханов, которого она знает, и какими-то судьбами его пустили к ней». Это письмо лежало за подкладкой жандармской фуражки вместе с другими вещами, выпавшими из кибитки «на Петербургском тракте от города Мологи в 10-ти верстах». Начальство производит розыск: письмо писано Пущиным, фуражка принадлежит самому верному и лютому фельдъегерю Желдыбину, который сопровождает Пущина, Муханова и Александра Поджио в Сибирь и считается совершенно неподкупным (недавно отверг 1500 рублей, предложенных родственниками осужденных) . «Осенью (1827) провозимы были трое преступников при фельдъегере, приезжали Якушкина и Уварова, из коих последняя просила фельдъегеря, стоя на коленях, позволить видеться с привезенными преступниками, но он их не допустил, а виделись они только в сенях, тогда как стали их выводить». Это уже показания ярославского крестьянина Мешалкина, в чьем доме все происходило. Генеральша неспроста падала на колени и искала встречи с Мухановым: ведь того везли из Выборга. Желдыбина арестовали «за преступное пособничество», к Уваровой явился жандармский офицер и почтительно задал несколько вопросов. Катерина Сергеевна как могла выгораживала фельдъегеря[121], брала все на себя; тут открылось, между прочим, что она уже не один месяц дожидалась в Ярославле брата, а на почтовой станции Тимохино поселила своего дворового с вещами для Лунина — на случай, если того провезут мимо города. В бумагах III отделения имеется документ об отправке в Сибирь Громницкого, Киреева, Боголюбова и Викторова. Против фамилии Боголюбов написано на полях: «полковник Митьков». 24 апреля 1828 года Бенкендорф извещен, что «Громницкий, Киреев, Митьков и Лунин отправлены в Нерчинские рудники». Викторов, выходит, не кто иной, как Лунин, замаскированный псевдонимом, чтобы вездесущая Уварова не узнала. Но вот — неизвестное прежде донесение начальника московских жандармов генерала Волкова начальнику III отделения: «Апреля 30 дня 1828-го года. Москва. Сего апреля 24-го числа поутру в 5-м часу привезли государственных преступников четырех человек, при фельдъегере Захарове с жандармами, которых часа через полтора повезли далее к Костроме. В числе сих преступников находился Лунин, родной брат генеральши Уваровой, по сие время проживающей в Ярославле. Непостижимо, почему она тотчас узнала и всеми способами рвалась увидеться с братом своим. Г. Шубинский[122] послал туда для наблюдения адъютанта своего Верговского, который нашел фельдъегеря Захарова в затруднительном положении, что он не находил возможности и средств укрыться от усилий генеральши Уваровой, которая бросалась на колени, давала деньги, умоляя о дозволении к свиданию, но он не допустил ее, и преступников тотчас повезли»[123]. 9.«Когда в 1826 году Якубович увидел князя Оболенского с бородой и в солдатской сермяге, он не мог удержаться от восклицания: „Ну, Оболенский, если я похож на Стеньку Разина, то неминуемо ты должен быть похож на Ваньку Каина!..“ Тут взошел комендант; арестантов заковали и отправили в Сибирь на каторжную работу. Народ не признал этого сходства, и густые толпы его равнодушно смотрели в Нижнем Новгороде, когда провозили колодников в самое время ярмарки. Может, они думали «наши-то сердечные пешечком ходят туда — а вот господ-то жандармы возят!»» (А. И. Герцен). Пешечком в Сибирь трудно и долго, но кое-кому из декабристов привелось. Я видел в Иркутском архиве документ о партии, отправившейся 23 июня 1827 года из Тобольска в Нерчинские заводы. В ноябре Петербург, не имевший ясного представления о размерах подвластных пространств, запросил иркутского губернатора, почему не докладывает о прибытии арестованных. На это было отвечено, что прибытие ожидается не раньше января. (Так и было; затем партию отправили дальше и еще за два месяца доставили в Нерчинск) [124]. «На пути преступники были здоровы, не унывали, а были добродушны» (из отчета фельдъегеря о доставке Фонвизина, Вольфа, Басаргина). «Преступники были здоровы и равнодушны, исключая то, что по выезде из Тобольска сожалели, что везут далее» (из отчета о доставке Репина, Розена, Кюхельбекера и Глебова). Спутники Лунина, Громницкий и Киреев, «при выезде из Свеаборга плакали, но дорогою были равнодушны. При проезде через Сибирь преступник Громницкий был здоров, равнодушен и даже пел песни». Лунина и других везут два месяца по весенней Европе и летней Азии. Тобольск — только середина пути. На каждую тысячу верст положено 25 продовольственных рублей, но жандарм уже расходует вторую сотню, а дороге конца нет… 10.«Господа хотели Миколая, заманили Александра Павловича в Таганрог и там решили его… Народ взбунтовался, не хотел Миколая, хотел Константина. Миколай собрал Трубецкого, Волконского, народ не сдавался. Когда стали палить из пушек, все разбежались. Константин сел на флот (был флотский) и уехал без вести в океан… Корейская земля была, и он обосновал там Корею». Так понимали дело в тех краях, куда арестанты доехали к середине июня; заметим, что народ здесь, у Сибирского тракта, — бойчее и грамотнее, чем в стороне. Если мерить верстами, то до Иркутска проделали уже большую часть пути; но только половину, если считать «сибирским счетом». Когда Уварова послала брату из Петербурга 342 рубля, то за «провоз» до Иркутска взяли 3 рубля 39 копеек, а от Иркутска до Нерчинского завода — еще 3 рубля 36 копеек… Мир делился на две части: до Иркутска и за Байкалом. 11. Под 1189 годом в Монгольской летописи сказано: «Подчинилась Чингисхану не имеющая броду река Байкал». Через шесть веков река Байкал получила звание моря и в таковом была утверждена официально основанием в Иркутске должности «адмирала Байкальского моря». От этого адмирала зависел летом верный и спокойный путь в Нерчинскую каторгу. «Громницкий, Киреев, Митьков и Лунин, доставленные в Иркутск 18 июня, содержались в местном тюремном замке до 24 числа, по небытию на здешней стороне Байкала казенного транспорта, который в сие число прибыл, и арестанты, за присмотром квартального надзирателя Петрова и двух жандармов, отправлены в следующий путь». 12. Иван Пущин советовал родным найти на карте «местечко Читинское между Иркутском и Нерчинском». Карл Васильевич Нессельроде, государственный канцлер, обозревая карту империи, ткнул пальцем куда-то за Байкал и определил: «Дно мешка». II 1. «У бурят раньше счастье складывалось из 77 частей, в них вся жизнь была. — Чтоб никогда Луна не закрывала Солнца. — Чтоб дождя было больше. — Чтоб снег выпадал только зимой. — Старики чтоб жили до глубокой старости. — Чтоб стрелы мимо добычи не проходили. — Чтоб человек не умирал, когда его родные живут». И так далее — до 77… [125] Ровно столько же частей должно быть и у несчастья, ибо оно есть не что иное, как отсутствие счастья: когда Луна закрывает Солнце, или стрела мимо проходит, или не живут старики до глубокой старости… Но тот, кому мало 77, пусть остерегается, потому что счастье, сложенное из тысячи частей, означает также возможность тысячи несчастий… В тюрьме и каторге радость и горести многообразнее, чем на воле, одно в другое и обратно переливается быстрее, резче. 2. Вильгельма Кюхельбекера, долго продержав в крепости, сразу из милости отправили не в рудники, а на поселение. Для него (а позже — для других) это обернулось несчастливо: куда лучше было бы попасть в каторжное сообщество друзей. Блестящий кавалергард Ивашев, попав в Читу, совершенно пал духом и вздумал бежать, что обрекло бы его на скорую гибель. Товарищи с трудом уговорили повременить неделю. Но именно в эту неделю пришло известие о желании юной француженки Камиллы Ледантю разделить участь Ивашева: он согласился, остался и ожил. Репин из далекой деревни, где был поселен, отправился навестить одинокого друга Андреева. Встреча чрезвычайно их воодушевила; на сеновале они проговорили день и ночь, и когда, счастливые и утомленные, уснули, то забыли погасить свечи. Сарай загорелся, оба погибли. Александрина Григорьевна Муравьева отправляется за мужем Никитой Михайловичем. Все радуются их радости. Но климат был не по ней — в 1832-м умирает от чахотки. Никита Муравьев за ночь поседел. Начальство пожелало улучшить положение Луцкого[126], «но он просил оставить его в Нерчинском заводе — хотя бы в тюрьме, так как иначе, в случае его командировки на Куэнгские промыслы, не надеется удержаться от побега». В 1854 году, покидая Сибирь, еле живой Фонвизин «Ивану Дмитриевичу Якушкину поклонился в ноги за то, что он принял его в тайный союз» (из письма Матвея Муравьева-Апостола) [127].  И.Д. Якушкин С рисунка А. Скино, 1857 г. 3. Что же Лунин? О восьми годах его каторги знаем немного больше, чем о двух годах Свеаборга и Выборга: несколько анекдотов и беглых упоминаний. Такая скудность не случайна, но об этом после… Из анекдотов и упоминаний видно: что иногда товарищи «с любопытством слушали его рассказы о закулисных событиях прошедшего царствования и его суждения о деятелях того времени, поставленных на незаслуженные пьедесталы»; что он брал у Завалишина уроки греческого языка; «как выйдет на работу, то любо смотреть на его красивый стан, на развязную походку, на опрятную одежду и любо было слушать его умный и живой разговор»; он не пожелал переехать в новый Читинский острог, куда перевели всех декабристов, но остался жить на территории тюрьмы в отдельной избушке… «Отдельная избушка» намекает на некоторые особенные отношения. Трубецкой: «Лунин не хотел никогда иметь ничего общего с товарищами своего заключения и жил всегда особняком». Басаргин: «В партии нашей находился Лунин… Человек очень замечательный и приятный». Свистунов: «Несмотря на его благодушие, редко кому случалось заметить в нем какое-либо проявление сердечного движения или душевного настроения. Он не выказывал ни печали, ни гнева, ни любви и даже осмеивал заявление нежных чувств, признавая их малодушными или притворными». Снова Свистунов: «Он щедро помогал ближнему, но и в этом поступал по-своему. Например, узнав, что кто-либо нуждается в пособии, он попросит кого-нибудь из близко ему знакомых передать деньги нуждающемуся, но с непременным условием никому о том не говорить, ссылаясь на евангельское изречение: „Да не узнает шуйца твоя, что творит десница твоя“, и присовокупляя к тому, что он никому ничего не дарит, а лишь отпускает в долг богу, который воздаст ему сторицею, но в таком случае, если ссуда не огласится. Вследствие этого он никогда не подписывался на добровольные пожертвования, и многие были уверены, что он и никогда никому не помогал…» Последним человеком в тюрьме был Ипполит Завалишин, младший брат декабриста, патологический доносчик. Сначала он по собственной инициативе оклеветал брата, уже сидевшего в крепости. Царь рассвирепел и сослал юного лжесвидетеля в Оренбург. Там этот человек, пользуясь ореолом, окружавшим имя старшего брата, создал тайное общество и… выдал его правительству (а затем написал еще донос на губернатора, ведшего следствие!). В результате Ипполита отправили в Сибирь и поместили в одной камере с братом-декабристом, где он продолжал строчить доносы. Все каторжане брезгливо сторонились ублюдка, и только один Лунин — вопреки всем — беседовал с «пропащим» и даже жалел его[128]. Если бы 80 декабристов-каторжан выбирали президента своей общины, абсолютное большинство получил бы, конечно, Иван Пущин. Он, собственно, и был избран председателем артели, заботившейся о тех, кто не получал деньги и посылки из дому. О Пущине, кажется, не найти ни одного осуждающего слова во всех письмах и воспоминаниях декабристов: его любили и старые столичные приятели и не знавшие его прежде провинциалы из Соединенных славян. Позже, на поселении, ему станут писать из всех сибирских углов, а он переплетет эти письма в несколько толстых томов. Лунин получил бы много меньше голосов. Его уважали больше, чем любили, а ведь у него с Пущиным было немало сходства: оба сильные, внутренне твердые (недаром на следствии держались лучше всех); оба всегда веселы, бодры; оба умны, образованы, прекрасные собеседники; оба добры, но уже по-разному… Пущин щедр, он идет навстречу, угадывает, кого и чем порадовать или утешить, его душа открыта и впускает любого; больше думает о человеке, чем о человечестве. Лунин, не отказывая в помощи, избегает артели: ему так нужно. Лунин неравнодушен к слабостям и мучениям ближних, но протянет руку далеко не во всех случаях, где Пущин это сделал бы не задумываясь; или вдруг протянет Ипполиту Завалишину. Он смеется со всеми, но не пускает в свои книги, мысли, молитвы; впрочем, если кому-то важно и интересно, охотно поговорит и о книгах и о молитвах, но кто не спросит, проживет рядом с ним 10 лет и ничего не узнает. «Отдельная избушка», где он всегда примет, но куда не пригласит. Многим он казался хуже и суше, чем был на самом деле, — это его не беспокоило. Более близкие ценили его выше — он вежливо улыбался. В нем подозревали счастливого отшельника, чудака. Он не возражал. Только два-три друга угадывали скрытую внутреннюю энергию, способную вдруг когда-нибудь излиться наружу. Но об этом не говорилось. Легко понять, что пущинской дружбы со всеми у Лунина быть не могло. Некоторая отчужденность с годами даже увеличивалась, впрочем, внешне почти не проявляясь. 29 сентября 1836 года Лунин напишет сестре: «Моя жизнь проходит попеременно между видимыми существами, которые меня не понимают, и Существом невидимым, которого я не постигаю». 4. В первые читинские месяцы возникло общее дело, сплотившее всех: мысль о побеге. План был — спуститься по Ингоде в Аргунь и Амур и дальше — к Сахалину и в Японию. Прежде, в Зерентуйском руднике, пытался восстать и устроить побег декабрист Иван Сухинов, но был схвачен, приговорен к смерти и накануне казни удавился. «М.С. Лунин сделал для себя всевозможные приготовления, достал себе компас, приучал себя к самой умеренной пище: пил только кирпичный чай, запасся деньгами, но, обдумав все, не мог приняться за исполнение: вблизи все караулы и пешие и конные, а там неизмеримая, голая и голодная даль. В обоих случаях удачи и неудачи, все та же ответственность за новые испытания и за усиленный надзор для остальных товарищей по всей Сибири» (Записки Розена). С отказом от побега ушло дело, которое могло бы открыть каторжанам иного Лунина, «холодную молнию» — удальца давно ушедших лет. А летом 1830 года декабристов на 634 с половиной версты приблизили к Европе и удалили от искусительной границы. 5. Тем летом по одной из дорог Центральной Азии двигалась группа. «Впереди — Завалишин в круглой шляпе с величайшими полями и в каком-то платье черного цвета, своего собственного изобретения, похожего на квакерский кафтан. Маленького роста — он в одной руке держал палку выше себя, в другой — книгу. Затем выступал Якушкин в курточке a l'enfant[129], Волконский в женской кацавейке — кто в долгополых пономарских сюртуках, другие — в испанских мантиях, блузах… Европеец счел бы нас за гуляющий дом сумасшедших»(Записки Басаргина). «О примерном усердии, оказанном главным тайшою хоринских бурят Джигджит Дамбою Дугаровым и всем управляемым им племенем» — так озаглавлено одно из секретных дел, сохранившихся в Иркутском архиве: тайша (князь) помогал воинской команде и отвечавшему за декабристов генералу Лопарскому охранять каторжников и преодолевать трудные, затопленные места. 14 марта 1831 года Николай I пожаловал тайше Дугарову «золотую на Аннинской ленте медаль за усердие». Зная это, мы сможем лучше оценить яд одной из лунинских шуток: «Как только отряд остановился на ночлег или на дневку, то буряты окружали повозку Лунина[130], в котором предполагали увидеть главнейшего преступника. Однажды вздумал он показать себя и спросил, что им надо? Переводчик объявил от имени предстоящих, что желают его видеть и узнать, за что он сослан. «Знаете ли вы вашего тайшу?» — "Знаем…" — "А знаете ли вы тайшу, который над вашим тайшой, и может посадить его в мою повозку или сделать ему угей (конец)?" — "Знаем". — "Ну, так знайте, что я хотел сделать угей его власти, вот за что я сослан". — "О! О! О!" — раздалось во всей толпе. И с низкими поклонами, медленно пятясь назад, буряты удалились от лунинской повозки» (Розен). Прибытие в Петровский завод нерадостно: в Чите было вольготнее, всякая мысль о побеге гаснет, таившиеся кое у кого надежды на амнистию рассеиваются — не стали бы тогда строить новую, добротную тюрьму… Лунин как будто еще глубже уходит в себя. 6.«В тюрьме, кроме католических книг духовного содержания, он ничего не читал, ни газет, ни журналов, ни вновь появившихся сочинений; но постоянно осведомлялся о новостях политических и литературных. В нем была редкая способность: путем расспросов быстро ознакомиться с предметом, так что, бывало, он вернее судил о новой книге, чем оценивал читавший ее». Рассказу Свистунова нельзя довериться, зная, сколько светских книг было в сибирской библиотеке Лунина и как хорошо он знал о событиях, происшедших в большом мире; однако «устная газета», вероятно, существовала на самом деле… Новости, пришедшие после переселения в Петровский завод, могли и сближать и разделять. Летние европейские революции 1830 года, особенно свержение Бурбонов во Франции, вызвали, кажется, всеобщее сочувствие. Но затем начались польские дела. III 1. 29 ноября 1830-го Варшава восстала, Константин Павлович едва спасся, началась война, которая долго шла с переменным успехом. Поляки ожидали помощи от европейских держав, но не получили. 26 августа 1831 года русская армия, возглавляемая Паскевичем, взяла Варшаву: конституция 1815 года ликвидирована, активные повстанцы отправлены в Сибирь, многие эмигрировали (в том числе Шопен, Мицкевич). Как отнеслась к этому событию лучшая часть российского общества (о бездушно ликующем большинстве не стоит говорить)? Пушкин, радуясь победам, пишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Сбылось, и в день Бородина Вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы, И Польша, как бегущий полк, Во прах бросает стяг кровавый, И бунт раздавленный умолк… Чаадаев (в письме к Пушкину): «Отныне не будет больше войн, кроме случайных — нескольких бессмысленных и смешных войн, чтобы вернее отвратить людей от привычки к убийствам и разрушениям… Я только что прочел ваши два стихотворения. Друг мой, никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание…» Юный Лермонтов (о французских депутатах — «народных витиях», — защищавших Польшу): Опять народные витии За дело падшее Литвы На славу гордую России Опять, шумя, восстали вы! Уж вас казнил могучим словом Поэт, восставший в блеске новом От продолжительного сна, И порицания покровом Одел он ваши имена. Юный Бакунин (посылая стихотворения Пушкина): «Эти стихи прелестны, не правда ли?.. Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского!» 2. Для объяснения такой позиции таких людей многие искали, и нашли, смягчающие обстоятельства. Легко обнаружить довольно большое число извинений и оправданий, адресованных пушкинскому времени из нашего столетия: Пушкин и его единомышленники — патриоты, и намерения их благородны; Пушкин и другие обличали не столько Польшу, сколько «народных витий», оскорблявших Россию с трибуны французского, английского и других парламентов; в связи с этим возникла угроза европейской интервенции и «нового 1812 года»; Пушкин считал борьбу России и Польши «домашним делом», «спором славян между собою»; не только верхи, но даже многие декабристы неприязненно относились к польским освободительным планам; Пушкин, Чаадаев — против излишнего кровопролития, за милосердие к побежденным; Пушкин находится под влиянием двора, чему много способствовал Жуковский; в Польше — аристократическая революция, народу ничего не обещали и не дали, крестьяне и не поддержали мятежников; восставшие претендовали на возвращение Польше украинских, белорусских, литовских земель и восстановление Речи Посполитой в границах XVIII и даже XVII века. Наконец, Пушкин, Чаадаев — великие люди, любившие свободу. В ту самую осень, когда пала Варшава, Пушкин, сочиняя стихи для лицейской годовщины, набрасывает в черновике: Давно ль, друзья… но двадцать лет Тому прошло; и что же вижу? Того царя в живых уж нет; Мы жгли Москву; был плен Парижу; Угас в тюрьме Наполеон; Воскресла греков древних слава; С престола пал другой Бурбон; Отбунтовала вновь Варшава… Грекам «можно» восстать против турок: «воскресла слава»… Варшаве же «нельзя» против Петербурга? Это противоречие заметил позже академик Нестор Котляревский: «Если бы его [Пушкина] спросили в частной беседе, имеет ли народ культурный, в продолжение многих веков живший самостоятельной жизнью, народ, вложивший свой немалый труд во всемирную литературу, имеет ли этот народ право на независимую политическую жизнь, — Пушкин, конечно, ответил бы утвердительно… Но к Польше Пушкин был несправедливо суров». Нужно ли отворачиваться от противоречия и оправдывать, извинять, украшать (или, наоборот, разоблачать), вместо того чтобы понять?. 3. Здесь невозможно далеко отвлечься для выяснения сложнейшего движения пушкинской мысли: заметим только, что для 1831 года «восславление свободы» еще могло сочетаться с такими взглядами на другие народы — по формуле «чувство к отечеству должно быть в гражданине сильнее чувства к человечеству»[131]. Деятели Великой революции 1789-1794 годов стремились быть гражданами вселенной и для того ломали национальные (как, впрочем, и разные другие) перегородки, сначала во имя революции и всеобщего равенства, но затем — под стягами Наполеона — во имя империи и завоевания. Как ни парадоксально, но принципам «всемирным» или «всеевропейским» у Наполеона научились затем победившие монархи. Их Священный союз «выше» наций и, главное, национальных границ, которые он легко нарушает во имя «высших интересов», прежде всего во имя подавления новых революций… Как тут не выработаться в лучших умах 1820-1830-х годов господствующему принципу национальности, как не противопоставить отечество чересчур настойчивому «человечеству»? Разумеется, были и другие причины — экономические и политические, усиливавшие национальные чувства, свойственные декабристам и лучшим людям 30-х годов. Разумеется, были на Западе и в России также и мыслители, вырабатывавшие новые, более глубокие взгляды на соотношение отечества и человечества. 4. Это длинное отступление понадобилось для того, чтобы понять, каков был патриотизм 1831-го. Но как только мы находим, что в мыслях Пушкина, Чаадаева, Лермонтова, Бакунина и многих-многих других мыслящих людей в 1831-м господствовали «лучшие предрассудки века» (Александр Тургенев сказал о Жуковском: «он ошибается исторически…» ), как только мы это нашли, нам особенно интересны исключения: лучшие люди, которые думали не так, как большинство лучших людей… Как известно, Вяземский и Александр Тургенев были недовольны «шинельными стихами», воспевающими победы Николая. «Наши действия в Польше, — писал Вяземский, — откинут нас на 50 лет от просвещения европейского… Мне также надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст…» Удивительны не эти меткие цитаты — удивительно, что Вяземский и Тургенев, справедливо атакуя Пушкина, в сущности, менее свободны, чем он. Заблуждения Пушкина порождены его глубочайшими размышлениями и поисками; «недостатки — продолжение достоинств»; соображения Вяземского легко переходят в свою противоположность, и позже он станет сам писать шинельные, географически размашистые стихи: Со льдов Двины до берегов Дуная, С алтайских гор за рубежи Днепра Да грянет клич по гласу Николая… Но в 1831-м не соглашались с Пушкиным и совсем другие люди. «Молодежь (по крайней мере, в Москве) была за Польшу», — вспомнит Герцен. Пусть Герцен даже преувеличивал, и не вся молодежь была за Польшу, но дух такой в Москве был, и Пушкин, наезжая во вторую столицу, это отлично почувствовал: «Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах»[132]. Герцен и его друзья никогда не забывали 1831-го: «Сам Пушкин испытал, что значит взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамб бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического нёба». 5. Что же декабристы? Две мысли должны были столкнуться: Варшавское восстание сродни петербургскому; поляки отслужили панихиду по декабристам «за нашу и вашу свободу»… Польша поднялась против России, а «чувство к отечеству должно быть сильнее чувства к человечеству»… Нам нелегко судить, как в Петровском заводе встретили варшавские новости: с каторги нельзя было писать, с поселения или солдатчины — опасно. Александр Одоевский сочинил стихи: Еще, друзья, мы сердцем юны! И в ком оно от чувств не задрожит? Вы слышите: на Висле брань кипит! Там с Русью лях воюет за свободу И в шуме битв поет за упокой Несчастных жертв, проливших луч святой В спасенье русскому народу. В то же самое время Александр Бестужев пишет матери с Кавказа: «Я был чрезвычайно огорчен и раздосадован известием об измене варшавской. Как жаль, что мне не удастся променять пуль… с панами-добродзеями… Кровь зальет их, но навсегда ли? Дай бог». Подобные настроения во многом питались прежней ревностью к Польше: имеет конституцию, претендует на Украину и Белоруссию — и все мало! Спустя 30 лет, в связи с другим польским восстанием, Герцен вспомнит о 1830 годе: «Польский вопрос был смутно понимаем в то время. Передовые люди, — люди, шедшие на каторжную работу за намерение обуздать императорское самовластие, ошибались в нем и становились, не замечая того, на узкую государственную патриотическую точку зрения Карамзина; стоит вспомнить факты, рассказанные Якушкиным, негодование М. Орлова, статью Лунина и проч. У них была своего рода ревность к Польше; они думали, что Александр I больше любил и уважал поляков, чем русских». «Статья Лунина» — взгляд на польские дела — была Герценом получена, но не опубликована[133]. В 1860-х годах говорили: «Мы за Польшу, потому что мы за Россию», и редакторам «Колокола» казалось недостаточным то, что писал по этому поводу Лунин; они боялись задеть польских друзей. Между тем статья заслуживала иного, она интересна как раз не сходством, а различием с другими декабристскими писаниями о Польше. Больше всего Герцена, конечно, смутили следующие строки: «Несомненно все будут согласны в том, что, хотя русское правительство несет долю ответственности за возникновение беспорядков, однако оно не могло поступить иначе, как жестоко покарать виновников восстания и силою восстановить свой поколебленный авторитет. Оно должно было распустить армию, сражавшуюся против него, уничтожить сейм, вотировавший его низложение, и изменить учреждения, давшие возможность сделать и то и другое. Ему дали на это право тем, что взялись за оружие». Надо привыкнуть к логике Лунина, чтобы понять: в этих строках — ни капли одобрения Николаю, только логическое, «юридическое» наблюдение, что царь получил формальное право карать. В другом месте мы читаем: «Законные, но несправедливые репрессии». Читатель, даже искушенный, более привычен к иной логике: если «законные» — значит «справедливые», и наоборот… Размышляя о восстании, Лунин пытается встать над схваткой, посмотреть на дело шире: в этой позиции много рассудка и немало силы. «Дело поляков, как и дело русского правительства, находило до последнего времени всего только адвокатов. И тому и другому недоставало истинных друзей, способных рассеять их общие заблуждения и указать на происхождение их гибельных раздоров». Попытка вырваться из плена односторонних сочувствий видна в то время и у некоторых других мыслителей, русских и польских: Хомяков, Тютчев, Мицкевич проклинали вражду и кровь. Но Лунин, кроме эмоций, представляет целую систему политических размышлений, которую в тогдашней России больше ни у кого не найти. 6. Хорошо зная Польшу и польские дела 1820-х годов, он с большим знанием разбирает причины восстания и приходит к выводу смелому и спорному: Россия виновна, но Польше не следовало восставать. У Лунина был редкий талант — оставаться в одиночестве. Понятно, с ним не соглашались и те, кто не видел российской вины, и поляки, утверждавшие, что революции 1830-го во Франции, Италии и других местах обнадеживали и что надо было восставать, только решительнее! Лунин соглашается, что конституция 1815 года все время нарушалась Александром I, Николаем I, Константином, Новосильцевым. «Но конституция давала законные средства протеста против незаконности этих актов, вполне подчиняясь им в то же время. Такой способ действия, пассивный, но действительный, был вполне достаточен для того, чтобы доказать существование закона и права с тем, чтобы впоследствии заставить и уважать, дав им двойную опору — принципа и прецедента». Даже урезанный сейм, конституция, по Лунину, слишком важное завоевание, чтобы азартно ставить его на карту; он, конечно, думал и о неизбежном влиянии «малой конституции» на «большую» — российскую, которая рано или поздно должна появиться. Одобряя англичан, не восставших против Тюдоров и державшихся за свой парламент, Лунин, разумеется, помнит, что, вытерпев беззаконие Тюдоров, английский парламент восстал против Стюартов, и король Карл I лишился головы. Но прежде надо было «пустить корни…». В переводе «на русский и польский» это означало: надо укрепиться, созреть, и только тогда легко одолеть «Стюарта» — Романова. Знакомые идеи Союза благоденствия… Это пишет революционер, отрицающий революции неготовые. «Бывают эпохи, в которые стечение благоприятных обстоятельств придает шансы на успех даже самым рискованным предприятиям». Но, по Лунину, 1830-1831 годы — не такая эпоха: Россия только что успешно закончила две войны (с персами и турками), в польском движении больше одушевления, чем твердой программы действий, и т. п. Лунин и дальше идет: «Непосредственными результатами восстания были: потеря всех прав, разорение городов, опустошение селений, смерть многих тысяч человек, слезы вдов и сирот… Оно причинило еще большее зло, скомпрометировав принцип справедливого и легального сопротивления произвольным действиям власти. Именно с такой точки зрения на него (восстание) будет указывать будущим поколениям, — как на соблазн, которого следует избегать, и как на печальный признак духа нашего времени». Лунину не изменила его интуиция, и, ничего не зная о тайных движениях «наверху», он точно угадывает одно обстоятельство, даже сейчас, полтора века спустя, еще не разработанное как следует историками. Восстание 1830-го и его подавление многое переменили в ходе российских дел. То, что Николай I готовил кое-какие реформы, ясно из заседаний секретного комитета, образованного 6 декабря 1826 года. Как бы ни были ограничены эти проекты, они встретили определенную оппозицию, например, у Константина, который считал, что надо оставить «все по-прежнему». Николай I перед 1830-м колебался и отнюдь еще не решился на тот жесткий курс, который всегда связывают с его именем. Лунин и другие декабристы даже замечали с горечью, что правительством осуществляются некоторые их проекты (отмена военных поселений, война с Турцией в защиту Греции, упорядочение законов, некоторое ограничение помещиков) [134]. После победы над Польшей Николай склоняется к более откровенному произволу, многие проекты отложены, курс окончательно избран. Разумеется, успех поляков был бы равен по значению будущему Севастополю и, вероятно, принес бы России немало пользы. Но преждевременное восстание, по Лунину, укрепляет деспотизм… В конце статьи Лунин ищет грядущий выход из положения. Между прочим, брошена очень интересная мысль: «Не будучи связаны своим прошлым, как другие европейские народы, они (русские и поляки) ничего не должны сломать и убирать прежде, чем начинать создавать… Они кажутся предназначенными начать новую социальную веру, очищая принципы от тех чужеродных элементов, которые их заслоняют повсюду, и одухотворить политический мир, возведя свободы, права и гарантии к их настоящему источнику». Зная Лунина, мы угадываем в «настоящем источнике» и «социальной вере» католицизм, соединенный со свободными учреждениями. Он уверен, что, «только подав друг другу с открытым сердцем руки (русские и поляки), смогут овладеть… орудиями взаимного влияния, которое народы оказывают друг на друга во имя всеобщего прогресса человечества…». Однако в отличие от Чаадаева, которому показалось, будто он видел в 1831-м «последнюю войну», философ-каторжник более печален: «Народы и правительства не сходят так легко с ложной дороги, куда их завлекли интересы партии или их собственные страсти. Еще предстоит неравная борьба, гибельные реакции и бесполезные самопожертвования. Меч насилия и правосудия будет снова обнажен в угоду заблуждения и предрассудков». В спокойные годы Пушкин и Мицкевич мечтали о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» . Но что же делать с этими мечтами, когда есть сегодняшняя реальность, восстание, и нужно выбрать одно из двух? Лунин пробует найти третье, его не устраивает система большинства соотечественников и противников; сегодня — вот оно, польское восстание, и как поступить честному русскому? Даже если через тысячу лет «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», надо что-то сделать и сегодня. И если не будет прямого результата, так хоть одной чистой душой больше, — и то вклад в историю… IV 1.«Политика такая же специальность, как и медицина. Бесполезно вмешиваться в нее без призвания… После лекаря поневоле нет ничего смешнее, как политик поневоле. Между нами есть такие… Я до сих пор не понимаю, как мы могли и из чего искали обманывать себя на их счет. Это избиение младенцев». Письмо это пошло к сестре Катерине Сергеевне позже, когда каторгу заменили поселением и разрешили писать[135]. Лунин, как можно заметить, не чувствует особой любви к «младенцам» и, возможно, о том сожалеет. Но лишние эмоции обескровили бы его справедливость. В записную книжку несколько позже заносится: «Политические изгнанники образуют среду вне общества. Следовательно, они должны быть выше или ниже его. Чтобы быть выше, они должны делать общее дело, и полнейшее согласие должно господствовать между ними, по крайней мере, наружно. Это сильные и славные личности. Не следует смешивать с честолюбием, желаниями, восторгами, поэтическими движениями, порывами благородными, но мгновенными, возникающими на поверхности общества». 2. Есть странное, а в сущности, естественное сходство между человеком и его архивом. Встречаются архивы многословные, трусливые, даже нелепые; есть архивы аккуратные и обильные, ибо жизнь протекала спокойно — скрывать было нечего; архивы мудрые и рассеянные, потому что таким был и человек… За 15 лет каторги и поселения Лунин почти не беспокоил власть. В архивах Иркутска и Читы отложились сотни просьб, уведомлений, разрешений, запрещений и т. п. бумаг, связанных с именами Волконского, Трубецкого, Муравьевых, Одоевского и других декабристов: они или их близкие хлопочут о перемещении, лучшем устройстве жен и детей, о всяких льготах и послаблениях. Это была борьба за минимальные законные права каторжанина или поселенца; но Лунину, очевидно, претила даже такая форма переговоров с начальством. Документы, написанные его рукой или от его имени, почти не встречаются в официальных бумагах Сибирского управления. Он «не разговаривал» с властью, не желал, как на допросах в комитете, никакого общего языка. Зато и никаких послаблений, кроме тех, что объявлялись его «разряду» в целом, он не получал. Первому разряду после нескольких амнистий полагалось оставаться в Петровском заводе до 1839 года, однако Никите Муравьеву царь снизил срок до 1836-го. О переводе Волконского на Кавказ просил Бенкендорфа сам граф и светлейший князь Воронцов — Бенкендорф отказал; но когда мать Волконского, умирая, просила облегчить участь сына, царь разрешил и ему выйти на поселение в начале 1836-го. Тогда же завершался законный каторжный срок и у «второразрядника» Лунина. Сестра уже восьмой год писала ему каждую неделю, отправляла деньги и вещи, даже прислала карету и человека для услужения (Лунин не знал, что с ним делать, и его наняли Волконские). Катерина Сергеевна узнает (вероятно, от Марии Волконской), будто брат ее предпочел бы поселиться близ Иркутска, и тут же обращается с мольбой к Бенкендорфу, уведомив также брата. Ответ Лунина, писанный еще рукою Марии Волконской, случайно сохранился: последнее и весьма характерное послание из Петровского завода: «Дорогая и уважаемая сестра, я получил твое письмо №351[136]от 24 января 1836 года, 2178 рублей 66 копеек денег и сообщение о новых хлопотах по поводу моего поселения… Деньги для меня бесполезны, потому что мои потребности ограничены, место поселения для меня безразлично, потому что с божией помощью человеку одинаково хорошо везде. Будьте спокойны относительно меня и особенно не хлопочите больше». Приписка Волконской: «Ваш брат чувствует себя хорошо. Сергей видел его вчера; у него все упаковано: его книги и разные предметы, которыми он дорожит и которые получены от Вас. Он, как всегда, в приятном и почти веселом расположении духа, рад, когда приходят его навестить, но не переступает за порог своего номера иначе как для обязательной работы и прогулки во дворе». 3.«Одни женятся, другие пойдут в монахи, третьи сопьются». «Пойдут в монахи…» Не означает ли это покаяться? Лунин пророчествует выходящим на поселение. Сам же он, надо понимать, уже выбрал «четвертое поприще»? Еще немного — и «разрешится от бремени госпожа Петровская тюрьма, произведя на свет детей, имеющих вид довольно-таки жизнеспособный, хотя все они более или менее подвержены кто астме, кто рахиту, кто слабости, кто седине» (Ф. Вадковский). 4. 95 лет спустя один из лучших знатоков декабризма Марк Константинович Азадовский написал карандашом открытку, помеченную: «Петровский завод, 1 июля 1831 г.». Через неделю она была доставлена в Ленинград Сергею Яковлевичу Гессену, молодому, одаренному исследователю Пушкина и декабристов (нелепо погибшему в 35-летнем возрасте). Открытка сохранилась среди бумаг Гессена в Архиве литературы и искусства: «Думаю, что вам приятно получить весточку с пути, со станции, имеющей такое название. Очень жалею, что не могу сойти с поезда и пожить здесь хотя бы три денька — а ведь тут еще есть старики, помнящие Горбачевского[137]. Я, между прочим, первый раз проезжаю Петровский завод с тех пор, как стал присяжным декабристоведом-налетчиком — и, действительно, невольно какое-то волнение охватило. Мне казалось, что меня окружили тени декабристов и я вступил с ними в беседу. Я просил извинения у Михаила Бестужева, что его «Дневник» приписал было Николаю (Бестужеву),но Михаил уверил меня, что, напротив, эта ошибка ему даже очень приятна и лестна. «Вы знаете, как я преклоняюсь перед братом», — сказал он мне. Оба брата вообще показались мне весьма веселыми и приветливыми… Видел и Лунина, но старик казался чем-то очень озабочен и встревожен. Зато фертиком ходил Свистунов и свысока и иронически поглядывал на Лунина, которого он всегда недолюбливал. С Ивашевым я старался не встречаться. У меня было начала даже слагаться строфа из поэмы на эту тему («Ночь в Петровском заводе»), но звонок, свисток паровоза нарушил обаяние тихой лунной ночи в Петровском заводе — поезд тронулся — а я отправился спать…»[138] V Все гуще мрак, все пуще горе, Все неминуемей беда — Взгляни, чей флаг там гибнет в море, Проснись — теперь иль никогда… 1. Село Урик в 18 километрах от Иркутска — и я легко достигаю его на автобусе. Рядом с полуразвалившейся старинной церковью — белый могильный памятник: Никита Михайлович Муравьев Родился 19 июня 1797 года, скончался 28 апреля 1843 года — Кто это такой? — спрашиваю двух ребятишек лет десяти. — Космонавт Муравьев, — бойко отвечает первый. — Ты что? — возмущается второй. — Это был много лет назад такой командир революции.  Никита Муравьев Литография с оригинала П.Ф. Соколова,1822 г. 2.«Лес — не каземат, сюртук — не арестантский халат», И вот уж начальник каторги генерал Лопарский отрядил конвой для сопровождения, а начальник иркутского адмиралтейства приготовил два брига — «Ермак» и «Иркутск». Прощание с товарищами, которым сидеть еще три года, и партия из десяти уже бывших каторжан отправляется в Иркутск. Июньским днем 1828 года Лунина провезли через этот город на восток. Июньским днем 1836-го вместе с Громницким, Киреевым, Штейнгейлем, Свистуновым, двумя Крюковыми, Тютчевым, Фроловым, Якушкиным его привозят с востока. Часть поселенцев отправляется дальше — «к Европе», то есть во владения тобольского губернатора. Остальных размещают вокруг Иркутска. С 1836-го Урик сделался на несколько лет самым культурным селом Российской империи, потому что среди крестьян, «пользующихся правом на 15-десятинный надел» , — Волконские, Никита и Александр Муравьевы, член Южного общества доктор Вольф и Лунин[139]. 3.«Любезная сестра. Мое прозвище изменилось во время тюремного заключения и в ссылке, и при каждой перемене становилось длиннее. Теперь меня прозывают в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении. Целая фраза при моем имени. В Англии сказали бы: „Лунин — член оппозиции…“ В ту пору он начал заполнять толстую (154 листа) переплетенную тетрадь. На титульном листе поместились три записи. Первая констатирует: «Любя справедливость и ненавидя несправедливость, нахожусь в изгнании». Вторая, из апостола Павла, ободряет: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Третья запись пророчествует: «Сестре моей К. Уваровой. В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга». Как видно, он решился. Остальное же было делом времени. Впрочем, с виду все спокойно и благопристойно. 4. «Деревянный дом 6 на 3 сажени, амбар, погреб, конюшня, сенник, баня, английский садик с песчаными дорожками и беседкой, цветник, огород». (В описи имущества — 406 предметов.) «Любезная сестра… Приятно сообщить тебе эти подробности, потому что все это более твое, чем мое дело: ты доставила средства, я только действовал… Познакомься теперь с моими домочадцами, их немного: Василич, его жена и четверо детей. Бедному Василичу 70 лет, но он силен, весел, исполнен рвения и деятельности. Судьба его так же бурна, как и моя, только другим образом. Началось тем, что его отдали в приданое, потом заложили в ломбард и в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран в щелкушку, променен на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин, в минуту худого расположения, без суда и справок сослал его в Сибирь. Проделки Василича во время этих многочисленных изменений задернуты покровом, который поднимать было бы нескромно. Прочитав где-то, что причиной моего заточения было предположение преступлений, которые могли бы совершиться, и намерение публиковать сочинения, которые могли быть написаны, Василич разделяет скромность моих судей и с таким же старанием, как они, избегает важных допросов. Между собою мы совершенно ладим, несмотря на некоторое различие в наших привычках и наклонностях. В два года, как судьба соединила нас в сибирских пустынях, ничто не нарушало еще взаимного согласия. Жена его — существо безвредное, ограниченное стряпней, присмотром за детьми и укрощением их крика. Оканчивая картину, надо сказать и о старой белой лошади, которая своей мастью напоминает статного коня, убитого подо мною в Можайской битве, и о шести собаках с пышущими мордами, заменяющих мою варшавскую псарню. Теперешнее мое положение с таким слабым ограждением в краю, наводненном разбойниками, выражает положение Алкивиада в Вифинском изгнании. Предчувствую, что такой же род смерти прибавит еще одно сходство с этим необыкновенным человеком. Прощай…» 5.«Войти в дом убийцы не решились, но окружили его и подожгли. Заметив начавшийся пожар, Алкивиад собрал все, какие удалось, плащи и покрывала и набросил их сверху на огонь, потом, обмотав левую руку хламидой, а в правой сжимая обнаженный меч, благополучно проскочил сквозь пламя, прежде чем успели вспыхнуть брошенные им плащи, и, появившись перед варварами, рассеял их одним своим видом. Никто не посмел преградить ему путь или вступить с ним в рукопашную, — отбежав подальше, они метали копья и пускали стрелы. Наконец, Алкивиад пал, и варвары удалились» (Плутарх). Лунин — Алкивиад и поэтому приподнимается на котурнах, выражается пылко и велеречиво. «Тело мое испытывает в Сибири холод и лишения, но мой дух, свободный от жалких уз, странствует по равнинам Вифлеемским, бдит вместе с пастухами и вместе с волхвами вопрошает звезды. Всюду я нахожу истину и всюду счастье». Прочитав о смерти председателя Государственного совета Новосильцева, прежнего управителя Польши, он пишет сестре (и позже распространяет письмо): «Какая противуположность в наших судьбах! Для одного — эшафот и история, для другого — председательское кресло в Совете и адрес-календарь. Упоминая о нем в этом письме, я открываю для его имени единственную возможность перейти в потомство». 6. Приятели посмеивались — их можно понять. Сутгоф — Муханову: «Лунин живет для истории — пишет какой-то (так!) дребедень». Вадковский — Пущину: «Мне рассказывали, что ты с ним (Луниным) целовался, что он тебя очень полюбил, но эти изъявления еще не означают восхищения, ниже одобрения к его писаниям и мнениям. Вспомни, что из Петровского в замену его писем ты хотел послать письма Тютчева, и, зная отчасти твой образ мыслей, я не хотел думать, что ты тешишься подобными пустяками, и уверен был, что ты ласковым обхождением отвильнул от затруднения сказать горькую истину». Последние строки надо так понимать: Из Урика Лунин посылал какие-то письма «в своем духе» еще не отбывшему всей каторги Пущину. Пущин дал их читать Вадковскому — и оба высказали в адрес Лунина «горькие истины»; Тютчев из общества Соединенных славян был добрый товарищ, почти совершенно неграмотный. Вероятно, его плохо скроенное, но искреннее письмо Пущин и думал противопоставить лунинской «позе»… Они были бы правы, если б Лунин не решился; у смертников же свой язык. 7.«Корреспонденция наша с поселенными нашими соузниками была еще тягостнее. Кроме того, что наши письма совершали чудовищные путешествия в 14000 и более верст, чтобы пройти через III отделение, тогда как мы жили чуть не о бок друг друга, очень часто случалось, что после полугодового ожидания мы вместо ответа получали запрос на какую-либо, по их мнению, темную фразу или намек, а комендант — выговор. Кажется, все было придумано, чтобы отбить охоту к письму, и надо было родиться Луниным, который находил неизъяснимое наслаждение дразнить «белого медведя» (как говорил он), не обращая внимания на мольбы обожавшей его сестры (Уваровой)и на лапы дикого зверя…» Михаил Бестужев не видел Лунина после каторги и, верно, слыхал о «белом медведе» еще в Петровском заводе. Медведями биография Лунина переполнена: около 1812-го прогуливается с ручным медведем у Черной речки, а через 10 лет — по варшавскому парку (шутка о двуногих и четвероногих медведях). В 1814-м зовет братца Артамона пойти на медведя в «дикой Тамбовской губернии», а через 11 лет его будто бы отправляют на медвежью охоту к силезской границе — и он, вместо того чтобы бежать, возвращается и сам делается добычей «белого медведя», которого еще через 10 лет опять принимается дразнить. «Тростью он дразнил медведя, он был легок…» (Тынянов). В интимной тетради-дневнике записал сожаление о той дистанции между чувством и словом, которая никогда не позволит все выразить: «Через несколько лет те мысли, за которые меня приговорили к смерти, будут необходимым условием гражданской жизни. Одни сочинения сообщают мысли, другие заставляют мыслить. Мысли проявляются мне на французском и русском языках, религиозные иногда на латинском. Скорбное свидетельство падения, что даже внутренние мысли души требуют материальной формы»[140]. 8. Сибирь, 7 июня 1837 г. «Любезная сестра! На последней неделе получил я посылки… Ящик разбит, вещи попорчены, беспорядок совершенный. Счастье Департамента почт, что мне нельзя ни разыскивать, ни обнародовать мнений своих о его управлении. Кто берет деньги, должен исполнять обязательства. Неспособность и мистицизм не оправдывают. Стариковщина вообще ни к чему не годится. Поручи ей армию, она ее загрязнит, поручи дворец — сожжет, поручи посылку — изгадит… Дружеское письмо, вместо того чтобы выразить чувства, наполняется мелочными подробностями и тягостными обвинениями. Ты доводишь меня до красноречия столоначальника». План прост: поскольку на поселении разрешено писать своею рукой — значит, что бы ни было занесено на бумагу, отвечает только писавший (прежде, на каторге, была круговая порука: нарушение режима одним отразилось бы на всех, за «плохое» письмо ответила бы декабристка, которая написала его под диктовку). Письма отправляются не с какой-нибудь оказией, но законно, то есть по почте, через цензуру. По дороге к адресату письмо обязательно несколькими чиновниками читается, обсуждается, возможно, копируется. «Неспособность, стариковшина» — это прежде всего в адрес склонного к мистицизму министра почт Александра Голицына, одного из тех, кто сидел в следственном комитете. Почтари особенно обрадуются щелчку, полученному своим министром, ибо нет большей радости низшему, чем безнаказанно хихикать над вышестоящим… Скорее всего министру доложат — и придется жаловаться еще выше, но даже к Бенкендорфу неловко нести такие комплименты от вчерашнего каторжника; если же покарать оскорбителя — все скоро узнают за что, и будет слава, как у Воронцова, употребившего власть против опального Пушкина. Да и Уварова, сестра Лунина, принята в высших салонах: выйдет скандал… Таков был расчет Лунина на этот и другие случаи. Сохранился и другой, еще более смелый вариант того же письма, пущенный в оборот чуть позже. Там, кроме суждения о Голицыне, были такие строчки: «Слышу, что некоторые из наших политических ссыльных изъявили желание служить в Кавказской армии, в надежде помириться с правительством. По-моему, неблагоразумно идти на это, не подвергнув себя наперед легкому испытанию. Следовало бы велеть дать себе в первый день пятьдесят палок, во второй сто, а в третий двести, чтобы в сложности составило триста пятьдесят ударов. После такого испытания уже можно провозгласить: „dignus, dignus est intrare in isto docto соrроrе“[141]. Написав эти строки, Лунин и своих не пожалел. Артамон Муравьев, тяжело переносивший Сибирь, мечтал о Кавказе и, как только отбыл каторгу, сразу же послал пламенную просьбу «преступные помыслы искупить честною смертью». Бенкендорф наложил резолюцию: «Очень хорошо, но государь не согласился». Попало к Бенкендорфу и письмо Лунина. Пожаловался ли Голицын или донесли свои шпионы, но шеф жандармов прочел (он перед тем серьезно болел, думали — помрет. Николай приходил прощаться; выздоровев, немедленно принялся за дела, и тут ему подали письмо Лунина). Время было дремучее — самая сердцевина николаевского царствования. Пушкина уже нет, Лермонтов сослан, Герцен и Огарев тоже в ссылке, Белинский начинает«примиряться с действительностью», «люди сороковых годов» никак не выйдут из «тридцатых». «На всех языках все молчит, бо благоденствует…» (Шевченко). 16 декабря 1837 года шеф жандармов, «свидетельствуя совершенное почтение ее превосходительству Катерине Сергеевне, имеет честь сообщить при сем полученное из Сибири от брата ее письмо, из коего ее превосходительство изволит усмотреть, сколь мало он (Лунин) исправился в отношении образа мыслей и сколь мало посему заслуживает испрашиваемых для него милостей». Первое предостережение. 9.«У Мишеля… нет ни матери, ни детей, и он считает себя настолько одиноким, что его откровенность никому не нанесет ущерба». Так писал о кузене Никита Муравьев, имевший мать в Петербурге и дочь в Урике. О праве мятежника на семью уже в то время не могли договориться: Мария Волконская получала от матери письма без единого приветного слова мужу: «Немного добродетели нужно, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечайте мне, я Вам приказываю…» Лунин не без тщеславия записывает: «Мой дух, свободный от жалких уз…» Но если бы «жалкие узы» совсем не тревожили, все было бы много проще и скучнее… 10.«Голубь не более добродетелен, чем тигр. Он желал бы, но не в состоянии согрешить по-тигриному…» (индийская мудрость). 11.9 апреля 1837 года — в записную книжку: «Я слышал пение впервые после десятилетнего заключения. Музыка была мне знакома; но в ней была прелесть новизны благодаря контральтовому голосу, а может быть, благодаря той, которая пела. Ария Россини произвела впечатление, которого я не ожидал. Музыка опаснее слов неопределенностью своего выражения. Она приспособляется ко всему, не выражает ничего положительного и украшает все то, что выражает… Блаженный Августин находит, что приятные впечатления от музыки — тягостны: „Когда случается, — говорит он, — что я более тронут самим пением, чем словами, которые оно сопровождает, я признаю, что согрешил, и тогда я предпочел бы не слышать пения“. Если есть зло в пении, сопровождающем псалмы царя-пророка, то что же сказать о музыке, выражающей разнузданные людские страсти? Однако смятение, вызванное слышанным пением, все еще продолжалось. Несмотря на усилия мысли вознестись в свойственную ей эфирную высь, она блуждала по земле. Воображение воспроизводило всевозможные видения: старинный замок с зубчатыми башенками, молодую владелицу замка с лазоревым взглядом, ее белое покрывало, развевающееся в воздухе, как условный знак, голоса серенады и лязг оружия, нарушивший гармонию. Безумные, преступные мечты моей юности! Но с вечерней молитвой дьявольские наваждения рассеялись. Я возблагодарил господа за то, что он мне показал, как сам по себе я слаб и как я силен с помощью того, кто укрепляет меня…» Когда-то Лунин говорил Ипполиту Оже о музыке, что предпочитает богатство ее неопределенности слишком определенным словам. Должны были пройти 20 лет — и каких! — чтобы по-другому почувствовать и испугаться всевластия музыки. Может быть, поэтому он не подходил к фортепьяно в Сибири (во всяком случае, воспоминаний об этом не сохранилось)? Впрочем, Лунин не дает себе пощады и допускает, что дело, возможно, не в арии, а «в той, которая пела». «Блуждания по земле» уводят в Польшу, к Наталье Потоцкой, но «контральтовый голос» принадлежал Марии Николаевне Волконской. Через 9 дней, 18 апреля 1837 года, в дневнике новая запись: «Отврати взор мой от совершенства в творениях твоих, чтобы душе моей не было препятствия в стремлении к тебе. Есть прелести в творениях твоих, которых я, в своем падении, не могу без смятения видеть; дьявол всегда тут как тут, чтобы использовать это мгновение. Рыщет, точно лев рыкающий» (затем несколько вырванных листков). Письмо к сестре под заглавием «Прощание», посланное через 12 дней после записи о «льве рыкающем», целиком посвящено воспоминаниям о Потоцкой и прощанию с ней. Почему именно теперь, 12 лет спустя? Не потому ли, что впервые рядом с ее образом появился другой? Следующее письмо, от 27 июня 1837 года, — явное продолжение предыдущего и целиком посвящено Марии Волконской. Что же происходит? Смятение, вначале проявившееся в тайных дневниковых записях, Лунин открывает сестре; а через некоторое время, приступив к распространению сборника «Писем из Сибири», поведает среди политических и обличительных посланий о страстях и наваждении; хочет откровенностью очиститься от дьявола? Письма читались многими. Их прочли Волконские, и Мария Николаевна, конечно, поняла. № 46. Сибирь. 27 июня I837 года «Дорогая сестра! Я прогуливался по берегу Ангары с изгнанницей, чье имя уже внесено в отечественные летописи. Сын ее (красоты рафаэлевской) резвился пред нами и, срывая цветы, спешил отдавать их матери… Когда мы прошли часть леса, постепенно поднимаясь в гору, нам вдруг представилось обширное пространство, замыкаемое на запад цепью синеющих гор и перерезанное на все протяжение рекою, которая казалась серебряным змеем, лежавшим у наших ног. Его невидимые совершенства сделались видимыми через понимание, которое дают о нем Его творения. Но величественное зрелище было только обстановкой для той, с кем я прогуливался. Она осуществляла мысль апостола и своей личной грацией, и нравственной красотой своего характера. Устав от долгого пути между кустарниками, она прилегла на траву, чтобы собраться с силами. Разговор зашел о смерти, с которой свыклась мысль людей, проживших бурно. На пути домой мы заметили между деревьями бедную женщину с мешком в руках, искавшую корней мукыра. — На что этот корень? — спросил я. — Дети будут пить вместо чаю, — отвечала она. Ее избавили от труда. Встреча с сосланной в лесу доставила помощь ее семейству, как встреча ангела в пустыне доставила Агари воду для ее сына. Прощай, дорогая. Твой любящий брат М.». Лунин, в сущности, пишет письмо-стихотворение, которому приличествует высокий слог. 27 июня — «день счастливый»: он видит совершенство в грации и нравственной красоте спутницы, в природе и рассуждениях о смерти. Лунина нередко посещали особенные видения, когда вдруг казалось, что тысячелетия не прошли; да и неважно, что он находится в XIX веке и в Восточной Азии: он — Алкивиад, Сократ или апостол Павел, а рядом библейская Агарь и ангел, подающий ей воду… В письме упомянут мальчик «красоты рафаэлевской» — Миша Волконский (Михаил Сергеевич!), обучавшийся английскому языку у своего старшего тезки («Миша успевал неимоверно, — вспоминал его отец, — и наставник и ученик были друг другом довольны, а это редко случается…» ). Сохранились две трогательные записки Миши Волконского, написанные громадными буквами и, очевидно, пересланные из одного конца Урика в другой: «Лунин! Посылаю тебе булку, которая тебе напомнит город, где твой полк формировался. Кушай седлецкую булку. Что ты к нам не едешь?» На другой записке адрес: «Любезному другу Лунину»: «Любезный Лунин, благодарю за утки. Я буду у тебя в субботу, да ты к нам приезжай. Друг твой Миша»[142]. Кроме пения и красоты, «дух, свободный от уз», был подвержен и другим слабостям. 12.«С детьми был очень ласков, ребятишки по целым дням играли у него во дворе, и, несмотря на его занятия и постоянное чтение богословских книг, он находил удовольствие возиться с детьми, учил их грамоте…» (из воспоминаний Л. Ф. Львова). Может быть, вот он, выход: поклоняться красоте, возиться с ребятишками, «счастье повседневности»? Свобода от уз не обедняет ли дух и не ведет ли его ложными путями? Всему этому посвящено письмо к сестре от 25 ноября 1837 года, тоже включенное в сборник «Писем из Сибири». 13.№ 65. Сибирь. 25 ноября 1837 года. «После двух недель, проведенных на охоте, я отправился к NN. Было поздно. Она обычно убаюкивает свою малютку Нелли, держа ее на руках и напевая своим молодым голосом старый романс с ритурнелем. Я услышал последние строфы из гостиной и был опечален тем, что опоздал. Материнское чувство угадывает. Она взяла свечу и знаком показала, чтобы я последовал за нею в детскую. Нелли лежала в детской кроватке, закрытой белыми муслиновыми занавесками. Шейка ее была вытянута, головка слегка запрокинута. Если бы не опущенные веки и не грациозное спокойствие, которое сон придает детям, можно было подумать, что она собирается вспорхнуть, как голубка из гнезда. Мать, счастливая отдыхом дочери, казалась у постели одним из тех духовных существ, что бодрствуют над судьбою детей. «Она почти всегда так спит. Не бойтесь разбудить ее. Я точно знаю момент ее пробуждения по небольшому предшествующему ему движению». Вездесущий искуситель говорил мне: «Познать и любить — в этом весь человек; тебе неведомы чувства супруга и отца; где твое счастье?» Но слово апостола рассеяло это наваждение: «А я хочу, чтоб вы были без забот; неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу» (Первое послание к Коринфянам, VII, 32). Истинное счастье — в познании и любви к истине. Все остальное — лишь относительное счастье, которое не может насытить сердце, так как не находится в согласии с нашими бесконечными желаниями. Прощай, дорогая. Твой любящий брат М.» Только бесконечное познание бесконечной истины никогда не насытит бесконечных наших желаний (у Пушкина — «Бескрылое желанье в нас, чадах праха… »). Искуситель побежден («Я не жалею ни об одной из своих потерь!» ). О победе над собою должно рассказать всем — и в сборник политических писем вводится религиозно-нравственная исповедь. Насмешки над властью, «стариковщиной», «350 палками» — и тут же «старый романс с ритурнелем», «познание и любовь»… Запад и Россия успели к тому времени оценить особенный жанр писем или записок, где легко чередовались любовь и политика, действие и созерцание, самоуглубление и описание, «взгляд и нечто» (Стерн, Карамзин). Но тут особенный случай: за взглядом следит некто, «сам-третей»меж братом и сестрой; а нечто — отдает железами и эшафотом, и первая угроза уже прозвучала… 14.«Любезная сестра… Мои часы проходят в тишине кабинета или в гармонии сибирских лесов. Удивительная постепенность счастья. Чем ближе я к цели своего плавания, тем попутнее становятся ветры. Нечего тревожиться, если облака снова собираются на горизонте. Эта буря пройдет, как и все другие, и только ускорит мой вход в гавань». Он все внушает сестре свою систему счастья, не зависящую от внешних обстоятельств, а сестра никак не научится — она испугана угрозами Бенкендорфа («облака на горизонте») и рада бы получать менее опасные письма, но не смеет поучать старшего брата. В тишине кабинета Лунин уже почти определил наиболее целесообразную форму самоубийства: продолжать дразнить «белого медведя» письмами к сестре. Передача тайных писем через почту — с этимони не встречались (если бы то же самое перехватили «в оказии», тогда другое дело!). Пока будут думать, как пресечь, письма могут распространиться, особенно если их распространять… 15. Тем временем из столицы в Сибирь «для обревизования государственных имуществ и политических ссыльных» собирается юный отпрыск хорошей фамилии — Леонид Федорович Львов. «Обозреть столь отдаленный, малоизвестный край! Тогда и в Петербурге чуть ли не полагали, что соболя бегают чуть ли не по улицам Иркутска и что вместо булыжника золотые самородки валяются по полям». Опечаленную матушку Львова (Лунин некогда был влюблен в нее!) утешает Бенкендорф, «который в молодости и сам доезжал до Тобольска». Львов подробно и несколько развязно вспоминает, как его собирали в дорогу и как «ежедневно доставляла посылки» Екатерина Федоровна Муравьева, мать Никиты и тетушка Лунина; между прочим, был вручен и ящик с полусотней яблок, замерзших еще до прибытия на первую станцию. Львов ехал до Иркутска семь недель — золотой придворный мундир вызывал у местных властей желание «всячески содействовать», при переезде через Енисей от перевозчиков требовали, чтобы они громко называли число бутылок, опорожненных и выброшенных начальством. «Вся дорога превратилась в ряд кутежей». Наконец молодой ревизор прибывает к восточносибирскому генерал-губернатору Вильгельму Яковлевичу Руперту: «Человек очень добрый, не отличавшийся особенным умом, но весьма любимый в крае, характера слабого, очень простого в обращении, в высшей степени благородного… Жена его, Любовь Александровна[143], женщина бойкая, красивая, руководила всем и всем ворочала». К обеду явился и чиновник особых поручений Петр Николаевич Успенский, которому предстояло сопровождать гостя… «Но каково было мое удивление, когда (после обеда мы сидели в гостиной и курили сигары) я услыхал звуки инструментов и квинтет Моцарта с кларнетом (A-mol)… Меня до того растрогали эти дивные мелодии, так меня перенесло к своим домашним, что, к стыду моему, я не удержался от слез! Первую скрипку играл отбывший каторгу Алексеев, некогда дирижер музыки у графа Аракчеева, присужденный и сосланный за убийство Настасьи[144]; на кларнете играл сосланный поляк Крошецкий». Пианист, вероятно, не худшего класса меж тем находился в Урике, за 18 верст. Послеобеденная же идиллия в губернаторском доме заслуживает небольшого комментария. Губернаторша — любовница чиновника Успенского. Губернатор побаивается обоих. Руперт, генерал из жандармов (Николай I крестил его сына), — человек плохой, то есть предпочитавший жестокое, жандармское решение почти всегда, когда в его власти бывает иная возможность. Лунин дразнит медведя и ждет удара, не зная только, когда и от кого… И те, кто его ударят, еще и сами не подозревают о своем предназначении. Мы теперь знаем: всем участникам обеда предстоят роли: Успенскому и Рупертам — действовать, Львову — увидеть, запомнить, рассказать… Но впереди еще целых два года. 16. Вскоре Львов отвозит посылки и приветы в Урик, там не замечает в декабристах ожидаемой «поэзии и рыцарства», находит Никиту Муравьева «суровым, молчаливым, до крайности раздражительным… скорее полусумасшедшим, что, впрочем, товарищи его не признавали». Как видно, ссыльные перед гостем не очень-то раскрывались, но Лунин — может быть, вспоминая матушку Львова или просто из благодушия — был приветливее других и снисходительно слушал рассказы и даже поучения юного ревизора. Последний вспоминает: «Лунин резко отличался от всех едким умом и веселым характером, никогда не унывал, жил как бы шутя… Меня всегда крайне удивляло смешение в его характере весьма часто мелочного, вовсе неуместного, с высоким чувством благородства и разумности; точно в нем были два совершенно различных характера. Я был с ним в самых близких отношениях. Случалось в откровенных разговорах делать ему замечания на его выходки; он их выслушивал, но вместе с тем тут же подсмеивался… Рыцарем Дон-Кихотом я застал его…» В третий раз — Дон-Кихот. Четверть века назад Ипполит Оже, смеясь, предсказывал: «Я уже теперь вижу, как будет сиять на вашей голове бритвенный таз…» С годами как будто усиливается сродство поступков двух рыцарей; к тому же у Лунина — высокая, худая фигура испанского гидальго, эспаньолка и грустные усы… 17.«Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля». Это сказал серьезный человек, Николай I, и, кроме печальных рыцарей, никто не возразит… Дон-Кихот же посылает письмо за письмом к «ее превосходительству генеральше Уваровой». Рассуждает о чем хочет: одобряет или порицает законы и царедворцев, военные кампании и мирные преобразования. Государственный преступник, находящийся на поселении, пробует заменить целой стране парламент, конституцию, оппозицию и свободную прессу, так что работы ему хватает. Новое министерство государственных имуществ после высочайшего одобрения в Петербурге признано и в Урике. Но к одобрению прилагается доклад, достойный Государственного совета, — с перечислением недостатков нового учреждения, критикой бюджета и штатов. Письмо заканчивается величественно и небрежно: «Так как я был особенно близок с теперешним министром[145], то я прошу прислать мне перечень его действий, а также Журнал министерства, когда он станет выходить, для того чтобы я мог следить за общим ходом дел. Идея кадастра[146] меня сильно занимает». Его, видите ли, занимает идея кадастра! По российским понятиям того времени, даже на свободе так может писать человек, который немного не в себе, Дон-Кихот… Да кому интересно, занимает или не занимает Лунина «идея кадастра»? Кто разрешит хотя бы самой благонамеренной газете объявить (как в «Письмах из Сибири»), что распространение России к югу, на Кавказ, сулит куда больше государственных выгод, нежели другие направления; или что в Своде законов нет, в сущности, статьи, узаконивающей крепостное рабство? Тон лунинских писем совсем не бунтарский: наоборот, корректный, иногда одобряющий действия власти. Но это одобрение, может быть, еще злее, чем критика, — одобрение равного, имеющего право, если захочет, и отвергнуть и, кстати, тут же этим правом пользующегося (уже «в первом чтении» отверг принцип николаевского правительства «самодержавие, православие, народность»). Письмо за письмом — сквозь цензуру и Бенкендорфа: пожалуйста, запрещайте! И почти в каждом послании — спокойные, четкие формулы, обосновывающие его право так писать: «Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Мое единственное оружие — мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие. В последнем случае не из чего пугаться. Оппозиция свойственна всякому политическому устройству…» И прежде не раз истину царям с улыбкой говорили. Но маркиз Поза был все-таки маркиз и придворный. Случалось, заключенные и ссыльные беспокоили монархов неприличными посланиями. Но это был обычно порыв, «звездный час»… Будни страшнее. Якубович просил его одного за всех декабристов расстрелять у памятника Петру, но ему придумали более тяжелое наказание: месяцы казематов и годы ссылки. Лунин же был свободен не в звездные часы, а всегда, не в одном самоубийственном послании, а во многих постоянных действиях. И как же иначе? Рассуждая, критикуя, покалывая тростью медведя, хочет пробуждения спящих и дремлющих, ободрения задумавшихся. «Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить». Он не выписывает длинных рецептов: просто доказывает, что даже этой власти необходимо развивать «жизненные начала и либеральные учреждения». Старые, прочные идеи, сформулированные еще Союзом благоденствия: просвещение, изобилие, правосудие… «Народы, которые нам предшествовали на поприще гражданственности, начали также с самодержавия и кончили тем, что заменили его конституционным правлением, более свойственным развитию их сил и успехам просвещения. Так как усилия Министерства (народного просвещения) стремятся к тому, чтобы сравнять нас с этими народами и даже превзойти их, то весьма может статься, что те же преобразования по тем же причинам сделаются необходимостью для русских…» Здесь на миг остановимся. Прежде чем идти дальше по течению лунинской жизни, обратим внимание на мощь и живучесть мысли, важной для всей истории русского освободительного движения. «Свобода — неминуемое следствие просвещения». Два потока с разных сторон растапливают потихоньку самодержавно-деспотическую льдину: просвещение (то есть экономика, культура) и освободительное движение. Малограмотный купец, открывающий фабрику или торговое дело, и утонченный Чаадаев; популяризатор Адама Смита и Лермонтов; просвещенный попечитель, губернатор и Лунин: все они, случается, одно дело делают (сознавая это или чаще не сознавая) — оттесняют в прошлое старый феодальный мир, расчищая путь прогрессу, то есть буржуазным отношениям, капитализму… При этом очень часто толковые купцы или просвещенные администраторы искренне проклинали смутьяна из журналов или неугомонившегося каторжника; те не оставались в долгу перед «чумазыми» или «превосходительными» и не замечали, что одну и ту же «льдину» с разных сторон подтапливают, вытаскивая на свет божий «жизненные начала и свободные учреждения». Оба эти потока почти не сливались, чужие. Слишком подозрительно глядел профессионал-революционер на «просветителя», а просветитель — на бунтаря… В лунинские времена обе линии только наметились и только что замечены: автор «Писем из Сибири» еще не боится одобрять некоторые меры, осуществляемые даже теми, кто его посадил, и одновременно толкуя о необходимой замене самовластья. Он как-то видит еще общность, связанность: пусть Киселев получше устроит министерство, ведающее громадной отраслью — государственными имуществами… И пусть распространяются «Письма из Сибири», с которыми будут бороться Киселев и его коллеги. 18.«На замечание Никиты Михайловича Муравьева, что он своею откровенностью лишает его сестру радости получать от него вести, он отвечал, что нам слово дано для проповедания истины и что он обязан пользоваться предоставленным ему способом высказывать свои убеждения. Он был того мнения, что настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили» (Свистунов). В конце одного из писем брат обратился не только к сестре, но и к посредникам: «Уничтожай все мои письма, не показывай их никому, даже своим детям. Они составлены слишком небрежно и для тебя одной. Я не обращаю внимания на любопытных, которые читают их с дурными намерениями». Бенкендорф не выдержал — «обратил внимание» и 5 августа 1838 года приказал Лунину «не вести ни с кем в течение одного года никакой переписки под опасением строжайшего со стороны начальства взыскания». Второй гром. VI 1. Бенкендорф передал приказ для исполнения в Иркутск. Руперт послал за Луниным, Лунина привезли. Рассказ Львова: «Генерал, будучи занят со мною, отвечал: „Прошу обождать, я занят“. Не прошло и десяти минут, как адъютант доложил, что Лунин ожидать не хочет и поручил передать генералу, что он во власти и праве за ним прислать и требовать его к допросу двадцать пять раз на день, но ожидать в приемной он не желает. «Вот это всегда так! — сказал, обращаясь ко мне, Руперт. — А ведь умный, очень умный человек! Просите..».» Генеральское «всегда так!» намекает на какие-то эпизоды, нам неизвестные. Лунин входит. « — С сожалением, Михаил Сергеевич, мне приходится вам сообщить, что ваши письма опять навлекли негодование государя. Вот отношение шефа корпуса жандармов, которым запрещается вам писать письма в течение года. — Хорошо-с!.. Писать не буду! — Так потрудитесь прочитать и подписать эту подписку, — и подал ему заготовленный лист бумаги, на котором было прописано все отношение гр. Бенкендорфа и обычное изложение подписки. Лунин посмотрел на бумагу и со свойственной ему улыбкою сказал: «Что-то много написано… А!.. Я читать не буду… Мне запрещают писать?. Не буду!» Перечеркнул весь лист пером и на обороте внизу написал: «Государственный преступник Лунин дает слово целый год не писать». — «Вам этого достаточно, ваше высокопревосходительство? А… читать такие грамоты, право, лишнее… Ведь чушь!.. Я больше не нужен?» Поклонился и вышел». 2. Запретили — и стало тихо. Снова домашние заботы, сад, огород, 76-летнему Василичу помогают 37-летняя жена Василиса, 14-летняя дочь и два сына — десяти и семи лет. Иногда дела столько, что нанимают еще старика Осипа Малых с сыном Иваном и племянником, тоже Иваном (последний недавно отсидел трое суток на хлебе и воде «за битие своего дяди Осипа Малых» !). «Лунин был особенно уважаем крестьянами, они имели к нему полное доверие, обращались за советами в случае ссор, и он их разбирал… Вообще в деревне делал много добра и посещал больных» (Львов). «Лунин лих, забавен и весел, но больше ничего. Он смелостью своею и медным лбом приобрел какое-то владычество нравственное над жителями Урики…»[147] И в других письмах сердитого Федора Вадковского встречается «медный лоб», то есть грубость, упрямство… Ружье для охоты Бенкендорф приобрести не разрешил, но Лунин не посчитался с запретом и добыл оружие[148]. Жизнь тихая. Но никто не отменял старинного, петровских времен, закона — «о донесении про тех, кто запершись пишет, кроме учителей церковных, и о наказании тем, кто знали, кто запершись пишет, и о том не донесли». 3. «Предметы для обсуждения: а) в пользу ссыльных поляков, b) в защиту писем, с) освобождение крестьян, d) гласность, е) ход управления после 1826 года, f) Экклезиаст политический, g) Сибирские письма; устройство тайного общества, h) греческая история: Фемистокл и другие изгнанники» (из записной книжки Лунина, 1839 г.). Скорее всего именно в год молчания, между сентябрем 1838 и сентябрем 1839 года, он начал или задумал это. В приведенном плане из записной книжки мелькают темы будущих писем и работ. «В пользу ссыльных поляков» — это статья «Взгляд на польские дела»; о ходе управления после 1826 года — статья «Общественное движение в России»; о греческой истории (так же, как об английской, и, разумеется, в связи с историей русской) — статьи «Розыск исторический», «исторические этюды» и, наконец, об устройстве тайного общества — две работы, роковые для Лунина: «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» и «Разбор донесения, представленного российскому императору тайной комиссией в 1826 году». Вместе с «Письмами из Сибири» мы знаем теперь шесть крупных политических работ Лунина, из которых «Письма» — не самые опасные. В Сибири, впрочем, и сегодня помнят легенду, будто сундук или ларец с некоторыми сочинениями Лунин зарыл где-то близ Иркутска и больше никто их не видел… Село Урик — столица российского свободомыслия. В 18 верстах от Иркутска 52-летний ссыльный по-старому, по-гусарски, кавалергардски, готов выйти еще на одну дуэль: «Ваше величество, от такой чести трудно отказаться…» «Martyr», — иронически напишет о нем Пущин Якушкину. Мученик. 4. 30 лет спустя Достоевский в «Бесах» вспомнил о Лунине в связи со «своим» революционером Николаем Всеволодовичем Ставрогиным: «Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Л[уни]на, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил ее в потребность своей природы; в молодости выходил на дуэль ни за что; в Сибири — с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени, чувство страха, иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, — вот что их увлекало. Этот Л[уни]н еще прежде ссылки… боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб, единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л[уни]ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, — правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л[уни]н, но зато уже безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л[уни]на, даже против Лермонтова». Достоевский не включил в перечень «опасностей» борьбу с властью, но это, конечно, подразумевалось. Автору «Бесов» не нравятся всякие революционеры, но декабристу сделано снисхождение. Действия Ставрогина немало определяются необходимостью, внешней целью, и только ради этой необходимости, если надо, выйдет на дуэль и на медведя. «Все смогу, если надо». Сначала дело — потом человек. Лунин, наоборот, бескорыстно наслаждается опасностью — ему это надо прежде всего для самого себя, из внутренней потребности победить самого себя. «Все смогу, если захочу». «Сознание, что нет над тобой победителя», легко ведет его из личного к общему: «В Париже — к девкам, в Тамбове — на медведя…» Охота, дуэль, тайное общество, «Письма из Сибири…»… Сначала Человек — потом Дело. 5. 15 сентября 1839 года вето с лунинской переписки снимается, и брат, кажется, может уже откликнуться на 52 безответных послания, отправленных сестрою за минувший год. Первое же письмо, по понятиям III отделения, исполнено неблагодарности: «Пусть мне укажут закон, запрещающий излагать политические идеи в родственном письме…» «Я разобрал распоряжения Министерства народного просвещения в конце прошлого года; в начале настоящего закрыт университет Владимирский и спустя несколько месяцев Дерптский навлек на себя меры запретительные. Я сказал несколько слов о Министерстве государственных имуществ, которое уже…» и проч. Конец же письма особенно вежливый: «Я желал бы выразить глубокое сокрушение о том, что откровенность, имевшая в виду твою пользу, подвергла меня неодобрению властей, к которым питаю глубокое уважение». В тот же самый день, 15 сентября 1839 года, Лунин отправляет письмо и к Бенкендорфу с просьбой… ввести предварительную цензуру местного начальства на его письма: «Кажется, я не уклоняюсь от справедливости и рассудка, испрашивая для родственной переписки не более того, что законы предоставляют письменам, предназначенным к печати». Многие обижали власть требованием отменить «читателей-посредников», но никто как будто не дерзил, требуя официальной цензуры для частных писем. 6. В день возобновления переписки было отправлено и третье письмо. Ссылка, 15 сентября 1839 года «Дражайшая. Ты получишь две приложенные при сем тетради. Первая содержит письма первой серии, которые были задержаны, и несколько писем второй, которых, очевидно, ждет та же участь. Ты позаботишься пустить эти письма в обращение и размножить их в копиях. Их цель нарушить всеобщую апатию. Вторая тетрадь содержит «Краткий обзор Тайного общества». Эта рукопись, составленная мною с целью представить вопрос в его настоящем свете, должна быть напечатана за границей. Мне бы хотелось, чтобы она вышла одновременно на французском и на английском языках, без малейших изменений. Ты можешь отослать ее Николаю Тургеневу через его брата Александра или поручить ее какому-нибудь верному человеку из иностранцев, прикомандированных к английскому, французскому или американскому посольствам. В обоих случаях прими необходимые предосторожности: не посвящай родных и друзей в тайну; сговаривайся только устно, с глазу на глаз, с людьми, внушающими доверие. Если случайно что-нибудь обнаружится, ограничься утверждением, что ты ничего не знаешь. Я надеюсь, что ты исполнишь мое желание, не поддаваясь влиянию детского страха, которому у нас подвержены мужчины более, чем женщины, и который делает тех и других подобными стаду баранов. Тягости моего положения увеличиваются с возрастом и болезнями. Стесненный исключительной обстановкой, которая, в сущности, является колониальной тюрьмой, я не имею возможности трудом зарабатывать свой хлеб и обеспечить независимое существование. Мне отвели поле. Но чтобы с пользою заняться сельским хозяйством, нужно продавать продукты на рынке и разъезжать по округу для закупки необходимых предметов. Это строго запрещено. Перечень запрещенного, основанный на тайных распоряжениях, так велик, что рискуешь несознательно нарушить его на каждом шагу. Например, мне запрещены сношения с подозрительными лицами. Каким образом я могу знать, кто подозрителен, а кто нет? Все выглядят подозрительными в этом краю, начиная с властей и кончая мною. Если это письмо придет вовремя, не посылай мне ничего из того, о чем просила для меня в своих письмах прекрасная М… , за исключением «Journale de Debats». Она далеко не постигает моего тяжелого положения и не знает, что нужно для выхода из него. Так как, вероятно, это последний секретный и верный случай, который представляется, я воспользуюсь им, чтобы поговорить с тобою на важную тему о религии… Оставшись один на свете, я претерпел всякого рода неудачи, и я счастлив. То, что бог посылает мне в ссылке, превосходит все, о чем я просил и мечтал в течение моего десятилетнего заключения в тюрьме. Судите о дереве по его плодам. Я не имею в виду влиять на твои религиозные убеждения, я ограничиваюсь действительностью. Бог в своей бесконечной милости сделает все остальное… Прощай, моя дражайшая, мысленно обнимаю тебя от всего сердца и остаюсь на всю жизнь твоим братом и истинным другом. Михаил». С кем было отправлено из Сибири это письмо, неизвестно, но рукою Уваровой на нем сделана пометка: «19 февраля. Москва. День моего приезда. Отвечено ночью с 19 числа на 20-е». 5 месяцев прошло, прежде чем «путешественник» доставил послание по адресу… Как меняется тон, когда жандарм не смотрит: стремительность, категоричность, даже грубость («детский страх», «стадо баранов» ). Достается и «прекрасной М…» (вероятно, это выражение сестры, которую Лунин передразнивает): он как будто по-иному стал смотреть на Марию Волконскую — «она далеко не постигает…», что, впрочем, не мешает в это же время размножить и распространить два старых письма, ей посвященных. Цель — «нарушить всеобщую апатию». Средства — заграничные типографии; конспирация, политика, католичество, — как всегда, вместе. Его аксиома — что вера помогает сохранить себя и убеждения (в «Письмах из Сибири», кстати, о католичестве ни слова: ведь они рассчитаны на разных русских читателей). Подлинники этого и еще трех писем, маленькие листочки, заполненные несравненным лунинским почерком, хранятся сейчас в Историческом музее в Москве (до этого — в Музее Революции). В конце 1925 года, как раз в столетний юбилей декабристского восстания, листки поступили в музей от потомков Катерины Сергеевны Уваровой вместе с «Письмами из Сибири» и другими рукописями Лунина. К сожалению, С. Я Штрайх, публиковавший эти документы в 1926 году, судя по его предисловию, не знал подробностей приобретения архива и, кажется, не встречался тогда с внучатыми и правнучатыми племянниками декабриста. А жаль! Они, возможно, сообщили бы ему важные семейные предания об истории этих бумаг, о том, где и как хранила их Уварова… Ведь это была самая секретная часть ее архива: три других письма — тоже совершенно откровенные, незамаскированные, конечно, прибывшие с оказией[149]. В том архиве, кроме лунинских бумаг, были, очевидно, и документы, имеющие более косвенное отношение к декабристу (например, бумаги самой Уваровой). Это видно хотя бы из того, что часть уваровского архива (больше всего — тетради и документы младшего племянника Лунина, Сергея Федоровича Уварова) примерно тогда же, в 1920-х годах, поступили в Рукописный отдел Ленинской библиотеки. На обороте одного из известных портретов Лунина, там же хранящегося, имеется надпись: «По сохранившимся в нашей семье преданиям, эта миниатюра была нарисована лично самим Луниным в зеркало, уже в то время, когда он был в ссылке. Прислан он был им приблизительно в 20-х годах прошлого столетия сестре Екатерине Сергеевне Уваровой, моей родной прабабушке. Приблизительно с 27-28 года портрет этот был нарисован и находился все время у нас в семье, но во время кражи с него пропала рамка, портрет уже был найден мною и вставлен в рамочку. Т. Уварова, 1924 г., 23/II»[150]. В инвентарной книге Музея Революции, где под № 1733 (ноябрь 1925 года) перечислены поступившие лунинские рукописи, сказано только, что доставил их А. Н. Тихомиров (даже не Уваровы?). Никаких подробностей, никакого адреса… 7. Ссылка, 13/1 декабря 1839 года. «Дражайшая. Человек, берущий на себя доставку этой посылки, постоянно давал мне доказательства своего расположения и оказал мне услуги, которые доказывают истинную дружбу. Он достал мне библию, которую ты доверила начальнику почты, пьянице и вору. Он также пришел мне на помощь, продав часть моих годовых запасов, когда я сидел совершенно без денег. Постарайся выразить ему мою искреннюю благодарность за его услуги. Он передаст тебе на словах все, что меня касается. Следуй его советам во всем, что касается моих мелких дел. Настало время так или иначе обеспечить мою судьбу. В случае твоей смерти, которая должна быть близка, я предвижу очень большие затруднения, если только правительство не возьмется обеспечить мою судьбу, законопатив меня или совершенно уничтожив. Тебе передадут при сем «Разбор» — французский текст и русский перевод. Я только что составил эту рукопись, чтобы опровергнуть памфлет, опубликованный и распространенный правительством в 1826 году. Прошу тебя переправить ее за границу способами, указанными в моем предыдущем письме, чтобы напечатать ее в Париже на французском и на русском языках. В Париже печатают на русском языке. Пусти также в обращение несколько рукописных экземпляров между своими знакомыми и друзьями в России. Вернейшим способом достигнуть нашей цели было бы, чтобы ты сама поехала весной за границу под предлогом лечения на водах. Сообщение стало таким легким, что дешевле путешествовать, чем сидеть на месте, как ты это делаешь без всякой пользы для себя и детей. Не забудь при первом секретном случае послать мне: а) все напечатанное правительством о нашем деле; b) все газеты и все материалы, напечатанные за границей, появившиеся в течение этого времени и относящиеся к тому же вопросу; с) поименный список членов Верховного суда, их мнения и т. д.; d) протоколы заседаний, акты и другие официальные бумаги, касающиеся процесса, которые можно будет извлечь из архивов, затратив на это некоторые средства; е) устные рассказы, которые ты сумеешь собрать, заставив болтать присутствовавших на этом суде старых тупиц; f) официальные и другие подробности казни, погребения трупов, публичных молебствий и последовавших за этим торжеств. Эти документы мне нужны для работы о Верховном суде, которая составит одно целое с «Разбором» и «Кратким обзором». Я надеюсь, что ты свято выполнишь волю сосланного брата, дающего тебе доказательство уважения и дружбы, привлекая тебя к своим работам предпочтительно перед другими лицами. Тот краткий срок, который нам осталось прожить на этом свете, не будет потерян, если мы его употребим на служение делу правды. Не позволяй морочить себя болтовней тем, которые проповедуют осторожность, чтобы замаскировать свой кретинизм. Верх осторожности для мужчины, при данных обстоятельствах, сделаться жандармом и полицейским шпионом, но это не помешает дьяволу завладеть им в конце его жизни. Что он выиграет? До свидания, моя дражайшая, мысленно обнимаю тебя от всего сердца и остаюсь навсегда твой любящий брат Михаил. ..«Le Journal de Debats», провизия на 40-й год, обещанная собака и проч. и проч. не прибывают и рискуют никогда не прибыть. Ты неудачно выбираешь себе советников и помощников. Не будем так экспансивны в своих письмах: похвала, доведенная до известного предела, приближается к сатире. «Прекрасная М…» — только добрая и красивая женщина, которую извело за 13 лет ссылки дурацкое общество. Заставь ее трусливое семейство уплатить те 1000 рублей, которые я ей одолжил в Петровске, и поскорее пришли мне эту сумму. Распространяй письма и «Обзор» среди твоих знакомых, начиная с министров. Мои письма читают на почте и снимают с них копии. Ты не отвечаешь за нескромность бюрократов. Что касается «Разбора», ты можешь в случае обыска заявить, что эта составленная мною работа была тебе передана комендантом Выборгской тюрьмы, покойным генералом Бергом. Его не привлекут к ответственности на том свете. Наконец, ты — моя сестра и, следовательно, так же, как и я, не подвержена чувству страха. Раздобудь сведения о семье Потоцких из Варшавы: Александр Потоцкий, обер-шталмейстер и т. д. и т. д., сын знаменитого патриота Станислава П. Его первая жена, ныне г-жа Вонсович, его вторая жена Изабелла Потоцкая, его дочь Наталья Потоцкая. Я желаю особенно знать, что случилось с этой последней. Сколько раз я о ней справлялся, но ты рассказываешь только о мещанах вашего квартала, которые никому не интересны. Поблагодари добрую М. В.[151]за то, что она выполнила твое желание относительно 18 декабря, дня моего рождения. Мои именины будут 29 сентября, в день явления архангела Михаила, но не говори об этом в твоих письмах, так как это привлечет гостей, которым я ничего не могу предложить, кроме плохого чая, и это создаст неблагоприятный контраст с тем приемом, какой я встречаю у других. Прошу тебя включить оба письма, при сем приложенные, во вторую серию в порядке №№. Размножь и распространяй их без боязни. Я рассчитываю на тебя и мысленно обнимаю тебя от всего сердца, как и всех твоих. Список того, что нужно выслать почтой или оказией в разные сроки. Податель этого письма заслуживает полного твоего доверия. Доверь ему все и верь тому, что он устно передаст от моего имени: 1. Немного наличных денег, сократив запасы годовой провизии. 2. Тысяча рублей которые семейство Р[аевских] должно было вернуть; выслать эту сумму немедленно. 3. Очки-консервы, стекла немного слабее, чем те, которые тебе передадут. 4. Шесть медных подсвечников для моей часовни. 5. Требник, которыйяпросил. 6. «DirectoriumhorarumCanonicarumetMissarum»[152]. Этот список печатается ежегодно. Необходимо переслать его к началу нового года. 7. «Messale Romanum»[153]для моей часовни. 8. Отчет штата Луизиана и Уложение о наказаниях этого штата, составленное Эд. Ливингстоном. 9. Уложение о наказаниях, французское и английское (Кодекс Наполеона и т.д.). 10. Черный или синий костюм, так как мой совершенно протерся. 11. «Le Journal de Debats». Он находится в каталоге иностранных журналов, значит, он не запрещен, как ты заявляешь в письмах к… , и не нужно спрашивать разрешения. Предпринимая подобные шаги, ты ставишь власть в необходимость отказать. Ты не спрашивала разрешения на красные приложения[154]. Пришли также номера журнала. Меньше слов, больше дела. 12. Французское или английское двуствольное пистонное ружье недорогое, от 100 до 150 рублей в английском магазине. Это для подарка человеку, оказавшему мне услуги. 13. Приостановить хлопоты в пользу Громницкого. 14. Бережней отнестись к упаковке вещей: то, что я получаю, почти всегда повреждено. 15. Если советчики и боязнь мешают выслать мне «Journal de Debats», пусть вышлют мне сумму, необходимую для этой цели; я найду способ получить его здесь, не компрометируя никого. 16. Маленький бочонок охотничьего мелкого пороха, окованный латунными листами и герметически закрывающийся, вышлите с верной оказией; крупная и мелкая дробь: Idem[155]. 17. Если «Journal de Debats» не найдется, что вероятно, несмотря на мои настояния, пусть мне вышлют по крайней мере «La Gazette de Berlin». 18. Словарь теологии, составленный аббатом Бержье, 1823 г. 19. Словарь итальянский и французский и итальянскую грамматику». Пожалуй, из писем Лунина — это «самое лунинское». Подобно тому как требник и «Directorium horarum» соседствуют с уложениями о наказаниях и двуствольными ружьями, так нежные «carissima» и «ma carissima» чередуются с холодными, точными, иногда гневно-нетерпеливыми оценками; достается и сестре, и «кретинам-советникам», и Марии Волконской. Он требует денег и без всяких сантиментов пишет сестре о ее смерти, «которая должна быть близка». «Познать и любить» — это он отверг. «Познание и любовь к истине», «служение делу правды» — этому приносит в жертву себя и готов подвергнуть опасности сестру. Больше того — оказывает ей честь, «привлекая к своим работам, предпочтительно перед другими лицами». Тут он как будто идет против собственных принципов — все брать на себя и не навязывать насильно своих убеждений другому… Но он так убежден в истине и так нуждается в сообщниках! «Ты — моя сестра и, следовательно, как и я, не подвержена чувству страха»; к тому же он учит ее конспирации, к тому же сестра религиозна, значит, знает цену страданиям ради добра… Отправлять рукописи к сестре было ошибкой. Но чтобы ее избежать, нужно было жить не под Иркутском. Об этом после… Пока же Лунин полон надежд. Может быть, и о Потоцких справляется не только из сентиментальных воспоминаний, но чтобы воспользоваться их богатейшими заграничными связями? (А Натальи Потоцкой уж десять лет как нет на свете.) «В 1839 году Федот Шаблин (т.е. Василич) видел у Лунина иркутского купца Николая Кузнецова, наряженного в женское платье…» Шутник был Лунин, но, как говорилось в древней былине, — «шуточки он все шутил опасные…». Кузнецов и другие купцы исполняли какие-то особенные поручения Лунина, но отмолчались — и мы не знаем… Другой союзник упоминается в письме как бы между прочим:«Приостановить хлопоты в пользу Громницкого». Петр Громницкий, из Соединенных славян, живший в Бельском, неподалеку, фактически становится секретарем Лунина: переписывает его труды, размножает списки. Мы не знаем, о чем хлопотала Уварова, но Лунин немало помогал бедному человеку, совершенно не имевшему поддержки из дому. Кстати, самому Лунину грозит такая же участь, если сестры вдруг не станет. Он беспокоится, потому что начал дело, а дело требует расходов. Внезапная бедность все разрушит, сведет остаток дней к борьбе за хлеб. Все для дела: лучше растратить себя, ожесточиться, но в борьбе за истину, чем сохранять безопасную доброту и благодушие… Впрочем, Достоевский верно подметил. Лунин всегда действовал свободно, «от себя» и только теперь, кажется, попадет под власть Дела… 8. Урикский парламент, прения, оппозиция отныне пополняются урикским судом над судьями. Уже заказаны все газеты, манифесты; все члены суда взяты на заметку, их мнение будет занесено в книгу — нужны и протоколы, и «болтовня старых тупиц», и, для сравнения, Уложение о наказаниях штата Луизиана. «Отшельник на тебя донос ужасный пишет…» Первые две части — о тайном обществе и Донесении следственной комиссии — готовы. После заговора и следствия третьим актом был суд: о нем будет «третий том». «Что скажет о вас история?» — спросил один невинно осужденный губернатора Дмитрия Бибикова. «Будьте уверены, — последовал ответ, — она ничего не будет знать о моих поступках». Многие исторические книги брызжут оптимизмом, сообщая, как тот или иной бибиков хотел правду скрыть, да не сумел. А ведь случается по-бибиковски. «Правда всесильна, и она победит. Должен сказать, что это не соответствует действительности». Марк Твен, произнесший эти слова, не затруднился бы в примерах. О сотнях восстаний, движений осталось разве только несколько свидетельств, исходящих из лагеря победителей. Кто слышал голос повстанцев Спартака? Память о них сохранили лишь несколько страниц Аппиана и Плутарха. Случайно уцелевшие прокламации Пугачева или Болотникова — среди тысяч официальных документов и книг. Понаслышке или только по названию известны более 200 сочинений и писем Пушкина, исчезнувших в основном из-за возможных неприятностей для автора (а сколько было нам абсолютно неизвестных?). Вот Лунин и заторопился, пока не поздно, писать историю декабристов. Волконская вспоминала, как сначала ожидали, что изгнание кончится через 5 лет, затем — через 10, 15, «но после 25 лет я перестала ждать». Они вполне допускали, что умрут, не оставив следа, кроме следственных протоколов, в которых о главном — мало или ничего нет, но много стыдного, принижающего; да и протоколы, «допросные пункты» не вечны: их вдруг может, по выражению Пушкина, «посетить наводнение» (или пожар). Между тем в стране «ложные сведения об осужденных… распространили в сословиях малообразованных, которые верят всему, что приказано». Для чего же тогда протестовали, шли в Сибирь? По Лунину — «восстание 14 декабря, как факт, имеет мало последствий, но как принцип имеет огромное значение». «Наша жизнь кончилась», — сказал кто-то после приговора. «Здесь, в Сибири, наша жизнь начинается», — отвечал Лунин. Для работы, которую он задумал, имеется всего три источника: собственные воспоминания, беседы с товарищами, наконец, официальные документы (среди них главный — «Донесение следственной комиссии»). Не густо, потому что под руками нет важнейших бумаг. Но достаточно, чтобы не одно «Донесение» говорило и, не встречая возражений, «тут же и побеждало…». Среди своих нашлись два помощника: кроме Петра Громницкого, дрогнуло сердце у одного из самых близких и самых многознающих. Никита Муравьев не склонен, вслед за кузеном, дразнить медведя: он устал, болен, единственная дочь обязывает… Но Лунин спрашивает — как же не ответить? Никита советует, критикует, наконец, пишет к лунинской работе примечания, и два брата, как встарь, когда были юными гвардейцами, сидят над книгами, толкуя о былых и грядущих переворотах, о том, что будет с ними и чем должно жертвовать ради истины. Однако за окном Ангара — не Фонтанка, мундиров нет и не будет; волосы седые. Младший уже прожил 43 года, и только четыре осталось прожить; старшему — 52 от рождения и шесть до смерти. Как рассказать об их сочинениях? Все факты, которые они вспомнили, сейчас хорошо известны и изучены… Для 1840 года, конечно, это был вызов, подвиг, открытие — прямо и четко объявить, чего хотели: не «цареубийства и безначалия», а Россию без рабства, самовластья, солдатчины, военных поселений — с конституцией, законностью, гласностью, «свободой просвещенной». Сегодня это почтенное, но старое оружие… «Письма из Сибири» зависят от времени куда меньше: в них больше личного, неповторяющегося и оттого всегда интересного. Но и «Взгляд на тайное общество» и «Разбор донесения» — сочинения необыкновенные. Прежде всего — стиль, тон. Спокойный, без громких обличений: одобрительно отмечены все случаи, когда «Донесение» и другие официальные документы говорят правду, и спокойно, фактами опровергнута ложь. Ошибки восставших не скрыты: «Взрощенные в дремотной гражданственности, основанной на бездействии ума, им (заговорщикам)трудно было удерживаться на высоте своего призвания»; люди знатные и просвещенные обязаны своей борьбою «платить за выгоды, которые доставляют им совокупные усилия низших сословий» (кажется, впервые сформулирована столь популярная позже среди народников идея неоплатного долга интеллигенции народу…). Крепость, суд, казнь впервые описаны очевидцем. «Приговор выполнили украдкою, на гласисе крепости, где был призрак суда, и под прикрытием внезапно собранных войск. Неумение или смятение палачей продлило мучение осужденных: трое выпало из слабо затянутой петли, были разбиты, окровавлены, вновь повешены. Они умерли спокойно, в твердой уверенности, что смерть их была необходима, как свидетельство истины их слов. Родным запретили взять тела повешенных: ночью кинули их в яму, засыпали негашеной известью и на другой день всенародно благодарили бога за то, что пролили кровь. После этого государственного подвига его главные деятели, столь повредившие правительству, успели стать во главе правления». Конец же написан странным, по-нашему, слогом, похожим на псалом или проповедь Аввакума с поправкой на терминологию XIX века и французский язык[156]. «Власть, на все дерзавшая, всего страшится. Общее движение ее — не что иное, как постепенное отступление, под прикрытием корпуса жандармов, пред духом Тайного общества, который охватывает ее со всех сторон. От людей можно отделаться, но от их идей нельзя. Желания нового поколения стремятся к сибирским пустыням, где славные изгнанники светят во мраке, которым стараются их затмить. Жизнь в изгнании есть непрерывное свидетельство истины их начал. Сила их речи заставляет и теперь не дозволять ее проявления даже в родственной переписке. У них все отнято: общественное положение, имущество, здоровье, отечество, свобода… Но никто не мог отнять народного к ним сочувствия. Оно обнаруживается в общем и глубоком уважении, которое окружает их скорбные семейства; в религиозной почтительности к женам, разделяющим ссылку с мужьями; в заботливости, с какой собирается все, что писано ссыльными в духе общественного возражения. Можно на время вовлечь в заблуждение русский ум, по русского народного чувства никто не обманет». Так писал Михаил Лунин, пятнадцать лет лишенный общественного положения, имущества, здоровья, отечества и свободы. Вот какие сочинения прибывали с оказией из Иркутска в столицы зимой 1839/40 года. 9. «Боже, дай мне силы перенести то, что я не в силах изменить. Боже, дай мне силы изменить то, что я не в силах перенести. Боже, дай мне мудрости, чтобы не спутать первое со вторым» (испанская мудрость). 10. Я отправился на берег Ангары в Белый дом, то есть в научную библиотеку Иркутского университета. Длинным, сумрачным коридором прошел в комнаты «редкого фонда», где целый стеллаж до потолка принадлежит Лунину. После его смерти часть книг перешла в Иркутскую духовную семинарию, а после революции — в университет. В 1927 году иркутские историки В.С. Манассеин и Н.С. Романов привели книги в порядок и выделили их в особое собрание. В полной описи значилось 397 книг — богословских, юридических, справочных, исторических, философских, — но сохранилась лишь меньшая часть. Голландский юрист и мыслитель Гуго Гроций — «De veritate religionis Christianae» («Об истине христианской религии»). Издание 1726 года. На титуле — знакомый стройный почерк: «Из книг Михаила Сергеевича Лунина. Петровск, 1832». Рядом каторжное — «выдал Лепарский». Аббат Флери печатал тома своей церковной истории в той стране, где Лунин был дважды — сначала офицером, затем частным лицом. Но неисповедимыми судьбами книги аббата найдут Лунина-читателя через четверть века и за семь тысяч верст. Наудачу открываю один из томов: «Из книг Михаила Сергеевича Лунина. Урик, 1837 год». И, наконец, в серых переплетных облачениях монументальные Acta Sanctorum («Жития святых»): документы, издававшиеся монахами-болландистами начиная с середины XVII столетия. Если в столицах это издание уже имелось, то почиталось величайшим раритетом и ценностью, но сомнительно, чтобы во всей Азии был хоть один такой комплект. 50 томов в уваровских ящиках протряслись по дорогам Западной и Восточной Европы, перевалили Урал, форсировали сотни великих и невеликих рек, чтобы попасть, наконец, в домик «шесть на три сажени» в селе Уриковском, близ города Иркутска, и укрепить его владельца в понятиях истины и справедливости. «У нас от мысли до мысли 5000 верст», — мрачно заметил князь Вяземский. На верстовом столбе Сибирского тракта число 5000-не доезжая Иркутска. 11. 1 января 1840 (20 декабря 1839 г.) «Любезная сестра! Новый год начался для меня самым приятным образом — прибытием Летуса. Это прекрасное животное, как живое письмо, сообщает мне, что чувства твои в течение 14 лет не изменились, что ты любишь изгнанника, как любила гусара, и, отделенная от него 7000 верст, угадываешь, что может сделать его счастливым. Между тем, Летус — славный жандарм: он сделал на тебя несколько доносов и сплетней; например, что тебя тревожат мои письма и что ты недовольна, когда мне случается говорить о политике. Но в наше время «здравствуй» почти нельзя сказать без того, чтобы эти слова не заключали в себе политического смысла. Впрочем, кажется, ты приписываешь слишком много важного мыслям изгнанника, изложенным не для печати… Истина всегда драгоценна, откуда бы она ни явилась. Если ожидать ее из правительствующего сената, то много утечет воды, пока это случится. Как бы ни было, но я очень доволен сотовариществом нового изгнанника, который всякую минуту напоминает мне лучшую и любимейшую из сестер». Письмо весьма прозрачное, но образованных людей ведомству Бенкендорфа не хватает; поэтому самыми опасными местами послания могли счесть шутку о «славном жандарме» с его «доносами и сплетнями», а также о правительствующем сенате. Судя по тому, что письмо прошло, кажется, без всяких затруднений, можно заключить, что в полиции не заметили уваровской оказии: а ведь кто-то в конце 1840 года приезжал в Урик и привез, кроме пса Летуса, посылку и письмо, призывавшее Лунина уняться, не писать о политике и т. п. Но проходит еще десять дней, и прибывает ответ Бенкендорфа на ироническую просьбу декабриста ввести предварительную цензуру на его письма. Шеф «пренебрег», но подтвердил запрет на «суждения непозволительные о предметах посторонних» . Лунин тут же отвечает и одновременно извещает сестру: 10 января 1840 г. «Не зная, какие мысли и какие выражения могут им нравиться, предпочитаю лучше вовсе не писать к тебе, чем стараться скрывать свои мысли и взвешивать слова, которые обращаю к сестре. Я ограничусь сообщением тебе изредка отрывков из моих учебных занятий, по которым можешь узнать, что брат твой существует во глубине изгнания и всегда питает к тебе неизменную дружбу». Величественно, по-министерски он запрещает переписку самому себе… 12. При первой оказии, случившейся 18 дней спустя, объясняется с сестрою откровенно: Ссылка. 28/16 января 1840 «Дражайшая. Ты должна была получить: 1) Обзор, 2) Письма из Сибири, 3) Разбор. Прошу уведомить меня о получении этих трех рукописей, включив их названия в одну или несколько последовательных фраз в твоих официальных письмах. Я надеюсь, что мое желание об издании этих рукописей будет свято выполнено. Жду новых преследований из-за «Писем из Сибири», которые были непосредственно обращены к властям. Но это меня нисколько не беспокоит. В моем последнем официальном письме я заявляю, что условное разрешение вести переписку меня не устраивает и что ввиду этого я предпочитаю вовсе не писать. Надо предупредить формальное запрещение, которое непременно последует. Ты не много от этого потеряешь. Несвободные письма — не письма. Лучше не писать, чем искажать свою мысль и искажать каждое слово, адресованное к сестре. Товарищи по ссылке будут тебе регулярно сообщать обо мне. Я воспользуюсь секретными случаями, в которых нет недостатка, чтобы написать тебе… Лицо, которое передаст тебе это письмо, принадлежит к крупным коммерсантам и пользуется всеобщим доверием. Ты можешь совершенно спокойно доверить ему всякую сумму, какую пожелаешь. Я очень обязан этой семье за те доказательства дружбы, которые она постоянно проявляла ко мне. Я получил черное сукно и 800 рублей, которые так были нужны мне. Мы постараемся протянуть с этой суммой до конца 40-го года… Я просил в своих прошлых письмах пару гончих собак и пистонное ружье. Податель, который располагает громадными возможностями, возьмется, может быть, их доставить. О всех подробностях, касающихся собак и оружия, надо посоветоваться со знающим дело охотником. «Journale de Debats» за нынешний год не получается. Судя по нерешительности, которую ты проявила в деле с журналом, можно подумать, что ты находишься под влиянием тех кретинов, которые боятся или надеются на что-нибудь от правительства. Пойми хорошенько, если бы правительство и хотело что-нибудь для меня сделать, оно не имело бы возможности. Я нахожусь вследствие своего политического положения в безопасности и вне его милости. Я больше не говорю о твоих делах, потому что я о них слишком много и тщетно говорил. Ты поступила как раз наоборот…» Все те же мотивы, но видна усталость. Не первый год он пытается пробить «всеобщую апатию» — и сказал почти все, что хотел. Но письма идут месяцами, и месяцами идут ответы. Нужные книги, газеты, документы не доставляются, результатов труда за тысячами верст почти не видно, сестра опасается, большинство товарищей равнодушно, денег не хватает («это не только ссылка: это — ссылка и заключение. Если бы не это, мне было бы не так трудно заработать на жизнь, так как в этой местности есть несколько возможностей честного заработка. Но исключительный колониальный режим и усиленный надзор, которым я окружен, связывает меня по рукам» ). Охота, ружье, Летус позволяют и разогнать кровь, и забыться, и пополнить запасы провианта, но уж он сам видит, что устал, — в одном из последних легальных писем признается сестре, и все-таки не прежде цитированное, а именно это послание «самое лунинское»: «Ave Maria! Моя добрая и дорогая! Скоро исполнится четвертый год моего изгнания. Начинаю чувствовать влияние сибирских пустынь: отсутствие образованности и враждебное действие климата. Тип изящного мало-помалу изглаживается из моей памяти. Напрасно ищу его в книгах, в произведениях Искусств, в видимом, окружающем меня мире. Красота для меня — баснословное предание, символ граций — иероглиф необъяснимый. В глубине казематов мой сон был исполнен смятений поэтических; теперь он спокоен, но нет видений и впечатлений. Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательств, не начертывается уже пером моим. Иногда я жажду аккорда, оттенка, черты, слова; иногда хотел бы уничтожить эти формы, стесняющие сношения между умами и свидетельствующие наше падение. К полноте бытия моего недостает ощущений опасности. Я так часто встречал смерть на охоте, в поединке, в сражениях, в борьбах политических, что опасность стала привычкой, необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасности. В челноке переплываю Ангару; но волны ее спокойны. В лесах встречаю разбойников; они просят подаяния. Тишина, происходящая от таких обстоятельств, может быть, прилична толпе, которая влечется постороннею силою и любит останавливаться, чтобы отдыхать на пути. Я желаю, напротив того, окончить странствование, перейти за пределы, отделяющие нас от существ прославленных, вкушать спокойствие, которым они наслаждаются в полном познании Истины. Мое земное послание исполнилось. Проходя сквозь толпу, я сказал, что нужно было знать моим соотечественникам. Оставляю письмена моим законным наследникам мысли, как Пророк оставил свой плащ ученику, заменившему его на берегах Иордана. Прощай. Твой любящий брат». В это же время он вспомнил о прощальных стихах Сергея Муравьева-Апостола, которые услыхал в Петропавловской крепости 14 лет назад: Задумчив, одинокий, Я по земле пройду, не знаемый никем . . . . . . . . . . . . . «Мне суждено было не видеть на земле этого знаменитого сотрудника, приговоренного умереть на эшафоте за его политические мнения. Это странное и последнее сообщение между нашими умами служит признаком, что он вспомнил обо мне, и предвещанием о скором соединении нашем в мире, где познание истины не требует более ни пожертвований, ни усилий». Это завещание: сделал все, что мог, кто может — пусть сделает больше… 13. Через 20 лет Сергей Трубецкой вспомнит: «Однажды я был у него (Лунина) на святках, и он спросил меня, что, по мнению моему, последует ему за его письмо к сестре. Я ответил, что уже четыре месяца прошло, как он возобновил переписку, и если до сих пор не было никаких последствий, то, вероятно, никаких не будет и вперед. Это его рассердило; он стал доказывать, что этого быть не может и что непременно запрут в тюрьму, что он должен в тюрьме окончить жизнь свою. Самые близкие друзья его сознавали, что в поступках его много участвует тщеславие, но им одним нельзя объяснить важнейших его действий, тут побудительная причина скрывалась в каком-нибудь сильном чувстве. Тщеславие не может заставить человека желать окончить век свой в тюрьме; тогда как религиозные понятия могут возбудить желание мученичества. И я полагаю, что в Лунине было что-нибудь подобное…» Историки цитируют мнение Сергея Трубецкого как «крайне одностороннее, хотя какая-то незначительная доля истины в нем имеется» (М.К. Азадовский). Трубецкой действительно далек от политики и не находит слов о желании Лунина пробить «всеобщую апатию». Но ведь религия и мученичество у Лунина обычно неразделимы с политической борьбой. Многие ссыльные в Сибири углубились в религию: Оболенский, Свистунов, братья Беляевы и другие ищут в вере оправдание своей жизни, удаляющейся от «политической суеты»; Беляевы, к примеру, видели в каторге «божескую кару», считали грехом уклоняться от работ, помогали бедным в ущерб себе. Лунин же в своем католичестве находит аргументы для проповеди и мученичества. «Compeile Intrare» — «понудьте их войти» — этой цитате (из евангельской притчи о званых и незваных) католики придавали особый смысл: не ждать «обращения», а воздействовать на «званых», побуждать их к истинной вере; для Лунина — разбивать «всеобщую апатию». Трубецкой и другие ссыльные в общем так же, как он, смотрят на российские дела: рабство и самовластье им не по душе. Однако Лунин теперь «действует наступательно», они же только обороняются. Общие «побудительные причины» к действию усиливаются или ослабляются свойствами отдельной личности, и насколько проще рассказать, как совершилось, нежели объяснить почему… 14. «Я готов, мой друг, я готов! Мой друг, я готов! Они слишком любят читать мои шедевры, чтобы допустить, будто не станут читать большое сочинение, которое я недавно отослал. Итак, я начинаю приводить мои дела в порядок». «В ожидании ареста он все, что имел, разделил между товарищами, и мне досталась большая кофейная его чашка; а все атрибуты молельни он пожертвовал в иркутскую католическую церковь» (Львов). Человек пятнадцать — двадцать были уже знакомы с работами Лунина. Кроме Волконских, Муравьевых, Громницкого, Трубецкого и других декабристов «Письма из Сибири» и две статьи о тайном обществе прочли и переписали несколько иркутских и кяхтинских интеллигентов. Кто-то видел рукописи и в столицах; наконец, Лунин ожидал, что его сочинения будут напечатаны за границей. Обгоняя время, Лунин в одной из работ даже сослался на свой «Разбор», изданный «в Париже, 1840 г.». Конспиративные меры были приняты: если станут допрашивать, то о «Письмах из Сибири» нужно говорить, что они «законные», шли почтой; сочинения же о тайном обществе Лунин рекомендовал связывать с лицами умершими… Но как ни готовились, умножение списков умножало и опасность. Вероятность перехвата и доноса возрастала. 15.Никита Муравьев — матери (через оказию): «Вы обвиняете Мишеля, но он исполняет свой долг, доводя до сведения власть имущих слова истины, чтобы они не могли сказать, что они не знали правды и действовали в неведении. Мало любить хорошее, иногда надо это и выразить. У него нет ни матери, ни детей, и он считает себя настолько одиноким, что его откровенность никому не нанесет ущерба. Что же касается права писать, то он не очень-то держится за него. Моя кузина (Уварова)всегда будет о нем знать через других и будет лишена только возможности видеть его почерк. Что же касается того, что с ним могут что-либо сделать, то он этого ожидает и пишет, зная, чем он отвечает». Генерал-лейтенант Руперт уже несколько месяцев как отбыл в Петербург. Восточной Сибирью официально управляет генерал Копылов, а фактически — госпожа Руперт с возлюбленным Успенским. Возлюбленный Успенский нравится не одной только губернаторше; Вильгельм Кюхельбекер, попавший в Иркутск из дремучего Баргузина, записал про Успенского в дневнике: «Я в его обществе провел несколько приятных небаргузинских часов». Учитель Журавлев в дружбе с влиятельным чиновником — слишком тонок грамотный слой в городе, и, конечно, «все всех» знают. Вера в образованность порою достигала в России необыкновенного. В XVIII столетии можно было в уездном городке совершить кражу или нанести побои, но, доказав, что грамотен, уйти без всякого наказания. В первой половине XIX века слишком много людей полагало аксиомой «чем грамотнее — тем нравственнее». В существование человека, способного без единой ошибки написать донос по-русски и по-французски, учитель Журавлев не верил. Однажды он показывает г-ну Успенскому любопытную рукопись «Взгляд на тайное общество», кажется, говорит на ухо, кто написал, и одалживает почитать. Случай для карьеры редкий. Руперт себе не припишет всей заслуги — супруга не дозволит. Обо всех обстоятельствах никто не догадается, потому что мало ли кто донес: несколько списков ходит… Обычной почте и канцелярии такое дело не доверяется: в столицу по зимней дороге понесся доверенный курьер (или сам Успенский?). Около 20 февраля Руперт уж ворчит, что без него распустили губернию, и несет донос вместе с копией «Взгляда на тайное общество» графу Александру Христофоровичу. Бенкендорф читает и несет Николаю. Прочел ли царь все — неизвестно, но, взглянув только на первые строки, увидел: «Тайное общество принадлежит истории. Правительство сказало правду, — „что дело его было делом всей России, что оно располагало судьбою народов и правительств“. Общество озаряет наши летописи, подобно уложению Великой хартии в летописях Британского королевства…» Николай I такого чтения не любил: «Его величество высочайше повелеть соизволил: сделать внезапный и самый строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него с величайшим рачением все без исключения принадлежащие ему письма и разного рода бумаги, запечатать оны и доставить ко мне; его же, Лунина, отправить немедленно из настоящего его поселения в Нерчинск, подвергнув его там строгому заключению, так чтоб он не мог ни с кем иметь сношений ни личных, ни письменных, впредь до повеления…» Царский пакет вручен курьеру, а в том пакете, кроме приказа об аресте и обыске, еще конверт «Господину начальнику Нерчинских горных заводов» с особыми, тайными распоряжениями (которых даже Иркутску знать не полагается). Второго курьера тут же снаряжает Руперт, вручив инструкцию, как брать Лунина. Исполнить велено лично Успенскому под надзором Копылова. Два курьера поскакали без права замечать морозы и бураны, не жалея ямщиков, смотрителей и прогонных, и, не останавливаясь, провели в дороге ровно 28 дней. VII «На страстной неделе, в ночь от великой среды на великий четверг он был схвачен» (Сергей Волконский — Пущину). 26 марта 1841 года, вторая половина дня. В Иркутск влетают два петербургских курьера. Генерал Копылов и Успенский читают приказы. 11 ночи. На квартире Копылова тайно сходятся Успенский, пять жандармов, жандармский капитан, иркутский полицмейстер. Вскоре все, кроме генерала, отправляются на трех тройках. Успенский возглавляет, но до выезда из города никому ничего не открывает. 27 марта. Второй час ночи. По весенней ночной дороге примчались в Урик, окружают лунинский дом, стучатся в ворота, не дождавшись, лезут через забор и ломают замок. Василич открывает дверь, Лунин спит. Около двух часов ночи. «Полицмейстер стал его будить и торопить одеваться, так как они приехали его арестовать. Лунин очень хладнокровно отвечал: „Вы меня извините, господа, я так изнурился на охоте, что дайте мне выспаться, а там везите куда хотите“. На возражение полицмейстера, что нельзя терять времени, надо ехать, Лунин закричал Василичу[157]: «Так хоть чаем угости незваных гостей! Вы извините, у меня, кроме кирпичного чая, другого нет. Да похвастай, Василич, козою, что я сегодня убил». Чиновник (Успенский) заметил, что на стене висят ружья, и посоветовал полицмейстеру их убрать. Тот передал Лунину требование чиновника, на что арестованный отвечал: «Да, конечно, конечно, надо убрать, ружье — вещь страшная… ведь эти господа привыкли к палкам»» (Л. Ф. Львов, по рассказу одного из участников операции, видимо, жандармского капитана). С двух до пяти утра. Обыск. Опись. Между прочим, находят «Взгляд на тайное общество» по-французски и «Разбор Донесения» на английском. Успенский запечатывает дом. Пять утра. Арестованного ведут со двора. Неожиданно появляется Сергей Волконский. Успевает спросить, не нужны ли деньги. У Лунина всего 20 рублей ассигнациями. Слух о происшествии разбудил деревню. «Толпа была на дворе, все прощались, плакали, бежали за телегою, в которой сидел Лунин, и кричали ему вслед: „Да помилует тебя бог, Михаил Сергеевич! Бог даст — вернешься. Мы будем оберегать твой дом, за тебя молиться будем“. А один крестьянин-старик даже ему в телегу бросил каравай с кашею» (Львов). Не успел проститься с братьями Никитой и Александром. Зазвенели колокольчики — Урик быстро и навсегда пропал в темноте… 27 марта, восьмой час утра. Лунина доставляют на квартиру Копылова и запирают в комнате возле прихожей. Жандармы у дверей. Известие о его аресте распространяется по Иркутску и окрестностям, взбудоражив ссыльных. Брат Артамон Муравьев бросается в город, будит Львова. Львов спешит к Копылову, и генерал, который готовит «вопросные пункты», не может отказать столичному ревизору. Около восьми.Львов заходит в комнату Лунина. Лунин рад: «Генерал желал меня видеть, вот и я, но его превосходительство заставляет ждать! Прикажите, чтобы мне дали табака…» Все не желает Лунин дожидаться генералов. И Копылов, как прежде Руперт, мог бы воскликнуть: «Вот это всегда так! А ведь умный, очень умный человек!» После восьми. Копылов спрашивает по-русски, Лунин, заметив слабину генерала, конечно, начинает отвечать по-французски. Сообщает, что уж давно «набросал несколько мыслей относительно тайного общества с целью представить дело в благоприятном свете и, по моему убеждению, в соответствии с истиной». Разумеется, объявляет, что «Взгляд» составлял для генерала Лепарского (умершего четыре года назад). Но нужно объяснить, откуда взялась копия. Копию будто бы снимал Илья Иванов, член общества Соединенных славян (умер три года назад!). «Никто не помогал мне в этом труде, который, впрочем, и не требовал сотрудников…» 27 марта. Около пяти часов вечера.Лунину велят собираться, не объявляя, что с ним сделают. Сам он полагает, что должны «отправить на пулю», то есть казнить (как некогда за бунт — Ивана Сухинова). «Почт-содержателем тогда в Иркутске был клейменый, отбывший уже каторгу старик 75 лет Анкудиныч, всеми очень любимый… Тройки были уже готовы — а его нет, как сверху послышался его голос: „Обожди, обожди!“ И, сбегая с лестницы, он сунул ямщику в руки что-то, говоря: „Ты смотри, как только Михаил Сергеевич сядет в телегу, ты ему всунь в руки… Ему это пригодится!.. Ну… С богом!“ У меня слезы навернулись. Конечно, этот варнак (преступник), посылая Лунину пачку ассигнаций, не рассчитывал на возврат, да едва ли мог ожидать когда-либо с ним встретиться». Львов (вспоминающий об этом эпизоде) попросил жандармского майора Полторанова, который отправлялся с Луниным, остановиться в 30 верстах от города, а сам поспешил домой. 27 марта. Вечер. Один из самых сильных и трогательных эпизодов в сибирской истории декабристов, сохраненный рассказом Львова: «Артамона Муравьева, Панова, Якубовича и Марию Николаевну Волконскую в доме у себя я нашел в лихорадке; а Мария Николаевна спешила зашивать ассигнации в подкладку пальто, с намерением пальто надеть на Лунина при нашем с ним свидании в лесу. Надо было торопиться!. Мы поскакали. Верстах в тридцати мы остановились в лесу, в 40 шагах от почтовой дороги на лужайке. Было еще холодно и очень сыро, снег еще лежал по полям; и так как в недалеке нашего лагеря находилась изба Панова, он принес самовар и коврик, мы засели согреваться чаем и ожидать наших проезжающих. Несмотря на старания Якубовича нас потешать рассказами и анекдотами и Панова, согревавшего уже третий самовар, мы были в очень грустном настроении. Послышались колокольчики… все встрепенулись, и я выбежал на дорогу. Лунин, как ни скрывал своего смущения, при виде нас чрезмерно был тронут свиданием; но по обыкновению смеялся, шутил и своим хриплым голосом обратился ко мне со словами: "Я говорил вам, что готов… Они меня повесят, расстреляют, четвертуют… Пилюля была хороша! Странно, в России все непременно при чем-либо или ком-либо состоят. Ха, ха, ха! Львов при Киселеве, Россет[158] при Михаиле Павловиче… Я всегда при жандарме. И на этот раз вот (показывая на Гаврилу Петровича Полторанова) — мой ангел Гавриил"[159]. Напоили мы его чаем, надели на него приготовленное пальто, распростились… и распростились навсегда!» VIII 1. Сохранилась отрывочная черновая запись рассказа Михаила Бестужева, сделанная много лет спустя историком Михаилом Семевским: «Лунин был умен необыкновенно, сестра его умоляла всем чем… „ Я получила письмо… Владелец семидесяти миллионов… Письма твои ходят по Петербургу, бесится каждый раз“. Выстроил он себе в Иркутске Петровский замок, острог, частокол… Собаки тысячные, ружья великолепные, ни к кому не идет… Звонок к нему. Ефим или Трофим, ссыльнокаторжный, верен ему, как собака, душу положит за Мих. Серг. „Хорошо-с, я доложу“. — „Скажи, что некогда, что я сплю“… „Приказал сказать, что сплю“. Так часто о Трофиме в письмах к нему. Начинать рассказ его биографии, как он был крепостным, на охоте на собак променяли, как попал… что женат на хорошенькой женщине, барин отбил, в солдаты отдал; что он претерпел в солдатстве, как он голодал, сделал преступление, схватили его и т. п., заключают в [тюрьму]. Что всего более удивительно, что этот человек честнее и лучше всех, начиная с ген.-губернатора и до последнего чиновника в Иркутске. Перед этим [Лунин]написал о делах. Николай Павлович приказал перевести его в Акатуй. Тогда Успенский вызвался — ночью его окружили, знали, что он не пустит. Полицмейстер молодец тоже. «Ружья совсем не для Успенского». Пропасть записок было, книг много, денег пропасть…» Михаил Бестужев жил в 1841 году на поселении в Селенгинске, за Байкалом, но был, конечно, взволнован известиями о Лунине, узнавал, как дело было, и вот — правда, смешанная с некоторым вымыслом. Хоромы и богатства Лунина сильно преувеличены, но обстоятельства ареста верны («написал о делах», то есть о следственных делах декабристов!); и портрет Василича («Ефима», «Трофима» ) в общем верен. «Ружья совсем не для Успенского» — видимо, все та же шутка про палки, к которым привыкли «эти господа». Возможно, Уварова действительно пугала брата, что от его писем «бесится владелец семидесяти миллионов», то есть царь, у которого 70 миллионов подданных. Так складывались легенды с былью и образовывали версию. Версия Бестужева, легко заметить, сочувственная: бесспорно, намерения Лунина и его действия благородны… 2. Муханов — Пущину. 3 мая 1841 года. «Здесь [в Иркутске] застал новую печаль и суматоху — Лунин пустился в обратный путь в Нерчинск за переписку довольно странную, чтобы не сказать более, с сестрой Уваровой». «Не сказать более» — видимо, подразумевалось, что Лунин вел переписку глупую, сумасшедшую… Однако письмо это послано по почте — и нельзя понимать его чересчур буквально. 3. Пущин — Якушкину. 30 мая 1841 года. «… Сестра Annette мне пишет, что надобно по последней выходке Лунина думать, что он сумасшедший… Не понимаю, какая выходка… Лунин сам желал быть Martyr, следовательно, он должен быть доволен. Я и не позволяю себе горевать за него. Но вопрос о том, какая из этого польза и чем виноваты посторонние лица, которых теперь будут таскать? Я боюсь даже, чтоб Никита не попался: может быть, какие-нибудь лоскутки его найдутся во взятых бумагах. Эта мысль меня ужасает, и хотелось бы скорее узнать, как и что наверное…» И это письмо пошло по почте. Меж тем у Пущина хранились списки лунинских сочинений, и совсем не просто отделить действительное его недовольство («какая польза?») от стремления выгородить «посторонних», особенно Никиту Муравьева. 4. Якушкин — Пущину (ответное письмо, 10 июня 1841 года). «Мне искренне жаль Лунина, и тем более я не разделяю вашего мнения, что он хотел быть жертвой. Он хотел бы быть мучеником, но чтобы мочь и хотеть им сделаться, нужно было бы прежде всего быть способным на это. По хорошо известным причинам этого никогда не будет у Лунина. Государственный преступник в 50 лет позволяет себе выходки, подобные тем, которые он позволял себе в 1800 году, будучи кавалергардом; конечно, это снова делается из тщеславия и для того, чтобы заставить говорить о себе. Он для меня всегда был и есть Копьев нашего поколения…» Якушкин тоже доверяет свои мысли царской почте; но, сделав на это «скидку», все равно слышим какую-то неприязнь к Лунину (иначе можно было бы ограничиться только первыми словами из приведенного отрывка). Алексей Данилович Копьев, офицер, драматург и известный шутник, во времена Павла I ходил в гигантской треуголке и с косой до пят, пародируя прусскую форму. Шутки — опасные, и Копьев был разжалован в солдаты, однако вскоре помилован и в то время, как Якушкин его вспомянул, благополучно здравствовал на восьмом десятке лет. Лунину его «тщеславие» обошлось как будто дороже… 5. Пущин — Наталье Фонвизиной. 29 ноября 1841 года. «Вам, Наталья Дмитриевна, посылаю письмо Катерины Ивановны [Трубецкой]: вы тут найдете подробности о Лунине. Как водится, из мухи сделали слона, но каково Лунину и компании разъезжать на этом слоне…» Здесь вопреки прежнему («я не позволяю себе горевать за него») видна жалость к Лунину и, конечно, опять «почтовая дипломатия», желание всячески выгородить «компанию» (Никиту Муравьева, Громницкого), уверить власти, что дело не больше «мухи»… 6. Письмо Федора Вадковского Пущину от 10 сентября 1842 года,очевидно, пошло с оказией (в нем — выпады против властей, вроде тех, что Лунин передавал на почту). «Кстати, о Лунине и о жалости. Я всячески и у всех расспрашивал, какое впечатление на тебя произвели его сочинения, и ничего не мог вызнать положительного… Я не хотел думать, что ты пленился подобными пустяками, и уверен был, что ты ласковым обхождением отвильнул от затруднения сказать горькую истину. Скажи мне: отгадал ли я? Если найдешь к тому средство, не называя его. Что касается до его участи, ты не поверишь, до какой степени он возбуждает мое участие. Бедный старик и замечательный старик с неимоверною твердостью духа и характера! Но только не глубокомыслием, и в этом отношении решительно можно сказать, что он утонул в стакане воды». Публикуя в 1926 году эти письма, внук декабриста Евгений Евгеньевич Якушкин удивлялся: «В сопоставлении с Копьевым видно известное пренебрежение, как это заметно и в отзыве Вадковского. Чем оно вызвано? Для нас это не совсем понятно. Может быть, в самой личности Лунина, несмотря на его ум и образованность, были такие стороны, которые шокировали некоторых из его товарищей и клали отпечаток на его произведения. Мы теперь смотрим совсем другими глазами на Лунина и на его письма к сестре». 7. Пущин, Якушкин, Вадковский, Муханов и, вероятно, еще некоторые ссыльные, жалея Лунина-человека, не одобряют Лунина-деятеля: ребячество, мученичество из тщеславия; никакой пользы — зато товарищей теперь поприжмут… Вадковский, положим, не самый стойкий: когда-то на допросе именно он первый вспомнил Лунина и многих других. Но Пущин, Якушкин — твердые, умные, лучшие?.. Ведь примерно в это время (17 марта 1842 года) Якушкин, узнав о желании Пущина сделаться золотопромышленником, чтобы выйти из нужды, написал ему: «Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно меньше хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но зато и положение не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? И что же после этого нам останется?.. От вас требую более, нежели от других, а почему именно, вы, может быть, отгадаете». Итак, «возможно меньше хлопот о самих себе»… Но Лунин, что же, выходит, «хлопотал», искал славы, хотел, чтобы о нем говорили, — и «утонул в стакане»? Якушкин, Пущин могли бы сказать: «Мы живем по одной системе слов и дел, Лунин — по другой». И тогда — очутились бы на перепутье трех дорог: Если Лунин прав — мы неправильно живем. Если мы правы — Лунин заблуждается. Он прав — и мы правы… Полагая, что сам Лунин держался первого утверждения, Пущин и Якушкин решительно защищали второе. 8. Такое убежище внутри себя, столь обширный мир, «которого никто не может отнять», такие возможности сохранить себя и творить непосредственное добро: зачем же мученичество? Очевидно, он иначе не мог. Есть два основных побуждения к внешнему действию. Первое: молодое чувство, преобладающее над рассудком, когда противоречие между «я» и миром разрешается просто — немедленно изменить мир! Тут порыва иногда больше, чем мысли, сила порою преобладает над разумом, и хотя «мальчики» действуют и гибнут благородно, но они часто не знают, сколь их порыв еще неопределенен; им кажется, что не могут иначе. Могут!.. Могут увлечься и другим делом. Лунин когда-то в кавалергардах был таким, знает… Но не дай бог этим юношам попасть в пучину вроде «212 дней» — с 14 декабря по 13 июля! Лучшие устоят, но все же не обойдется без «избиения младенцев»; и тогда Лунин будет убеждать «друга человечества» Анненкова, что мир не стоит «сердечных наших мук». Но вот пришли зрелость, старость, самоуглубление; опыт показывает, что мир в 40-50 лет меняется труднее, чем в 18, а если так, то пусть неисправленный мир не смеет вторгаться, когда пожелает, в «я», в душу: прежде всего — себя сохранить, «дум высокое стремленье». Лучшие декабристы (Пущин, Якушкин, Фонвизин, Бестужевы) по необходимости живут в обороне, сохраняя себя умными, честными, добрыми, благородными людьми, которые, выйдя на волю, окажутся выше и чище большинства преуспевших сверстников. За то, что они не бунтуют, не пишут «Писем из Сибири» и не дразнят белого медведя, невозможно их упрекать (позже, после амнистии, станут, кстати, тайно пересылать важные материалы в Вольную печать Герцена и помогать освободительным течениям). Но что же делать, если один из них через 15 лет после приговора иначе, чем они, смотрит на соотношение слов с делами и, чтобы не раствориться в коллективной мысли большинства, отгораживается от него уединением, католичеством, насмешкой? Не юное тщеславие, легкомысленно толкающее в дело (как думает Якушкин), а новая решимость, обдуманная и выстраданная. Пущин, Якушкин — так, а Лунин — иначе; и если каждый достиг своего благородного максимума и сделал что мог, то стоит ли так резко критиковать исчезнувшего товарища, будто он своею смелостью намекнул на чью-то робость? Якушкину близка эта мысль, и он признает право на мученичество. Но не за Луниным, который «не способен…». Михаил Бестужев, Сергей Волконский, Никита Муравьев отнюдь не «мартиры», но это не помешает Никите сказать: «Мало любить хорошее, иногда надо это и выразить…» Впрочем, вскоре разговоры о Лунине почти совсем угасают. 9. «Его (Волконского)положение (будь это сказано между нами!) чрезвычайно улучшилось! И, кажется, арестование Лунина немало тому способствовало. Он один из всей Урики вел себя преблагородно, как и следует товарищу, несмотря на то, что и сам Лунин вместе с прочими его постоянно дразнили и выставляли бог знает чем. В эту минуту старик был истинно велик душой и через одну ночь встал вдруг выше всех тех, которые его беспрестанно унижали. Нечего было делать! Надо было протягивать ему руку, и с тех пор пошло все лучше и лучше!» Не просто комментировать это письмо Вадковского к Пущину. В чем проявилось особое благородство Волконского (знаем только, что он вышел к Лунину, когда того увозили)? Кто оробел? Кроме Волконских в Урике находились братья Муравьевы и Вольф, но никого из них не было и на прощальной встрече у дороги (Артамон Муравьев, Панов и Якубович примчались из окрестных деревень). Довольно отчетливо видно, что был страх, — а вдруг дело не обойдется одним Луниным: Никита Муравьев ведь помогал составлять «Разбор донесения…» и в те дни поспешно сжег какие-то бумаги. Еще несколько декабристов — точно известно — уничтожили начатые мемуары. Добрый молодец Успенский повел дело широко и арестовал учителя Журавлева; тот перепугался и сообщил, что лунинские труды имеются у Громницкого, а также у полицмейстера Иркутского солеваренного завода Василевского и кяхтинского учителя Крюкова. Успенский самолично отправляется забирать Громницкого и с какой-то презрительной жалостью уведомляет в отчете, что явился в полночь, «Громницкий же… еще не спал, у него горела свеча. Через незакрытое окно видна была внутренность комнаты — убогой в полном смысле этого слова». С бедным хозяином убогой комнаты позволяли себе куда больше, чем с Луниным: его сразу посадили на холодную гауптвахту, где с полгода мучили допросами. Громницкий растерялся и сообщил лишние подробности о Лунине. Забыв уговор — все «валить» на покойников, — он упомянул Муравьевых и Вольфа. В течение месяца открылось, что не меньше десяти человек переписывали или читали труды Лунина; Успенский, разумеется, сообразил, что если копнуть бумаги Волконских и других ссыльных, то непременно найдутся еще экземпляры, но вдруг дело быстро пошло на убыль. С. Б. Окунь точно расшифровал ситуацию: Успенский рвется к новым обыскам и репрессиям, но Копылов и Руперт боятся, как бы не открылось слишком много, и тогда Петербург заметит иркутскую нерадивость. Бенкендорф хочет запугать, искоренить, но тоже не склонен дать делу слишком большого хода: ведь «Письма из Сибири» все-таки прошли через его цензуру (и Руперт намекнул на это в одном из своих отчетов), да к тому же учитель, священники и прочие разночинные читатели были народом, который, по Николаю I, «чист душою», и не в нем опасность, а в образованных смутьянах. Руперт составил, и Бенкендорф утвердил следующее мнение о читателях Лунина: «Прежняя их жизнь и настоящее поведение свидетельствуют вполне, что ни одна из мыслей помянутых сочинений ими не усвоена, и вообще они совершенно далеки от всего того, что хоть несколько противоречило бы духу правительства». Громницкого через полгода отпустили под особый надзор (десять лет спустя умрет от чахотки). Учителей отставили (Журавлев не перенес неприятностей и умер до окончания дела). Муравьевых, Волконских, Вольфа даже не допрашивали. Успенскому после настоятельных просьб Руперта дали Станислава III степени[160]. Изъятые рукописи Лунина ушли в Петербург — в секретный архив III отделения, где они, подобно автору, подлежали полному забвению. 10.«В исходе 30-х — начале 40-х годов выступление Лунина было одним из самых ярких актов идейной борьбы с самодержавно-крепостническим строем. Брошенный в ссылку молодой Герцен лишь в эти годы приступил к своей художественно-литературной пропаганде. Его голос, первые произведения Белинского после тяжелого периода „примирения с действительностью“ и голос Лунина из сибирской ссылки — вот наиболее яркие явления революционной мысли времени». Слова эти взяты из книги М. В. Нечкиной «Движение декабристов». Разумеется, «выступление Лунина органически принадлежит эпохе». Но как оно само повлияло на эпоху? У славных идей и произведений — несколько или много жизней. Сначала — первая, «коренная», для своего века. Дон-Кихот первый раз появился все же в Испании XVII века, а статьи Белинского-в России 1840-х годов. Затем были и будут для них другие времена и новые жизни… Первое «Философическое письмо» Чаадаева было напечатано в 1836 году. Два других письма появились в заграничной печати в 1862-м; наконец, последние пять были опубликованы только в XX веке. В 1836 году первое письмо — «выстрел в ночи», исторический факт. О нем можно было не думать, не говорить, но невозможно отделаться. Оно было! Растворив в море кубик вещества, нетрудно вычислить, сколько молекул из этого кубика через некоторое время найдется в каждом литре Мирового океана. Письмо Чаадаева растворилось в океане мысли — среди всех течений, направлений, — и мы отыщем «молекулы», множество молекул этого письма у Пушкина, Добролюбова, Достоевского, Герцена, Менделеева, Горького, Мусоргского, Мережковского, Миклухо-Маклая, Толстого, Надсона… Но представим себе, что это письмо впервые было напечатано не в 1836-м, а, скажем, в 1861 году (дата не случайная: именно в 1861-м письмо было перепечатано в «Полярной звезде» Герцена). Тогда жизнь этого сочинения была бы иной: не решаем, лучшей ли, худшей, но иной… Во всяком случае, непосредственный общественный эффект был бы неизмеримо меньшим. «Средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой» — вот чем было бы первое «философическое письмо», появись оно внезапно среди шестидесятников, восьмидесятников: совсем другой язык, непривычный слог, странные размышления… Но оттого, что письмо выстрелило в 1836 году, дети и внуки получили изрядную порцию «молекул»: привыкали к этому сочинению с тех пор, как начинали думать, и дальше могли негодовать, проклинать, восторгаться, пренебрегать, насмешничать, слезы лить — это их дело: письмо работало. Положим, если бы цензор вовремя изъял письмо из номера журнала «Телескоп» и не дал бы его публике, то, вероятно, появились бы другие сочинения в том же духе, потому что общественная потребность имелась. «Ландшафт» был бы похожий, но все же другой: гора вместо озера, река вместо леса. Чаадаева помнили бы куда меньше, а других, не сбывшихся, — возможно, куда больше… Разумеется, настоящая мысль не пропадет, если настоящая, и вдруг лет через 50, 500, 1000 понадобится другим поколениям. Омар Хайям и Шекспир, кажется, нужнее праправнукам, чем ровесникам. Но вторая, третья и последующие жизни идеи — один из самых суровых экзаменов, результата которого мастер никогда не узнает. Чаадаев мог приходить в отчаяние от равнодушия мира: «Когда восемнадцать веков тому назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило». Чаадаев приходил в отчаяние, но все-таки знал, что его читали, и вскоре заметил людей, читавших не зря. А Лунин как? Волконские, Пущин, Матвей Муравьев-Апостол, Фонвизин, рискуя, сохранили у себя копии его писем и сочинений о тайном обществе. Долго считалось, что Уварова выполнила просьбу брата и напечатала его труды за границей. (Одни называли английский «Таймс», другие — Францию.) Князь-эмигрант Петр Долгоруков напечатал в 1863 году в Париже: «Мих. Серг. Лунин… написал записки свои на французском языке, отправил их печатать в Париж. Об этом узнало русское посольство в Париже, подкупило типографа, достало рукопись, и Лунин в ночь на страстной четверг 1841 года был схвачен…» Тогда же Герцен поместил в «Колоколе» статью «Из воспоминаний о Лунине», присланную, возможно, племянником декабриста Сергеем Уваровым. Там, между прочим, сообщалось: «В 1840-1842, возмущенный преследованиями религиозными и политическими, которые шли, быстро возрастая, при Николае, он написал записку о его царствовании с разными документами. Цель его была обличить действия николаевского управления в Европе; записка его была напечатана в Англии или в Нью-Йорке. Говорят, что, сличая его письма к его сестре Уваровой, которой он писал, зная, что они проходят через III отделение, о политических предметах, — узнали слог и, наконец, добрались, что брошюра писана Луниным. Сначала Николай хотел его расстрелять, но одумался и сыскал ему другой род смерти». Все поиски в заграничной печати до сих пор, однако, безрезультатны, а в лунинских делах III отделения о заграничных публикациях-ни слова. Только в 1931 году Сергей Гессен правдоподобно объяснил все эти слухи: декабристы притворялись, будто не знают истинной причины ареста Лунина, в то время как у них самих хранились эти «истинные причины» («Взгляд на тайное общество» и «Разбор донесения»). Жандармы попались и с удовольствием констатировали: «Взятие Лунина, о котором теперь узнали и некоторые из прочих государственных преступников, возбудило в них крайнее любопытство и, как кажется, очень их потревожило. Один из них полагает, что арест был следствием того, что Лунин дозволил опять себе писать письма такого же содержания, за какое ему уже запрещена раз переписка, а другой гадает, не отпечатал ли он какой-либо своей рукописи за границей. Настоящая же причина им решительно неизвестна». Неизвестно, почему Уварова не исполнила требований брата — боялась или не имела возможностей? После второго же ареста брата она, конечно, и думать не может о передаче рукописей за границу, хотя Лунин, наверное, настаивал бы на этом: ведь ходило уже по рукам несколько списков его сочинений, и «мало ли кто» способен переслать их в Лондон или Париж — ни автор, ни сестра за это ответить не могут!. Катерина Сергеевна уклонилась от вольного книгопечатания, но все же не уничтожила опаснейшие письма и статьи брата. Лунин требовал их показать Александру и Николаю Тургеневым, распространять «среди знакомых, начиная с министров». Уварова пробует — и Александр Тургенев (в дневнике) ее бранит: 31 марта 1840 года: «Тараторка-сестра вредит ему (Лунину), а он — другим, ибо и их почитает того же мнения». 18 июня 1840 года: «С Уваровой. Выговаривал ей болтовню ее». Из «министров» откликнулась «кавалерственная дама» Екатерина Захаровна Канкрина. Троюродная сестра Лунина и родная сестра Артамона Муравьева была женою министра финансов Егора Францевича Канкрина. Прочитав одно или несколько сибирских писем, она отправила еще в Урик какое-то ободряющее послание, а свой ответ Канкриной Лунин (не называя адресата по имени) распространил вместе с письмами к Уваровой: «Я радуюсь, что мои письма к сестре вас занимают. Они служат выражением тех убеждений, которые повели меня на место казни, в темницу и в ссылку… Гласность, какою пользуются мои письма через многочисленные списки, обращает их в политическое орудие, которым я должен пользоваться на защиту свободы. Ваша лестная память обо мне будет служить для меня могучей опорой в этой опасной борьбе». Сохранилось письмецо Е.3. Канкриной, которая испрашивает разрешение у Е.С. Уваровой на снятие копии с одного из «сердитых» писем Лунина, пересланного с оказией (там, между прочим, брат упрекает сестру за то, что она потчует его новостями о кузенах и кузинах «на бретонский манер» ). «Я Вам клянусь, — пишет Канкрина Уваровой, — что письмо не выйдет из моих рук. Я желаю сохранить его мнение, так хорошо выраженное, насчет «кузенов на бретонский манер». Не откажите мне, мой ангел…»[161]. Однако жена министра, даже если она сочувствующая, — родственница, и Александр Тургенев, пусть умнейший и образованнейший из тайных советников — разве это аудитория для Лунина! А какую другую могла найти Уварова? Ее общество — князья Голицыны, Белосельские, Канкрины. Она может показать еще письма дяди его племянникам, но один из них — военный, игрок, другой — «ученый сухарь». Как догадаться ей, что можно отправиться на поклон к угрюмому аристократу Ивану Алексеевичу Яковлеву и оставить пакет для его непутевого сына Александра Герцена? И кто посоветует ей послать лакея в редакцию «Отечественных записок» за адресом литератора Белинского? 11. Кому же писать, кого же пробуждать от «всеобщей апатии»? Или, если она не всеобщая, — как же за пять — семь тысяч верст разглядеть настоящих читателей? 15 лет удаления не проходят даром. Живые голоса не доносятся… «Людям 40-х годов» — Герцену, Огареву, Грановскому, Белинскому, Ивану Тургеневу, Анненкову, Кетчеру, Корту, Кавелину, Аксакову, Хомякову, Киреевским, еще нескольким десяткам не отравленных удушьем молодых людей (да и не только молодым — Чаадаеву, например!) очень не хватает Лунина. Сходство взглядов велико, разница вызвала бы иносказательные «журнальные сшибки» и полуночные диспуты в салонах, подмосковных усадьбах. Личность Лунина, его положение, мысли, библейская важность слога, живые переходы от общего к личному, твердая уверенность, что пора пробудиться, — все это удивило бы, устыдило, воодушевило. Молекулы «Писем из Сибири», «Разбора донесения», «Взгляда на тайное общество», «Взгляда на польские дела» нашлись бы в каждой серьезной книге, статье, лекции. Но люди сороковых годов Лунина, по всей видимости, не прочитали. Точнее, многие из них получили его сочинения 20 лет спустя, когда стали «людьми шестидесятых годов». И то было важно: Герцен писал, что Лунин«один из тончайших умов и деликатнейших», а жандармы, обнаружив однажды список «Разбора…», решили, что этот труд вышел из круга Чернышевского. С 1859 года невозможна история декабризма без лунинских работ. До 1905 года «Взгляд…», «Разбор», «Письма из Сибири» в России запрещены, затем появляются перепечатки из «Полярной звезды» Герцена; после 1917 года, когда открылись секретные архивы, выходит несколько важных, наиболее полных изданий, которые теперь уж редки и недостаточны. Несколько жизней прожило за 130 лет все написанное Луниным, и все же «первой жизни» почти не было; это трагическое обстоятельство, которое не мешает существованию следующих, более мажорных страниц посмертной биографии Лунина, так же, как эти страницы не отменяют трагедии. Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется… В том, что Лунина не узнали главные читатели 1840-х годов, убеждают сотни сохранившихся писем и сочинений того времени, где не могли бы укрыться впечатления от его трудов, если бы они были. Стоило бы встретиться с сибирской рукописью хоть одному из западников, славянофилов, революционеров, как мигом бы узнали все остальные. Но несколько списков лежало под замком в секретном архиве III отделения. Припрятали свои копии и декабристы, до поры до времени не выпуская их из Иркутска и Ялуторовска. Одно-два «звена» отделяли автора от аудитории — но они не сразу «сработали». Среди запретных произведений и опасных документов, распространившихся по стране, лунинские труды встречаются нередко, но обычно в копиях пятидесятых и более поздних десятилетий XIX века. Если судить по материалам всех архивов Москвы, Ленинграда и некоторых других городов, то самый ранний из обращавшихся списков (хранящийся в рукописном отделе Ленинской библиотеки) принадлежал известному коллекционеру и библиографу Сергею Дмитриевичу Полторацкому. Он скопировал его в 1853 году, кажется, у Аркадия Россета; последний же мог привезти текст из Сибири. У Полторацкого несколько позже снял свою копию молодой историк Петр Иванович Бартенев (этот список хранится в настоящее время в Архиве литературы и искусства в Москве). Через несколько лет Бартенев доставил в Лондон важные исторические материалы, вскоре появившиеся в Вольной печати Герцена. По всей вероятности, были привезены и некоторые сочинения Лунина. После 1856 года декабристы, вернувшиеся из ссылки, также послали Герцену несколько копий, которые были использованы в «Полярной звезде»: только почта пришла с опозданием на 20 лет… А ведь в 1840-х случалось, что на одном рауте или за одним столом люди, способные рассказать (или даже прочитать) удивительные веши о Лунине, встречались с людьми, которым так этого не хватало. Несколькими годами раньше Уварова написала брату: «Недавно Саша[162] и я были приглашены на вечер к княгине Голицыной. Вдруг Саша подошел ко мне, весь сияющий, и сказал, что княгиня представила его Александру Пушкину, поэту, и тот сказал, что знал его отца и дядю Мишеля. «Иди, иди скорее послушать, как он говорит о дяде», — закончил Саша. Мне не нужно было повторять, и, быстро пробежав через залы, я подошла к Пушкину. Действительно, я имела счастье слышать, как он говорил о тебе — со всей душой поэта! Он мне поручил с жаром напомнить о нем твоей памяти и сказать тебе, что он сохраняет прядь волос, которую утащил у тети Катерины Федоровны; ты пожелал тогда побрить голову — перед отъездом, если не ошибаюсь, в Одессу. Он говорил, между прочим, что Мишель Лунин человек воистину замечательный, и эти слова, исходящие от столь замечательного человека, хорошо звучат для слуха сестры. Что касается Саши, то он был в восторге, и когда он очутился в карете со мною, он сказал мне: «Вот теперь я верю, что ты не преувеличиваешь, когда говоришь мне о своем брате!» Пушкину не довелось познакомиться с сочинениями Лунина (хотя «Письма» начинались еще при его жизни). Возможно, Герцен и его друзья также не раз раскланивались с Уваровой и ее сыновьями; и, разумеется, все слышали о втором аресте Лунина, но смутно, и нельзя было доискаться за что… [163] 12. Лунин же воображал вокруг «облако свидетелей», писал о «многочисленных списках». Может быть, сестра нарочно завышала число читателей, чтобы утешить брата или, наоборот, запугать гневом«обладателя семидесяти миллионов»? Так или иначе, но когда «архангел Гавриил» увозил Лунина, осужденный верил в скорую публикацию за границей и в «гласность, какой пользуются письма». «После ссылки этих людей температура образования видимо у нас понизилась, меньше ума сделалось в обороте, общество стало пошлее, потеряло возникающее чувство достоинства…» (Герцен ). «Температура понизилась» и оттого, что не смогли согреться жаром лунинских посланий… Победить Лунина власть не умела, но ее хватило на то, чтобы лишить первой жизни лунинские сочинения и сократить единственную жизнь у самого автора этих сочинений. IX Но час настал, пробил… молитесь богу, В последний раз вы молитесь теперь. 1.«Жаль бедного Лунина, ему должно быть теперь очень худо… Его заковали и отправили сперва в Нерчинск, а потом в крепость, за полтораста верст от Нерчинска; страшно за него подумать, что эта крепость может быть Акатуй» (Якушкин — Пущину). Сибирское начальство стращало «безнадежных к исправлению»: «Сгниешь в Акатуе!» Михаил Бестужев утверждал, что «Акатуй — глубокая яма, окруженная со всех сторон горами». Жена декабриста Полина Анненкова вместе с другими верила, что близ акатуевских свинцовых рудников «воздух так тяжел, что на 300 верст в окружности нельзя держать никакой птицы — все дохнут…». Когда на 13-й день пути жандармская тройка доставила Лунина в столицу каторжного края Нерчинский завод, горный начальник полковник Родственный открыл конверт, который не посмели распечатать в Иркутске: «… Отправить Лунина в Акатуевскую тюрьму и, не употребляя в работу, подвергнуть его там строжайшему заключению, отдельно от других преступников». Если бы это распоряжение объявили в Иркутске, могли бы возникнуть толки и сожаления: слишком зловеще — Акатуй… Когда через несколько лет Уварова попросит перевести брата из этой тюрьмы, генерал Дубельт ответит, что III отделение ничего не знает о заключении Лунина в Акатуе… Позже через акатуевскую каторгу пройдут сотни людей, некоторые доживут до лучших времен, оставят мемуары. Но в лунинские времена —«оставь надежду всяк сюда входящий»; оттуда не пишут писем, оттуда не выносят воспоминаний, туда не ездят купцы и не забредают странники: от Нерчинского завода еще 200 верст — у реки Газимур, близ Газимурского и Нерчинского хребтов. 2. Между 1841-м и 1845-м это более таинственное место, чем истоки Нила или полярные пустыни. Здесь Михаил Лунин проведет 1696 дней своей жизни, и мы почти ничего не знаем о них. Здесь настигнет его смерть, и мы почти ничего не знаем о ней. 3. «Декабрист, полковник кавалергардского полка, Лунин удивлял Льва Николаевича Толстого своей несокрушимой энергиею и сарказмом. В одном из писем с каторги к своей сестре, находящейся в Петербурге, он осмеял назначение министром графа Киселева. Письмо, разумеется, шло через начальство работ, и содержание его сделалось известным в Петербурге. Лунин был прикован к тачке навсегда. Тем не менее смотритель каторжных работ, полный майор и немец по происхождению, ежедневно уходил с осмотра работ, долго смеясь еще по дороге. Так умел Лунин насмешить его под землею и прикованный к тачке». Воспоминания Сергея Берса показывают, что полвека спустя даже Толстому последние годы Лунина представлялись смутно — истина вперемешку с вымыслом; письмо против Киселева действительно было, но не за то сослали; шутки, способные рассмешить немца-майора, конечно, были, но немца не было и «тачки» не было, хотя было другое, может быть, худшее… 80 лет должны были пройти и три революции произойти, прежде чем появилось несколько поражающих воображение документов. Сергей Михайлович Волконский, сын лунинского любимца, рассказывает: «Весной 1915 года, разбирая вещи в старом шкапу на тогдашней моей квартире в Петербурге (Сергиевская, 7), я неожиданно напал на груду бумаг… В надписях я сейчас же признал почерк моего деда, декабриста Сергея Григорьевича Волконского… С полок старого шкапа глядело на меня тридцать лет Сибири (1827-1856)…» Среди этих бумаг оказалось 12 писем Лунина, тайно переданных из Акатуя: девять писем по-французски Сергею и Марии Волконским и три письма — по-английски и латыни — мальчику Михаилу Волконскому[164]. Внук декабриста записал свои впечатления от последних лунинских сочинений: «Начиная с почерка, крепкого, четкого, сильного, эти письма врезаются в память как что-то совершенно необыкновенное; сила духа, ясность мышления и точность выражения ставят его в совсем исключительное положение, не только выдвигая его в рядах современников, но вынося его за пределы своего времени». 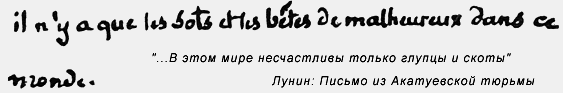 4. Как же снять заклятие с лунинского Акатуя, собрать еще хоть крохи, пепел? Давно прочтены секретные дела о государственном преступнике Лунине в архивах III отделения и иркутского генерал-губернатора. Там сохранились точные даты второго ареста и смерти, подшиты прошения сестры и ответы, ей посланные, видны и поиски сообщников Лунина, продолжавшиеся после 27 марта 1841 года. Но все это вне Акатуя. По этим документам в 1841 — 1845 годах дело Лунина есть, а самого Лунина нет. Архив нерчинской каторги — где он? Журнал «Каторга и ссылка» в 1928 году сообщал, что «архив… в 80-х годах был, но растащен местной администрацией и выброшен в реку Нерчу». Слышал я и читал другие рассказы о печальной судьбе нерчинских документов — как во Владивостоке около 1920 года заворачивали в них селедку, как топили ими печи и т.д. Нерчинск в интересующие меня годы подчинялся Иркутску. Однако путеводитель Иркутского архива, а также статьи и книги таких знатоков, как М.К. Азадовский и Б.Г. Кубалов. убеждали, что основная масса нерчинских бумаг либо на берегах Ангары не появлялась, либо сгорела в великом иркутском пожаре 1879 года (когда, между прочим, пылавшие архивные листы и папки ветром разносило по городу)… И все-таки, отправляясь в командировку по сибирским архивам, я первым «объектом» своим считал лунинский Акатуй и с безнадежным оптимизмом верил, что хоть где-нибудь что-нибудь разыщу. Тут не было недоверия к отличным исследователям, искавшим прежде меня, — только надежда, что архивные пласты разрабатываются не быстрее угольных. Прочитав в Иркутске десятки отчетов, которые горное начальство представляло генерал-губернатору, я еще больше пожелал видеть «первоисточники»: ту канцелярию, из которой лишь выжимки, краткие резюме шли в Иркутск и Петербург… Нерчинск и Акатуй сейчас находятся в Читинской области. Читинский архив еще не издал путеводителя и был «способен на все», но, признаться, от него я многого не ждал: в 1840-х Нерчинский завод Чите не подчинялся, Забайкальская же область, образовавшаяся в 1852-м, хотя и взяла Читу в столицы, все равно зависела от Иркутска. Однако именнов Чите все и было: главны й архив главной российской каторги! С 1782-го по 1917 год. Представленный тысячами толщенных рукописных томов (во многих — по полторы и две тысячи листов). Архив приведен в порядок сравнительно недавно (оттого еще, между прочим, и слабо освоен историками). Возможно, за какие-то периоды в самом деле нерчинские документы пропали, утонули, сгорели, но что касается декабристских времен — все или почти все цело. В читинских фолиантах — Зерентуй и Благодатка, Нерчинск и Шилка, Кадая и Кара, Петровский завод и Акатуй; списки арестантов и стражников, ведомости, реестры, отчеты, следственные дела, казни, экзекуции, прошения, амнистии… Документы за 1841-1845 годы с трудом поместились в машине, доставившей их из хранилища. Но даже перед такими надежными бумагами, подкрепленными 12 потаенными письмами, ворота последней лунинской тюрьмы едва приоткрываются. 5. Лунин — Марии Волконской. 1842, 30 января (Акатуй). «Дорогая сестра по изгнанию! Оба ваши письма я получил сразу. Я тем более был растроган этим доказательством вашей дружбы, что обвинял вас в забывчивости и, особенно, в том, что вы не написали моей Дражайшей, которая и со своей стороны жаловалась на ваше молчание. Направьте к ней еще одно-другое письмо, на всякий случай, чтобы успокоить ее на мой счет. Одно слово от вас произведет больше действия, чем если бы я сам мог написать ей, так как женщины лучше понимают друг друга и дар утешать принадлежит им. Забота, которую вы берете на себя о моем Варке, о вещах моих и домашней моей обстановке, доказывают искреннюю и деятельную дружбу. Я вам за нее весьма признателен. Равным образом благодарю вас за теплый жилет, в котором я очень нуждался, а также и за лекарства, в которых я не имею нужды, так как мое железное здоровье противостоит всем испытаниям. Если вы можете прислать мне книг, я буду вам обязан. То, что вы говорите об учителе греческого языка[165], не может служить препятствием. Где все-таки найти людей, совершенных? К тому же большинство людей совершенных — невежды или глупцы. Выпишите доктора-немца: он будет давать урок в вашем присутствии, остальное же время будет делать то, что хочет. В ожидании же этого следовало бы, по моему мнению, начать с уроков латинского языка. Если вы и ваш муж одобряете мою мысль, обратитесь от моего имени к Никите и скажите ему, что я прошу его, в доказательство его дружбы ко мне, взять на себя урок латинского. Уверен, что он не откажет мне в просьбе, обращенной из глубины темницы. Письма детей доставили мне большое удовольствие. Я мысленно перенесся в ваш мирный круг, в котором те же романсы раздаются с новою прелестью и те же вещи говорятся с новым интересом. Передайте мои дружеские чувства господам Поджио и всем тем из наших, которые спросят о мне. Я нашел здесь славного Высоцкого, который выказывает мне дружбу и примерную преданность. Это он заботится о моем домашнем житье-бытье. Он нисколько не считается с теми опасностями, которым подвергает себя тем, что старается быть мне полезным, и ему я обязан возможностью писать вам: это он раздобыл мне необходимые для того элементы. Его соотечественники в общем проявляют ко мне то же усердие. Никогда бы я не подозревал столько добродетелей в недрах С. П.[166]. У меня нашлась бы еще тысяча и тысяча вещей сказать вам, но на это нет времени. Меня торопят кончать — из-за нового часового, на которого нельзя положиться. Прощайте, дорогая сестра по изгнанию, пусть бог и его добрые ангелы охранят вас и ваше семейство. Вам совершенно преданный Михаил. Приписка к Мише Волконскому (на англ. яз.). Дорогой мой Миша! Благодарю тебя за доброе твое письмо; счастлив видеть, что ты сделал некоторые успехи в английском языке. Иди и впредь по этому пути, не теряй своего времени, — и ты скоро сделаешься искусным сотоварищем и я полюблю тебя еще больше, чем прежде. Целую руку твоей сестрички и остаюсь навсегда твой добрый друг Михаил. Перо так скверно, что я сомневаюсь, разберет ли он меня. Приписка к Сергею Волконскому. Дорогой мой Сергей Григорьич! Архитектор Акатуевского замка, без сомнения, унаследовал воображение Данта. Мои предыдущие тюрьмы были будуарами по сравнению с тем казематом, который я занимаю. Меня стерегут, не спуская с меня глаз. Часовые у дверей, у окон, — везде. Моими сотоварищами по заточению является полсотня душегубов, убийц, разбойничьих атаманов и фальшивомонетчиков. Однако мы великолепно сошлись. Эти добрые люди полюбили меня. Я являюсь хранителем их маленьких сокровищ, приобретенных бог знает как, и поверенным их маленьких тайн, которые принадлежат, конечно, к литературе, имеющей отношение к гальванизму[167]. Кажется, меня, без моего ведома, судят в каком-то уголке империи. Я получаю, время от времени, тетрадь с вопросами, на которые я отвечаю всегда отрицательно. Злодей проболтался. Если представится случай, скажите ему, что я им недоволен. В то же время пошлите ему прилагаемые 25 рублей — от вашего имени, — ибо он должен быть без копейки. Все, что прочел я в вашем письме, доставило мне большое удовольствие. Я надеялся на эти новые доказательства нашей старинной дружбы и полагаю, что бесполезно говорить вам, как я этим растроган. Позаботьтесь хорошенько о моем бедном Варке, не давайте ему ничего, кроме хлеба, и, в особенности, ничего горячего. Если я не буду повешен или расстрелян, попытайтесь прислать его ко мне с какою-нибудь верною оказиею. Передайте, пожалуйста, мое почтение Марье Казимировне и Алексею Петровичу[168]. Я очень признателен за их дружеское воспоминание. Передайте тысячу любезностей Артамону, равно как и тем, которые провожали меня и которых я нашел на привале на большой дороге. Прощайте, дорогой друг, обнимаю вас мысленно и остаюсь на всю жизнь ваш преданный Михаил». Это, несомненно, первое письмо, которое за девять месяцев заточения он сумел переслать на волю. Ксендз Филиппович, которому разрешено посещать узников, очевидно, доставляет оказию из Урика и увозит оказию из Акатуя. В заговор вступают и Волконские: «Арест Лунина сильно нас опечалил, — вспоминает Мария Николаевна — Я доставляла ему книги, шоколад для груди и под видом лекарства — чернила в порошке со стальными перьями внутри, так как у него все отняли и строго запретили писать…» Старший Михаил наставляет младшего английским письмом точно так, как 50 лет назад дядюшка Михаил Никитич Муравьев поучал «dearest childe» — Мишеньку Лунина. Только из Мишеньки Лунина вышел славный каторжник, а из Мишеньки Волконского — дурной товарищ министра… Что же касается помянутых в первом акатуевском письме добрых душегубов, атаманов, фальшивомонетчиков, то нерчинские бумаги сегодня открывают подробности, которые сам Лунин предпочитал не уточнять.  М.Н. Волконская с сыном Мишей С рисунка П.Ф. Соколова, 1826 г. К июню 1842 года при Акатуевском руднике числится 130 арестантов (в том числе две женщины). Здесь сидят за новые преступления, совершенные уже после отправки в Сибирь. Лариона Толстикова сначала осудили за контрабанду, после того пять раз бегал, пойман, наказан шпицрутенами и кнутом. Якутский казак Николай Гаськов прикован к стене на 10 лет за два удавшихся и одно неудавшееся убийство да за три побега. Кроме него сидят на цепи еще около 20 человек (половина — за убийства). Некоторые прикованы к стене, хотя срок вышел уж год, пять, даже двенадцать лет назад. Арестант в среднем обходится за год казне в 43 рубля 68 копеек серебром, и один из прежних приставов высылал своих каторжан на большую дорогу — убивать, грабить и с ним делиться. 6. Поляки, упоминаемые в первом письме из Акатуя, не только раздобыли «элементы письма», но, вероятно, сговорились с часовым. Незадолго до присылки Лунина в Акатуе было семь поляков, но 11 августа 1840 года Иван Добровольский удавился, оставив записку: «Как жизнь моя очень наскучила, и время пришло, чтобы ее окончить, чем жить всегда в оскорблении, то лучше от ее освободиться». Осталось шесть повстанцев 1830-1831-го, вторично провинившихся в Сибири. Гиларий Вебер, «из шляхтичей», поступил в Иркутск 17 февраля 1835 года, а в 1841 году «за сочинение фальшивого письма наказан плетьми 16 ударами и отослан в Нерчинские заводы». Казимир Киселевский, захваченный войсками Паскевича в 1831-м, был лишен дворянства и отправлен сначала в каторжные работы в Красноярск, но затем «за небрежение одежды наказан лозами, 25 ударов» и в октябре 1836 года переведен в Акатуй. Бывший прапорщик Викентий Хлопицкий обвинялся «в соединении с польскими мятежниками, действиях в их пользу, сообщении им сведений о расположении и движении российских войск и имении при себе пасквильных сочинений с воззванием живущих в России поляков к общему мятежу и с порицанием священной особы государя императора». В 1841 году«за намерение к деланию фальшивых ассигнаций наказан кнутом». Ксаверий Шокальский, «из лишенных дворян», наказан шпицрутенами через 1000 человек 6 раз и отправлен в Акатуй за то, что вместе с другими готовил мятеж и побег, «через что не только вовлекли в оный многих и нижних чинов из поляков, которые без чего, быть может, никогда бы на то не согласились, но старались поселить мятежные мысли между русскими осуждением правления в России, особенно внушением заводским рабочим о бедственном их положении». Бывший канцелярист из шляхтичей Евстафий Рачинский принял 2000 шпицрутенов еще на родине и отправился в каторжные работы, сначала — на Иркутский солеваренный завод, а оттуда в январе 1836 года — подальше. Наконец, негласный старейшина акатуевских каторжан-поляков бывший подпоручик Петр Высоцкий был сначала осужден на смерть, а потом помилован каторгой «за составление заговора на мятеж, возникшего в Варшаве 17/29 ноября 1830 года, в возбуждении к оному в буйствах, произведенных помянутого 17/29 ноября бывшей под его предводительством в Варшаве школой подпрапорщиков пехотных полков и в умысле против члена царствующего дома» (Константина). 2 июня 1835 года он был доставлен в Александровский винокуренный завод близ Иркутска, через 20 дней бежал с несколькими товарищами, но был схвачен. Кажется, петербургское распоряжение о казни его запоздало, и генерал-губернатор успел объявить другой приговор «как начинщику этого сговора и побега, неблагодарному Государю императору, всемилостивейше отменившему смертную казнь ему, назначенную Верховным уголовным судом в Варшаве» … После 1000 шпицрутенов, стойко перенесенных Высоцким, его решили «сослать в Акатуевский рудник закованного в кандалы, где содержать его в тюрьме за строжайшим караулом, высылая скованного на работу за вооруженным всегда конвоем». Лунин, еще находясь в Урике и не зная, что ему предстоит разделить участь Высоцкого, писал о нем в своих «Письмах из Сибири»: «Этот молодой человек заслуживал некоторого внимания, как военнопленный, взятый с оружием в руках и покрытый ранами при защите своего поста. Кто защищается таким образом против русских, тот заслуживает название Храброго. Однако он и трое его товарищей были преданы суду за намерение к побегу… Все были осуждены и испытали жестокое наказание — сквозь строй… Гнусность этого дела сложили на умственное расстройство высшего чиновника, но ничего еще не сделали к облегчению участи страдальцев. Они угасают, обремененные цепями, в безмолвии казематов». Историк русской каторги С. В. Максимов сообщил, что Высоцкий в Акатуе регулярно отмечал годовщину польского восстания 29 ноября и варил мыло со своими инициалами: «P. W. Akatuja». Лунину, конечно, легче, чем другим декабристам, сойтись с поляками, несмотря на насмешливо-неприязненное «я не подозревал столько добродетелей в недрах Святой Польши». 7. «Петр Высоцкий поведения весьма похвального, во все время нахождения в Нерчинских заводах не только предосудительного не делал, но даже в прочих преступников вселял мысль о повиновении…» Это рапортует в январе 1842 года Андреян Степанович Машуков, пристав Газимуровоскресенской дистанции, то есть повелитель громадной каторжной области, в которой находится и Акатуй. О поведении прикованных к стене принятая формула — «скромны и повинны». И вдруг сквозь мертвую канцелярщину просачивается немного подлинности. Еще задолго до присылки Лунина, в марте 1837 года, иркутский генерал-губернатор Броневский получает откуда-то сведения про новый заговор Высоцкого и товарищей в содружестве с отпетыми каторжниками Горкиным, Засориным и Гаськовым. Губернатор шлет в Нерчинский завод и Акатуй самые решительные распоряжения: «Если бы, боже сохрани, на самом деле случилось злодейское предприятие, то разрешаю вам против возмутителей в самом начале действовать решительно силою оружия и всеми имеющимися у вас средствами уничтожить и малейшее поползновение к тому». Вскоре Машуков докладывает, что меры приняты: горная полиция усилена, жители «снабжены всем нужным к безопасности», вольные ссыльные отданы «под присмотр особо учрежденного караула», Горкин, Засорин и Гаськов закованы «в тяжелые ножные и ручные оковы», на многих других также надеты железа, «так что они способны только к молотью хлеба», наконец, Высоцкого «отделили на содержание в особую комнату одного». В 1839 и 1840 годах велось дознание по какому-то доносу, будто Высоцкий и Шокальский делают фальшивые ассигнации (снова идея побега, для которого нужны деньги!). Через три месяца после прибытия Лунина, 7 июля 1841 года, все тот же Гаськов обвиняет горного полицейского служителя Василия Заблецкого «в задавлении в Акатуевском тюремном замке ссыльного Тимофея Филиппова, но в том не признавшегося и не уличенного». В те же дни Лунин мог видеть, как в Акатуй доставили семь человек, пойманных из бегов и до полусмерти битых. Видя безнадежность и гибельность попыток уйти из тюрьмы, Высоцкий, по-видимому, в 1840-х годах удерживал своих друзей, так что всевидящий нерчинский горный начальник попросил однажды генерал-губернатора и через него шефа жандармов — «о позволении освободить Высоцкого от содержания в оковах, если не навсегда, то хотя на время нахождения его в госпитале для пользования» (в просьбе подчеркивалось «болезненное состояние Высоцкого, обращающее особенное на него внимание и сострадание» ). 1 апреля 1847 года шеф жандармов ответил, что «Высоцкий, по важности его преступления, не может быть освобожден от оков ни на какое время». Власть стерегла крепко… Но через несколько месяцев после смерти Лунина, в ночь на 10 августа 1846 года, из Акатуя все же бежал отчаянный якутский казак Гаськов, а с ним вместе прикованные к стене Эльпидифоров и Семенов, а также солдат Чашников, который помог разомкнуть цепи… Вот среди каких людей и обстоятельств оказался с апреля 1841 года Михаил Сергеевич Лунин. 8. Однако обстоятельства эти могут еще ухудшиться («повешен или расстрелян…» ). «Злодей», который «проболтался» и которому посылается 25 рублей, — это Петр Громницкий, дрогнувший перед иркутскими допросами, Лунин же обо всем догадался из допросов акатуевских: начальство переслало ему три группы вопросов — еще раз о сообщниках и рукописях, а также о деньгах и оружии[169]. Лунин отвечает, как обычно, ссылаясь на умерших, декабриста Иванова и коменданта Лепарского. «Единственная цель моя была довести их (сочинения) до сведения правительства… Я полагал, что посреди многих заблуждений, свойственных уму человеческому, они заключают некоторые небесполезные истины». Через несколько строк еще укол — вроде шутки о палках, «к которым привыкли эти господа»: «С учителем гимназии Журавлевым я мало знаком… Я вообще избегал знакомств с чиновниками». Однако формально он сознает себя виновным. «Вашему превосходительству угодно было заметить: „Что сочинения мои заключают сведения до крайности разнообразные, которые трудно иметь одному кому бы то ни было“. Во всяком другом случае это замечание было бы для меня лестно; но при теперешних скорбных обстоятельствах я душевно жалею, что посвятил время и труд на их составление. Из книг я вообще мало заимствовал; от людей ничего… Готовясь принять с благодарностью все кары, мне определенные, полагаю единственную здесь надежду мою на прозорливую справедливость и великодушие Государя императора». Автор книги ловит себя на желании всячески оправдать эти строки, но сдерживается: ему, автору, видите ли, приятнее было бы, если б покаянных строк не было, а они есть, и начальство могло их истолковать как успех. Но Руперт, прочитав, доложил в Петербург: «Лунин, заключенный теперь в каземат, как кажется, вовсе не расположен сказать правды и, судя по упорству его характера, верно, не скажет ее никогда». Может быть, Успенский или другой сообразительный советник объяснил генералу, что у Лунина никогда не поймешь, где кончается извинение и начинается насмешка, — и кто расшифрует, нет ли в словах о «прозорливой справедливости» и «великодушии Государя» намека: если прозорлив — поймет, насколько Лунин прав, если не великодушен — запрет его навсегда… О деньгах допрашивал сам пристав Машуков: Откуда взялись у Лунина 1010 рублей, обнаруженные по прибытии в Нерчинский завод? Почему их не нашли у него ни в Урике, ни в Иркутске? Почему сам о них вовремя не объявил? Почему объявил в Нерчинском заводе? Лунин всегда отвечает вежливой дерзостью и серьезной насмешкой: разумеется, не выдавать же почтмейстера Анкудиныча или Марию Волконскую, накинувшую «денежную шубу»: «На вопросы господина пристава Газимуровоскресенской дистанции, касательно моих собственных денег, честь имею отвечать: 1. Тысяча рублей, находившихся при мне по прибытии в Нерчинский завод, получены мною в бытность мою на поселении, от родственников, в разное время. 2. Я не объявил о сих деньгах ни в Урике, ни в Иркутске, потому что никто не спрашивал меня об оных. З. Мне самому не пришло на мысль упомянуть об оных, по причине поспешности, с которою меня вывезли из дома и, несмотря на болезненное состояние, отправили в Нерчинский завод. 4. По прибытии в Нерчинский завод я объявил о находящихся при мне деньгах, потому что местное начальство спросило меня об оных». Последний раз начальство беседует с ним и насчет оружия и пороха: формально он не имел права владеть каким-либо оружием. Лунин отвечает, что купил ружья у незнакомых купцов «для егеря, который находился у меня в услужении и которому никакое законоположение не возбраняло ходить на охоту» (и это о лучших французских ружьях, за которые сестра уплатила в Париже 3000 франков!). Что касается «старых, негодных пистолетов», то «они висели на стене для устрашения бродяг, которыми эта страна бывает наполнена, и для предупреждения их грабежей и разбоев». Мерещится мне или нет, будто Лунин снова потешается? Бродяги, конечно, бродили, но «эта страна» более страдала от разбойников, вроде тех, кто ворвались ночью 26 марта в Урик и, кстати, испугались оружия на стене, ибо привыкли «к другому». Может, и не было у Лунина издевательского намерения, но он настолько владел языком, что мог бы при желании легко избавиться от двусмысленностей… К тому времени, когда первое потаенное письмо отправляется из Акатуя, — все недоразумения Лунина с начальством уже выяснены. Больше его ни о чем не спрашивают. 9. В Рукописном отделе Пушкинского Дома хранится записочка Лунина Сергею Волконскому, которую не печатали, потому что она казалась слишком обыкновенной: 1 апреля 1834 года (так прочитали дату, стоящую в начале записки) Лунин поздравляет Марию Николаевну с ее праздником. Однако в 1834 году в Петровском заводе не было нужды писать — все жили в одном каземате. Присмотревшись к дате, я замечаю, что Лунин написал: «1 avril 1842», и тогда обыкновенное послание сразу делается необыкновенным. Это поздравление, каким-то образом присланное из преисподней, Акатуя! Вот его перевод: «Дорогой друг, прошу Вас засвидетельствовать мое глубокое почтение Мадам и принять мои поздравления по случаю ее праздника. Этот день — эпоха счастья для всех тех, кем княгиня изволит интересоваться, и даже для несчастного узника, каков я, память о котором, по всей вероятности, стерлась из ее памяти. Где бы ни был, — я чувствую к ней преданность неизменную, и мои пожелания ее счастья не уступят ничьим. — Приветствую вас; мои нежные приветы Михаилу Сергеевичу»[170]. 10. Проходит почти год, прежде чем снова откроется «канал связи». Лунин — Сергею Волконскому. «Мой дорогой друг. Книги, вещи и провизия, присланные со святым отцом, дошли до меня в сентябре месяце 1842 г.[171] Я сейчас же узнал подсвечники моей доброй сестры по изгнанию. Они мне доставили столько же радости, как если б это было письмо, по той массе воспоминаний о жизни в Урике. Поблагодарите хорошую за это доказательство ее дружбы. Между книгами и вещами много есть лишнего, как, например, кухонная посуда, болтовня Ламеннэ[172], фарфоровая посуда и т. д. и т. д. Моя темница до того переполнена, что нет возможности в ней повернуться. Впрочем, все ваши распоряжения о моем погибшем состоянии безукоризненны. Я особенно вам благодарен за ваши заботы о моем бедном Варке. Можно ему давать холодное мясо два-три раза в неделю, дабы скрасить дни его старости. Вы ничего не пишете про расходы по пересылке. Напишите моей сестре, чтобы она возместила стоимость пересылки 9 ящиков. Эта бедная женщина в Берлине, где ее сын надоедает Гумбольдту и всем университетским ученым своим арабским языком. Вы мне доставили большое удовольствие, прислав стенные часы «memento mori»[173]и икону богоматери. По-видимому, я предназначен к медленной смерти в тюрьме вместо моментальной на эшафоте. Я одинаково готов как к той, так и к другой. Перейдем к вашим делам, которые меня столько же интересуют, сколько и мои. Выписали ли вы немецкого педагога для Миши? Это крайне важно… Святой отец, который мне предложил писать и дал к тому возможность, хороший человек. Примите его дружески… Продайте кое-какие вещи или книги, чтобы сделать ему небольшой подарок. Прощайте, дорогой друг. Поклонитесь нашим и всем тем, кто еще помнит меня. Сердечно благодарю вас за безграничные доказательства дружбы. До конца жизни преданный вам друг Михаил.  С.Г. Волконский С рисунка К. Мазера, 1849 г. Видимо, к этому же письму приложен листок для 11-летнего Миши Волконского. «Мой дорогой Миша. Твое последнее письмо доставило мне большое удовольствие, и я от души советую тебе изучать английский язык. Это не так легко и требует много внимания и прилежания, но ты уже не ребенок и, я надеюсь, справишься со всеми трудностями, как мужчина. Помни, мой дорогой, что твои успехи в науке являются лучшим доказательством, которое ты можешь мне дать в подтверждение твоей дружбы ко мне. Не читай книги, случайно могущие попасть в твои руки. Ты должен знать, что мир переполнен глупыми книгами и что число полезных книг очень невелико. Как только ты получаешь новую книгу, первым делом ты должен подумать, какую пользу может она принести тебе. Если ты найдешь, что она не заключает ничего, кроме пустых рассказов или пустых рассуждений, то отложи ее в сторону и возьмись за свою грамматику или за какую-нибудь другую хорошую книгу, которая дает положительные сведения. В твои годы время дорого. Каждый час, потерянный в болтовне или в чтении чепухи, потребует нескольких дней работы впоследствии. Часть лета можно употребить на прогулки, занятия спортом и т. д., но зима целиком должна быть посвящена занятиям с утра до вечера. Прощай, мой дорогой Миша. Поцелуй руки у твоей матери и сестры и поверь, что я навсегда твой верный друг. Михаил». Только по дате, упомянутой в начале письма, можно определить, что оно отделено от предыдущего целым годом Акатуя: дух, стиль, ирония, интересы, вопросы все те же; воспитание Миши Волконского, книги, старая собака Варка его действительно занимают «столько же, сколько собственные дела». Есть два способа преодолевать своих тюремщиков. Первый: они существуют, я помню, но я сильнее. Этот способ доступен многим из лучших. Но возможна и большая победа: они как бы и не существуют или представляют «внешний мир», не больше любого другого предмета. И тогда побежденное страдание переходит в пренебрежительное добродушие. Провизия, посуда, подсвечники улучшают быт, освежают воспоминания. Но не будь всего этого — тоже ничего… «Я не жалею ни об одной из потерь…» «И одинаково готов к медленной смерти в тюрьме и моментальной на эшафоте…» И снова, как увидим, нерчинские письмоводители, сами не подозревая о своем назначении, составили комментарий к этому посланию. 11. На имя государственного преступника Михаила Лунина почти каждую неделю поступают письма, посылки или деньги. В Иркутске или Нерчинском заводе обычно накапливается несколько отправлений, которые вручаются разом. Так, по распискам Лунина, в делах Нерчинской горной конторы мы узнаем, что счастливыми днями в его заточении были 29 июля 1841 года (получил 6 писем, деньги, 3 посылки), 11 сентября 1843 года (8 писем и деньги), 15 октября 1845 года (8 писем, 5 посылок, в том числе одна с газетами). Всего за восемь месяцев 1841 года он получил 21 письмо, за 1842-й — 30, за 1843-й — 32, за 1844 год сведений обнаружить не удалось. Наконец, 30 писем пришло за 1845 год (после смерти Лунина еще два месяца посылки и деньги продолжали идти). Сопоставляя расписки Лунина и других каторжан, увидим, что декабрист всегда подчеркнуто лаконичен. Многие подробно поясняют, от кого получено письмо, от какого числа, откуда… Лунин же, нисколько не заботясь о будущих историках, не желает даже слова лишнего сказать властям: «Письмо получил», «2 письма получил» и т. п. Только когда само начальство объявляет о содержимом посылки, он подтверждает: «1843 года, января 29 числа. Ящик с книгами получил» (прибыло 14 книг, пересланных из III отделения). 24 июня 1845 г.: «… портрет получил». Однако стоило горному начальству прислать разбитый ящик, не оговорив того в ведомости, как Лунин не упустил случая намекнуть: «1842 года, майя 29, разбитый ящик, в котором разбитых картузов турецкого табака 14 фунтов получил». Однажды он расписывается: «Уведомление о четырех письмах читал, три письма получил»… Ящики достаточно часто разбивались, начальство без устали проверяло содержимое, так что в ведомостях нередко мелькает: «20 фунтов кофе и 20 фунтов столовых восковых свеч», «ящик, обшитый в холст, с бельем», «чаю байхового черного 2 фунта и сахару рафинаду одна голова и 2 ящика весом 25 фунтов», «щеколату З фунта» и т. д. Нерчинский завод предписывал Машукову хранить лунинские вещи«и давать из них то, что ему надобно будет», но пристав лучше знал своих ребят и рапортовал, что «на хранение признано много удобнее передать (вещи)ему, Лунину, кроме денег»[174]. К концу пребывания Лунина в Акатуе посылки с «большой земли» отправлялись уже не на имя иркутского губернатора, а непосредственно поступали из III отделения: очевидно, заключенный сумел передать на волю, как лучше посылать, и действительно, ящики из III отделения как-то реже разбивались… Большая часть писем и посылок, конечно, приходила все от той же долготерпеливой Екатерины Сергеевны Уваровой. Однако в ведомостях, обычно безымянных, изредка встречаются другие имена. Несколько раз иркутский гражданский губернатор препровождал к нерчинскому горному начальнику«посылку, полученную от жены государственного преступника Волконского на имя государственного преступника Михаила Лунина», и вскоре адресат, видимо, принимал чернильное лекарство стальным перышком… Однажды мелькает неизвестное нам польское имя: дворянин Липовецкого уезда Киевской губернии Феликс Цишевский просил иркутского губернатора передать 325 рублей ссыльному поляку Антону Бопре и по 100 рублей Лунину, Петру Высоцкому и Францу Мальчевскому[175]. Можно ли сомневаться, что Лунин находил способы поделиться запасами и помочь многим (например, Высоцкому, не получавшему почти никаких писем и посылок)? При помощи нерчинских бумаг можно было бы мысленно расположить в камере Лунина разные вещи, мелькавшие в реестрах: бронзовое распятие, «стенные часы memento mori», самовар полуведерный желтой меди, очки в ветхом футляре, сафьяновый матрас и подушку, три зубочистки, головную щетку, шелковую косынку… Изящная вещица вдруг напомнит давно исчезнувшего кавалергарда и гусара или уют далекой усадьбы, но тут же само по себе существование списка вещейразгонит прошлое и напомнит обстоятельства места и времени. 12. На вопрос Николая Ивановича Пущина,«чем он может облегчить его участь», Лунин отвечал: «Лучше позаботьтесь о тех, которые прикованы к стене, — их положение только ожесточает, а не дает возможности нравственного улучшения». H. И. Пущин, младший брат декабриста, ревизовал сибирские тюрьмы по поручению министерства юстиции. Очевидно, он доставил письмо и посылку от Волконских, но в таком жалком виде, что Лунин щелкнул посредника в первых же строках ответного письма (и тот же Николай Пущин повез письмо в Иркутск). Лунин — Марии Волконской. «Ваши письма, сударыня, возбуждают мою бодрость и скрашивают суровые лишения моего заключения. Я Вас люблю так же, как и мою сестру. У нас считается заслугой быть в сношениях с противником власти. Простодушие тоже имеет свои заслуги. Представьте себе, что часы разлетелись в куски, янтарь превратился в порошок, провизия — в кашу и т. д. и т.д. Простодушие утверждает, что это вина упаковки, но я этому абсолютно не верю. Было бы лучше вступить в сношение с местными властями и посылать посылки по почте. Занятия Миши дают мне пищу для размышления в глубине темницы. В настоящее время главный предмет — это изучение языков. Помимо французского и английского, латинский и немецкий являются безусловной необходимостью. Эти четыре языка суть ключи современной цивилизации. Есть еще один язык, греческий, но время его настанет позднее. Заклинаю Вас говорить всегда по-французски или по-английски с Мишей и никогда по-русски. Вначале это будет Вас несколько стеснять, но Вы постепенно привыкнете, а он извлечет из этого наивысшую пользу. Одна беседа стоит десяти уроков. Ваш брат Александр[176], без сомнения, в курсе учебных руководств, принятых в начальных школах за границей, в особенности во Франции, где народное образование наилучше поставлено в настоящее время. Попросите выслать подбор таких руководств по истории, географии, математике и т. д. При помощи этих источников можно заниматься так же хорошо в Сибири, как и в Германии и Франции. Смерть моего дорогого Никиты огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии. Я никак не могу согласиться на продажу Болландистов[177], которых моя сестра выписала для меня с большими издержками из-за границы. Этот труд является драгоценным источником исторических сведений, относящихся к средним векам. Преосвященный архиерей предлагает вам смехотворную сделку. Разумнее всего было бы избегать какого бы то ни было общения с этими господами, которые представляют собою не что иное, как переряженных жандармов. Вы знаете роль, которую они играли в нашем процессе. Надо все простить, но ничего не забыть. Чтобы составить себе понятие о моем нынешнем положении, нужно прочесть «Тайны Удольфа» или какой-нибудь другой роман мадам де Радклиф. Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами и фальшивомонетчиками. Мое единственное развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы. Пред лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в поразительном состоянии и силы мои далеко не убывают, а, наоборот, кажется, увеличиваются. Я поднимаю без усилия девять пудов одной рукой. Все это меня совершенно убедило в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях и что в этом мире несчастливы только глупцы и скоты. Прощайте, моя дорогая сестра по изгнанию! Примите уверения в совершенной дружбе, которую хранит всецело преданный Вам Михаил». Письмо это более злое, нервное, чем два предыдущих (гнев против «простодушия» как бы разлился и по следующим строчкам). Никита Муравьев угас в Урике, не прожив и 47 лет, дочку его отправили в Россию. «Один стоил целой академии» — а что толку? И где сочинения, которые они вместе составили несколько лет назад? Может быть, ходят по Европе или дремлют в шкатулке у сестры? Из письма смутно угадываются какие-то столкновения Лунина с начальством: кнутобой в Акатуе — зрелище обязательное, и каково Лунину глядеть молча, «все прощать, вероятно, ничего не забывая»? Но и это в конце концов преодолено; и уж 9 пудов отрываются от земли одной рукой (что, говорят, нелегко). А через несколько месяцев, очевидно снова при посредстве прибывшего на рождество капеллана, Волконским отправляется письмо-утешение: Лунин — Сергею Волконскому. «Мой дорогой друг! Письмо ваше от 5 ноября 1843 г. сообщает мне о печальных вещах, которым следует покориться, так как не от нас зависит изменить их. Они изменятся сами впоследствии, так как нет ничего устойчивого и постоянного в этом мире, форма которого проходит. С своей стороны, я могу дать вам лишь добрые известия. Здоровье мое держится великолепно, несмотря на суровость заточения и всевозможные лишения. Мои занятия, преуспевают в уединении и тишине тюрьмы. В течение двух последних лет я прилежу главным образом к греческому языку при помощи книг, которые сестра моя прислала мне, как бы по внушению, из Берлина. Занятия мои имеют предметом религиозные верования у Гомера. Удивляешься, обозревая мир преданий, им раскрываемый, когда находишь на каждом шагу алтарь в честь неведомого бога. Вымыслы и мифы, которыми поэт окружает истины первоначального Откровения, не затемняют его блеска и, в свою очередь, суть только заблуждение некоторой истины. Эта сторона была лишь слегка затронута многочисленными комментаторами Гомера и во всех переводах ускользает от разбора. Я собрал значительное количество материалов по этому поводу. Но горе мне, если моя греческая мазня попадет в руки властей. Они будут способны сжечь меня живым, как колдуна, чернокнижника. Вы жалуетесь на мою сестру, а она жалуется на вас. Довольно странно, что ваши взаимные письма пропадают. Письмо от вас с одним косвенным намеком на мой счет доставило бы ей большое удовольствие. Эта бедная женщина похожа на курицу, высидевшую утят. Один вдается в военщину, а другой — в науку. Она не знает, ни за кем ей бежать, ни на что решиться… Заботы, которые вы оказываете Василичу и его семье, показывают одновременно и ваше превосходное сердце, и вашу постоянную ко мне дружбу. Кому была бы охота брать на себя подобную тяготу? Не имея возможности ничего сделать для этих бедных людей из глубины моей темницы, я вручаю вам их судьбу. Довершите доброе дело, начатое вами и продолжаемое с таким успехом. Нельзя ли было бы придумать им какое-нибудь занятие или найти им место, дохода с которого хватало бы на их содержание? Если дом не конфискован, вы можете продать его, чтобы вырученную за него цену употребить на их содержание. Столкуйтесь по этому вопросу с моей сестрой, которая не замедлит, я в том уверен, осуществить ваши мысли, несмотря на критическое состояние своих финансов. Варка сделался мне еще дороже с тех пор, что он стал калекой. Я отдал бы половину того, чем владею, чтобы вновь увидеть этого неразлучного товарища моих исполненных приключениями походов в сибирских лесах. Позаботьтесь хорошенько кормить бедного инвалида. Что сталось с другими собаками: Маргой, Формозой, Аудаксом, двумя Дианами, Тограчом и Плаксой?.. Прощайте, мой дорогой и почтенный друг. Приветствуйте от меня всех тех, которые меня помнят, и верьте искренней дружбе вашего преданного и признательного Михаила». Лунин настолько не переменился, настолько сохранил прежние взгляды и привязанности, что, вычисляя по известному то, чего не знаем, мы имеем право предположить: не взялся ли опять за старое? «Горе мне, если моя греческая мазня попадет в руки властей…» Нелегко догадаться по нескольким строчкам, как можно задеть правителей «религиозными верованиями у Гомера», кажется, смысл этого места, — что в мифах и легендах куда больше реального смысла, чем считают; но ведь о таких сюжетах не запрещает толковать даже министр народного просвещения? Значит, есть тут нечто другое, возможно понятное Волконским, но не нам… 13. А за 7000 верст жили как прежде. Только вместо Михаила Лунина шутки шутил некий Костя Булгаков. Великий князь Михаил Павлович однажды застал его в двух верстах от места дежурства, помчался во весь дух, потребовал дежурного, чтобы при всех выявить его отсутствие, и… Булгаков тотчас появился, ибо прицепился к великокняжеской карете… Кузен Николай Александрович Лунин — уже тайный советник и член комитета по коннозаводству, один из лучших российских лошадников. Николай I велит выпустить на волю невинного человека, просидевшего «за политику» 11 месяцев: « — Ты на меня сердишься? Арестант не знал, что ответить, и заплакал. — Мне было хуже твоего…» Парижский литератор Ипполит Оже решает прокатиться в Россию, край молодых воспоминаний. Когда он представляется Бенкендорфу, шеф сразу спрашивает об отношениях с Луниным. Француз испуган и объявляет, что Лунин его «совсем забыл». « — Это доказательство, что он Вас уважал. — Я узнал, что он был замешан в возмущении 14 декабря. — Точнее сказать — он замешал туда других… И в рудниках он продолжает предаваться безумным надеждам… Он неисправим» 14. Екатерина Уварова-Алексею Орлову, шефу жандармов[178], 4 октября 1844 г. «Ваше сиятельство, милостивый государь граф Алексей Федорович! С марта 1841 года брат мой заброшен на границу Китая в Акатуйский рудник, в сравнении которого и самый Нерчинск может показаться земным раем… Вероятно, живейшее раскаяние давно уже тронуло его сердце, но так как ему возбранено писать, то утвердительно о том судить нельзя. Нераскаяние в его положении, если бы оно могло быть возможным, не иначе могло бы быть истолковано, как приписывая оное расстройству его рассудка… Некогда (давно тому назад!!!) Вы спасли его жизнь, прострелив его шляпу, — теперь, именем самого бога, спасите душу его от отчаяния, рассудок его от помешательства…» Резолюция рукою генерала Дубельта, помощника Орлова начальника III отделения: «Оставить». Алексей Орлов, говорят, был человеком ленивым и незлым, то есть не сделавшим на своей должности всего зла, которое мог бы причинить. 15 лет спустя, встретившись в Париже с амнистированным приятелем юности декабристом Иваном Анненковым, обнял его:«Ну что, все еще либерал?» Но Лунин на той, давней, дуэли все советовал Орлову, как лучше целиться, и восклицательные знаки Уваровой, кажется, напомнили шефу и генерал-адъютанту, что выстрел за ним: Уваровой даже не было отвечено, хотя письмо передавала двоюродная сестра Орлова, графиня Анна Алексеевна. Дубельт же составил справку: «Что Лунин находится в Акатуйском руднике на границе Китая, как пишет Уварова, то в III отделении об этом неизвестно». Уварова — Дубельту. 17 сентября 1845 года из Берлина — в Петербург. «Милостивый государь Леонтий Васильевич! Ободренная нашей встречей на вечере у графини Канкриной, моей кузины, а также милостивым обращением со мною Государыни, во время проводов ее из Берлина в минувший вторник, осмелюсь снова обеспокоить Ваше высокопревосходительство просьбой об облегчении участи моего несчастного брата, о чем я утруждала внимание Его сиятельства графа Алексея Федоровича [Орлова]в минувшем году, но не получила ответа. Просьба же моя состоит в том, чтобы милосердие Государя простерлось на несчастного брата моего, заточенного уже пятый год в Акатуевской тюрьме, и ему было разрешено вернуться на место первоначального его поселения. Прошу, по крайней мере, уведомить меня, жив ли еще мой брат и доставлены ли ему книги — единственное утешение в заточении…» Дубельт — Уваровой 5 октября 1845 года. «Граф не изволит признать возможным утруждать Государя императора всеподданнейшим докладом по сему предмету». Уварова — Николаю I. 12 октября 1845 года. «Ваше императорское величество! С трепетом осмеливаюсь припасть к стопам величайшего из монархов… … Именем Христа, бога вселюбящего и всепрощающего, умоляю вернуть моего брата из Акатуевской тюрьмы на прежнее место его поселения и воскресить Нового Лазаря к жизни раскаяния и труда, после четырех лет отрешения от всякого общения с людьми…» На письме — резолюция Орлова: «Невозможно. Высочайшего соизволения не последовало». 15. Лунин — Марии Волконской. «Ваши письма, сударыня, и новости, которые я узнаю о Вас от проезжих, способствуют к услаждению и очарованию моей неволи. Проект отправления мне Варки и Ваши попытки в этом направлении являются доказательством Вашей дружбы, коими я глубоко тронут и которые никогда не изгладятся из моей памяти. Между тем, к счастью, этот проект не удался. Ибо я не знаю, ни где поместить, ни чем кормить это бедное животное. Моя темница так сыра, что книги и платья покрываются плесенью, моя пища так умеренна, что не остается даже чем накормить кошку. Это больше, чем монастырская жизнь. Перейдем к вопросу, интересующему меня больше всего в нашей переписке. Англичанин мне сказал, что Миша сносно понимает по-английски и что у него отличное произношение. Это служит доказательством того, что Вы не пренебрегали уроками после моего отъезда. Материнская любовь, как и вера. Я прошу Вас продолжать, принявши следующий метод. Пусть Миша Вам читает вслух английскую страницу, буквально переводя одну фразу за другой, с помощью словаря для неизвестных слов. После этого Вы ему прочтете ту же страницу, но очень медленно и внятно. Таким образом слова и выражения запечатлеваются одновременно и через зрение, и через слух. Это упражнение требует не более одного часа ежедневно, и Вы будете поражены результатом по истечении года. Я надеюсь, что доктор (глухой) передал Вам мои мысли относительно физического и гигиенического воспитания…» Сергею Волконскому. «Мой дорогой друг. То, что я пишу моей сестре по изгнанию о воспитании Миши, адресуется также и к Вам. Если Вы разделяете мои идеи, я прошу Вас проследить за их осуществлением. Метод, предлагаемый мной для изучения английского языка, мог бы быть применен в равной степени с успехом и к латинскому. Визит господ из Комиссии доставил мне приятное развлечение. У них такой вид, будто они разыгрывают комедию со своими административными, законодательными и филантропическими взглядами. Мы ожидаем приезда кочующего сенатора и примадонны труппы. Эти комиссии, ненужные, смешные и обременительные для страны, служат доказательством истин, провозглашенных мною и которых другие делают вид, что не понимают. Мое здоровье все время в прежнем положении. Я купаюсь в октябре при 5 и 7 градусах мороза в ручье, протекающем в нескольких шагах от тюрьмы, в котором для этой цели делают прорубь. Такие холодные купанья приносят огромную пользу. Занятия замирают, потому что книги и все необходимые принадлежности отсутствуют. Михаил». Это удалось передать в конце 1844-го, вероятно через каких-то «господ из комиссии» (еще одна ревизия Сибири, возглавляемая еще не доехавшим до Акатуя сенатором Толстым!). Связь с Иркутском хоть прерывиста, но не замирает: из письма видно, что перед тем письма или вести доставлял еще какой-то «англичанин» и «глухой доктор». Заключенный, как всегда, не жалуется, только констатирует: но Акатуй берет свое:«Темница сыра… Занятия замирают…» В начале 1845-го он передает: «Мое здоровье сносно, несмотря на все принимаемые меры к его разрушению. Я доволен своим положением, только нет Варки. Этот каламбур не шутка, но горькая истина. Случается мне видеть во сне чудные обеды которые я ел у вас и Трубецких. Кусок мяса — редкость в этой стране. Чай без сахара, хлеб, вода, иногда каша — вот моя ежедневная пища». Однако даже питательные сны не часто являются в Акатуй: «Для меня большое лишение не знать времени в продолжение долгих, бессонных ночей, проводимых в тюрьме». Мы не ведаем, какие страницы, священного писания или греческих книг, он сопоставляет со своею судьбой. Прежде, в Урике, было «облако свидетелей» апостола Павла, смерть Алкивиада, изгнание Фемистокла. Теперь, может быть, Даниил во львином рву («Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне…» ). Или Катон, знающий, что его гибель совсем близка, но ведущий за столом «ученый и приятный разговор — что только порядочный, нравственный человек свободен, а все другие люди — рабы»… 16. «Сенатор, объезжавший Восточную Сибирь, был последний человек, видевший Лунина в живых. Он и тут остался верен своему характеру, и, когда [сенатор] входил к нему, он с видом светского человека сказал ему: «Permetez-moi de vous faire les honneurs de mon tombeau», — «позвольте мне Вас принять в моем гробу» (из «Колокола»). Последний лунинский анекдот. Сенатор Иван Николаевич Толстой, знакомый многим декабристам, посетил Акатуй в марте 1845-го. До этого он успел обнаружить крупные злоупотребления в сибирском управлении, и от его доклада супругам Рупертам не поздоровится. Лунину же — все едино. 17. Последнее письмо Лунина (Сергею Волконскому). «Обращаясь к Вам, мой дорогой друг, я оставляю в стороне выражения чувств и прямо приступаю к делу. Если мои дом подходит г. Мрозовскому, Вы столкуйтесь о цене и уступите дом ему. Деньги, вырученные от продажи. Вы употребите в пользу Василича и его семьи тем способом, какой Вы найдете удобнейшим. Пришлите мне оставшиеся книги и образ богородицы через посредство властей, требуя, чтобы издержки по пересылке были удержаны из принадлежащих мне денег, которые гниют бесплодно в правительственных кассах. Здоровье мое поразительно. И если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет. Но мне нужны специи и лекарства для бедных моих товарищей по заключению. Пришлите средства от лихорадки, от простуды и от ран, причиняемых кнутом и шпицрутенами. Издержки на этот предмет будут также возмещены из моих средств. Здесь у меня есть несколько тысяч рублей, но это все равно как если б у меня ничего не было, — из-за таинственности моего заключения. Прощайте, мой дорогой друг. Если вы хотите получать более длинные и более подробные письма, присылайте бумагу и чернильный порошок. Передайте мой дружеский привет всем тем, кто меня помнит и меня понимает. Преданный вам Михаил». Возможно, старик бодрился, не желал жаловаться… В шутливом «если только не вздумают меня повесить или расстрелять…» не скрыт ли особый смысл? Когда Лунин из Урика писал сестре об Алкивиаде и «новых тучах на горизонте», он ведь многое знал за собою! В отчетах пристава Машукова нерчинскому начальству, начиная с декабря 1841 года, ежемесячно сообщается, что Лунин «вел себя порядочно и ничего предосудительного не замечено, кроме слабости здоровья, вероятно, от сиденки, над ним действуемой…»[179]. Однако в июле 1843 года Машуков уже сообщал, что «слабости в здоровье не видно, которая прошла постепенно, и ныне находится совершенно здоров». Так или иначе, но известие о смерти Лунина для его товарищей и близких явилось ошеломляющей неожиданностью. X 1. «В понедельник 3(15) декабря 1845 годав город Санкт-Петербург прибыли по делам службы корнеты лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Балашев 2-й, Савельев и Иловайский» (из газет). 3(15) декабря парагвайские войска атаковали Аргентину… 3 декабря Достоевский читает своего «Двойника» на квартире Белинского в присутствии И. Тургенева, Григоровича и П. Анненкова. 12-й номер «Отечественных записок» с повестью Герцена «Кто виноват?» начал распространяться. 3 декабря экспедиция Джона Франклина зимует в полярной Америке, быстро приближаясь к гибели. 3/15 декабря 1845 года «Его величество король Обеих Сицилий и все находящиеся с ним в Палермо обворожены приветливостью Их императорских величеств государя и государыни Всероссийской и Ее императорского высочества великой княгини Ольги Николаевны. Государя императора сопровождают граф Нессельроде, граф Орлов, князь Меншиков и генерал-адъютант Адлерберг. Доказательством спокойного и довольного расположения умов во всех неаполитанских провинциях служит отозвание почти всех жандармских команд в Неаполь. В неаполитанском театре Сан-Карло 14 лож оставлено для свиты государя императора, которого в ближайшие дни сюда ожидают. Место в партере нельзя ныне получить дешевле шести пиастров. На время пребывания Его величества в Неаполе не составлено никакой программы празднества, потому что все должно происходить так, как будет угодно государю императору». 3 декабря 1845 года Лунин умер в Акатуе. 2. Официальная версия: «1845 года декабря 3 дня государственный преступник Лунин поутру в 8 часов помер от кровяно-нервного удара». Слухи: В начале пятидесятых годов Е. С. Уварова рассказывает о брате И. С. Гагарину[180]: «Утром он охотился, вернувшись к себе, он лег, чтобы уже больше не вставать: слишком рано закрыли печку и он угорел». Характерно, что даже самый близкий Лунину человек не представляет условий Акатуя и наивно предполагает, будто он мог там пользоваться оружием, охотиться… Михаил Бестужев в 1869 году рассказывает М. И. Семевскому: «Одни говорят, что (Лунин) был убит, а другие говорят, что умер от угара». В том же году в Кракове выходит книга Владислава Чаплицкого. Участник польского восстания 1863 года, проведший несколько лет в Акатуе, он записывал рассказы польских ссыльных, при переходе границы рукопись уничтожил, но затем восстановил ее по памяти. Между прочим, Чаплицкий сообщает, что тайный приказ об убийстве Лунина пришел из Петербурга непосредственно от царя, и его исполнил офицер Григорьев: «Однажды ночью, часа за два до утра, в акатуевских стенах началось большое и какое-то зловещее движение. Ни с того ни с сего всех без различия заключенных, кроме семерых, обыкновенных преступников, а также вся воинская команда, вопреки принятым обычаям, отправлены на работу. Это делалось быстро и было приказано соблюдать тишину, так что помимо желания всех проняла дрожь, все предчувствовали что-то страшное, что-то жестокое. Когда вывели всех, Григорьев во главе семерых бандитов тихо подходит к двери Лунина, быстро открывает и первый врывается в комнату узника. Лунин лежал уже в постели, но на столике у постели горела свеча. Лунин еще что-то читал. Григорьев первым бросился на Лунина и схватил его за горло, за ним бросились разбойники, схватив за руки и ноги, надвинули подушку на лицо и, сдавив горло руками, начали душить. На крик Лунина и шум борьбы из другой комнаты выскочил его капеллан, вывести которого, очевидно, забыли. Пораженный, он стоял в дверях и, увидев Григорьева с разбойниками, душащими Лунина, объятый ужасом, в отчаянии заламывал руки. Один из разбойников, заметивший капеллана, взглядом спросил Григорьева — может, и капеллан, ненужный свидетель, должен стать его жертвой? Григорьев, душа одной рукой Лунина, другой подозвал к себе спрашивавшего разбойника и подал ему знак, чтобы тот заменил его в душении. Разбойник подскочил к Лунину, с легкостью отодвинул Григорьева и, привычный к ремеслу такого рода, в мгновение ока довершил убийство. Григорьев же, отпустив горло Лунина, кланяясь со всей изысканностью, подошел к капеллану и, извиняясь перед ним так, как будто дело шло о какой-нибудь мелочи, недоразумении между приятелями… протягивая к капеллану руки, говорит ему без смущения: «Извините, извините, это вас не касается. Это, — указывая на палачей, — это по приказанию нашего милостивого Государя». «Извините, — повторил он и прибавил: — насчет вас, по крайней мере, нет никакого распоряжения»». С. Б. Окунь установил, что подпоручик Григорьев действительно служил в Акатуе и именно он доставил туда Лунина. Б.Г. Кубалов писал, что «среди стариков Акатуя сосланный туда тов. Мейлуп О.И. слышал версию о смерти Лунина. Старики говорили, что Лунин нес кипяток, повстречался с надзирателем, повздорил с ним, поволновался и умер от разрыва сердца, другие говорят, что начальство сократило его дни». Кубалов находит в этой легенде слова самого Лунина, который писал, что, делая ему целый ряд притеснений, власть тем самым сокращает его дни. Наконец, в библиотеке Читинского областного краеведческого музея, благодаря любезности А.Ф. Сараева, мне удалось ознакомиться с пометами, которые сделал на полях сочинений Лунина (издание 1923 года под редакцией С.Я. Штрайха) Алексей Кириллович Кузнецов — в молодости революционер и ссыльный, позже основатель музея, крупный забайкальский историк и краевед. На странице 113-й (в 4-м абзаце) подчеркнуты слова Е.С. Уваровой: «вероятно, брат уже раскаялся за это время». На полях А.К. Кузнецов написал: «Нет, его задушил смотритель рудника И.А. Машуков». На странице 114-й, против 4-го абзаца, где цитируется официальное сообщение о скоропостижной смерти Лунина: «Удавили. Иван Андрианович Машуков». А. К. Кузнецов верно называет фамилию пристава (правда звали его не Иваном Андриановичем, а Адрианом или Андреяном Степановичем). Революционер и историк, живший с 1848 по 1928 год, мог еще встречаться со многими современниками, даже знакомыми Лунина. Его записи еще раз свидетельствуют, сколь устойчива была версия о насильственной смерти декабриста. Понятно, в Иркутск и Петербург были отправлены лишь краткие результаты следствия, которое велось по этому делу, основные же документы должны были остаться в бумагах Нерчинского округа. В Читинском архиве мне удалось обнаружить большой, 1179 листов, рукописный том «Следственные дела по расследованию несчастных случаев, имевших место по рудникам и приискам Нерчинского округа. 17.VIII 1844 — 7.III 1846 г.» [181]. В нем собрано 49 следственных дел. Между номером 38 — «о скоропостижно умершем буряте Такшиеве» и номером 40 — «о найденном мертвом теле поселенца Сухорукова» находится 39-е дело «по рапорту Александровской горной конторы о скоропостижно умершем государственном преступнике Михаиле Лунине» (а в нем — 13 документов на 39 листах)… Перед нами бюрократический слепок события. Утром 3 декабря 1845 года Лунина не стало. Известие об этом быстро прошло 20 верст, до ближайшего начальства — Александровской горной конторы. В Александровском заводе главным лицом, за отсутствием управляющего, был помощник последнего поручик Николай Александрович Версилов. Вечером 4 декабря (то есть почти через двое суток после происшествия!) он прибыл в Акатуй вместе с лекарем Александровской конторы коллежским асессором Якимом Алексеевичем Орловым и вскоре рапортовал управляющему (то есть… самому себе!) и представил записи сделанных допросов. Первым был вызван ссыльнокаторжный Николай Родионов, «православного исповедания, неграмотен, от роду 40 лет, прежде сего был Тверской губернии из господских людей, сужден за смертоубийство, наказан кнутом, послан в каторжную работу, в Нерчинские заводы приведен в 1838 году; будучи в оных, за драку в Шилкинском заводе наказан шпицрутенами с заключением на содержание в тюремный замок на пять лет». Родионов рассказал следователю: «А как я, находясь (в тюремном замке) истопщиком печей, то в З число сего месяца пришел топить печку в комнате, где содержался государственный преступник Михайло Лунин. По приходе моем в оную с дровами, положил их к печке и спрашивал его о затоплении, но он на спрос мой ничего не отвечал. Я, не смотрев его, а тотчас же обратился к артельщику, ссыльному Ивану Баранову и сказал ему, что по приносе дров в комнату государственного преступника Лунина, спрашивал о затоплении, но он (на) мой вопрос ничего не отвечал. Баранов вообще[182] со мною пришли в комнату Лунина, посмотрев его и не приметив в нем дыхания, предположили, что он мертв. Тотчас же после этого они вышли из комнаты и сказали о сем часовому Ленкову. Сей в то же время скричал караульного унтер-офицера Шадрина и ефрейтора рядового Василия Беломестного, рассказал им о случившемся, а сии последние известили господина капитана Алексеева[183]и дали знать приставу дистанции, коими и делан был Лунину осмотр». Затем дал показания другой свидетель, человек со столь же характерной акатуевской биографией — «Иван Баранов, православного вероисповедания, грамотен, от роду 62 годов. прежде сего был Казанской губернии, из мещан, сужден за покупку грабленой шубы, наказан кнутом, попал в каторжную работу, в Нерчинские заводы приведен в 1836 году. Находясь в оных, за побег наказан шпицрутенами с содержанием в замке 5 лет». Баранов рассказал в общем то же, что и Родионов: «По приходе [в комнату] увидели его [Лунина] лежащим на кровати на спине, руки обе положены на брюхе, одетый теплым бекешем: у которого дыхание незаметно было, почему и положились, что он мертвый, о чем того же разу сказали часовому». Наконец допрошен был и часовой, рядовой Роман Ленков. «28 лет, неграмотен, в службе из крестьян с 1837 года». Все три свидетеля видели Лунина уже мертвым и ничего не могли сказать о времени или обстоятельствах его кончины. Солдат, стоявший на часах прежде Ленкова, либо вовсе не допрашивался, либо его показания не попали в дело… Дальнейшее расследование, как обычно, имело целью установить, не была ли смерть Лунина насильственной. Старший лекарский ученик Игнатий Соснин рассказал, как утром З декабря его вызвал пристав дистанции Машуков и как он в присутствии этого пристава и командира охраны капитана Алексеева «осматривал помянутого Лунина»: «Ощупав его тело, как оно, так руки и ноги были еще не совершенно застывшие, почему я для возвращения жизни Лунина пустился перевязать ему руку бинтом и чтоб открыть кровь, полагал и то, не в обмороке ли он находится; делал секции, но кровь не потекла, и все пособия мои остались тщетны, оставя его в том положении, как он был возвратился на свою должность, знаков же или каких-либо сомнений к насильственной смерти Лунина, ничего заметного не было». Вслед за тем «4 декабря в 10 часов пополудни» Версилов, Алексеев, Машуков и лекарь Орлов «взошли в комнату, в которой хранилось за военным караулом мертвое тело скоропостижно умершего государственного преступника Лунина». Тут в официальный отчет неожиданно проникают странные здесь, живые слова, описывающие умершего: «Его положение, бледное, как и всегда, почти не изменившееся лицо, и вообще весь вид его как будто тихо и спокойно спящего…» Протокол свидетельствовал, что Лунин лежал тепло одетый, видно из-за холода, проникавшего в каземат: «на нем находились беличья шубка, в которую был одет: на шее черный галстук, слабо повязанный, и висевшее маленькое серебряное распятие на двух ременных шнурках с четками; далее — суконный поношенный жилет, холщовая рубаха и порты, а на ногах двое получулочьев — холщовые и шерстяные». Вслед за тем тело Лунина перенесли на гауптвахту, и лекарь Орлов «в третьем часу пополудни» (очевидно, 5 декабря) произвел вскрытие и составил протокол. Сначала шло внешнее описание: «Государственный преступник Михаил Лунин, росту двух аршин и осьми с половиною вершков, от роду 62 лет[184], телосложения довольно слабого, волосы на голове русые со значительною проседью, лицо продолговатое, нос большой острый». (Вспоминается запись Л. Толстого со слов стариков-декабристов: «Лунин, длинный, рыжий…» ) В подробном медицинском заключении, между прочим, сообщалось о «четырех унциях густой крови на основании или нижней части черепа, что, вероятно, произошло вследствие разрыва кровеносных сосудов мозга» . Затем шло подробное описание других внутренних органов и окончательное заключение. «Из всего вышеизложенного, — констатировал Орлов,— я полагаю, что смерть государственному преступнику Михаилу Лунину последовала вследствие чрезвычайного, в огромном количестве, излияния и накопа крови на основании черепа, действующего на общее чувствилище и становую жилу и почти мгновенно прекратившего их отправление, что означает кровяно-нервный удар (Apoplexia sanguinco-nervosa). К этому, я полагаю, весьма много действовала аневризма восходящей артерии и чрезмерный накоп крови в задних долях легких, пришедших от этого в параличное состояние. В заключение удостоверяю, что весь осмотр составлен по самой сущей справедливости и совести, согласно правилам медицины и по долгу службы и присяги. Дано это свидетельство в Акатуевской горной дистанции декабря б дня, 1845 года». К медицинскому заключению приложено свидетельство александрозаводского священника Самсония Лазарева: «Я умершего государственного преступника Михаила Лунина римско-католического исповедания в 5-е число этого декабря по обряду православной церкви (!) отпевал». Итак, апоплексический удар… Действительно, «по медицине» все правильно, все признаки инсульта налицо. Только одно мешает до конца поверить следователям и врачу: не врут ли?. За дальними расстояниями, в каторжной глуши могло быть сфабриковано любое дело и покрыто любое преступление (вспомним, что каторжник Гаськов обвинял одного из охранников в удавлении каторжника Филиппова, но ничего не смог доказать…) . Вполне возможно, что Лунин действительно умер от инсульта. Но кто поручится, что 3 декабря до семи часов утра к нему в комнату не проникли убийцы (как это описывал В. Чаплицкий)? Кто знает, что на самом деле говорили, делали и как распределяли роли пристав Машуков и его помощники? Мотивов для убийства в таком месте, как Акатуй, могло быть немало: озлобление тюремного начальства против Лунина (при нем ведь не так безнаказанно, как прежде); может быть, стремление поживиться за счет декабриста или боязнь побега, восстания, или, наконец, тайное распоряжение высшей власти… В секретных архивах об этом, конечно, ничего, но ведь не всякое слово в строку ставится… Кроме отсутствующих допросов ночного часового, настораживают еще два обстоятельства. Странная канцелярская неразбериха вокруг дела: Первое сообщение о смерти Лунина пошло в Нерчинский завод, к горному начальнику, а оттуда было доставлено в Иркутск примерно 24 декабря 1845 года, потому что именно 24 декабря последовало первое предписание генерал-губернатора Руперта за № 190, предлагавшее обстоятельно донести обо всем деле. Пока все идет «нормально…». Меж тем главный следователь поручик Версилов не торопится и, закончив следствие к 6 декабря, почему-то изготовляет подробный отчет только 19-го, в тот же день рапортует Александровской горной конторе (то есть опять же «самому себе») и, получив рапорт, 21 декабря посылает его наверх. В Нерчинском заводе дату получения документа обозначили как-то странно: «26/31 декабря 1845 г.», но при этом столь важную бумагу держали еще две недели и отправили рапорт в Иркутск только 11 января (после того, как пришло требование от генерал-губернатора за № 190). Переписка продолжалась, но лишь 15 марта 1846 года, через три с лишним месяца после кончины Лунина, начальник Нерчинских горных заводов полковник Родственный послал последний рапорт восточносибирскому генерал-губернатору. «По приговору, присланному при предписании Вашего Высокопревосходительства от 25 числа прошедшего января № 47 о скоропостижно умершем государственном преступнике Михаиле Лунине, исполнено следующее: Случай смерти, последовавший государственному преступнику Лунину, предать воле божией, дело почтено решенным и спрошенные к этому делу люди, по неприкосновенности их учинены свободными». Волокита, суета, задержка важных бумаг о смерти крупного государственного преступника — может быть, они и не были порождены какими-то особыми, таинственными причинами, но они были… Второе, еще более подозрительное обстоятельство: Ни в переписке по поводу смерти декабриста, ни в описях его имущества — нигде ни слова не сказано о находившихся у него бумагах.(Так же, как о «маленьких сокровищах» других узников.) Оказии, приходившие от Волконских, Лунин, понятно, уничтожал, но ведь была еще «греческая мазня», какой-то труд, связанный с Гомером, Геродотом? При «скоропостижной смерти» сочинение должно было уцелеть… Почему же не оказалось и следа этих бумаг в комнате Лунина? Или они там были, но пристав Машуков не стал докладывать, опасаясь, что тем самым выдает самого себя (преступник, выходит, был ловчее, нежели те, кто за ним следил!). Однако, кроме запретных листов, у декабриста могли сохраняться разрешенные. Десятки писем от сестры и других корреспондентов он имел право хранить и перечитывать, как это было на поселении. Ведь сохранилось 180 писем сестры к Лунину (до 1840 года): при обыске в Урике их отобрали и после отослали обратно к Уваровой. Может быть, в Акатуе, ожидая новых обысков, Лунин уничтожил даже переписку, прошедшую сквозь правительственную цензуру? Так или иначе, но ни об одном листке лунинских бумаг в нерчинских делах ни слова, и это странно… Мы коснулись судьбы осиротевшего лунинского имущества. История эта также отложилась в документах Читинского архива. 3. На 466 листах дело «Об имении, оставшемся после смерти государственного крестьянина (так!) Лунина» [185]. Хотя бы писарской ошибкой и посмертно, но — разжалован из преступников в крестьяне. Дело тянулось много лет и отразило явное стремление нерчинского начальства — присвоить имущество Лунина. В конце концов, из Иркутска приказали — провести аукцион. Сохранившийся аукционный лист, составленный летом 1850 года, восстанавливает печальную, хотя отчасти и комическую, картину распродажи, совершившейся в столице горного округа. Для Нерчинского завода такой аукцион был, видно, заметным событием, собравшим немало покупателей, и больше всего — нижних горных чинов. Один из писцов купил лунинский самовар, другие оделись в его брюки и рубахи; все блюдца достались унтершихтмейстерам, титулярный советник Полторанов (не родственник ли «архангела Гавриила» ?) забрал таз, кастрюли, конфорки; дорогие теплые сапоги приобрел крупный начальник, помощник Родственного майор Фитингоф, «стеновые часы» и много других вещей (всего на сумму 28 рублей 29 копеек) купил подпоручик Лебедкин. Покупали и ссыльные: «получулочья» и «курт матерчатый» купил поселенец Ажаметовский, «щеколат» на З рубля l0 копеек забрал «рабочий Мошинский» (очевидно, ссыльный поляк); ему же достались чемодан и головная щетка Лунина. Однако больше всех накупил вещей поручик Янчуговский (по другим документам — Янчуковский). Кроме свечей, карманных часов, сафьянового матраса и сафьяновой подушки, он забрал оптом за пятьдесят рублей все 120 лунинских книг. За ним же остался и один предмет, прежде во всех описях лунинского имущества не встречавшийся: в аукционном листе он значится под № 43:«Портрет — поручику Янчуковскому за 10 коп.». В 1853 году, когда начали взимать деньги, с Янчуковского пытались за портрет удержать не 10 копеек, а 10 рублей, на что офицер (к тому времени уже — штабс-капитан) обиженно отвечал: «В числе вещей куплен был мною портрет маленький, дагерротипный едва ли за 10 рублей, а скорее за 10 копеек… Изображая лицо, интересное для хозяина, стоит не более 5 рублей, а для меня он имел цену медной доски, на которой было изображение». Возможно, «лицом, интересным для хозяина», была сестра Лунина. Екатерина Сергеевна Уварова. Судьба книг, портрета и других вещей, перешедших к Янчуковскому, неизвестна (он расплатился за все к осени 1855 года). Вероятно, штабс-капитан был родственником (может быть, даже сыном) лекаря Феодосия Федоровича Янчуковского обслуживавшего декабристов в Петровском заводе (на его дочери Анне Янчуковской женился в Сибири декабрист Сутгоф). Неизвестна судьба и других вещей Лунина… Спустя еще несколько лет в Иркутске дознались, что большинство аукционных «наследников» декабриста в ведомости расписались, но денег не уплатили. Только 3 августа I860 года Иркутск объявил, что Нерчинск выплатил, наконец, всю лунинскую «дань». Одним из последних документов, завершавших «посмертное следствие», была расписка, отправленная из Петропавловска-Камчатского о получении 1 рубля 20 копеек, взысканных 10 лет спустя с лекарского ученика Михаила Григорьева за три штуки кожаных рубах покойного государственного преступника Лунина (до того по поводу этих рубах было написано еще восемь документов!). Последний документ… А первый ведь был в другом столетии, в письме дядюшки Муравьева с пожеланиями крохотному Мишеньке «добраться во своясы»… Но в то самое время, когда затихал смешной и бесстыдный торг над могилой Лунина, в то самое время, когда власти полагали, что с делами и воспоминаниями об этом беспокойном человеке, наконец, покончено, — в это самое время он вдруг ожил в герценовской «Полярной звезде» и напечатал те самые сочинения, за которые его угнали умирать в Акатуй. XI Около часа я летел из Читы на юго-восток, в Борзю. Внизу были сопки с тысячами желтых лиственниц и река Онон — «Золотой Онон», откуда двинулись на мир орды Чингисхана. Из Борзи — маленьким АН-2 больше получаса на восток, в Александровский завод: два пилота и два пассажира. Внизу чуть в снегу холмы, степь, овечьи отары и унылые костровые дымы. Сели на поле, невдалеке от черных домов Александровского завода. Случайным автобусом по шоссе — на запад, мимо сопок, на которые только что смотрел с самолета, и две рыжие лисицы шарахнулись с дороги в гору. У деревни Базановки приходится сойти с автобуса и дожидаться попутной машины близ столба, на котором обозначено, что до Нерчинского завода (восток) — 207 километров, до Борзи (запад) — 127, а до Акатуя (север) — 12. В конце концов, не дождавшись, шагаю пешком мимо угрюмых сопок, вдали перерастающих в белоголовые горы. Вспоминаю описание, оставленное каторжанами 1890-Х годов: «Мы подходили к Акатую… Серенько и пасмурно стало у нас на душе. Показалась узкая и мрачная долина. Вправо от дороги — высокие сопки, слева — более пологие. Долина Акатуя всегда казалась мрачной, даже в летние, солнечные дни». Через полчаса меня догоняет и везет дальше машина, и горный инженер рассказывает, что прежние свинцовые рудники в Акатуе давно заброшены, но недавно отыскалась новая руда, и на ней держатся комбинат и поселок. Узнав, зачем я приехал, инженер вспоминает: «То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году в областной газете сообщалось любопытное про Благодатский рудник — близко, километров 200 отсюда. Вы, конечно, знаете — каторжный рудник, где декабристы были, там рядом, в Горном Зерентуе, поставили недавно памятник Ивану Сухинову… Да, так в Благодатке вдруг обнаружили в одной из шахт потаенную дверь, но докапываться к ней было не просто, ее, кажется, снова завалили и доселе не разрыли…» Машина пронеслась по длинному, километра два, селению, то взлетая на гребни, то ныряя вниз, и остановилась. Акатуй: внизу — старый Акатуй, выше — новый Акатуй… Я иду к большому прямоугольнику каменных стен — недалеко от дороги, меж двух Акатуев. Стены толстые, неприятно белые, внутри гараж — фыркают машины, снаружи большая доска: «Остатки стен бывшей Акатуевской каторжной тюрьмы. В тюрьме содержались: декабрист М. С. Лунин, польские повстанцы, народовольцы, матросы с транспорта „Прут“, Курнатовский и др. Тюрьма построена в 1832 г. Закрыта в 1917 г.». Значит, снизу, по единственной дороге, приходили люди, письма, посылки (и уходили вниз со случайными друзьями тайные послания на волю). Значит, в нескольких шагах от меня была сырая и холодная келья, забитая вещами, где высокий старик зажигал восковую свечу, доставал очки из ветхого футляра и открывал Гомера. Желтые склоны и белые вершины окружают. Действительно, кольцо, «серебряная яма». Но долина кажется мне прекрасной, а горы таинственными и свободными, как у Рериха. А впрочем, как я могу почувствовать их чувствами? Ведь волен уйти или задержаться, но останутся ли горы прекрасными, если не будет выбора? Медленно иду вниз, большой сибирской деревней, которую уж через месяц заметет и заморозит. Шумят грузовики с рудой, множество мотоциклов, кричат гуси, свиньи, собаки. Спрашиваю паренька: «Где могила Лунина?» Объясняет. На закате поднимаюсь на кладбищенскую гору, с которой видны далекие синие хребты. На кладбище ни души. Вечерний ветер гремит и скрежещет металлическими венками, хлопает лентами — делается немного жутко. Будто нарочно, рядом несколько могил совсем молодых людей, неизвестно почему недоживших: «1942-1962», «1926-1957», «1923-1961». А посредине — белый памятник с оградою и крестом. Незабвенному брату Михаилу Сергеевичу Лунину скорбящая сестра Е. Ушакова. Умер он 4 декабря 1845 года Памятник обновляли в начале XX века по просьбе господина товарища министра народного просвещения князя Михаила Сергеевича Волконского — того самого Миши, которого любил и обучал английскому похороненный здесь человек. Однако надпись к тому времени, как видно, успела стереться: даже не сумели правильно разобрать фамилию скорбящей сестры и «подарили» покойному лишний день жизни. У памятника Лунину несколько чахлых астр, а на вершину креста надет маленький стаканчик. Кто-то, придя на могилы к своим, наверное, помянул и давнего соседа.  Михаил Лунин. Литография с рисунка П.Ф. Соколова, 1822 г. Ну что ж, — друг Вакха.. Венки и ветер скрежещут все сильнее. Я ухожу и несколько раз оборачиваюсь, но памятника уж не различить… Прощай, Лунин! ПОСЛЕСЛОВИЕ (17 ЛЕТ СПУСТЯ ) Прощай — но неужели навсегда прощай? Книга «Лунин» впервые увидела свет в 1970 году; семнадцать лет прошло — совсем немного для истории, совсем немало для отдельного человека. За 1970-е и половину 1980-х годов автор прожил немалую долю своей биографии и, «покорный общему закону», естественно, менялся: но, как ни странно, при том менялся также и герой книги, точнее — представление о герое. Без сомнения, если бы «Лунин» завершался сегодня, кое-что было бы сказано иначе, изложено не так… Однако первое издание «Лунина» теперь уж для автора — сочинение, написанное как бы другим человеком, где можно разве что выправить опечатки, мелкие неточности. Так написана эта книга в свое время, такой явилась к читателям, такою пусть и останется… Другое дело — послесловие, «постскриптум», где можно, нужно хотя бы очень коротко рассказать о том, что происходило с Михаилом Сергеевичем Луниным за последние полтора десятилетия его посмертной биографии. За эти годы отпраздновали 150-летие декабристского восстания, когда Лунина и его друзей часто, как своих, поминали и в тех краях, где они родились, и там, где бросили вызов судьбе, истории, и там, где окончили свои дни. Популярность Лунина росла, и он не раз выступал героем разных романов, пьес, стихов, и одновременно еще и еще отыскивались «крохи», черточки, подробности его веселой, таинственной и страшной биографии… Начав с последних, акатуевских, дней нашего героя и двигаясь «вверх по течению», подтвердим, что тайна гибели Лунина по-прежнему не разгадана до конца; что удалось, правда, напасть на след Янчуковского, который участвовал в нерчинском аукционе: этот человек много лет спустя «замечен» в Петербурге, он был знакомым писателя Глеба Успенского, но дальше следы его, так же как и последних лунинских книг и вещей, теряются… В Урике, близ Иркутска, «предпоследней точке» на лунинской карте, учитель-краевед Николай Владимирович Перетолчин меж тем сумел собрать немало вещей, имеющих отношение к декабристам. Между прочим, прочитав в нашей книге, что Лунин имел «деревянный дом 6 на 3 сажень», учитель начал мерить все старинные дома огромного иркутского села и вскоре нашел единственный — с такими же, не характерными для Сибири размерами. Плохо было только то, что изба стояла посреди села, в то время как Лунин ведь жил на краю (что и позволило жандармам незаметно подкрасться, окружить). Разговоры со стариками все объяснили: оказывается, дом «6xЗ» владельцы больше ста лет назад перенесли, но прежнее место не забылось. До сих пор там можно отыскать следы одичавшего лунинского сада… Только лучшим своим ученикам разрешал уриковский учитель вести раскопки близ старого места: ведь Лунин, ожидая ареста, наверное, устроил тайник… Еще страница биографии, перевернутая справа-налево: в Петровске-Забайкальском, старинном Петровском заводе, сегодня есть улица Горбачевского, улица Лунина. — Как называется та высокая гора? — спрашиваем малолетнего мальчугана. — Вон та-то? Лунинска называется! Это он узнал не из книг. Здесь, в тюрьме, Лунин после прогулки обязательно стучался в дверь собственной камеры: «Я не у себя дома!» Еще и еще «вверх по течению»: каторга, крепость, вольные годы в Варшаве, Петербурге, Париже; годы великих войн и тайных обществ; юность и детство в столицах, на Тамбовщине. С 1908 года в Отделе рукописей бывшего Московского Румянцевского музея, ныне Ленинской библиотеки, хранятся 12 дневниковых тетрадей Сергея Федоровича Уварова, лунинского племянника. Прошло почти семьдесят лет, пока удалось прочитать труднейшие тексты, записанные на многих языках (русский, французский, немецкий, английский, итальянский, латынь, греческий, даже арабский!); к тому же — немыслимый почерк, постоянная шифровка опасных, по мнению Уварова, имен, слов и обстоятельств… Только в 1975 году С. В. Житомирская вместе с автором этих строк опубликовала уваровскую «тайнопись», в немалой степени посвященную погибшему дяде. Оказывается, племянник в конце 1850-1860-x годов с опаскою расспрашивал возвратившихся из ссылки декабристов, особенно супругов Нарышкиных, и старался воссоздать легендарную биографию Михаила Лунина. И вот — будто встреча со старым знакомым, и к давним, хорошо известным эпизодам, анекдотам пристраиваются несколько других, прежде полностью или почти неведомых. Париж, 1816-1817 год: «Он жил в пансионе у некоей мадам Мишель, которая привязалась к нему. За столом она дала ему место рядом с собой — и каким столом! Тарелки, ножи, вилки — всё это было приковано цепями, — тут впервые Мишель с ними столкнулся». «Он зарабатывал иногда по 10 франков в день писанием писем — он сделался публичным писцом и возил по бульварам свою будку на колесах. Он рассказывал, как ему случалось писать любовные письма для гризеток. Затем он переводил коммерческие письма с французского на английский. Он писал их, завернувшись в одеяло, не имея дров в своей мансарде». «Один русский приходит в исправительный суд, и кого же он там видит — Мишеля (он скрывался от русских), разглагольствующего в пользу кучера, привлеченного по обвинению в том, что он задавил прохожего. Мишель давал показания как свидетель в оправдание кучера, причем с таким красноречием, что бедный кучер был признан невиновным». «Однажды, когда он был за столом, послышался стук кареты по мостовой, привыкшей лишь к более или менее целым сапогам мирных пешеходов. Входит (банкир)Лафитт, спрашивает у него имя, вручает ему 100000 франков. Лунин приглашает весь ошеломленный табльдот во главе с мадам Мишель на обед за городом, везет их туда в экипаже, дарит мадам кольцо — и по окончании обеда прощается с ними навсегда». Крепость, 1826-1827 год: «У дяди в Свеаборге был еще один случай бежать. Местный комендант предлагал ему побег, но Мишель отказался, представив ему опасности, в которые его великодушие ввергнет его самого и его семейство. Причину этого отказа Нарышкин (и особенно его жена, часто его перебивавшая) видел в том, что Мишель боялся своим бегством поставить под угрозу судьбу своих товарищей и однодельцев». Позже, в Сибири, сильно постился, «чтобы не было силы для побега». «В заключение Мих. Мих. (Нарышкин) сказал о нем, что он обладал исключительной силой характера, а Лизавета Петровна — что он пришел слишком рано». Таковы наши недавние, отчасти случайные встречи с Луниным. Одно из главных свиданий — не за горами: вот-вот выйдет, наконец, полное (точнее, максимально возможное) собрание сочинений и писем декабриста. Прежние издания конечно же сыграли свою роль, несколько поколений знакомились с Луниным по этим книжкам, выходившим около шестидесяти лет назад. С тех пор, однако, отыскались новые тексты, уточнились старые. По архивам III отделения, рукописным собраниям родственников, друзей декабриста еще и еще раз проверены, «озвучены» тексты, которым 140 лет назад приказано не быть… Но разве пристало кавалергарду, гусару, бунтовщику исполнять подобные приказы? Пора, давно пора собраться в одной книге гордым, ироническим, умным, бесстрашным, талантливым страницам, некогда написанным «издевательски-ясным почерком». «Письма из Сибири», «Разбор донесения Следственной комиссии», «Взгляд на тайное общество», «Взгляд на польские дела», «Общественное движение в нынешнем царствовании» «Записные книжки», «Исторические этюды», наконец, предсмертные «Письма из Акатуя»… Уже в ходе работы над этим собранием (мы точно знаем!) открылось немало нового о жизни и делах Михаила Лунина — и еще откроется… Поэтому, опять прощаясь с героем, — надеемся, надеемся… До свидания, Лунин! Примечания 1 Ну ладно. Как поживаете? И мой милый старичок, новый маркиз господин Вольтер, обжился ли в Твери? Так же, как его собрат господин Мармонтель? Желаю им обрасти бородою (франц. ) 2 Двоюродный брат автора письма 3 Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, ф.445 (собрание Черткова). №48-55; ф.241 (H. Л. Муравьева), № 35. Частично опубликованы Н. Кашиным («Каторга и ссылка», 1925, № 5, с. 241-243). Здесь и далее даются ссылки в основном на архивные материалы. 4 В семье Лунина отмечали день его рождения 18 декабря. 5 Говорит по-английски (англ. ). 6 Благослови вас господь (англ. ). 7 Документ о зачислении в гвардейский полк. Однако больше об этом в письмах ничего нет, и заочные чины юному Лунину не пошли. 8 M.H. Муравьев ошибается: не 7-го, а 14 июля (3-го по ст. ст.) 9 То есть зрелище. 10 «Гневная Венера» (франц. ). Эта Голицына — пушкинская «Пиковая дама». 11 «Пьер жестокий» (франц. ). 12 Пушкин, «Русский Пелам» 13 Предсказания, увещания 14 Его маленькие сказки о волках (англ. ). 15 Дорогое дитя (англ. ). 16 Из писем видно, что Николай Вульф — владелец Бернова, позже Тригорского, муж Прасковьи Александровны Вульф, отец известных пушкинских знакомцев Алексея, Анны, Евпраксии Вульф — был близким родственником Муравьевых и Луниных. 17 Будущий декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол. 18 Будущий декабрист Артамон Захарович Муравьев. 19 «Меньших братьев» (франц. ); очевидно, орден Миноритов. 20 Вот как, между прочим, выглядел герб Луниных в геральдическом описании: «В щите, имеющем красное поле, перпендикулярно изображен серебряный меч с переломленным эфесом, а по сторонам оного две серебряные Луны, рогами обращенные к бокам щита. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною и страусовыми перьями». 21 Выделенные слова почему-то опущены С.Я. Гессеном и М.С. Коганом при публикации русского перевода этого письма (французский подлинник хранится в рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде (далее ИРЛИ), фонд 187. Собрание Л.Б. Модзалевского, № 89, л. 1). 22 С немалой удачей (франц.). 23 Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), фонд 195, опись 1, № 5486. Обширные извлечения из записок И. Оже и биографическая справка о нем опубликованы в издании: Русские мемуары. Избранные страницы 1800-1825 гг., сост. И.И. Подольская, М., изд. «Правда», 1989 г., стр. 209-240. — V.V. 24 В рукописи сказано: «дуэль без причин…». 25 Кстати, кузина Екатерина Петровна Лунина-Риччи в 1877-м, когда печатались записки Оже, еще здравствовала и скончалась в 1886 году, 99 лет от роду, пережив пять императоров. 26 Следующие строки в «Русском архиве» не появились. 27 В рукописи острее: «…сбросив очень дурно позолоченные цепи, которые приковывают ко двору, и где постоянно находишься на виду у монарха». 28 Лунин сначала просился в длительный отпуск, но Александр I с удовольствием наложил на его просьбе резолюцию — отпустить совсем. 29 Плевок (франц.). 30 Для приличия в «Русском архиве» напечатано: «Надо мной будет начальник». 31 Буквальный перевод: «И вы думаете, что мои способности примирятся с таким существованием? Что они прежде не убьют меня из мести?». 32 В рукописи: «существование ненужной твари». 33 В рукописи буквально: «есть два типа людей: люди-животные и люди-честолюбцы». 34 Начальная буква имени Наполеон. 35 Математик Фурье и теперь не забыт, как и известный социалист-утопист Фурье. 36 Оже утверждает, будто Лунин считал такими писателями Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Пушкина (в рукописи приводятся слова Лунина: «Восходящее светило лицеист Пушкин, мальчик, который является в блеске („s'annonce avec eclat “)». Если эти слова не сочинены «ретроспективно», значит, Лунин был знаком уже с первыми поэтическими опытами Пушкина. Впрочем, Лунин, Муравьевы и Уваровы очень близки с Батюшковым и всегда в курсе поэтических новостей. 37 О «шефе» — только в рукописи. Оже признается, что беспокоился, как бы Лунин не скомпрометировал себя как-нибудь перед полицейским, но Лидия Роже все уладила. 38 То есть иезуитами в «штатском платье», которые тайно проводят идеи ордена, внешне не меняя образа жизни. 39 В рукописи: «молодой пламенный русский». 40 Лунин поразил Ипполита, сопоставив письмо сестры («отец скончался ровно в полночь») со своей дневниковой записью, сделанной в день смерти отца, но за две недели до получения известия о ней (во сне увидел, что отец умирает: проснулся — часы пробили полночь). «Неужели я должен верить в эту чертовщину? — восклицал он. — Нет и нет! Это простая случайность…» Описание очень впечатляющее, но… полночь в Петербурге наступает на два часа раньше, чем в Париже! 41 Известный укротитель зверей. 42 В европейской России (без западных и юго-западных губерний) в 1858 году по Х ревизии было 142 l 18 дворян мужского пола; полагая, что к 1825 году это число не превышало 100000, и вычтя из него малолетних, получим примерно 60000-70000 человек (о ревизных данных см.: В. М. Кабузан: «Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX века». М., 1963). 43 Тигр. 44 То есть в январе. 45 Намек на обычный обряд крещения. 46 Начальник штаба 2-й армии, будущий министр. 47 Кроме того, в списке еще 25 человек: Михаил и Александр Фонвизины, Александр Муравьев, Трубецкой, Долгоруков, Иван Шипов, Глинка, Бурцов, Михаил Муравьев, Якушкин, Пестель, Михаил Орлов, Граббе, Бригген, Николай Тургенев, Федор Толстой, Степан Семенов, Павел Колошин, Шаховской, Новиков, Петр Колошин, Грибовский (предатель!), Сергей Шипов, Алексей Семенов, Лопухин. 48 Повстанческий (франц.). 49 То есть турецкий султан. 50 Нью-Лэнарк — коммуна, созданная Р. Оуэном. 51 Цитата из книги Рейналя «История обеих Индий», введенная туда Д. Дидро. См. об этом в кн. Ю. Ф. Карякина и Е. Г. Плимака «Запретная мысль обретает свободу». М., 1966, с. 110-114. 52 Так много лет спустя Н. И. Тургенев представил «мотивы распущения» Союза благоденствия. 53 Формально стоящий вне общества отряд цареубийц. 54 Лунин, судя по его ответам на «допросные пункты», все же что-то знал о проекте, но для этого было достаточно и мимолетного разговора, слуха. 55 «Уставная грамота» в конце концов была засекречена, но во время польского восстания 1830 года захвачена и опубликована мятежниками. Николай I послал специальную инструкцию Паскевичу — изымать и уничтожать опасные листки. В 1861 году проект был опубликован в Вольной печати Герцена. 56 Уварова сообщала брату о беседе ее сына с бывшим сослуживцем Лунина Кринским: «Среди других подробностей Кринский сообщил Саше, что ты не только владел польским в совершенстве, но что ты писал стихи на этом языке и что твои стихи были таковы, что Мицкевич их хвалил. Это успех, о котором ни Саша, ни я, ни ты не знали еще». (Из письма Е. С. Уваровой от l ноября 1835 года см. ИРЛИ, ф. 368 (М. С. Лунина), оп. 1, № 21, письмо 339.). 57 ИРЛИ, ф. 187 (Собрание Л. Б. Модзалевского), № 84, л. 4. В этом же письме Е. Ф. Муравьева писала: «Недели две назад я послала к тебе две последних части Карамзина истории, и не знаю, получил ли ты их. Никита и Александр усердно тебе кланяются». 58 Семеновский бунт (1820 год). 59 В бумагах Лунина сохранилось множество документов о его эскадроне, начиная с выписки возраста и роста каждого из 12 пеших, 34 конных, 6 унтеров и 1 вахмистра (сам Лунин выше всех ростом!) и кончая ведомостью о деньгах «на постройку рейтуз». Позже Е. С. Уварова сообщала брату о слезах «этих усачей», оплакивавших бывшего командира. 60 Восторженница-сестра Катерина Уварова 21 июля 1825 года сообщает брату, что «все Сергиевское повторяет: „При старом барине было хорошо, дай ему бог царствие небесное! А уж при молодом во сто раз лучше. Мы и забыть его никогда не можем“». Уварова удивляется «отсутствию недовольных» в имении и объясняет это «мудростью установлений» Лунина. (Центральный Государственный исторический архив СССР (ЦГИА), фонд 1409 (Собственной Его императорского величества канцелярии), on. 1, № l408-O. л. 58, 59.). 61 ЦГИА, фонд 1409, on. I, № 1408-Л, л. 29. 62 Среди бумаг Лунина сохранилось несколько очень любезных записок (большей частью пригласительных), посланных ему владелицей Вилланова графиней Потоцкой, матерью Натальи Потоцкой, автором известных воспоминаний. 63 «Она явилась мне посреди праздника как идеал, которого ищет поэт…» Близко к пушкинскому: «Как гений чистой красоты…». 64 Л. Толстой ценил эту сторону «сердитых» мемуаров Завалишина и писал: «Другие их [декабристов], как пострадавших людей, идеализировали. И сами они выставляли себя с хорошей стороны. Между этими двумя взглядами находится истина». 65 То есть Жозефа де Местра; о параллелях между некоторыми воззрениями Лунина и де Местра см. в статье М. Степанова «Жозеф де Местр в России». «Литературное наследство», т. 29-30, с. 616-617. 66 Так Лунин именует христиан-протестантов. 67 Его имя стоит вторым после Щепина в списке доставленных 14 декабря и Алексеевский равелин. 68 То есть в случае отказа присягать Николаю I 14 декабря. 69 Тут видна какая-то связь с фактом собственноручного первого показания Рылеева. Очевидно, Николай, довольный полученными сведениями, предложил на прощание сохранить ту же форму откровенности — писать ему самому. С этой минуты уже велась та игра, которая ослепила Рылеева надеждой. 70 В официальном «Донесении следственной комиссии» эти противоречия были представлены со злорадством: «Все покушения и планы злоумышленников равно очевидно ознаменованы и нетерпеливостью страстей и ничтожеством средств». 71 Пущину, к примеру, было нетрудно спастись: его сравнительно мало знали в столице, влиятельный лицейский друг Горчаков, кажется, предлагал способ к побегу. Дух Пущина не был сломлен (это видно по его поведению на процессе), но бежать он отказался. 72 Николай хотел сначала поставить во главе комитета ревностного допросчика первых дней генерала Толя, но затем передумал — может быть, из-за немецкой фамилии сановника: удобнее, чтобы дела восставших дворян разбирали представители лучших русских фамилий — Татищевых, Голицыных, Чернышевых. Хотели ввести в комитет и Алексея Орлова, но помехой явился замешанный в заговоре брат его — Михаил Орлов. Впрочем, чему только не радовались порою в России: многие в те дни благодарили бога, узнав, что среди членов комитета нет Аракчеева! 73 Сами декабристы и позднейшие исследователи не раз отмечали противозаконность включения члена царской фамилии в следствие «по царскому делу». Замечание справедливое с точки зрения идеальной законности, однако по системе мышления тогдашних властей здесь отсутствовало даже формальное нарушение: во-первых, «не было твердого о том закона и, значит, нарушать нечего было; во-вторых, основой законодательства всегда считались исключительные права царской фамилии. Адмирал Мордвинов напугал однажды Государственный совет, заметив, что „в понятии власти произвольной все смешано, и нет в ней ничего несправедливого, ибо она сама — первая несправедливость“. 74 Долго держались слухи и о применении настоящих пыток. П.А. Вяземский, на старости лет уже видный сановник и консерватор, прочитав в VII книге герценовской «Полярной звезды» слова Михаила Бестужева о том, что «в комитете стращали пыткой», написал: «Если стращали пыткой, то пытки, вопреки многим слухам, не было. Это важное показание, освобождающее правительство и совесть Николая от тяжелого нарекания». Однако заковывание в цепи, одиночное заключение и другие меры, в сущности, тоже были пыткой… 75 Александр Бошняк в 1831 году «был злодейски застрелен за открытие в 1825 году заговора», Майборода застрелился на Кавказе в 1844 году, Шервуд (после его доноса высочайше переименованный в Шервуда Верного), дослужившись до полковника, угодил в Шлиссельбург за ложный донос и… был амнистирован заодно с декабристами. 76 Боровков и Ивановский не сделали той карьеры, которая им открывалась. Боровков на склоне лет вспоминал, что «едва дополз до звания сенатора». Ивановский же вскоре попросился в отставку и уехал в свое имение, что вызвало искреннее сожаление Бенкендорфа, желавшего удержать полезного работника. Ценнейшее рукописное собрание Ивановского случайно обнаружилось 60 лет спустя в саратовском имении Шахматовых и было опубликовано внуком декабриста В. Е. Якушкиным. 77 Центральный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР), фонд 48 (Декабристы),№ 26. 78 Там же, № 25. 79 Сохранилась легенда, будто царь предложил — то ли Никите Муравьеву, то ли Николаю Бестужеву — свободу, но декабрист отказался, протестуя, чтобы по беззаконной прихоти не карали и не миловали. 80 Боровков в своих записках свидетельствует, что, «когда им [декабристам] показали бывшие и комитете списки членов общества, когда им сказали, что они почти все уже забраны, тогда они стали чистосердечнее». 81 Список «злоумышленников-поляков» Николай с особенным удовольствием переслал в Варшаву Константину (который их и арестовал); своим сообщением Николай опровергал уверенность цесаревича, что в подведомственных ему краях заговор не пустил глубоких корней; спор вокруг Лунина имел к тому прямое отношение. 82 При этом Пестель на первых допросах также и спас от наказания нескольких арестованных, заверив комитет в их невиновности (братья Раевские, Шишков, Исленьев). 83 Стремление «все открыть государю и тем спасти всех» охватывало иногда и других членов общества, например Артамона Муравьева, перед восстанием на юге. 84 Получив 2-й разряд (как и его брат, Крюков 1-й), он прожил в Сибири нею остальную жизнь и скончался в Минусинске в 1854 году, не дожив двух лет до амнистии (сообщение о его смерти, видимо, затерялось в высших канцеляриях, и Крюкову 2-му прислали извещение об освобождении в августе 1856 года). 85 При отставке получил чин подполковника. 86 Старший брат вышел в отставку в чине штабс-капитана и поэтому числился Поджио 2-м. 87 Этого текста нет в протоколе 51-го заседания, но он имеется в копии для Николая I.См.: ШГАОР, фонд 48, № 25, л. 169. 88 Вот что писал в одной из своих просьб, обращенных к комитету, Вильгельм Кюхельбекер, отнюдь не самый стойкий или уравновешенный из узников: «Если брат мой, лейтенант гвардейского экипажа Михаил Кюхельбекер, содержится здесь же и крепости, да позволено нам будет находиться и одной и той же комнате. Он здоровья слабого: утешений, которых я и здесь нахожу, по незаслуженной милости божией, в поэзии, не имеет, а сверх того нраву печального и задумчивого». 89 План 1817 года (Якушкин); план захвата царя в Бобруйске членами общества, переодетыми в солдатские шинели; план Пестеля — чтобы Барятинский и Бестужев-Рюмин составили надежные отряды для нападения на царя; наконец, договор Бестужева-Рюмина с поляками об убийстве Константина. 90 Cohorte perdue (или garde perdue) — обреченный отряд (франц.). 91 Заметим, что Чернышев не скрывает, от кого получены сведения, развязывая тем и откровенность допрашиваемого. 92 Не только на юге, но и на севере были распространены мысли об отряде или отдельном лице, которые формально стояли бы «вне общества». Таким способом хотели преодолеть противоречие: нужно совершить цареубийство, но непривычный народ воспримет это как страшное преступление. Некоторые проекты предполагали поэтому в случае захвата власти заговорщиками изгнать или даже казнить цареубийцу, чтобы эта вина не лежала на самом обществ (так, видимо, понимал Пестель «обреченный отряд» и судьбу Лунина. Ту же роль предназначал Рылеев Каховскому). 93 Много лет спустя один из вождей «Народной воли», Александр Михайлов, завещал друзьям из тюрьмы, — не привлекать слишком юных и вообще ничего не говорить. Однако простой, казалось бы, путь, избранный стойким борцом, — молчать — на процессе 1826 года был особенно труден. Вот пример: Якушкин долго отказывался что-либо сообщить о других декабристах, но ему представили дело так, что оправдание или обвинение Муханова зависит от его, Якушкина, показаний. Якушкин начал осторожно сообщать некоторые факты, касающиеся Муханова. Не зная, однако, что же известно следствию, что признал и о чем умолчал сам Муханов, он невольно сказал лишнее, чем несколько ухудшил положение товарища. 94 В рассказах Завалишина нелегко отделить интересную правду от еще более интересного вымысла. Лунин и другие советчики действительно могли рекомендовать Константину отъезд из Варшавы, ибо считали, что теперь восстание в Польше неминуемо: прежде многие поляки надеялись, что Константин облегчит их положение, взойдя на русский или по крайней мере на польский трон. 95 Один из планов цареубийства. 96 Рылеев, Николай Тургенев, Александр Бестужев, Митьков, Оболенский, Анненков, Депрерадович, Вадковский, Кривцов, Свистунов. 97 Вот как изложен этот эпизод в записках Якушкина; сопровожденных комментариями Герцена: / «…"Отсюда, — пишет Якушкин со святой откровенностью, — отсюда начинается тлетворное, развращающее действие тюрьмы, желез, усталости, заботы о семье и проч. Я начал прибегать к уверткам. Мне представилось, что я разыгрываю роль Дон-Кихота, выходящего со шпагой в руке против льва, который, увидавши его, зевает, отворачивает голову и засыпает". /Якушкин написал имена всех членов, названных в его присутствии комиссией, и прибавил к ним два: генерала Пассека, покончившего самоубийством, и Чаадаева, которого не было в России. /В конце великого поста Якушкин согласился — и он называет это вторым падением — причаститься. В этот же вечер сняли по приказанию императора кандалы с его ног. Первое время это его затрудняло; он был так слаб, что кандалы, оставшиеся на руках, перевешивали его вперед своею тяжестью. Неделю спустя, в Светлое воскресенье, кандалы были сняты и с его рук». 98 Булгарина не тронули, о лицеистах же было расследование. 99 Батенькову отказали, как позже и Митькову, нарушив тем самым элементарное право подсудимого — дать новые показания. Басаргин, отказавшийся от очной ставки с Пестелем, затем просил все же свести его с ним, чтобы удостовериться, действительно ли Пестель на него показывал. Просьба успеха не имела (29/IV). 100 Их спрашивали, внесли в «Алфавит» (список «злоумышленных» и «прикосновенных» лиц), но не тронули. 101 Отречение Дивова от прежних показаний — в этом и других случаях — вызвало гнев комитета и явилось одной из причин зачисления 20-летнего юноши, формально даже не состоявшего членом общества, в самый тяжкий «первый разряд». 102 На самом деле Лунин был знаком с главными членами Польского общества, некоторых арестованных очень хорошо знал. Возможно, Чернышев заметил Лунину, что польские заговорщики ему не «друзья» и не «братья» и о них не грех бы рассказать, и потому Лунин счел нужным добавить, что «назвать бы не остановился». 103 Век спустя В.Г. Короленко заметил: «… Подать просьбу о помиловании считалось в наше время позором, между тем как декабристы и петрашевцы унижались перед властью и в то время никто им этого не ставил в вину. В этом отношении к власти со стороны побежденных, быть может, яснее всего сказывается рост революционного настроения и соответственное падение престижа власти…» («Русское прошлое», 1923, № 3, с. 139.). 104 С. Б. Окунь полагает, что Боровков составил записку в расчете на мягкость власти к адъютанту Константина. Это весьма правдоподобно. Но из того, что известно про Боровкова, можно заключить, что в этом эпизоде выразилось и его тайное сочувствие декабристам. 105 Впрочем, подразумевалось раскаяние, выказанное до того, как обвиняемого уличили показаниями других. Судьба многих очень откровенных декабристов была не лучше, чем участь самых стойких: Вадковский и Якушкин, Ал. Поджио и Пущин получили один и тот же 1-й разряд. 106 Как заметили Герцен и Огарев, декабристов осудили, сославшись на законы, которые были утверждены лишь через несколько лет. (См. подробнее: М. В. Hечкина. Движение декабристов, т. II, с. 405.). 107 Вычислено по биографическим данным о 53 членах Верховного уголовного суда. 108 В комиссию кроме Сперанского вошли П. Толстой, Васильчиков, Строганов, Кушников, Кутайсов, Баранов и Энгель. 109 Особо назначенные чиновники: графы Головкин, Ланжерон, де Ламберт, Комаровский, барон Строганов, Опперман, Сенявин, Бороздин, Паскевич, Эманюэль, Башуцкий, Бистром, Кушников. 110 Сенаторы: Фенш, царевич Мириам, князь Гагарин, Ададуров, Обресков, Васильчиков, Михайловский, Гладков, граф Хвостов, Энгель, Нелидов, князь Шаховской, Хитрово, Грушецкий, Мертенс, граф Кутайсов, Баранов, Дивов, Корнилов, Батюшков, Ланской, Безродный, Дубенский, Мечников, Сумароков, князь Куракин, Хвостов, Шулепов, Болгарский, Маврин, Мансуров, Лавров, Полетика, Вистицкий, Казадаев. 111 Фактически за 75 лет, предшествовавших восстанию 14 декабря, по суду казнены только Мирович и пугачевцы, но тысячи людей были забиты кнутом, шпицрутенами, повешены и расстреляны без суда. 112 Симпатии и антипатии судей порою определялись и личными связями. Известна судьба Михаила Орлова, которого спасло заступничество его брата Алексея. 113 Распространившийся вскоре перевод: Задумчив, одинокий, Я по земле пройду, не знаемый никем. Лишь пред концом моим Внезапно озаренный Узнает мир, кого лишился он. 114 Кюхельбекер целился на площади в Михаила Павловича, а тот — подчеркнуто — просил милости для декабриста. 115 Подразумевались его религиозные чувства. 116 Никаких сведений о раскаянии пятерых перед казнью не сохранилось — ни в официальных бумагах, ни в рассказах современников. 117 К чести Гангеблова, он — один из немногих, кто не умолчал в мемуарах о своих поражениях. На первых же страницах его записок — уничижительные строки: «Вот я уже переживаю восемьдесят пятый год моей жизни, а никому — ни себе, ни обществу людей не принес я пользы ни на йоту…». 118 Среди них находятся страстные письма жены полковника Глазенапа, командира Лунина во время службы в уланах (1822-1824). Переписка замирает к началу 1825 года, когда, по-видимому, началось увлечение Лунина Натальей Потоцкой. В одном из посланий полковница Глазенап пишет Лунину: «Вы говорили, что для достижения любой цели следует только пожелать этого по-настоящему, и все препятствия будут преодолены. Я следую Вашему совету…». 119 И.В. Поджио попал в крепость (вместо Сибири) по проискам тестя, сенатора А. М. Бороздина, желавшего, чтобы его дочь забыла мужа-каторжника. Дочь погоревала… и вышла за другого. 120 Как известно, наибольшее распространение получила легенда о том, что старец — это Александр I, якобы отказавшийся от престола и скрывшийся в Сибири в надежде, что подданные поверят в его мнимую смерть. Недавно этот вопрос вновь воскрес в научной литературе. Гипотеза Кудряшова остается неподтвержденной, но и неопровергнутой. 121 В конце концов Желдыбину зачли арест в наказание. 122 Начальник ярославских жандармов. 123 ЦГАОР, фонд 109, l эксп., № 61 (к 1-й части), л. 63. 124 Несколько лет спустя знаменитый московский доктор Федор Гааз прошагал этап в кандалах, чтобы доложить о результатах эксперимента правительству и добиться некоторого смягчения кандального режима. 125 Записано профессором Л. Е. Элиасовым за сказителем Г.М. Шелковниковым на байкальском острове Ольхон. 126 Унтер-офицер, декабрист. 127 Этот факт стал известен недавно. (Впервые сообщила о нем Н. А. Рабкина в 3-м томе альманаха «Прометей».). 128 Сохранилось развязное письмо Ипполита Завалишина с просьбой о займе, полученное Луниным на поселении. 129 Детской (франц.). 130 Ему, как и некоторым другим каторжанам, страдавшим от ран, было разрешено передвигаться на колесах. 131 Слова Николая Тургенева. 132 Эти строки Пушкин внес в черновик статьи «Путешествие из Москвы в Петербург», но в беловом тексте их нет. 133 Статья была написана Луниным несколько лет спустя, на поселении, но он сам в ней говорит, что таких взглядов придерживался и прежде, даже до восстания. 134 По приказу царя А.Д. Боровков составил «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства». 135 С каторги Уварова обычно получала сведения о брате, написанные рукою Марии Николаевны Волконской. 136 Последнее из известных писем Уваровой — за № 593 (1841 г.). 137 Член общества Соединенных славян Иван Горбачевский после амнистии остался в Сибири и прожил в Петровском заводе до 1869 года. 138 ЦГАЛИ, фонд 124 (С. Я. Гессена), № 107, л. 3. 139 Тогда же или позже поблизости осели Трубецкие, Юшневские, Вадковский, Артамон Муравьев, Якубович, Громницкий, Свистунов, Панов. 140 Лунин для разных мыслей пользовался разными языками. В его записной книжке почти все заметки о России — по-русски, интимные сюжеты — по-французски, религиозные-по-латыни. Сестре («mea carissima»): «Мои нежности к тебе пишутся на латинском языке, потому что этот язык не был осквернен мною, как другие». М.К. Азадовский писал С.Я. Гессену, мечтавшему о полном научном издании Лунина (доселе не осуществленном): «Когда будете издавать Лунина, позаботьтесь о переводах. Настойте перед издательством, чтобы был приглашен для перевода какой-нибудь крупный художник. Я даже не знаю, кто сможет по-настоящему передать обаяние стиля Лунина» (ЦГАЛИ, фонд 124, № 107, л. 5-6). 141 «Достоин, достоин войти в ученую корпорацию» (лат;. средневековый обряд посвящения). 142 ИРЛИ, фонд 368, oп. 1, № 10. 143 На самом деле Елена Федоровна, урожденная Недобе. 144 Любовница Аракчеева Настасья Минкина была в 1825 году убита крестьянами, не вынесшими ее зверств и издевательств. 145 Павел Дмитриевич Киселев — товарищ Лунина по кавалергардскому полку и по кампании 1812 года. 146 Земельная перепись. 147 По-видимому, крестьяне исполняли разные поручения Лунина. В одном из «Писем из Сибири» он сообщает, что отправился побеседовать с осужденным на смерть. Не о прибытии ли партии обреченных предупреждал Лунина некий Василий Петров: «Долгом поставляю засвидетельствовать мое нижайшее почтение и при сем честь имею уведомить, что сего числа прибыла в Уриковское селение партия 9 человек»? (ИРЛИ, фонд 368, oп. 1, № 14). 148 Позже допрашивали о том слуг и работников. Василич показал, будто дробовик куплен «через покойного Осипа Малых», а о двустволке и пистолете «разговора с Луниным никогда не имел, опасаясь своею нескромностью и вопросами огорчить его». 149 С. Я. Штрайх полагал, что всего сохранилось три таких письма, но документ, который он считает приложением к письму № 3, явно самостоятелен и составляет четвертое послание. 150 Рукописный отдел Библиотеки имени В. И. Ленина, собр. Волконских, № 73. 151 Марию Волконскую 152 Распределение часов службы в католическом богослужении. 153 Католический требник. 154 То есть деньги, которые Уварова прилагала к письмам. 155 То же самое (лат.). 156 Лунин с помощью Громницкого изготовил также русские и английские списки. 157 В тексте ошибочно «Антипычу». 158 Полковник Аркадий Россет, инспектировавший в то время сибирскую артиллерию, брат известной приятельницы Пушкина А. О. Россет (Смирновой). 159 По другой версии, он сказал: «Мой архангел Гавриил, который доставит меня в рай». 160 Карьеру сделал, но не такую быструю, как можно было ожидать: только через 7 лет получил следующий чин надворного советника, а через 14 лет все-таки достиг генеральского ранга и умер в 1867 году. Сменивший Руперта губернатор Муравьев (Амурский), родственник Лунина, доносчиков недооценивал. 161 ИРЛИ, фонд 368, oп. 1, № 28 (на франц. яз. ). 162 Старший сын Е. С. Уваровой. 163 Герцен был знаком с Александром Тургеневым. 164 11 писем было опубликовано в 1923-1926 годах Б.Л. Модзалевским, С.Я. Штрайхом, С.Я. Гессеном и М.С. Коганом. 165 Для сына Волконских — Миши. 166 Вероятно, Святой Польши. 167 Литература ужасов. 168 Юшневским. 169 Эти ответы были отправлены из Нерчинских заводов в Иркутск и в 1925 году опубликованы Б.Г. Кубаловым. 170 ИРЛИ, фонд 57 (Волконских), оп. 1, № 215. 171 9 ящиков лунинских вещей, оставшихся в Урике. 172 Аббат Ламеннэ — французский мыслитель, христианский социалист. 173 «Помни о смерти» (лат.). 174 По данным нерчинского начальства, на содержание Лунина ежегодно отпускалось 6 рублей 85 1/2 копейки «жалованья» и 7 рублей 44 копейки «провианта». 175 Ссыльному, находившемуся в другом руднике. 176 Александр Раевский, известный знакомый Пушкина. 177 Подразумевается собрание Acta Sanctorum. 178 Бенкендорф умер 23 сентября 1844 года. 179 «Сиденка» — какая-то болезнь, по-видимому связанная с сидячим образом жизни (по Далю — производное от «седун», то есть немощный, неспособный передвигаться). 180 Князь Иван Гагарин, принявший католичество и покинувший Россию, собирался написать биографию Лунина. 181 Государственный архив Читинской области (ЧОГА), фонд 31, оп. 1, № 1505. 182 То есть «вместе». 183 Начальник охраны. 184 На самом деле Лунину через несколько дней исполнилось бы 58 лет. 185 ЧОГА, фонд 31, № 2854, л. 816-1279. 186 Завалишин действительно избрал такую линию самозащиты, но тем не менее материалы следствия показывают, что он не назвал правительству ни одного лица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|||||||