 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер :: Картленд Барбара Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Омен. Последняя битва. :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |
БаудолиноModernLib.Net / Историческая проза / Эко Умберто / Баудолино - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Умберто Эко Баудолино 1. БАУДОЛИНО ПИШЕТ ВПЕРВЫЕ Ratispone[0] Anno io Baudolino di Galiaudo de li Aulari con no, testa ke somilia un Hone[3] alleluja sieno rese Gratis al siniore ke miperdoni[4] в сундуке епископа отто кучу листов что были поди из канцелярии императора и их соскреб почти совсем кроме только слов что не <соскреблись> гт соскребались кроме слов что не смог соскрести сейчас имею.много пергамента чтоб написать все что угодно то есть писать мою Хронику но не могу написать латынью как потом найдут что листы не находятся ох они устроят тут капернаум ох они решат тут лазутчик епископов римских на погибель императора федерика но может им не надо ничего никому в канцелярии пишут себе что попало что надо и не надо зачем искать пергаме-ны да хотели они ими подтере да видали они их в гробу ncipit prologus de duabis civitatibus historiae AD MCXLIII conscript saepe multumque volvendo mecum de rerum temporalium motu ancipitq[7] это было я не сумел убрать читать не надо найдут мои листы не узнают кто писал ни один в канцелярии не знает язык фраскеты язык фраскеты на нем никто никогда ничего не писал увидят листы узнают язык непонятный узнают кто писал это я писал все говорят что люди из фраскеты бол-бочут не по христиански надо спрятать лучше язва в душу нудно писать ноют пальцы это говорил мой родитель Галъяудо парню такая фортуна от богоматери Роборетской не иначе еще мальцом заслышит от кого V или X слов любую молвь запоминает повторяет и как говорят в Тердоне Торшоне и как говорят в Гави и даже как говорят в Медаолануме Милане а там <сам черт ногу> вообще не поймешь чего вообще когда я встретил немчуру вообще когда я встретил первых немцев они <облежали обложили> сидели осадой у <Терд> Тортоны все <груженые> пьяные в забубённые говорили rausz и min got и я через пол дня говорил raus и Maingot так точно и они говорили Kind поищи ка нам хорошую Frouwe будем с нe й fiki -fuki я спросил что это Frouwe они в ответ domina dauna donna femina ну ферштейн и делали руками такие большие Tette а у них в лагерях с феминами просто schwach все тортонские Frouwe сидят внутри а они снаружи и когда будет город ихний то аллее гут зер гут но покамест schlecht ни одной изловить негде добавляли такие анафемы что даже у меня мурашки по спине вы дермовые швабы говорил я так я и привел Frouwe дожидайтесь обходитесь в свои кулаки мамма миа могли вообще убить мамма миа mater mea вообще я латынь крепко знаю учился читать по латынским фолиантам понимать понятно но писать не силен когда писать какие вербумы ну просто чума не вспомню когда он equus когда он equum а вот у нас в фраскете как скажут Конь то значит Конь а писать никогда не ошибутся потому как никто не пишет потому как никто и читать то не умеет но тогда мне повезло алеманы меня не тронули потому как раз явились milites кричали быстро быстро пошли опять в атаку начался такой содом мамма миа я не понял ни белъмеса луконосцы туда щитоносцы сюда трубы трубят башни вышиной в Бормидские дубы движутся колесным ходом на башнях тех застрельщики на башнях ядерные запасы понизу milites катят ту башню с колесами по тем milites бьют стрелы как град milites кидают камни здоровенным черпаком с пружина ми прямо по-над у меня над головой у меня свистят все те эякулы которые тортонцы эякулируют из города ох баталия я тогда залег под куст и два часа повторял virgine sancta помилуй мя все успокоилось стали бежать мимо меня новые milites говоря по <папийски> павийски что поубили толико тортонцев река танаро красна от крови теперь будут знать как якшаться с медиоланцами поелику ожидались обратно алеманы кто просили найти Frouwe может не все бы воротились ибо тортонцы тоже не сидели сложа руки но все же достаточно воротилось бы на мою ххххххх голову я рассудил не расчет их дожидаться лучше мотать оттуда и попроворней я потихоньку пошел добрался до дому под утро рассказал эту Историю мой родитель Галъяудо сказал добро же лезь во все баталии дожидайся лезь вдругорядь и получишь добрую пику в задницу что не знаешь война дело барское наше дело крестьянское ходить за коровами мы люди серьезные не чета императору фридриху он то здесь то там не поймешь где он балмошится без ума-толку а тортону они тогда не взяли захватили подол города а крепость как была так и стоит то есть тогда стояла как тогда была так тогда стояла вот к концу моей Истории расскажу что получилось как отвели от них воду а тем слабо испить свою урину сказали фридрих да мы усе твои верные он их выпустил а город сперва пожег потом разнес в щепу то есть разнесли <папийцы> павийцы в щепу у них зуб зависть на тортонцев из старинных времен тут у нас не то что немцы те друг друга не ратей вода любят душа в душу немцы живут тут у нас один из Гамондио встретит другого из Берголио стервенеет хуже суки но сейчас я объясню всю Историю как я шел фраскет-ским лесом везде туманище выткни глаз носа не разглядеть хоть встреть видение хоть наваждение так я встретил носорога с туловом конским и с хвостом львиным и с рогом верченым так я встретил Святого Баудолина он говорил ко мне блядин ты сын проказник пойдешь прямо в ад что ты нагородил с этим носорогом а я то что вот как все вышло всем ведомо поймать единорога возможно только с помощью непорченой Девы сажают Деву к дереву и носорог чуя девственный запах приходит приклонять голову ей <куда надо> на лоно позвал я тогда Нену из Бергольо ее родитель у моего торговал комолую корову я позвал Нена идем в лесочек тут близенько поймаем носорога я усадил ее под деревом знал что она непорченая и говорю расставь-ка ляжки чтоб носорогу было куда приклонить голову она спросила а как расставить я говорю вот так сейчас попробуем давай-ка вместе давай-ка сам я расставь получше тут она засопела ровно коза когда ей придет козлитъся ну тут и на меня нашло как сказать не знаю что это было апокалипсис а потом уже а потом уже она не была честная как лилия и говорит послушай мать моя Святая Богородица как оке мы теперь будем ловить носорога и в ту минуту я услышал голос Небесный говорил что тем единорогом искупающим peccata mundis оказывается был сам я и я запрыгал по поляне и закричал хип гип ии фрр фрр и был сильнее рад чем истинный бы носорог был рад когда засовывает свой длинный рог нескверной отроковице в лоно тут я и встретил Святого Баудолина тут он и сказал мне блядин ты сын et cetera но потом смягчился простил меня и мы потом встречались в лесочке под кусточком но только в такую пору когда туманы а не когда солнце прожигает и скотину и хворостину но когда я рассказал про Святого Баудолина мой родитель Гальяудо отсыпал мне тридцать горячих приговаривая господи ты более мой что за чадо видения он видит а корову подоить не может расшибу ему башку нет лучше пусть его на цепь возьмут пусть водят по базарам пусть на цепи как ту Африканскую Макаку а моя милосердная матерь тут же с воплями шатун ты безумщина сохрани господь от такого за какие мне провинности этот сын он же видит святых а родитель мой Гальяудо ей в ответ да никого он не видит это же плут хуже искариота и он несет что придет в голову лишь бы только ему не работать заведу эту Историю ибо без нее неясно что произошло в тот вечер когда стоял густой туман хоть ножом его режь подумать только был апрель но в нашем околотке туман бывает даже в августе и если кто не из нашенской округи понятно заблукатъ ему недолго меж Бурмией и Фраскетой особенно если никакой святой не поведет под уздцы его лошадь так я возвращаясь домой я увидел перед собою барона на лошади целъем из железа железный целъем был барон а не лошадь и меч здоровый битюг что твой король арагонский я тут обробел мамма миа вдруг это впрямь Святой Баудолин не миновать мне тогда преисподни но он сказал мне Клейне Кинд Битте и я тут понял что это барин из алеманов в тумане заблукал у нас по лесу и не находит путь к своим а вечереет он показал Монету я не видал допрежь Монет но был зело доволен что я понимаю и говорю по алемански я ему говорю дойч послушай дойч куда ты прешь тебя же занесет в самые плавни как пить дать насчет питья не знаю что он подумал пить они горазды но в общем смысле поди понял потом я сказал я знаю что у вас у дойчей всегда весна и поди у вас у дойчей в краю цветут лимоны только у нас во Фраскетскои Гати всегда туманы выколи глаз и в тех туманах погуливают удалые люди отродие тех еще Араб-цев с которыми воевал Карл Великий и люди они недобрые как видят пилигрима то к лесу лицом дадут по шее дубцом разденут догола так побреют что любо дорого глядеть ergo распожалуете к нам в землянку к Гальяудо родителю моему миску то похлебки горячей точно дадим и тюфяк из соломы уложим на ночь в хлеву заутра по светлоте покажу дорогу раз у вас такая Монета grazie benedicite а мы люди хотя бедные мы люди честные так я завел его к нам к моему родителю Гальяудо разверз уста начал кричать олух окаянный голова ты баранья почто открываешь мое имя всякому побродяге кто его знает ну как он вассал Моферратского маркиона вмиг обоброчат плати десятину de fructibus десятину от сена от овощей и плати арендные и плати прокатные и плати яремные и мы пропадем из за тебя и уже замахнулся жердиной я в ответ барин алеманский а не монферратский родитель мне в ответ чем дальше в лес тем больше дров но чуть только я ему сказал про Монету его будто подменили потому что у нас в Маренго все твердолобы как быки но чутки как лошадки понял что можно что то получить и говорит ты умеешь по ихнему так скажи от меня что я тебе наказываю item , мы люди хотя бедные мы люди честные говорю я уже это ему без тебя говорил не твое дело говорят так скажи ему от меня по ихнему повтори item grazie benedicite благодарствуем за Монету но мы еще не пожалеем вашему благородию и сена для коня и миску харчей с сыром с сухарем нальем чарку из праздни-ковой баклаги и что устроим вашей милости постель заме-сто твоей подле печки в теплоте а ты сам дармоед поди в сараюшку item пусть даст поглядеть пощупать Монету я беру генуэзские сольды и пусть ни в чем себе не отказывает у нас тут в Маренго гость в дом бог в дом тот в ответ haha вижу люди тертые у вас тут в Маренкуме однако негоция есть негоция я даю две такие Монеты а ты забудь про генуэзские сольды потому как на генуэзский сольд я способен kaufen все твое подворье и со всеми бестиями берешь две мои Монеты и молчишь сам знаешь и так не в накладе родитель мой замолк и взял две те Монеты что тот синьор бухнул на стол потому что у нас тут в Маренго люди твердолобы как быки однако и дюже чутки и набрюханился как волк (тот господин) точнее как два (волка) и потом когда родитель и моя матерь засобирались спать наломавши за день спины не то что я который прохлаждался себе в лесочке говорит доброе вино тут у вас посижу чуточек у печки расскажи мне что нибудь Кинд покажи на что ты горазд на моем языке ad petitionem tuam frater Ysingrine carissime primos libros chronicae meae missur[8] ne humane pravitate[9] тут тоже не сумел содрать буквы читать не надо заведу порядочно Историю как в тот вечер с алеман-ским бароноч что хотел знать откуда мне известен его язык а я сказал это мне фортуна как апостолам и что другая мне фортуна иметь важдения что твоя божеволъная баба иду по лесу и вижу особу Святого Баудолина верхом на носороге млечного колера и рог единый с завоем и растет тот рог точно там где у коня нос то есть то что у нас нос однако конь не имеет носа ибо под ним нет усов у барона же ус знатный и борода просто загляденье колером будто медная посуда а у других немцев волос желт далее тот что торчит из ушей барин на это говорит мне ладно значит ты видел этого носорога ты поди разумеешь Monokeros но откуда же тебе известно что существуют носороги на свете я отвечаю из читанной книги что мне давал фраскегп-ский пустынножитель а немец вылупивши глаза как филин так что же ты и читать умеешь еще как говорю послушай мою Историю значит вот теперь Историю веду слушай святой Анахорет у нас тут близко от лесу когда ему поднесут крещеные люди куру или кроля помолится за здравие о них по писаной книге и когда проходят милю побиет себя по грудине камнем но я мыслю то не камень а то комлыга из глиняного брения не сильно вередит и вот однажды ему поднесли два яйца он себе читает в открытой книге я думаю добро же по христиански поделим пополам яйцо ему яйцо мне все едино он читает не видит но он уж не знаю как сумел увидеть хотя читал в открытой книге однако сгреб меня абие за шкирку я говорю христос учил делиться а он со смехом говорит какой шустрый мальчик ходи сюда почаще и поучись грамоте по писаному он обучил меня по писаному не пожалел оплеух а когда мы свели лучше знакомство говорит какой ты крепкий отрок и голова рыжа ты как Felis Leo дай взглянуть а крепки ли твои руки дай пощупать здоровы ли плеча и потрогать там посередине ног благополучно ли твое здоровые тогда я понял куда Анахорет целит и лягнул его коленом в самые Testicula так что он ажно согнулся и приговаривал вот иудино семя вот пойду и расскажу народу в Маренго что тобой владеют бесы вот тебя и сожгут увидишь иди иди я ему говорю на это сперва я расскажу что видывал как ты ночами любишься с болотною кикиморой как ты ее со всех с троих концов поглядим кого они предпочтут сжечь сам увидишь тогда он опять смеяться говорит погоди я пошутил хотел проверить чтишь ли ты благие заповеди бросим говорить об том приди заутра зачнем учиться по письменному то едино дело чтение знай себе гляди и губами пришлепывай ино дело писание в книге потребны и чернило и листы и перо истый знаток в чернилах крещен, пергаменом повит, концом пера вскормлен тот отшельник сам завсегда говорил как по писаному я ж ему в ответ кто умеет читать тот научается тому чего не знал дотоле а при писании не научаешься ничему пишешь то что дотоле и сам знал благотерпение! лучше все же мне остаться и поучиться ибо писать-то я охотник но не охотник подставлять задницу пока это я рассказывал тот барон немецкий реготал как скаженный браво браво кляйне кавалер все эти старцы почитай до одного allesammt Sodomiten но скажи ты мне скажи что еще ты повидал гуляя лесом а я ему в ответ думая он один из тех кто собираются взять Тортону кто то из имперских фридриховых думая дай-ка обрадую его может выложит еще одну Монету говорю что запо-завчерашнею ночью мне явился Святой Баудолин говорил императору выйдет виктория под Тортоной потому как Фридрих се единый подлинный богоданный владыка над всей Лонгобардией включая нашу Фраскету слыша это господин говорит Кинд ты мне послан небом я возьму тебя в имперский военный стан ты расскажешь встречу со Святым Баудолином я ему на то коль изволите скажу даже будто бы Баудолин говорил мне что в баталии поучаствуют святые Петр и Павел поведут вперед имперские войска тот на это Ach wie Wunderbar с меня хватит даже и Петра без Павла Кинд езжай со мной и фортуна твоя свершится illico немедля то есть почти что немедля то есть на завтрашнее утро господин говорит моему родителю забираю мальца с собой повезу где научат и письму и чтению сможет стать министериалом а родитель мой Галъяудо без понятия о чем тот толкует разумел лишь только едоком с воза будет легче и не надо гадать где там шастает небокоптитель разумел что вот нашелся вожатый станет показывать меня на ярмарках и базарах как Африканскую Макаку но не распустит ли этот синьор руки известно чего можно захотеть от мальчишки но господин ему возразил и назвался великим палец-графом и что у алеманов не бываетSodomiten а кто такие содомиты недоумевал родитель я объяснил ему в ответ же мой родитель отвечал пускай пойдет проспится эти любители есть везде но видя что господин тот Алеманский полез и вынул еще пятерку Монет в добавок к прежним родитель мой чуть не сомлел и говорит тогда о детище ступай же с этим человеком чтоб не перечить твоей фортуне а может быть и нашей к тому же поелику алеманы тут все тут у нас обсели вчистую будто мухи то значит свидимся еще и в этой жизни тут я ему прости прощай прямиком к порогу но как-то вдруг затомился больно уж моя матерь выла голосила как по покойнику так мы поехали и тот барон говорил мне веди меня туда где каструм империалов а я говорю проще пареной репы глядим на солнце и встренъ ему прямехонько едем так мы поехали завидели лагерь вдруг налетели какие-то конные с бородами и доскакавши всей ротой бухнулись на колена и опустили пики и щиты а мечи воздели да что за булготня я не пойму они ну голосить Кайзер Кесарь Sanktissimus Rex ну целовать в руку моего барона а у меня челюсть отвисла и рот разинулся даром твое жерло тут только я понял что мой баронище бородища рыжа это и есть самый ихний император Фридрих а я-то ему развешивал лапшу на уши целый вечер как самому последнему ротозею теперь он скажет отрубите ему голову так думаю и все-таки думаю ему я обошелся в целых VII Монет а что до моей головы он мог бы отрубить ее совершенно бесплатно а он при них. говорит по sent de l ' espavent то есть не робей-ка все в полном порядке ты несешь Благую Весть ты малый рие r был удостоен небесного Знамения расскажи же которое Видение явилось пред тобою в чаще леса тут я хлоп оземь будто у меня падучая и выпучил глаза и выпустил устами пену и вопиял что видел что io vidi и давай выкладывать заведомо что знал про Святого Баудолина яко же мне прорече народ на это благословение Господу Богу Miraculo miraculo Gott Mit Uns стояли там же и тортонские легаты дотоле в нерешительности сдаваться иль упираться но слышав о моем Знаменъи рухнули оземь с речами ежели и святые поворачиваются к нам задом не стоит нам бороться лучше уж сдаться по всему видно что на сей раз не обломилось и тут я видел как выбирались тортонцы из Города мужчины старики женщины дети в слезах рыданиях а немцы их гнали ватагой как скот а те павийцы влетали гурьбою в Тортону с дубьем дрекольем с дрюками стягами жердями круша все на проходе видно рвать Тортону было для павийцев будто парить девку к вечеру тортонский холм целиком затянулся дымом от Тортоны как города ничего почти не осталось такая штука война говорил мой родитель Гальяудо истинное дело говорил он война сволочная штука однако все таки пусть лучше их пусть их а не нас к вечеру император довольный воротился в свою палатку и по-доброму мне съездил по затылку как родной мой родитель никогда не делал а потом позвал господина тот впоследствии оказался добрейшим каноником Рагевином и сказал что желает этого парня обучить получше письменной грамоте и арифметике на счетах и тоже и грамматике которую тогда я не слыхал и по имени но ныне кой чему обучился родитель мой Гальяудо помыслить не мог об этом как сладостно разбираться в науках кем это сказано не припомню воздадим же хвалу нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет 2. БАУДОЛИНО ВСТРЕЧАЕТ НИКИТУ ХОНИATA – Что это? – спросил Никита, крутя в руках пергамент и читая верхние строки. – Первая проба моя, – ответил Баудолино. – С тех пор, когда я написал это, а было мне лет четырнадцать и я только что вышел из лесу, я ношу с собой ее как амулет. Впоследствии я исписал кучу других пергаментов. Бывало, писал каждый день. Думал, я существую только чтобы вечером рассказывать о том, что пережил днем. Позднее мне стало достаточно помесячных записей в две-три строки: я вел свою хронику главных событий. Рассчитывал, что когда я приду в должный возраст, то есть в нынешний мой, из этих пометок выстроятся «Gesta Baudolini». Так в своих странствиях я носил на себе, куда ни шел, историю главных событий жизни. Но когда я бежал от Пресвитера Иоанна... – Пресвитера Иоанна? О нем я слышал... – Услышишь еще и от меня, смотри, как бы не надоело... Так вот, когда я бежал, я потерял записи. Будто целую жизнь потерял я. – Расскажешь мне все, что помнишь. Я собираю обрывки фактов, лоскутья былей и тку из них повести по канве Предопределения. Ты спас меня, ты одарил тем малым будущим, которое мне осталось. А я одарю тебя прошлым, которое ты потерял. – Но может, в моей истории и нет смысла... – В любой истории есть смысл. Я умею найти смысл там, где не видят другие. И история становится книгой живых, как труба громогласная, та, которая вздымает из гроба лежавших во прахе многие веки. Для этого нужно только время. Обдумывать события, их увязывать, выискивать между ними сходства, даже самые незаметные. Но так как других занятий у нас все равно нет... твои генуэзцы говорят: надо пересидеть, пока ярость этих псов не утихнет... Никита Хониат, бывший верховный оратор, Высший Судья империй, высший чиновник при Покрове Богородицы, тайный советник (логофет), а попросту, как сказали бы латиняне, государственный канцлер василевса Византийского, в то же время придворный дееписатель Комнинов и Ангелов, глядел с интересом на сидевшего перед ним. Баудолино сказал ему, что они прежде встречались в Каллиполисе, при правлении императора Фридриха. Но Баудолино, если и был там, был затерян в толпе остальных царедворцев, а Никита, представительствовавший от василевса, был, конечно, весь на виду. Лгал ли этот латинянин? Как бы то ни было, именно он отбил Никиту от зверствовавших захватчиков, вывел в безопасное место, объединил с семьей и обещал, что поможет им выбраться из Константинополя... Разглядывая своего спасителя, Никита думал, что тот похож не на христианина, а на сарацина. Лицо опалено солнцем. Бледный шрам перетягивает щеку. Грива рыжих волос, не утративших молодого цвета, придавала ему львиный облик. Никита никогда не сказал бы, что Баудолино уже за шестьдесят. Ширококостные руки лежали на коленях, узловатые в суставах: руки простолюдина, созданные не для меча, а для орала. Тем не менее по-гречески он изъяснялся свободно и не брызгал слюной на каждом слове, как обычно плевались иностранцы. Давеча он обратился при Никите к захватчикам на щетинистом их языке, произнося слова быстро и резко, и звучало это обидно. Потом он сказал Никите, что имеет особый дар: стоит ему послушать, как двое беседуют между собой на каком угодно наречии, и вскорости он тоже научается говорить как эти. Поразительное качество, которым, прежде думал Никита, наделены апостолы. Жизнь при дворе, и при каком дворе! приучила Никиту к спокойному недоверию в оценке людей. Что его насторожило в Баудолино, так это глаза: при разговоре как-то вдруг – взгляд исподлобья на собеседника, будто бы с приглашением не принимать сказанное всерьез. Этот недостаток легко извинить кому угодно, но только не свидетелю, из чьих воспоминаний ты собираешься выплести Историю. В то же время Никита был по натуре любознателен. Ему нравилось слушать рассказы, и не только о вещах ему неведомых. Даже то, что он успел увидеть собственными глазами, будучи рассказано, представлялось ему в совершенно новом виде, как будто его привели на вершину одной из иконных горок и дали увидеть местность в том ракурсе, в котором видят нагорные апостолы, а не с низкой точки зрения верующего. Кроме того, он любил беседовать с латинянами, они были совершенно не такие как греки, взять хотя бы эти их новые языки, каждый непохож на остальные. Никита и Баудолино сидели один против другого в комнате на вышине. На три стороны открывались двойные окна. Через одно имелся вид на Золотой Рог и противоположное побережье, Перу, и Галатскую башню над сплетением закоулков. В другое был виден портовой канал, впадавший в Георгиевский пролив. И, наконец, третье окно было обращено на запад, и оттуда можно было бы наблюдать весь целиком Константинополь. Можно было бы... да несмотря на самое раннее утро, нежного цвета небеса смеркались от дыма дворцов и базилик, снедаемых огнем. Бушевал третий пожар за последние девять месяцев. От первого погибли склады и стратегические запасы во всех хранилищах от Влахерна до Константинова вала. Вторым были уничтожены все оплоты венецианцев, амальфитанцев, пизанцев и евреев, от Перамы до самого берега. Уцелел один только генуэзский квартал у подножия Акрополя. А третий пожар бушевал прямо сейчас. Со своей высоты они видели огненную реку. Падали на землю портики, рушились палаццо, ломались колонны, огненные шары вылетали из зарева и зажигали дальние дома, а потом огни, направляемые ветром, капризным ветром, который холил и лелеял этот пожар, влеклись обратно и дожирали, что пощадили. На вышине клубились плотные тучи, алевшие по нижнему краю, похоже, из-за близкого зарева. Однако с изменением оттенков цвет пожара искажался то ли обманными лучами поднимающегося солнца, то ли из-за попадания в огонь специй, редкого дерева и других снадобий, придававших окраску. В прибавление к прочему, на крыльях ветра с разных окрестностей города долетали все новые ароматы: то мускатный орех, то корица, то перец, а то шафран, горчица и имбирь. Так самый великолепный на свете город хоть и сгорал, но сгорал в благовоннейшем из пожаров. Баудолино находился спиной к окошку. Его фигура темнела на фоне рассвета и пожара. Никита слушал рассказ, но воспоминания постоянно возвращали его к тому, что происходило совсем недавно. Утром в среду четырнадцатого апреля года от воплощения Господня 1204, или же шесть тысяч семьсот двенадцатого от основания мира, по византийскому счету времени, вот уже два дня Константинополь был окончательно захвачен варварами. Византийские секироносцы, блиставшие щитами и шеломами на парадах, и императорская гвардия, состоявшая из английских и датских наемников, вооруженных страшными двуперыми рогатинами, еще в пятницу сопротивлялись неприятелю, отбиваясь с отвагою, а в понедельник утром дрогнули и осаждавший враг преодолел, наконец, оборонные стены города. Победа была так неожиданна, что сами нападавшие остановились, оробели и к вечеру не двинулись вперед, а чтоб отгородиться от защитников, подпустили новый пожар. Однако утром наступающего дня, во вторник, в городе стало известно, что ночью узурпатор Алексей Дука Мурцуфл покинул Константинополь и убежал в тыл. Горожане, оставленные, побежденные, проклиная престолопохитителя, которого сами превозносили с тех пор как он удавил предшественника и до вчерашнего вечера, не зная теперь, как им поступить (ничтожества, пугливцы и позорники, стонал Никита о стыде этой сдачи), составили великое шествие, с патриархом и всевозможными священниками в обрядовых облачениях, с монахами, бормотавшими молитвы, готовыми продаться новому хозяину, как они продавались прежнему, с крестами, с образами Лика Господнего, вознесенными на высоту столь же рьяно, как возносились их вопли и стенания, и вышли навстречу завоевателям, рассчитывая умилостивить. Безрассудство! Умилостивить варваров! Те не нуждались, чтоб противник сдался, для исполнения многомесячно вы-мечтанного: сровнять с землей самый огромный, самый многолюдный, самый богатый, самый благородный на земле город и поделить между собой трофеи. Великий кортеж плакальщиков вышел прямо на строй христоборцев, грозно насупленных, со свежей кровью на мечах, вышел на дикую конницу. Молитвы никого не тронули. Началось великое разграбление. О Господи Всеблагий, о истязания, о мука, выпавшая на нашу долю! Отчего ни бурление моря, ни туск или полное затмение солнца, ни красный обмет вокруг луны, ни смещение звезд, ничто не предзнаменовало нам крайнего злоключения? Так плакал Никита вечером вторника, меряя нетвердыми шагами то, что являло столицу последних римлян, стараясь избежать орды безумных вероломцев и в то же время натыкаясь везде на новые очаги пожара, в отчаянии, ибо не находил дороги домой, и в страхе, как бы тем временем злодеи не взъярились на его семью. Так до самого наступления ночи он не смел пересечь сады и открытые пространства между Софией и ипподромом и в конце концов оказался перед храмом. Храм был открыт, Никита вошел, не полагая, что варвары дойдут до осквернения святого места. Вошел и побелел от ужаса. Пространство было усеяно трупами, по ним скакали, до невероятия пьяные, всадники врага. Толпа крушила дубьем серебряную с золотом трибун-ную ограду. Великолепный сияющий иконостас был обмотан веревками: его выкорчевывали, к веревкам вязали мулов. Одурелая хмельная ватага погоняла, нахлестывая, скотов, но мулы оскальзывались на мозаиках пола, а грабители колотили и лупили мечами, а порой и кололи злополучных животных, которые от испуга то и дело прыскали повсюду жидким калом, многие из них валились и переламывали ноги, так что все предалтарное пространство было в слякоти из крови и навоза. Передовые когорты Антихриста стервенели у алтарей. Никита видел: распахнули мощехранилище, вытащили утварь, разливали на пол святые умащения и ножами вылущивали из узора чаш драгоценные камни, и упрятав наживу в одежду, бросали ручники и кадила в наваленную кучу, обреченную переплавке. Некоторые вдобавок, ухмыляясь, доставали из чересседельных сумок винные фляги, лили вино в святую посуду и лакали, передразнивая священников. И того жутче! В глубине, на амвоне, ныне открытом всем на свете взорам, похабничала какая-то блудница, по-видимому охмеленная дурманом, плясала босиком на причастном престоле, изображая церковную службу. Мужчины вокруг хохотали и подзуживали, чтоб она сняла последние одежды. Она же, постепенно оголившись, пошла кругами у алтаря в движениях древнего умоисступленного танца кордака, вслед за тем рухнула, устало рыгнув, на патриарший трон. Стеная обо всем увиденном, Никита заторопился в глубину храма, к тому столбу, который всенародно почитался как Потеющая колонна. И правда, при благоговейном прикасании поверхность выделяла сверхъестественную влагу. Отнюдь не по мистическим причинам торопился теперь Никита добежать до столба. Но в середине пути к колонне ему перегородили путь двое захватчиков исполинского роста и сурово прикрикнули на него. Не требовалось быть знатоком их языка, чтобы понять, что по придворному платью они решили, будто Никита набит золотом или способен сказать, где его прячет. Никита осознал, что погиб. В ужасе блуждая по улицам, он не раз видел: никто не спасался, крича, что владеет лишь несколькими монетами, уверяя, что не прячет кладов на стороне. Обесчещенные дворяне, плачущие старики, обнищалые землевладельцы проходили через смертные пытки. От них требовали сказать, где упрятаны запасы. Кто не признавался, погибал от истязаний, а кто признавался, тех бросали как падаль, и они, изувеченные пытками, в любом случае умирали, а их палачи тем временем выворачивали камни, расшибали стены, вламывались в двойные потолки и накладывали хищные лапы на бесценные сосуды, шарили в бархате, в шелках, щупали меха, перекатывали в пальцах украшения и камни и принюхивались к специям, упакованным в коробки и мешочки. Так в описанную минуту Никита увидел свою кончину, оплакал семью, которая его теряла, и замолил о прощении грехов. Тут в константинопольский верховный кафедральный собор Святой Софии въехал Баудолино. Прекрасный, как Саладин, на лошади, чей чепрак был чуден, со рдяным крестом на груди, с голым мечом и с воплем: «Разъязви вас огонь в бога и в рот и в душу, в чертову мать и в печенки, христопродавцы, олухи, свиньи, паскуды, беззаконничать над добром Господа нашего Христа Иисуса?!» – он колотил плашмя по богохульникам, как он, крестоносным, но с тем различием, что он был не пьян, как они, а взбешен. Догарцевав до патриаршего престола, где разлокотившись лежала шлюха, он перегнулся, схватил ее за гриву и начал валять по навозу, выкрикивая чудовищные вещи о матери, что ее породила. Однако вокруг него те, кого он хотел разогнать, были так полны вином, или настолько заняты выламыванием камней из любых материй, куда эти камни были вделаны, что не видели Баудолиновой горячки. Горячась, он подскакал к двоим гигантам, начинавшим истязать Никиту, увидел схваченного, молившего о пощаде, выпустил волосы изуродованной куртизанки, та свалилась к его ногам, и проговорил на чистом греческом: – Готов поклясться всеми двенадцатью волхвами, ты же Никита, министр тутошнего кесаря! Что я могу для тебя сделать? – Брат во Христе, каково бы ни было твое имя, – взво-пил Никита, – спаси от этих латинских варваров, желающих моей кончины, сохрани мне тело и свою душу! – Двое латинских ратников, не сильно много разобрав в чередовании восточных созвучий, требовали объяснений от Баудолино, который казался им своим, обращаясь к нему по-провансальски. И на отменнейшем провансальском наречии Баудолино рявкнул на них, что это пленник графа Балдуина Фландрского, и по его приказу пленник разыскивается на основании arcana imperii, государственной тайны, в которой ничтожные сержанты вроде них не могут разуметь ни бельмеса. Двое остолбенели на минуту, потом решили, что задираться – терять время, когда тут можно нахватать сокровищ без счета, и удалились к головному алтарю. Никита не пал с лобзаньем к стопам спасителя, потому что уже и так был на полу, но и не смог соблюсти достоинство, приличествующее его сану. – О мой добрый господин, благодарю тебя за помощь. Не все латиняне, значит, неистовые скоты с искривленным от зложелательства ликом. Так не ярились даже сарацины, когда завоевали Иерусалим! Там Саладин в обмен на несколько монет позволил выйти мирным горожанам! Что за позор для крещеного человечества! Идут с оружием братья против братьев, пилигримы, чьим намерением было отвоевание Господня Гроба, дали остановить себя зависти и корысти, и разрушают империю Рима! О Константинополь, Константинополь, отечество церквей, царство вер, руководство безукоризненных суждений, вскормление наук, отдохновение красот, тебе приводится испить из руки Господней чашу гнева, и вот ты опален огнем сильнейшим, нежели тот, что ниспал древле на Пять городов! Какие жадные, неумолимые демоны излили на тебя, столица, излишества опьянения, что за шалые ненавистные женихи засветили твой свадебный факел? О мать, даве облаченная в виссон и царскую порфиру, ныне испачканная, изможденная и лишившаяся своих детищ, мы как птицы, пойманные в клетку, не находим выхода из града, бывшего нашим, не находим мужества оставаться, и в бесприютности мыкаемся, как блудные звезды! – Говорили мне, – отвечал Баудолино, – что у вас у греков рассуждают длинно и о чем попало, но я не знал, что до такой невозможности. Государь Никита, тут надо думать, как унести целыми задницы из этого места. Я могу тебя пристроить на квартиру у генуэзцев. Но ты должен указать скорый и тихий путь в Неорион. Крест у меня на брюхе защищает меня, а не тебя. У тех, с кем мы будем видеться по дороге, свет разума несколько подзатемнился, и если я пойду по городу с пленным греком, им покажется, будто ты чего-то стоишь, и тебя в момент отобьют. – Мне известна одна дорога, но она не лежит по улицам, – сказал Никита, – и придется оставить коня. – Ну, придется значит придется, – отвечал Баудолино с бесшабашностью, которая изумила Никиту, не подозревавшего, сколь малой ценой он достал себе эту лошадь. Никита с помощью Баудолино сумел подняться, взял того за руку и крадучись повел к Потеющей колонне. Осторожно осмотрелся вокруг: повсюду в церкви, как мураши, пилигримы что-то усердно ковыряли, не обращая внимания на обоих. Он преклонил колени перед колонной и всунул пальцы в щель меж половых плит. – Помоги, – обратился он к Баудолино, – может быть, вдвоем осилим. – И действительно, через несколько попыток плита подалась, и открылось темное пространство. – Там ступени, – сказал Никита. – Первым я, потому что знаю, куда опираться. Ты потом закрой снова крышку. – И что будет? – спросил Баудолино. – Когда спустимся, – отвечал Никита, – мы нащупаем внизу нишу, в ней будут факелы, кремень и кресало. – Хороший город этот ваш Константинополь, везде сюрпризы, – бормотал Баудолино, спускаясь винтовой лестницей. – Жаль только, что эти свиньи в нем не оставят камня на камне. – Какие свиньи? – переспросил Никита. – Разве ты не один из них? – Я? – возмутился Баудолино. – Ну нет. Если ты судишь по моему наряду, я его взял взаймы. Когда они ввалились в город, я уже тут находился. Так где, говоришь, факелы? – Не торопись, еще несколько ступеней... Кто ты, как тебя называют? – Баудолино из Александрии. Не из египетской, а из той, которая ныне зовется Кесареей, а может быть, не зовется никак, ее могли и пожечь, как пожгут Константинополь. Из той Александрии, что лежит между северными горами и морем, возле Медиоланума. Может быть, слышал? – Медиоланум я знаю. Его стены были однажды свалены царем алеманов. Потом наш василевс дал им денег, чтобы снова отстроить. – Вот, я был при этом императоре алеманов и тогда, и до самой его смерти. Ты его видел, когда он шел через Пропонтиду, лет тому назад пятнадцать. – Фредерик Рыжебородый. Величайший и знатный принцепс, сострадательный и милосердный. Никогда он не поступил бы, как эти... – Ну, положим, когда брал города, Фридрих тоже не бывал ласков. Наконец они спустились с лестницы. Никита нашел факелы, и двое, держа их высоко над головой, преодолели длинный лаз. Взгляду Баудолино открылось черево Константинополя, где почти под основанием самого громадного собора мира стояла неведомая вторая базилика. Ее колонны мрежились во тьме как множество деревьев озерной рощи, вырастающих из воды. Не то базилика, не то аббатская церковь, но стояла она вверх ногами, потому что свет, облизывавший капители, сникающие в тени высоких сводов, шел не через розу фасада и не через стекла, а от водяного пола, отражавшего зыбучее пламя, струимое факелами пришельцев. – Под почвой города много водохранилищ, – сказал Никита. – Сады Константинополя вовсе не дар природы, а результат искусства. Но видишь, вода теперь еле доходит до колена. Ее вычерпали на тушение пожаров. Если захватчики разгромят еще и эти акведуки, всех ожидает смерть от жажды. В обычное время тут бродом невозможно, обычно тут плавают на лодке. – И так по воде пойдем до гавани? – Нет, акведук оканчивается раньше. Однако есть проходы в другие галереи, к соседним водоемам, и в общем если не до Неориона, то до Просвириона это подземелье доводит. Однако, – прервался он с печалью, будто припомнил одно забытое дело, – я не могу идти с тобой. Я объясню тебе дорогу, а сам вернусь. Я должен спасать свою семью, она скрывается в одном домишке около Святой Ирины. Понимаешь, – похоже было, что Никита извинялся, – мой дворец пострадал во время августовского, второго пожара... – Никита, ты ненормальный. Сначала ты тащишь меня под землю, я бросаю коня, в то время как без тебя-то я до Неориона спокойно мог бы доехать по любой дороге. Вовторых, надеешься добраться до семьи прежде чем другая парочка сержантов, примерно таких, как те, с кем ты только что расстался, опять возьмется за тебя. Да и дойди ты целым до своего семейства, что ты затем-то намерен делать? Раньше или позже вас всех накроют. Ты собираешься вести семью... куда ты собрался? – У меня друзья в Селиврии... – задумчиво отвечал Никита. – Не знаю, где это, но чтобы туда добраться, вам надо пересечь город. Слушай, ты своей семье совершенно бесполезен. Давай лучше договариваться с генуэзцами там, куда я тебя доставлю. Генуэзцы в этом городе заправляют всем чем хочешь. Они ладят и с сарацинами, и с евреями, и с монахами, и с императорскими гвардейцами, и с персидскими купцами, а теперь поладили с латинскими пилигримами. Они все ушлые, ты им скажешь, куда упрятано твое семейство, и назавтра они всех твоих домочадцев в полном порядке, не знаю как, но доставят. Они бы сделали это и ради меня, за так просто, и сделали бы за ради Бога, но все-таки они генуэзцы, и если ты им еще и заплатишь, тем лучше они будут стараться. Потом мы пересидим весь шум. Грабеж города обычно за три-четыре дня кончается. Поверь, я перевидал их довольно. Затем иди себе в Селиврию, то есть иди куда хочешь. Никита поблагодарил. Было понятно, что прав Баудоли-но. По дороге Никита спросил, зачем Баудолино в городе, если он не крестоносец-паломник. – Я сюда прибыл, когда латиняне высаживались на другой берег, я был с одними людьми... которых теперь нет. Мы прибыли издалека... – Отчего вы не покинули город, если еще успевали? Баудолино поколебался с ответом. – Потому что... только тут я мог понять одну вещь... – Ну и понял? – К сожалению, понял. Но понял только сегодня. – И еще один вопрос. Почему ты так возишься со мною? – А как обязан поступать христианин? Но ты, откровенно говоря, прав, Никита. Я бы мог спасти тебя и отпустить, а не прилипать к тебе, как пиявка. Дело в том, что я знаю, что ты пишешь истории, как покойный фрейзингенский Оттон. Но когда я знал епископа Оттона, вплоть до самого конца его дней, я был отрок. Я не имел истории. Я только хотел узнавать истории других. Теперь я готов завести себе собственную историю. Но я не только потерял все, что написал о своем прошлом, но и не могу восстановить. В воспоминаниях запутываются мысли. Факты как раз не запутываются, но я неспособен придать смысл этим фактам. После того что сегодня произошло со мной, я должен кому-то все рассказать. Иначе я помешаюсь. – А что произошло с тобой сегодня? – спросил Никита, тяжко переволакивая ноги. Он был моложе Баудолино, но науки и придворная карьера наделили его тучностью, слабосилием и ленью. – Я убил человека. Того, кто пятнадцать лет назад был убийцей моего приемного отца, лучшего из царей, императора Фридриха. – Фридрих же утонул в Киликии! – Так привыкли полагать. На самом деле Фридриха убили. Никита, ты видел, как я бесился и потрясал мечом давеча в Святой Софии, однако знай, что я никого никогда не убил. Я жил под знаком мира. В первый раз мне пришлось убить сегодня. Только я мог восстановить справедливость. – Расскажешь после. Сейчас ответь, как это ты судьбоносно попал в Софию, чтобы спасти мне жизнь. – В час когда пилигримы начинали грабить город, я входил в одно тайное место. Когда я вышел из этого места, уже стемнело, это было час назад, и я оказался у ипподрома. Меня чуть не свалила толпа греков, бежавших по улице с криками. Я прижался к воротам полусожженного дома, чтобы пропустить их, и увидел, что за греками гонятся латинские пилигримы. Тут я понял, что в городе происходит, и тогда же совершенно кристально мне представилось положение: я-то сам, конечно же, латинянин, я не грек, но пока в этой разнице разберется озверелая банда, между мертвым мной и мертвым греком уже не будет никакой разницы. Все же как это возможно, говорил я про себя, ну неужели они собрались уничтожить величайший город христиан как раз теперь, когда его получили... На что я ответил сам себе, что когда их предки вошли в Иерусалим при Готфриде Бульонском, хоть и тогда город переходил в их владение, они все-таки убили мужчин, женщин и детей и домашних животных, и слава еще небесам, что не сожгли заодно с этим церковь и Гроб Спасителя. Правда, тогда завоеватели были христиане, а город, взятый ими, был городом неверных. Но я в своих странствиях довольно нагляделся, как и христиане христиан режут за малейшее словечко, и знаю, что наши священнослужители с вашими затеяли распрю по поводу filioque. А кроме того, когда солдаты входят во взятый город, кому там разбираться в разночтениях Нового Завета. – И как же ты тогда поступил? – Я вышел из подворотни и стал пробираться, прижимаясь к стене, в сторону ипподрома. На ипподроме я увидел, как краса погибает и обращается в тяжесть. С тех пор как я в этом городе, я каждый день ходил смотреть на статую девы с округлыми стопами, с руками белее снега и с алым маленьким ртом, у нее такая улыбка... такие груди, такая одежда и волосы, что точно танцуют при ветре... Глядя на деву издали, не верилось, что это бронза. Казалось, она из плоти... – Елена Троянская. Что, что-то случилось с нею? – Случилось. За считанные секунды я увидел, как столб, на который она опиралась, перегнулся, будто дерево, подпиленное под комель, и низринулся, поднимая облако пыли. На куски расколотилось тело, в двух шагах от меня грянулась голова. Только тогда я понял, до чего была огромна эта статуя. Голова... ее нельзя было охватить и двумя руками... наблюдала искоса за мной, как обычно глядят лежачие люди, нос ее был горизонтален, губы вертикальны, и казались они, прости меня, теми губами, что у женщин промежду ног. Из очей повыскакивали зрачки и она как будто ослепла, точно как же, господи ты боже мой! вот как эта! – Тут он отстранился с плесканием, рассевая брызги повсюду, потому что во тьме неожиданно высветилось каменное чело, величиной в десять обыкновенных. Голова держала на себе колонну, а сама была лежачей, с еще более срамным ртом, чем в рассказе Баудолино, потому что этот был полуоткрыт. Вместо волос клубились змеи, и на всем облике была смертельная бледность, цвета старой слоновой кости. Никита заулыбался: – Да она тут испокон веку. Эти головы, привезенные бог весть откуда, послужили строителям цоколями. Ты напрасно перепугался. – Не пугался я. Просто я ее уже видел. Совершенно в другом месте. Баудолино был до того взбудоражен, что Никита переменил разговор. – Ты рассказывал, что сбили статую Елены. – Если б только одну ее. Все, ох, все статуи от форума до ипподрома. По крайности все те, что выкованы из металла. Забирались по столбам, обвязывали статуи чем попало. Обхватывали канатами, цепями за шею, к другому концу вязали две-три упряжки волов. Свалили на моих глазах возниц, свалили сфинкса, гиппопотама, египетского крокодила, волчицу с Ромулом и Ремом, сосавшими молоко, и Геракла. Он тоже, как обнаружилось, был до такой степени громаден, что палец его равнялся торсу обычного человека. Пал и бронзовый обелиск, изузоренный рельефами, на котором на самом верху вертелась фемина, показывала ветер... – Подруга ветра. Какая утрата! Многие статуи восходили к языческим ваятелям. Они были древнее Рима. Зачем их повалили, зачем же? – На переплавку. В первую очередь, когда берутся разграблять город, переплавляют, что не могут увезти. В дни грабежа город выглядит как сплошная кузня, что вполне естественно, потому что куда ни глянешь, повсюду пожар. Все дома, пока не выгорят, – хорошие горнила. К тому же те молодчики, которых ты видел в храме, побоятся показывать добычу. Что они скажут? Что выцарапали из алтарей писиды и патены? Плавить, немедленно плавить. Брать город, – пояснял Баудолино опытным тоном, – что собирать виноград. Обязанности разделяются. Кто мнет гроздья, кто таскает муст по чанам, кто готовит еду для мяльщиков, а кто идет за праздниковым прошлогодним вином. Грабеж – работа серьезная, когда, конечно, имеется цель не оставлять камня на камне. Так было в мои времена в Меди-олануме. Только с тогдашними нашими, с павийцами, никто, конечно, не потягается. Они-то умели работать так, чтобы города не стало. А этим нынешним еще учиться и учиться. Я видел: стягивают статую и усаживаются на ней закусить и выпить, потом появляется кто-то, таща за волосы девчонку, орет, что она-де девственна, и те кругом засовывают в нее палец, чтобы проверить, что там за дела и стоит ли возиться с нею... Между тем при правильном разграблении надо идти по городу шаг за шагом и чистить один дом за другим домом. Развлекаться будет время попозже. Иначе первые опередят и вынесут все, что только можно. Ну ладно. Моя-то загвоздка состояла в том, что этим старателям недосуг будет слушать, что и я пришел сюда, как они, из Монферратского маркизата. Оставалось одно. Я притаился под стеной, покуда в переулок не въехал всадник, который, видно, до такой степени упился, что не знал куда бредет его собственная лошадь. Один разок дернув за ногу, я его благополучно спешил. Снял с него шишак и уронил ему на голову приличный камень... – Убил его? – Да нет, хрупкий такой, парнягу только оглушило. Я был спокоен, что он живехонек, он лежал и весь заблевывался какой-то фиолетовой дрянью, так что я быстро стащил с него плащ и вязаную кольчугу, взял себе шлем, оружие, коня и поспешил вперед по улицам, пока не оказался у Святой Софии. И обнаружил, что в собор въезжают люди на мулах, передо мною солдатня выволокла серебряные канделябры с цепями толщиною в их руки, переговариваясь по-ломбардски. Когда я увидел все это громление, это хищение, этот глум, я прямо забыл себя, потому что глумившиеся были все-таки моими земляками, были приверженниками римского папы... За разговором пройдя по всей дороге, почти при выгоревших факелах они вышли из подземного водоема в уже сгустившуюся ночь и по пустынным улицам достигли укрепления генуэзцев. Поколотили в дверь, и кто-то к ним спустился, им дали войти и накормили по-армейски без разговоров. Баудолино, казалось, был накоротке с хозяевами и отрекомендовал им Никиту. Один из тех сказал: – Будет сделано. Идите в постель. – И сказал настолько уверенно, что не только Баудолино, но и Никита провели ту ночь во сне и даже в покое. 3. БАУДОЛИНО ПЕРЕСКАЗЫВАЕТ НИКИТЕ, ЧТО ИМ НАПИСАНО В ОТРОЧЕСТВЕ Пришло утро, Баудолино позвал самых шустрых генуэзцев: Певере, Бойямондо, Грилло и Тарабурло. Никита сказал им, где находится его семья, и они ушли, вторично посоветовав не волноваться. Никита попросил вина, налил кубок Баудолино: – Не знаю, понравится ли тебе это вино, с таким копченым привкусом. Многим латинянам наше вино гадко, говорят, воняет плесенью. – Выслушав Баудо-линовы заверения, что для него этот греческий нектар – отрада, Никита расположился слушать его рассказы. Баудолино спешил выговориться, выплеснуть, что накопилось. – Вот, государь Никита, – сказал он, вытаскивая кожаную ладанку, которую носил на шее, и вынув пергамент. – Это начало моей истории. Никита, хоть он и умел разбирать латиницу, попытался расшифровать письмо, но у него ничего не вышло. – Что это? – спросил он тогда. – То есть на каком языке написано? – На каком языке, не знаю. Ладно, давай начнем сначала, государь Никита. Ты, верно, знаешь, где находится Януа, то есть Генуя, и Медиоланум, или Майланд, как зовут его тевтонцы, они же германцы, они же, по вашему выражению, алеманы. Так вот, на середине пути между этими двумя городами протекают две реки, Танаро и Бормида, а между рек обретается равнина, на которой, когда нет такой жары, что можно печь на каждом камне яйца, тогда стоит густой туман, а нет тумана, значит лежит снег, а если нет снега, то тогда повсюду лед, а если нету льда, то все равно морозно. Там я и родился, в ланде, носящей имя Маринканской Фрас-кеты, на широком болоте между двух рек. Не сравнить с по-бережием Пропонтиды... – Да уж я думаю. – ...но по мне, хорошее место. Там такой воздух задушевный. Я пространствовал много, государь Никита, может быть, до Великих Индий... – Как, ты не знаешь? – Нет, не знаю точно, до какого я добирался места. Несомненно, до рогатых людей и до тех, у которых уста на брюхе. Я неделями блуждал по бескрайним пустыням, странствовал среди лугов, простиравшихся до самого крайнего огляда, и всегда ощущал себя в плену у чего-то, на что не хватало воображения. А вот в моих краях, когда гуляешь по лесам в тумане, ты будто все еще в животе у матери, ничего не боишься и совершенно свободен. Да и когда тумана нет... прогуливаясь, захотел попить – отломал сосульку, замерз, подышал на пальцы, на руках постоянно geloni... – Это те... которые смешат? – Нет, не gheloioi! В вашем языке просто нет пригодного слова. Geloni – болячки на пальцах, на костяшках кулаков, образуются они от стужи и зудят, а если расчесывать, нарывают... – Но ты их вспоминаешь как будто с приязнью... – Холод приятен. – Каждому нравится место, где он родился. Рассказывай. – Вот, там прежде обитали римляне, римляне римские, те, которые говорили на латыни, а не те римляне, которыми называете себя вы, говоря при этом по-гречески, в то время как мы вас зовем ромеи, или же greculi... полагаю, ты не обиделся. Потом империя тех римлян развалилась, и в Риме остается только папа, а по Италии распространились разные народы с разнообразными своими языками. У нас во Фраскете говорят одним манером, а неподалеку, в Тортоне, уже другим. Путешествуя с Фридрихом по Италии, мне привелось слышать нежные языки, с которыми при сравнении наш фраскетский вообще не язык, а лаянье псов. Никто на нем ничего не пишет, у нас для письма употребляется латынь. Знаешь, марая вот этот пергамент, я, поди, вообще впервые попытался записать, как разговаривают наши люди. Потом я выучился и перешел на латынь. – Но тут-то что все-таки написано? – Как видишь, я, живя у книжников, даже понимал летосчисление. Я пишу, что идет декабрь года Господня 1155. Правда, сколько мне самому лет, я не знал. Отец говорил двенадцать, у матери выходило не меньше тринадцати. Видимо, от усилий, что она истратила, растив меня во страхе Божием, годы, на ее подсчет, умножились. А когда я писал это, мне и подавно близилось к четырнадцати. С апреля по декабрь я учился писать. Учился как бешеный. С той поры как император Фридрих забрал меня и мы уехали, я учился где только мог: на поле, в палатке, в любых военных развалинах. В основном я учился на табличках, редко когда на пергаментах. Я уже начинал привыкать, живя при Фридрихе, к скитальчеству. Мы сидели на месте только несколько месяцев, да и то лишь зимой, а остальную часть года путешествовали и каждый день ночевали на новом привале. – Да, но что же тут все-таки рассказано? – В начале того года я еще жил при отце и матери, двух-трех скотах и наделе земли. Один отшельник в наших краях обучил меня чтению. Я бродил по болотам и лесам, воображал себя чем попало, видел в тумане единорогов и, как я утверждал, святого Баудолина... – Ничего не знаю об этом святом. Он взаправду тебе являлся? – Это святой местного значения, при жизни был епископом Вилла дель Форо. Взаправду являлся или нет, это особый вопрос. Видишь ли, сударь Никита, трудность моего положения состоит в том, что я никогда не проводил различий между увиденным и тем, что хотел увидеть... – Ты не один такой... – Да, но со мной каждый раз получалось, что стоило мне только объявить: я видел то-то, или же: я нашел письмо, гласящее то-то (а может, письмо я сам же и написал), люди как будто лишь этих моих слов и ждали. Понимаешь, если всякий раз, когда лепишь наобум что приходит тебе в башку, люди объявляют, что это самая истинная истина, начинаешь как-то и ты верить. Я разгуливал по Фраскете, в каждой роще встречал святых и единорогов, и когда повстречал императора Фридриха, то, не зная что он и кто он, заговорил на его родном языке и сказал ему, будто от святого Баудоли-на слышал, что ему суждено захватить Тортону. Я сказал это ему, одному ему в порядке любезности, но для Фридриха было полезно, чтобы я повторил это всем и каждому, прежде всего послам из Тортоны, дабы они увидели, что и святые им противятся, и для того выкупил меня у родителя. Для отца были ценны не монеты, которые дал император, а что стало одним едоком меньше. Так моя жизнь поменяла направление. – Ты сделался его пажом? – Скорее сыном. В те времена у Фридриха не было еще собственного потомства, и думаю, он ко мне привязался. Я говорил ему то, что другими почтительно замалчивалось. Он обращался со мной как с родным, хвалил за учебные каракули, за неумелый счет, для которого я пользовался пальцами, за то, что я умел запоминать исторические подробности, касавшиеся его отца и отца его отца... Думая, что я не смогу понять, он даже со мною откровенничал... – Любил ли ты приемного отца больше чем родного, или тебя привлекало его могущество? – Сударь Никита, до определенных пор я не задумывался, люблю ли своего кровного родителя Гальяудо. Я только не хотел попадать под тяжелую руку и тяжелую палку, что, полагал я, было естественно для детища. Что я любил его, я узнал только когда его не стало. До самой смерти, думаю, я ни разу не обнял отца. В объятия матери я, конечно, прибегал, чтоб выплакаться, но бедная женщина опекала столько скотины, столько птицы, что на меня ее уже не хватало. Фридрих имел превосходный рост, лицо белорозовое, а не дубленое, как у моих деревенских родичей, волосы и бороду имел рдяно-пламенные, и длинные пальцы, и тонкие руки, ногти имел ухоженные, сам держался уверенно и внушал уверенность людям, был весел, и был решителен, и внушал решительность и веселие, был смелым и все вокруг становились смелыми... Львенком был тогда я, он был сильным львом. Он бывал и суров, но не с теми, кого любил: с теми нежен. Я любил Фридриха. Это был первый человек, который слушал, что я ему говорил. – Выслушивал тебя как глас народа... Благ господин, не приклоняющий свой слух к одним придворным, но любопытствующий о думах граждан... – Да, но я не понимал, кто я и где я. С тех пор как я встретил императора, с апреля и до месяца сентября императорское войско дважды промерило маршем Италию, в первый раз от Ломбардии до Рима, второй раз в обратном направлении, по змееобразно извитому пути от Сполето на Анкону, потом в апулийские области и снова в область Романьи, затем в Верону, в Тридент, Баузан, перевалило через горный хребет и наконец возвратилось в Германию. Двенадцать лет, проведенных в болоте между левой и правой рекою... а на тринадцатый меня вбросили в середину универса. – По твоему тогдашнему представлению. – Естественно! Я понимаю, сударь Никита, что центром универсума являетесь вы! Но мир гораздо шире вашей империи. Есть Ultima Thule и есть страна гибернов. Конечно, по сравнению с Константинополем Рим – лишь гора руин, а Париж – грязная деревня. Но кое-что кое-когда случается и на широких просторах, где не все говорят по-гречески. Где в одной из стран, чтобы выразить согласие, произносят: ок. – Ок? –Ок. – Удивительно. Продолжай же. – Продолжаю. Я повидал целую Италию, новые места, новые лица, облачения, не виданные мною, дамаски, вышивки, золототканые епанчи, броню, оружие, я слышал речи, которые с большим трудом воспроизводил... каждый день иные. Припоминаю довольно смутно коронование Фридриха железной короной итальянских королей в Павии, потом поход по Италии так называемой citeriore, «посюсторонней». Долгий марш по францигенской, via francigena, то есть пилигримской на гребне Апеннин дороге вплоть до Сутри, где император встретился с папой Адрианом. Коронование в Риме... – Так где все-таки был коронован твой василевс, или император, как вам его угодно называть, – в Риме или в Павии? И зачем он короновался в Италии, если он василевс аламанов? – Тогда мы начнем совсем с начала, сударь Никита, потому что у нас, латинян, все не так просто, как у вас тут, у ромеев. У вас кто выколет глаза очередному василевсу, сам занимает его место, все очень рады, и даже цареградский патриарх пляшет под новую монаршую дудку, в обратном случае василевс выколет очи и патриарху... – Ну, не совсем уж так... – Как не совсем? Когда я прибыл, мне сразу объяснили, что Алексей Третий взошел на трон, ослепив законного василевса, своего брата Исаака. – А что, у вас правители не убирают своих предместников ради захвата их трона? – Да, но у нас их убирают в бою, или тайной отравой, или кинжалом. – Ну видите. Вам, варварам, неведомы щадящие методы. И вообще Исаак родной брат Алексея, а братьев нельзя убивать. – Понятно. Можно выкалывать глаза истинно по-братски... У нас иначе. Император латинян, будь он и не латинянин... а ни один из императоров не латинянин со времен Великого Карла... император латинян – это прямой наследник римских кесарей. Римских из Рима, я имею в виду, не римских из Константинополя. Но для пущей надежности его должен короновать римский папа, потому что законы Христа теперь у нас сильнее законов лжи и неверия. Однако чтобы римский папа короновал императора, этого императора должны признать итальянские города, а у каждого города свой норов, значит, первым делом этот император должен стать королем Италии и соответственно короноваться, но, понятно, только при одном условии: что его прежде выберут тевтонские принцепсы. Это тебе ясно? Никите давно было ясно одно: что латиняне, хоть они и варвары, все закручивают хитрее некуда. Ничего не смысля в тонкостях и дистинкциях богословия, они доходят до невоспроизводимой казуистики, когда дело касается гражданских законоуложений. И во все те столетия, что были потрачены византийскими ромеями на жаркие разборы, в чем состоит природа Господа, безотносительно к проблеме власти (власть продолжала исходить прямо от Константина), люди Запада оставляли теологию попам из Рима, а все имеющееся время употребляли на то, чтоб травить и потрошить друг друга, выясняя, есть ли еще над ними император и кто он. С тем результатом, что настоящего императора так и не имели. – Значит, Фридрих нуждался в римской коронации. Думаю, она проходила помпезно... – Да не так чтобы очень. Во-первых, Святой Петр в Риме, по сравнению с вашей Святой Софией, это клетушка, причем достаточно облезлая. Во-вторых, положение в Риме в те дни было неопределенное. Папа окопался около Святого Петра и собственного замка, а по ту сторону реки римляне во всем городе хозяйничали как хотели. В-третьих, невозможно было понять как следует, папа ли хамил императору или император хамил папе. – В каком смысле? – В смысле, что если послушать принцепсов и епископов государева престола, получалось, все разъярены тем, как папа обходится с императором. Коронации производят по воскресеньям, а эту назначили на субботу. Помазание на императорство делается у главного алтаря, а Фридриха помазали у бокового, и не на челе, как мазали всегда всех, а между плечами и лопатками, и не миром, а соборованным елеем... ты, может быть, не чувствуешь различия, я, честно говоря, тоже тогда не чувствовал, но при дворе все ходили угрюмые как я не знаю что. Я ожидал, что и Фридрих озлобится, но он, наоборот, умильничал перед этим папой, а бесился, судя по его поведению, сам папа, он был зол, будто провалился какой-то план. Я спросил открыто у Фридриха, почему бароны такие кислые, а он веселый. Фридрих сказал, что если я бы разбирался в литургических символах, понимал бы, что мелкие детали прямо переворачивают суть дела. Ему, конечно, нужна была коронация, и не какая-нибудь, а папская, но как раз без особой помпезности, чтобы не казалось, будто он становится императором благодаря этому папе, потому что он императором и сам по себе уже является по решению германских принцепсов. Я сказал ему, что это здорово подстроено, папе отвели роль обыкновенного нотариуса, заверь-ка, пожалуйста, папа, тут мой договор со Вседержителем. Фридрих наградил меня щелчком и парировал: браво, ты умеешь верно описывать положения. Потом спросил, чем я был занят все эти дни в Риме, пока он возился с церемониями и потерял меня из виду. Я ему: известно, какие вы тут разводили церемонии. А надо знать, что римлянам (римлянам римским, как ты уже, видимо, понял) не понравилось, что Фридрих коронуется в Святом Петре, потому что их римский сенат, считавший себя главнее папы, предлагал Фридриху короноваться на Капитолии. Фридрих от Капитолия отказался, потому что не хотел, чтоб говорили, что он принял коронование от народа. Тогда не только германские принцепсы, но и французский с английским короли сказали бы, хорошенькое помазание от пресвятой черни! Помазание от папы – другое дело, серьезное дело. Впрочем, и на этом заковырки не кончались, но я это понял лишь потом. Германские принцепсы как раз начинали ссылаться на translatio imperii, то есть что они непосредственно наследуют римским кесарям. Следовательно, если Фридриха коронует папа, значит, наследование принцепсами власти кесарей утверждается викарием Христа на земле, и не имеет значения, где этот викарий живет, в Эдессе или в Регенс-бурге. Если же Фридрих бы позволил увенчать себя сенату и народу римскому, это означало бы, что империя все еще имеет в Риме средоточие и ни о какой translatio нет и речи. И откушайте, как говаривал мой родитель Гальяудо. Естественно, на такое император согласиться не мог. И вот поэтому как раз во время большого коронационного пиршества разозленные римляне перебрались через Тибр и поубивали не только сколько-то там священников, что было делом вполне повседневным, но и сколько-то людей императора. Тут Фридрих не взвидел свету от бешенства и скомандовал перетопить и перерезать всех без изъятия, и в этот день в Тибре обреталось больше мертвецов, нежели рыб. Примерно к вечеру римляне поняли, кто здесь начальник, но если говорить о празднике, праздник вышел не ахти какой. От этого и нерасположение Фридриха к городам посюсторонней Италии. От этого, когда на исходе июля он подошел под Сполето, потребовал гостеприимства и платы, а сполет-ские жители как-то замешкались, Фридрих сорвал на них остатки римского бешенства и устроил такой разнос, что константинопольский в сравнении с ним – детское игрище. Знаешь ли, сударь Никита, императору положено вести себя по-императорски, не распускать нюни... Я немалому научился в эти месяцы. За разгромом Сполето последовала встреча в Анконе с византийскими посланниками, потом мы вернулись в верхнюю Италию и дошли до отрогов Альп, которые Оттон называл Пиренеями, и там я впервые в жизни увидел заснеженные горные вершины. Тем временем каждый день без устали Рагевин обучал меня письму... – Тяжелое занятие для юноши. – Нет, не тяжелое. Конечно, ежели до меня ну просто уж совсем никак не доходило, каноник Рагевин умел поддать и кулаком по башке, но я сносил это с легкостью, после родительских затрещин. А вообще все они так и глядели мне в рот. Если я провозглашал, что увидел сирену в море, после того как император отрекомендовал меня в качестве святовидца, люди верили в эту сирену и нахваливали меня за правдивые рассказы! – Это научило тебя взвешивать слова. – Наоборот, это отучило меня их взвешивать. Что бы я ни сказал, все всегда воспринималось как истина, так как было сказано мною. По пути в Рим один священнослужитель, Коррадо, описал мне чудеса этого города: рассказал про семь волшебных истуканов Капитолия, обозначавших дни недели, каждый из истуканов умел-де дивным звоном возвестить, ежели становилось неспокойно в одной из семи провинций империи... рассказал о бронзовых самодвижущихся статуях, о дворце, где заколдованные зеркала... Потом мы доехали до Рима. В день, когда на Тибре было смертоубийство, я решил уйти от этих дел подальше и пошел один по городу. Бродил, бродил, так ничего и не выбродил: видел только баранов между античных руин, видел под портиками простолюдин, переговаривавшихся по-иудейски и продававших свежую рыбу, но никаких mirabilia не обнаружил, кроме одной конной статуи на Латеране, да и та оказалась не бог весть какой красоты. Тем не менее, когда я вернулся и был всеми расспрошен, что хорошего в Риме, – как ты считаешь, можно ли было в ответ доложить, что из всех красот только и имеется в натуре, что бараны между руин и руины между баранов? Мне бы даже не поверили. Так что я перепел все байки о чудесах, которых перед этим наслышался, и еще припел от себя, например, что в Латеранских палатах обретается мощехранилище золотое и с бриллиантами и в мощехранилище лежат пуповина и обрезанная крайняя плоть Христа Господа. Ну, народ совсем развесил уши и приговаривал: обидно, что пришлось нам все это время оставаться и резать римлян и не поглядели мы на mirabilia. Потом не проходило дня, чтоб я не слышал о mirabilia Рима, слышал в Германии, слышал в Бургундии и даже здесь... именно то, что я в свое время понапридумал для своих однополчан... Между тем возвратились генуэзцы, переодетые монахами, и привели под колокольное бряканье табунок каких-то существ, замотанных с головой в белесую грязную рвань. Это были: беременная жена Никиты с меньшим ребенком на руках, прочие мальчики и девочки, очень красивые, а также несколько слуг и родственников. Генуэзцы провели всю компанию через город под видом прокаженников, и пилигримы с ужасом отскакивали от этого шествия. – Ну как они могли поверить? – надсаживался от хохота Баудолино. – Прокаженные – ладно, но уж вы-то, даже в этих балахонах, какие из вас монахи! – Со всемерным почтением скажу, крестоносцы малость олуховаты, – отвечал Тарабурло. – Вдобавок просидевши тут изрядное время, кое-как бормотать по-гречески и мы приловчились. Шли, распевали kyrieleison pighe pighe, повторяли эти слова вроде литании, а пилигримы отскакивали, крестились, пальцами показывали рога и хватались за причинные части. Один служитель поднес Никите шкатулку и тот удалился в другой конец комнаты, отмыкая. Вернувшись, он дал несколько золотых монет хозяевам дома, на что те рассыпались в благодарностях и провозгласили, что сколько потребуется, истинный распорядитель под этой крышей – их гость. Большую семью расселили в квартирах по соседству, в довольно грязных переулках, куда ни одному латинянину не пришло бы в голову идти за добычей. Теперь спокойный, Никита вновь обратился к Певере, по виду – главному генуэзцу, и сказал, что и в тайнике не желает отказываться от приятных повседневных привычек. Город весь горит, однако гавань, вероятно, полнится купецкими кораблями, и рыболовы имеют добычу, но вынуждены оставлять все в пределах Золотого Рога, без возможности отвозить товар на склад. Располагая деньгами, удастся закупать по порядочным ценам все, что необходимо для удовлетворительной жизни. В отношении готовки, один из вызволенных домочадцев, свояк Никиты Феофил, – прекрасный кулинар. Он составит перечень припасов, которые нужны... Так все уладилось, и после полудня Никита смог угостить Баудолино едой, приличествовавшей логофету. Жирный козленок, шпигованный чесноком, а также репчатым луком и луком-пореем, под соусом из маринованной рыбы. – Более двух столетий назад, – сказал Никита, – в Константинополь прибыл послом от вашего короля Отгона один епископ, Лиутпранд, и принимал его наш василевс Никифор. Визит был очень неудачным. Лиутпранд составил отчет о поездке, где о нас, римлянах, говорилось, что мы грязны и грубы, невежественны и в обносках. Он возненавидел смоляное вино, а также наши кушанья, залитые, как он писал негодуя, постным маслом. Но об одном-единственном блюде он отозвался с энтузиазмом, а именно о том, которое ты сейчас ешь. Баудолино козлятина пришлась донельзя по вкусу, и он стал отвечать на следующие вопросы логофета Никиты. – Живя в отряде Фридриха, ты освоил науку письма. Читать был способен и до этого. – Да, но писать труднее. Писал я по-латыни. Дело в том, что когда император орал на своих солдат, он это делал по-немецки, а когда писал папе или двоюродному брату Язомирготту, то переходил на латынь, и на латыни были все документы. Мне трудно было составлять первые слова, я переписывал слова и фразы, смысла которых не понимал, но все же к концу первого года научился уже писать. Однако Рагевин не успел к той поре поучить меня грамматике. Я умел переписывать, но был не в состоянии самостоятельно изъясняться. Поэтому я начал писать на языке Фраскеты. Хотя... вправду ли это был язык Фраске-ты? Скорее мешанина моих воспоминаний о разных наречиях, которые вокруг меня звучали. О языках жителей Асти, Милана, Генуи, тех, кто нередко друг друга не понимали. Потом в той местности мы выстроили город, и обитатели сошлись туда отовсюду, и вместе возвели башню и сообщались между собою на некоем смешанном наречии. Я думаю, что в значительной мере то было наречие, изобретенное мною. – Ты выступил как номофет, – подвел тогда итог Никита. – Не знаю слова «номофет», однако, вероятно, выступил. Как бы то ни было, следующие листы уже составлены на вполне сносной латыни. Я писал их в Регенсбурге, в тихом монастыре, при епископе Оттоне, и в тиши прихрамо-вого сада жил среди множества листов, которые мною читались... Но я учился. Я не только читал. Присмотревшись, можно увидеть, что пергамент плохо счищен и через мой текст проступают чужие строки. Я был действительно канальей в юные годы. Крал материал у мастера. Двое суток отцарапывал текст, который считал античным, готовя себе писчую поверхность. Вскоре вслед за тем Отгон забеспокоился, не находя первого списка своей «Хроники», или же «Истории о двух царствах», над которой он трудился больше десятилетия. Епископ стал винить бедного Рагевина, что тот-де потерял сочинение в странствиях. Через два года он нашел силы воспроизвести заново этот труд по памяти. А я работал при нем писцом. Я не сознался, что первый список этой Оттоновой «Хроники» соскреб с пергамента я. Как видишь, есть на свете воздаяние. Ведь я тоже утерял свой труд, свою «Хронику», но не способен воспроизвести ее. Однако знаю, что пиша вдругорядь, Оттон очень много переменил... – Что он менял? – Когда читаешь «Хронику» Оттона, то есть историю всего мира, замечаешь, что о мире и о живущем в мире человечестве он отзывается нелестно. Мир, по его теории, зачался, может быть, и удачно, но вслед за тем начал портиться: мир стареет, mundus senescit, и до конца остается считанное время... Но именно в тот год, в который Оттон решил снова взяться за «Хронику», император потребовал восславления его геройских свершений, и тогда Оттон начал отдельное сочинение «Деяния Фридриха», которое не закончил, поскольку умер меньше чем через год после этого, и завершал «Деяния» Рагевин. Невозможно, описывая подвиги своего монарха, не провозглашать, что с его восходом на трон началась новая эпоха, не тяготеть к historia iucunda... – Можно писать биографии своих императоров и не отказываться от критики и объяснять, как и почему они близили собственную гибель... – Ты, может, и можешь, государь Никита, но Оттон не мог. Я тебе хочу объяснить, как обстояло дело и почему этот достойный муж одной рукой восстанавливал «Хронику», в которой будущее мира рисовалось грустным, а другой писал «Деяния», в которых будущее мира рисовалось светлее некуда. Думаешь, проблема только в разночтениях первого и второго текстов? Если бы только в этом... Я, увы, склонен думать, что в первом варианте «Хроники» будущее мира изображалось как совсем напрочь трагическое. Но чтобы смягчить противоречия на новом этапе писательства, Оттон во втором списке сделался гораздо снисходительнее к нашему миру. И все это на моей совести! Ведь это я сцарапал первую версию. А останься, может, первый вариант в силе, Оттону совесть не позволила бы даже и браться за «Деяния». В то же время, зная, что именно по «Деяниям» завтра будут судить, что свершил Фридрих и чего не свершил... Если б я не соскреб эту злосчастную хронику, то Фридрих, глядишь, и не свершил бы того, что мы считаем его свершениями. – Ты, – сказал на это Никита, – вроде критяниналжеца. Ты говоришь, что ты отъявленный лжец, и требуешь, чтоб я тебе верил. Ты убеждаешь, что налгал всем на свете, кроме одного меня. За много лет при дворе наших императоров я научился вывертываться из ловушек, расставленных обманщиками похитрее тебя. По твоим собственным отзывам, ты уже не понимаешь кто ты. Может быть, именно потому, что нарассказал чересчур много баек, в том числе самому себе. Теперь ты хочешь, чтобы я составил для тебя ту историю, что тебе самому не дается. Но я – не мистификатор твоего пошиба. Всю жизнь я поверял и проверял чужие рассказы, выискивая истину. Может, тебе угодно получить от меня историю, где тебе отпустится грех убиения того, кому ты мстил за гибель своего императора Фридриха? Выстраивая по кусочкам линию любви между тобой и императором, ты хочешь оправдать свое преступлениемщение? Надо еще доказать, что Фридриха убили и что убил его тот, кого затем убил ты. Никита выглянул в окно. – Пожар уже почти на Акрополе, – сказал он. – Я приношу несчастье всем городам. – Ты мнишь себя всемогущим. Гордыня – грех. – Уничижение паче гордости. Всю жизнь так: стоит мне приблизиться к какому-то городу, как его разрушают. В той земле, где я рожден, всюду были мелкие сельбища и крепости. От заезжих коробейников доходили к нам рассказы о богатствах urbis Mediolani[10], но каков на самом деле должен быть город, я не ведал. Я ведь не добирался даже до Тортоны, только смотрел издалека на ее башни. А что касается Асти и Павии, то, по мне, они находились у пределов Земного Рая. Прошло время, и я стал видеть многочисленные города. И все эти города, что я видел, или доживали последние дни, или уже горели: Тортона, Сполето, Крема, Милан, Лоди, Иконий, а позднее Пндапетцим. То же происходит с Царьградом. Так не получается ли, что я по-вашему, по-гречески полиокласт, навожу сглаз помимо воли? – Не будь каратель самого себя. – Правильно. Был один город... мой собственный. Этот город я спас, сумев солгать. Как ты думаешь, одного случая достаточно, чтобы исключить теорию сглаза? – Достаточно, чтоб исключить теорию рока. Баудолино смолк. Он обернулся и кинул взгляд на то, что прежде было Константинополем. – Я все равно мучаюсь виной. Ведь все это творят венецианцы, фламандцы, а верховодят ими рыцари Шампани и Блуа, Труа, Орлеана, Суас-сона, не говоря уж о моих земляках монферратцах. Я предпочел бы, чтобы погромщиками Константинополя были тюрки. – Тюрки никогда не станут разрушать Константинополь, – ответил на то Никита. – Мы с ними в дивных отношениях. Не тюрок, а христиан нам надлежит беречься. Хотя, наверно, вы – это десница Господня, и насланы на нас ради прегрешений наших. – Gesta Dei per Francos[11], – кончил Баудолино. 4. БАУДОЛИНО РАЗГОВАРИВАЕТ С ИМПЕРАТОРОМ И ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ИМПЕРАТРИЦУ Утро кончилось, Баудолино стал рассказывать ровнее и глаже, Никита решил не перебивать его. Он полагал, Баудолино достигнет взрослости и перейдет наконец к существу. Он не знал, что Баудолино до существа не до-взрослел еще даже к тому времени, когда ведет рассказ, и что он ведет рассказ, чтоб прийти все-таки к существу. Фридрих определил молодого Баудолино к епископу От-тону и его помощнику канонику Рагевину. Оттон, родом из знаменитой семьи Бабенбергов, был по матери дядей императора, хотя лишь на десять лет его сгарее. Мудрейший муж, он обучался в Париже у великого Абеляра, погом вступил в цистерцианский монашеский орден и был возвышен в ранней молодосги до сана епископа Фрейзинга. Не то чтобы благородному городу Фрейзингу было им отдано так уж много усердия, но, пояснял Баудолино Никите, в западном христианском мире отпрыски родовитых фамилий могли получать пост епископов без того, чтоб выезжать в «свои» города и монастыри. Достаточно было распоряжаться доходами. Оттону было меньше пятидесяти, но с виду чуть ли не сто лет: вечная перхотина, прострелы то в плечах, то в боках, мочекаменный недуг и очи, нагноенные от беспрестанного чтения при хорошем и дурном свете. Он поминутно раздражался, что типично для подагриков. Впервые увидев Баудолино, рявкнул на того: – Чтоб втерегься к нашему императору, ты наврал ему с гри короба, признавайся? – О, клянусь, это не так, – отвечал Баудолино. На что ему Отгон: – Ну разумеется. Отрицанием лжец утверждает. Иди за мной. Научу тебя всему, что мне известно. Чем доказывается, что на самом деле Оттон был добрым человеком и с первого знакомства привязался к Баудолино, поскольку нашел в нем схватчивость и способность удерживать в памяти услышанное. Но замечал, что тот широко провозглашает не только то, чему его учат, но и что сам досочинил. – Баудолино, – то и дело укорял Оттон. – Ты прирожденный обманщик. – Ну с чего вы это взяли, маэстро? – Да взял глядя на тебя. Но я тебя не попрекаю. Если ты собираешься быть автором и слагать, быть может, собственные истории, тебе нужна способность лгать, иначе истории выйдут нудные. Но лгать надлежит с умеренностью. Люди не любят тех, кто лжет по мелочам, и боготворят поэтов, которые лгут только в самом главном. Баудолино наторел в Оттоновых учениях. Что лжецом был и сам Оттон, он понял только с течением времени, находя противоречия между «Chronica sive Historia de duabus civitatibus» и «Gesta Friderici». Тогда Баудолино решил, что если он хочет стать лжецом замечательным, нужно прислушиваться к чужим речам и следить, как людям удается друг друга убеждать в истинности тех или иных высказываний. Вот, скажем, как разговаривали друг с другом о ломбардских городах Оттон с императором Фридрихом. – Ну откуда подобное варварство? Неслучайно у них монархи коронуются железяками! – выходил из себя Фридрих. – Никто никогда не учил их оказывать императору уважение! Баудолино, ты это слышал? Они захватили мои regalia! – Что захватили? Регалиолов, отец? – Все засмеялись, и прежде всех Оттон, поскольку знал древнюю латынь и помнил, что по-латыни regaliolus – птенчик. – Regalia, regalia, iura regalia, дубовая голова, Баудолино! – рассердился Фридрих. – Права, мои неотъемлемые права назначать судей, брать пошлины с дорог, базаров и судоходных рек и право бить монету, и еще... еще... какие еще у меня права отобрали, Рейнальд? – ...изымать штрафные суммы, взимать пени, перенимать имения, не имеющие законных наследников, перенимать имения, конфискованные за преступную деятельность, или за кровосмешение, или за иные злодеяния, взыскивать долю доходов с добычи, промыслов, солеварен, рыбных садков, десятину с отысканных кладов, пребывавших до отыскания на казенной земле или в казенной земле... – сыпал словами Рейнальд Дассельский, которому скоро предстояло сделаться эрцканцлером, то есть вторым лицом в Римской империи. – Вот, вот. И эти города захватили все мои неотъемлемые права. Вконец утратили понятия о добре и справедливости. Что за черт затуманил им головы до такого безобразия? – О племянник и император мой, – возразил Оттон, – для тебя Милан, Павия и Генуя все равно что Ульм и Аугсбург. Но города Германии все основаны по велению князя, и князь для них высший авторитет с первого дня основания города. Иное дело в Италии. Города там рождаются в то время как германские императоры заняты другими заботами, и растут, пользуясь отсутствием своего властителя. Когда ты этим горожанам пытаешься навязать свои порядки, они их принимают за potestatis insolentiam, за превышение власти, и считают поборы неприемлемыми. А подчиняются они власти консулов, ими самими избираемых. – Они не желают монаршей защиты? Имперского достоинства и имперской славы? – Еще как желают и ни за какие блага на свете не согласились бы лишиться монаршей защиты, поскольку без защиты их захватит какой-нибудь другой монарх, византийский император или даже султан Египта. Им принцепс нужен, но только пусть этот принцепс находится от них как можно дальше. Ты окружен свитой придворных и, верно, не знаешь, что в этих городах отношения иные. Они не согласны, чтобы крупные вассалы владели лесами и полями, потому что и поля с лесами по их понятиям – собственность городов... за вычетом разве что владений Монферратской марки и двух-трех других областей. Имей в виду, что в городах молодые люди, ремесленники, те, кого бы в твоем дворе к порогу не допустили, – распоряжаются, руководят и неоднократно возвышались до рыцарского звания... – Значит, мир перевернулся! – крикнул император. – Отец, – поднял палец Баудолино. – Но ведь со мной ты обходишься как с родным, хотя вчера я спал на соломе. – С тобой я обошелся как захотел, и если захочу, сделаю тебя герцогом, сиятельством, светлостью, потому что я император и могу облагораживать кого мне заблагорассудится. Это не значит, что любой имеет право облагораживаться по собственному благоусмотрению. Как им не понятно, что если мир перевернется, они себе шеи посворачивают? – Это, может быть, не так, Фридрих, – гнул свое епископ Оттон, – итальянские города с их особым управлением сделались источником всевозможных богатств, и купцы спешат туда изо всех концов мира, и их стены и красивее и крепче стен иных крепостей. – Ты на их стороне, дядя? – вопил император. – На твоей, о венценосный мой племянник, но именно поэтому обязан помочь тебе уяснить, до чего сильны враги. Если ты будешь требовать от городов того, что дать они не желают, придется тебе всю жизнь осаждать их, побеждать, а они будут восстанавливаться и прирастать гордыней, каждые полгода ты будешь переходить Альпы, чтобы подчинить их опять, а твоя императорская планида совсем не в этом. – В чем же моя императорская планида? – Фридрих, я рассказывал в моей «Хронике»... той, что необъяснимым образом запропала и которую я вынужден переписывать заново... да покарает Господь каноника Рагевина, на чьей совести это злополучие... я писал, что много лет назад, в понтификат Евгения Третьего, один епископ из Сирии, из Габалы, пришедший к папе с армянскими посланниками, доложил, что на Далеком Востоке, в краях, приближенных к Земному Раю, есть царство Rex Sacerdos, Пресвитера Иоанна, который точно христианин, хоть и апостол несторианской ереси, и ведет род от Волхвоцарей, от тех самых хранителей незапамятной мудрости и посетителей Иисуса Христа при рождении... Как и они, Иоанн – священник и царь... – Ну и каким же боком я, Фридрих, император Священной и Римской империи, могу иметь отношение к этому пресвитеру, да сбережет Господь его при царстве и при священстве на долгие времена там, где у черта на куличках он себе царствует над своими арапами? – Видишь ли, просвещенный племянничек, в этих речах об арапах ты повторяешь то, что думают другие христианские правители... кто с тяготами охраняет Иерусалим... Почтенное занятие, не спорю. Но лучше его оставить французским королям. Тем более что в Иерусалиме всегда почему-то хозяйничают французы. Судьба мирового христианства и цель любой на свете империи, считающей себя священной и римской, располагается по ту сторону мавров. Судьба и цель располагаются в христианнейшем царстве по-за Иерусалимом и по-за краями неверных. Тот император, кто сможет объединить свое царство и это, тот превратит империю неверных и даже Византийскую империю в острова, незаметные среди великого моря его собственной глории. – Фантазии, дядюшка! Давай мыслить практически. Возвратимся к итальянским коммунам. Объясни мне, очень прошу, пожалуйста, почему, коль их участь такая прекрасная, они любят заключать со мной союзы против остальных городов той же Италии, а не связываются вместе, чтобы победить меня. – Пока что... еще не связались, – осторожно добавил Рейнальд. – Я же тебе объясняю, – сказал Оттон, – они не стремятся оборвать отношения подданничества к империи. И поэтому бегут к тебе, когда видят обиду от других городов, например, когда город Лоди видит обиду от Милана. – Так. Но если быть отдельным городом так завидно, почему все эти города обижают своих соседей? Обижают, чтобы их захватить и чтоб стать уже не городом, а царством? Тут вступил в разговор Баудолино опытным голосом знатока местной жизни. – Дело в том, мой отец, что не только каждый город, но и каждое село по ту сторону Альп спит и видит, как бы поставить соседа ра... ай! – (Оттон умел пребольно щипаться), – как бы поставить соседа разом в униженное положение. Так у нас заведено. Ненавидим чужих до крайней степени, но уж сверх всякой крайности ненавидим своих. Если чужой нам поможет нагадить своему, то дай Бог ему всякого здоровья. – Отчего вы такие? – Оттого, что человек человеку злодей по естеству, как выражался мой крестьянский родитель, причем человек из Асти для соседа из Фраскати гораздо злейший злодей, нежели Краснобородец. – И ты про краснобородца? – бесился император Фридрих. – Краснобородым тебя зовут, о мой отец, за горами, по-итальянски Барбаросса. Не вижу в этом беды, поскольку борода твоя действительно красновата, и в этом ее краса. Если бы называли тебя Рудобородый, много бы изменилось? Я бы любил и почитал тебя не менее, скажем, и с черной бородой, но поскольку борода твоя рыжа, не вижу, почему бы тебе кручиниться из-за этого прозвища. Что я тебе собирался сказать... что не стоит нервничать из-за бороды и не стоит вообще нервничать, потому что они никогда, никогда не сплотятся против тебя. Им страшно, что если они против тебя сплотятся и если они победят, один из них вслед за тем сможет перепобедить всех прочих. Ну, а тогда уж лучше ты. Пока не требуешь платить чересчур много. – Не верь Баудолиновым речам, – смеялся Оттон. – Парень лжив с колыбели. – Ничего подобного, – возражал Фридрих Оттону. – Об Италии он судит точка в точку. Например, сейчас он предлагает, чтобы мы с итальянскими городами обходились единственным возможным способом: разделяя и властвуя. Жалко только, что трудно понять, кто из них против нас, а кто за. – Если наш Баудолино не врет, – хихикал на это Рей-нальд из Дасселя, – то они сами определяют, «за» они или «против», в зависимости от города, которому хотят насолить в соответствующий момент. Баудолино несколько удручался из-за того, что Фридрих, взрослый, рослый и величавый, никак не может уяснить мышление некоторых своих подчиненных. А ведь он проводит больше времени на итальянском полуострове, чем на своей родине... Фридрих, думал Баудолино, любит наших людей и не может понять, почему они предают его. Может, потому-то он готов их убивать, как ревнивый муж. Вообще же Баудолино мало видел Фридриха. Тот готовил и сзывал рейхстаги в Регенсбурге и в Вормсе. Он пытался ублагостить двух крайне опасных родственничков: Генриха Льва, которому в конечном счете отдал Баварское герцогство, и Генриха Язомирготта, для которого пришлось изобрести не существовавшее прежде герцогство Австрию. В марте следующего года Оттон возвестил Баудолино, что в июне им всем лежит дорога в Гербиполь (Вюрцбург), где Фридрих сочетается браком. Император уже имел одну жену и был несколько лет разведен с нею, а ныне сватал за себя Беатрису Бургундскую и за ней брал все бургундское графство до самого Прованса. При таком приданом, предполагали и Рагевин и Оттон, намечалось бракосочетание по расчету, и в подобном убеждении Баудолино, наряженный в новенькое платье в честь торжества, прибыл лицезреть приемного отца под руку с перезрелой бургундской девой, чье солидное имущество призвано было подслащивать недостаток пригожества. – Я ревновал, скрывать тут нечего, – сознался Баудолино Никите. – В сущности, я только-только обрел себе второго отца, и его у меня вдруг оспаривала, хоть частично, какая-то мачеха. Тут Баудолино замялся, выразил на лице замешательство, повозил пальцем по шраму и открыл ужасную истину. Едва вступив на брачный пир императора, он обнаружил, что Беатриса Бургундская имела от роду двадцать лет и красоту неслыханную, по меньшей мере так показалось ему. Увидев императорскую невесту, он был не в силах двинуть ни одним мускулом и глядел на нее во все очи. Волосы золотого отлива, лик миловидный. Рот, небольшой и алый, напоминал спелый плод. Ее зубы были ровны и белы, поступь пряма, взгляд прост, а глаза были светлого цвета. Целомудренная и мудрая в речи, тонкая станом, она озаряла сиянием своей привлекательности всех, кто ее окружал. Она казалась (высшая добродетель для правительницы) подчиненной своему мужу, которого робела, как повелителя, но и владычествовала над ним своим супружеским влиянием, и все это настолько обходительно, что всякая ее просьба немедля выполнялась, как приказание. Те, кто хотел прославить прочие достоинства императрицы, приписывали ей дар сочинительства, музыкальный талант и нежный голос. И посему, подытожил Баудолино, Беатриса вполне оправдывала свое имя: благословенная. Никита без труда догадался, что юноша влюбился в свою мачеху с первого взгляда, хотя, поскольку влюблялся он в первый раз, он сам не разобрал, что же с ним случилось. И без того палящей, невыносимой бывает первая влюбленность, пусть даже крестьянина в прыщеватую мужичку. Что же творилось, когда крестьянин полюбил в первый раз в жизни двадцатилетнюю императрицу, чья кожа была белой как молоко! Баудолино мгновенно сообразил, что его чувства были прямым покушением на отца, и постарался убедить себя, что мачеха, по причине юных лет, представляется ему скорее сестрой. Но и на это Баудолино, хоть он и не был обучен богословской морали, возразил сам себе: не годится любить так и сестру. С толиким трепетом, с толикой страстью, которую зрелище Беатрисы пробудило в нем. Так что он покраснел и набычился... именно к той минуте, когда Фридрих представил Беатрисе своего мальца Баудолино, забавного и смышленого лесовичка с Падуанской низменности, а Беатриса мягко протянула руку и провела сперва по Баудоли-новой ланите, а затем по волосам. Баудолино был на грани обморока, вкруг него все огни померкли и в ушах били пасхальные колокола. Вернули к его жизни подзатыльники Оттона, тот шипел сквозь зубы: «На колени, на колени, свинья!» – Баудолино осознал, что он пред лицом священной и римской императрицы, а также королевы Италии, согнул наконец колени и далее себя повел как скромнейший из воспитанных подданных, с тем отличием, что ночью не сомкнул глаз, и вместо радости о неизъяснимом озарении по пути в Дамаск рыдал из-за нестерпимо болезненной и новой для него страсти. Никита слушал львиноликого собеседника, оценивал изящество выражений и сдержанную риторичность его почти литературных греческих оборотов, гадая, что за существо перед ним, способное выражаться как скотопас, передавая речь односельчан, но и с королевским достоинством, пересказывая беседы с придворными и с монархом. Есть ли душа, недоумевал он, у этого субъекта, имеющего разные голоса для показа различных душ? И если в нем живут различные души, которую из них я-то сам принимаю за истинную? 5. БАУДОЛИНО ДАЕТ ФРИДРИХУ УМНЫЕ СОВЕТЫ Наутро город был все еще объят дымной тучей. Никита сжевал несколько фруктов, неспокойно походил по комнате и спросил Баудолино, можно ли отправить генуэзцев за неким Архитой и вызвать его сюда для чистки лица. Ну гляди ж ты, потрясался Баудолино, от города ничего не остается, людей кончают на улицах, два дня назад чуть не погибли и его родственники, а он не может жить без чистки лица. Видать, дворцовые люди в сей развращенной столице так устроены... Фридрих его давно бы вышвырнул из окна. Пришел Архита с коробом серебряных инструментов и с притираньями в баночках. Пахли они непривычно. Умелец прежде прогрел лицо горячими компрессами, потом обмазал умягчающими кремами, потом разгладил, отчистил лицо от любого загрязнения, заштуковал морщины белилами, легонько подвел глаза, подрозоватил губы, вырвал из ушей лишние волосы... а уж над прической и бритьем он трудился без конца и без устали. Никита, прикрыв глаза, принимал ласку этих опытных рук, убаюканный речами Баудолино, продолжавшего свои рассказы. Что же до рассказчика, он поминутно прерывался, любопытствуя, что там творит маг красоты. Зачем, к примеру, вытащив из банки живую ящерицу, он отрезает ей голову и хвост, мельчит ножом и отправляет вариться это крошево в кастрюльке масла на огонь. Как же, отвечал цирюльник, это будет мазь для укрепления тех немногих волос, что у Никиты все еще сохраняются на голове, от нее волосы обретут блеск и аромат. А в тех сосудах что? В сосудах вытяжки мускатного ореха и кардамона, в склянке – розовая вода. Каждая жидкость назначена для обработки определенного участка кожи. Медовый крем укрепляет губы, а другой, секрет которого открыть невозможно, спасает десны от размягчения. И вот Никита предстал во всей прибранности, приличествующей судии Покрова и тайному логофету, как занова родившись, засиял собственным светом в то пожухлое утро на насупленном фоне издыхающей Византии. Баудолино было даже неловко рассказывать ему свое житье подростком в монастыре латинян, холодном, мрачном, где он с болезненным Оттоном был вынужден делить питание, состоявшее из овощей и пустых похлебок. Баудолино в тот год почти не бывал при дворе, а когда бывал, то преисполнялся и робости и в то же время желания встретиться с Беатрисой, и сильно страдал из-за этого. Фридрих был занят, улаживал отношения с поляками («Polanos de Polunia, – писал о них Оттон, – полуварвары, любители рукоприкладства, gens quasi barbara ad pugnandum promptissima»). В марте Фридрих провел новый сейм в Ворм-се, чтобы опять идти в Италию, так как вечно задиристый Милан со своими вечными близлежащими союзниками снова смущал покой. Был проведен и сейм в Гербиполе, это было в сентябре, а в октябре – сейм в Безансоне; в общем, у Фридриха бурлила жизнь. Баудолино же сидел спокойно с Оттоном в монастыре Моримондо, брал уроки у Рагевина и продолжал записывать историю под диктовку все более немощного и хворого епископа. Когда они подошли к части «Хроники», где говорилось о пресвитере Иоанне, Баудолино спросил, что означало: «христианин, хотя несторианин». То есть эти несториане были и христиане, и не совсем? – Говоря по совести, сынок, этот Несторий был еретик, но мы ему благодарны. Знай же, что в Индии после проповеди апостола Фомы именно несториане насаждали христианскую религию, вплоть до самых далеких держав, от которых мы возим шелк. Несторий допустил только одну, хотя и очень грубую, ошибку по поводу Иисуса Христа нашего Владыки и пресвятейшей Его родительницы. Мы с тобой твердо верим, что имеется единое божественное естество и что тем не менее Троица в единстве этого естества составлена из трех отдельных лиц: Отца, Сына и Святого Духа. Но в то же время мы верим, что в Иисусе одно лицо (божественное) и два естества (божественное и человеческое). Несторий же учил, что в Христе и вправду сочетаются два естества, человеческое и божественное, но сочетаются и два лица. Поэтому-де Мария произвела на свет лишь человеческое лицо и не имеет оснований зваться Богоматерью, поскольку она мать Христа-человека, и она-де не Богородица, не Theotokos, а уж в крайнем случае Христородица, Christotokos. – А это думать нельзя? – И нельзя, и можно... – раздраженно отвечал Оттон. – Можно все равно любить Пресвятую Деву, даже если думаешь о ней то, что думал Несторий. Но, конечно, почету ей при этом меньше. Кроме того, лицо есть индивидуальная субстанция рационального существа, значит, если в Христе сочетаются два лица, выходит, в Нем две индивидуальные субстанции двух рациональных существ? Куда может завести подобная логика? Получается, Христос выступает то от имени одного лица, то от имени другого? Я не хочу сказать, что тот пресвитер – вероломный еретик, но все-таки думаю, что ему не вредно было бы познакомиться с христианским императором, чтоб от него восприять истинную веру, а так как Иоанн, конечно, честный человек, он непременно ее воспримет. Замечу, однако, что если ты рано или поздно не обучишься богословию, тебе всего этого не уразуметь. Ты бойкий мальчик. Рагевин может преподать тебе чтение и письмо и, по мере его сил, подсчеты, кое-что он понимает и в грамматике, но троепутье и четверопутье дело совсем инакое. До богословия надо дозреть. Надо прежде выучить диалектику. Диалектику ты в Моримонде не выучишь. Следует отправляться в studium, в школу, они есть только в самых больших городах. – Но я не желаю идти в какой-то studium, да и не знаю, что это такое. – Не беспокойся, когда узнаешь, тебе понравится. Видишь, сын ты мой... полагают, что людское сообщество держится на трех силах: воинах, монахах и крестьянах. Может, до недавних пор так это и было. Но теперь не такие времена, и сейчас не менее важны ученые люди, даже если они не монахи. Важны те, кто разбирается в праве, философии, беге светил и во многих других материях. Те, кто не отвечает за свои действия ни пред епископами, ни даже пред королями. Эти студии постепенно учредились в Болонье и в городе Париже. Выпестовывая, передавая знания, в них ученые передают и власть. Я был выучеником Абеляра, да помилует Господь этого человека, многогрешного но и многострадального, все искупившего. Избыв несчастие, когда по злобному мщенью его лишили мужеской силы, он постригся в монахи, стал аббатом, ушел от мира. Но быв еще в апогее славы, он преподавал в Париже, ученики его любили, а сильные мира почитали его именно за многие знания, коими он отличался. Баудолино твердил себе, что ни за что не оставит Оттона, своего учителя. Но прежде нежели на деревьях в четвертый раз вылупилась листва со дня его и Оттона первой встречи, тот совсем почти исчах: малярийная лихорадка, боль во всех сусгавах, и грудные исгеканья, и, конечно, каменная болезнь. За него брались разные медики, среди них и арабы и евреи, то есгь лучшее, чем хрисгианский император мог попотчевать своего епископа. Изводили хрупкое тело непрерывными кровопусканьями, но – вслед причин, кои теми сохранниками науки не могли уразуметься, – выпустив почги всю кровь, они нашли больного хуже, чем если бы вовсе не притрагивались. Оттон просил к своему одру Рагевина, ввел его в положение с «Деяниями Фридриха», добавив, чго дело негрудное: нужно рассказывагь факты и добавлягь имперагорские речи, взятые по кускам из старинных знаменитых произведений. Потом вызвал Баудолино. – Puer dilectissimus, о возлюбленный отрок мой, – проговорил Оттон, – я ухожу. Можно было бы сказать «возвращаюсь», но я не знаю, какими наиболее правильными словами полагается это выражать. Точно так же как я не уверен, что правильнее: моя ли хроника двух царств, или мои же «Деяния Фридриха»... (И отметь, сударь Никита, – говорил Баудоли-но, – что целую молодую жизнь может перевернуть исповедь старика, не умеющего определить, в чем состоит настоящая истина). – Не то чтобы я был доволен этим уходом, то есть возвратом, но такова Господняя воля. Я не обсуждаю Его приказов, а то вдруг возьмет и разразит на ровном месте сию минуту. Так что лучше уж использовать с толком то невеликое время, которое Господь мне еще предоставил. Послушай. Ты знаешь, что я пытался объяснить императору резоны, коим подчинена жизнь городов с той стороны Пиренейских Альп. Император ничего с ними поделать не может. Может только подчинять, и все. Но ведь и подчинять можно по-разному. Думаю, в данном случае показан какой-то другой путь, кроме захвата и избиения. Так что ты... император к тебе прислушивается... ты, дитя этих мест, приложи все возможные усилия, дабы примирить потребности нашего властелина с тем, чего требуют города. Чтоб погибало меньше людей. Ради этого учись рассуждать поубедительнее. Я просил короля отрядить тебя в Париж. Не в Болонью, где обучают только праву... а такого прохвоста, как ты, нельзя близко подпускать к пандектам, ведь закон перевирать нельзя! В Париже изучается риторика, сочинения поэтов. Риторика – искусство хорошего выражения, а истина ли выражена или ложь, это уже не так существенно. Поэты – те и подавно обязаны изобретать красивые лжи. Полезно будет, чтобы ты поучился и богословию, но богословом не становись. Божественность несовместима с твоими фантазиями. Обучись до той степени, чтобы хорошо выглядеть при дворе, где тебя обязательно сделают министериалом. Это самое большее, на что может рассчитывать крестьянский сын. Возведешься в ранг рыцаря, будешь равен многим благородным и получишь возможность послужить своему приемному отцу. Сие твори в мое воспоминание, и да извинит меня Иисус, если я нечаянно воспользовался Его выражением. Вслед за тем он испустил хрип и стал совсем неподвижен. Баудолино потянулся прикрыть его веки, думая, что этот вздох был Оттоновым последним, однако тот внезапно зашевелил устами и прошептал на самом крайнем умирающем дыхании: – Баудолино, помни об Иоанне, помни о Пресвитере. Лишь в разыскании его царства черво-нопламенные крестные знамена пройдут за Византию и даже за Иерусалим. Я слышал, император доверяет твоим выдумкам. Поэтому, если у тебя о царстве не будет сведений, сочини их. Пойми, я не призываю тебя к лжесвидетельству. Утверждать обман – грех! Но обманно свидетельствовать о том, во что ты сам веришь, это достойное занятие! Ты просто возместишь недостаток доказательств того, что существует или что произошло. Прошу тебя! Иоанн действительно существует по-за краями армян и персов! За Бактой, Экбатаной, Персеполем, Сузой и Арбелом! Он родом от Волхвов. Отправь императора на Восток, поскольку оттуда исходит свет, которым он озарится, великолепнейший из королей. Выведи его из гущи дрязг, удали от Милана, от Рима... Иначе он завязнет в грязи до скончания века. Уведи подальше от той земли, в которой командуют и он и папа. При папе Фридрих лишь вполовину император. Помни, Баудолино... Пресвитер Иоанн... стезя лежит к Востоку... – Но почему, учитель, все это говорится мне? Не Рагевину? – У Рагевина нет фантазии. Он может только рассказывать то, что видел. А иногда не может и этого, потому что не понимает, что же он видел. Ты можешь вообразить и то, чего не видал. О, ну почему все внезапно так потемнело? Баудолино, прирожденный лжец, сказал, чтоб тот не беспокоился: ниспадает вечер. Ровно в полдень у Оттона вышел свист из пересохшего горла и глаза неподвижно уперлись в дальний предмет, залюбовались – кем? Пресловутым Пресвитером Иоанном на троне? Баудолино закрыл Оттоновы глаза и выплакал искренние слезы. Опечаленный кончиной епископа, Баудолино на несколько месяцев возвратился ко двору Фридриха. Спервоначалу он утешался мыслью, что снова увидев императора, увидит императрицу. Увидел, и утешенья уж не было. Нельзя забыть, что Баудолино вскоре исполнялось шестнадцать. Коль прежде его влюбленность носила юношеский смутный характер, и сам он в ней понимал немного, ныне он сознательнее относился и к своему желанию и к своей муке. Чтоб не грустить при дворе, он ездил за Фридрихом на поля сражений и видел вещи, которые его достаточно мало развеселили. Миланцы вторично разрушили город Лоди, точнее говоря, сначала они его разорили, свели к себе скот, снесли корм и скарб в свои склады, потом вытолкали за городской вал всех жителей Лоди и объявили, что если те немедленно не уберутся к чертям, то их туда отправят мечом и петлей, и это касалось и женщин, и стариков, и новорожденных чад. В стенах города Лоди остались только псы, а прочих погнали прочь пешком под дождем, и среди них шли господа, так как кони были отобраны, и женщины с детьми на руках, и многие падали от усталости в придорожные рвы. Пристанище им отвели где-то меж реками Аддой и Серио, чтоб там они спали друг на друге в каких-то полуразваленных бараках. Но этим миланцы не ограничились, они воротились в город Лоди и похватали немногих местных жителей, кто не послушался и не вышел до этого, порубили все лозы и деревья и подожгли жилые дома, а попутно истребили собак. Ну, это уж было слишком для императорского терпения, и Фридрих снова перешел через горы в Италию во главе крупной армии, собранной из бунгундцев, лотарингцев и богемцев, венгров, свевов и франков и кого еще сумели навербовать за краткое время. Первым делом он заложил новый город Лоди в Монтеджеццоне, а потом осадил Милан, в чем ему живо помогали воины Павии и Кремоны, Пизы, Лукки, Флоренции и Сиены, Виченцы и Тревизо, Падуи, Феррары, Равенны, Модены и других городов, союзников империи для унижения Милана. И Милан был основательно унижен. В конце лета город капитулировал, сдался, и чтоб спасти его, горожане согласились на обряд, унизивший даже Баудолино, который, впрочем, к миланцам не имел никакого отношения. Побежденные прошли чередой перед победителем, умоляя о пощаде, босиком и одетые в мешки, все в таком виде, не исключая епископа, а у воинов мечи болтались, подвешенные на шею. Фридрих, видя их позор, снова сделавшись великодушным, наделил униженных противников извиняющим поцелуем. – Стоило, – говорил Баудолино, – так нахальничать, налетая на Лоди, чтобы потом спускать штаны? Стоит ли жить на этих наших землях, где все, похоже, торжественно поклялись погубить себя? Дальше, дальше отсюда. – На самом деле он стремился уйти подальше от Беатрисы, потому что прочитал, что порой отдаление лечит любовную болезнь (и еще не прочитал других книг, гласящих, что нередко именно из-за дальности разгорается, как огонь, страсть). И поэтому он пошел к Фридриху просить послать его по совету Оттона для обучения в город Париж. Он нашел императора в гневе и грусти, тот метался по комнате, а в углу Рейнальд Дассель ожидал, пока гром утихнет. Фридрих немного замедлил шаг, посмотрел в глаза Баудолино и сказал: – Ты свидетель, мальчик мой, что я стараюсь поместить под сень единого закона итальянские города, но всякий раз обязан начинать сначала. Неужели мой закон плох? Чем доказать, что закон мой хорош? – На это Баудолино почти не задумываясь: – Господин, начав так рассуждать, ты уже никогда не кончишь, между тем императоры потому и нужны... не потому, что у них хорошие идеи... а их идеи хороши постольку, поскольку они приходят императорам. Фридрих смерил его взглядом, а затем обратился к Рай-нальду: – Парень выражает мысли лучше, чем все вы! Если бы эта фраза была по-латыни, ей бы цены не было! – "Quod principi plaquit legis habet vigorem"... то, что князю угодно, имеет силу закона, – произнес Рейнальд фон Дассель. – Да, звучит и решительно и мудро. Жалко только, эта фраза не из Евангелия. Как мы убедим народ принять это прекрасное воззрение? – Мы ведь помним, в какое положение попали в Риме, – продолжал император Фридрих. – Принимать помазание от папы означало ipso facto признавать его выше себя. А схватить его за шиворот и забросить прямо в Тибр значило оказаться таким бичом Божиим, что куда покойному Аттиле... Черт возьми, где мне отыскать кого-нибудь, кто наделит меня правами, не претендуя возвышаться надо мной? Нет того, что я ищу, на белом свете... – Может, власти такой и нет, – сказал на это Баудолино, – но имеется такая мудрость. – Что ты хочешь этим сказать? – Что епископ Оттон рассказывал мне про некие студии. Это общества студентов и учителей, живущие по собственным законам. Там учащиеся, прибывающие со всего мира, безразлично от каких монархов, платят за науку учителям. И учителя зависят только от студентов. Так устроено преподавание права в Болонье, так устроено обучение наукам в Париже, где сначала учителя объединились при кафедральной парижской школе, то есть были под епископом, а потом откочевали всей школой на гору Святой Женевьевы, и теперь они там ищут истину, не прислушиваясь ни к епископу ни к королю. – У меня бы попробовали не прислушаться... Ну и что из всего того? – Из всего того вытекает, что издай ты указ, провозглашающий болонских преподавателей полностью независимыми от всякой мыслимой власти, в том числе от тебя и от папы и от всякого другого суверена, а зависимыми только от закона... Надели ты их подобным достоинством, не имеющим равных в мире, и увидишь: на основании здравого разума, естественного порядка и традиции они торжественно провозгласят, что единственное твердое право есть право римское и единственным его носителем является священный римский император, и что это главное правило, как тут удачно подсказывает господин Рейнальд, звучит как «Quod principi plaquit legis habet vigorem». – С какой же стати они будут называть это главным правилом? – Да в отплату за то, что ты даешь им право называть главные правила. Для них это очень ценно, в то же время неплохо и для тебя, в общем, по выражению моего папаши Гальяудо, ни один купец не в накладе. – Они на это не согласятся, – бормотнул Рейнальд. – Еще как согласятся, – отмахнулся Фридрих. – Я тебе гарантирую! Еще как согласятся! Но пусть они сначала провозглашают это правило, а потом получают независимость. Иначе кто-то может подумать, что они провозглашают правило из благодарности. – По-моему, как ни крути, кто захочет подумать, что вы сговорились, тот подумает, – трезво подытожил Баудолино. – Однако хотел бы я видеть, кто решится после этого сказать, что болонские доктора ничего не стоят. Те доктора, к которым даже император смиренно приходит за главным правилом. Значит, и правило-то болонское поувесистее Евангелия! Все разыгралось точно по нотам, через несколько месяцев, в Ронкалье, где был повторно созван имперский сейм. Баудолино получил возможность поглазеть на невиданное роскошное зрелище. Рагевин заранее предупредил, что весь этот спектакль: реющие знамена, штандарты, разноцветные шатры – не бродячий цирк с купцами и гаерами, а дань символике. Это по требованию Фридриха на берегу По воспроизводился древнеримский военный лагерь. Тем демонстрировалось, что от Рима ведется его кесарийское достоинство. В центре лагеря стояла императорская палатка, подобие храма, а вокруг нее пышным кругом – палатки придворных феодалов, вассалов короля и вассалов вассалов короля. Вокруг ставки Фридриха расселились архиепископ Кельнский, епископ Бамбергский, Даниил Пражский, Конрад Аугсбургский, прочие и прочие. На другом берегу реки стали итальянцы: кардинал-легат папского престола; патриарх Аквилеи; архиепископ Милана; епископы Турина, Аль-бы, Ивреи, Асти, Новары, Верчелли, Тортоны, Павии, Комо, Лоди, Кремоны, Пьяченцы, Реджо, Модены, Болоньи, кто знает каких еще мест. Председательствуя на этом величественном, воистину вселенском сходе, Фридрих дал знак к началу прения. Короче (свертывал рассказ Баудолино, чтоб не утомлять Никиту великолепием императорского, правоведческого и священнослужительного красноречия), четверо болонских докторов, самые отборные, выучившиеся от самого Ирне-рия, были приглашены императором провозгласить свой безоговорочный ученый отзыв о его императорских правомочиях, и трое из них, Булгарий, Якобий и Гугон из Равень-янской Порты, выразились в желательном Фридриху духе, а именно что императорское право основывается на римском законе. Противоположного суждения держался четвертый доктор, Мартин. – И ему Фридрих, верно, приказал выколоть очи, – вставил Никита. – Да ни в коем разе, сударь мой Никита, – ответил Баудолино. – Это у вас, у ромеев, выкалывают очи за любую малость. Нет у вас понятия о том, что законно, а что не очень. Забыли вы своего знаменитого Юстиниана... Выслушав всех докторов, Фридрих принял Constitutio Habita, в которой болонскому студиуму даровалось самоуправление, а при самоуправлении этот Мартин имел право говорить что угодно и никакой император не мог сметь его тронуть и пальцем. Посмей император тронуть его пальцем, это бы означало, что доктора не суверенны, а если они не суверенны, их мнение ничего не значит. Фридрих тотчас превратился бы в узурпатора. Вот так штука, думал про себя на это Никита: господин Баудолино хочет мне внушить, будто империю основал не кто иной как он. И что какую бы ни проболтал он фразу, фраза наделена такой силой, что немедленно обращается в истину. Послушаем, что еще он скажет. Тем временем появились генуэзцы и принесли корзину фруктов, поскольку день достигал середины и пришло время Никите подкрепить силы. Грабеж, по их сообщению, продолжался, и из дому казать нос было невозможно. Баудолино продолжил свой рассказ. Фридрих решил, что если безусым юношей, обучившимся лишь у скромного Рагевина, Баудолино умеет формулировать такие превосходные мысли, бог весть чего он сможет достичь, будучи послан и вправду в Париж для обучения. Обнимая его с сердечностью, он просил его действительно доучиться до мудрости, учитывая, что он-то сам за заботами царства и военными тяготами никогда не имел времени обрести столько познаний, сколько следовало бы. Императрица распрощалась с Баудолино, поцеловав его в чело (Баудолино, ясно, почти сомлел), и сказала в напутствие (а она, даром что важная дама и королева, но читать и писать умела): – Пиши мне письма, рассказывай, что с тобою и как. Придворная жизнь докучлива. Твои послания мне ее скрасят. – Клянусь, что буду, – отвечал Баудолино с такой горячностью, которая могла насторожить свидетелей. Никто не насторожился (кому есть дело до волнения мальчишки, собравшегося в Париж?), кроме разве что самой Беатрисы. И впрямь, она посмотрела на него, как будто видела впервые. На белом лике явственно проступил внезапный румянец. В то время Баудолино, отвешивая поклон, в котором лицо было пригнуто почти к самому полу, уже покидал дворцовую залу. 6. БАУДОЛИНО ЕДЕТ В ПАРИЖ Приезд Баудолино в Париж можно назвать и запоздалым. В те школы поступали еще до четырнадцати лет, а ему было уже на два больше. Но многому он успел научиться у Оттона, поэтому позволял себе ходить не на все уроки, как будет описываться ниже. Он выехал не один, а с рыцарским сыном из Кельна, предпочитавшим бранному поприщу свободные искусства, в огорчение отцу, но при поддержке матери, сызмальства отмечавшей в нем задатки будущего поэта; Баудолино даже не знал, или знал, да сразу забыл, его истинное имя, поскольку звался он Поэтом и так его именовали все на свете. Довольно быстро Баудолино понял, что у Поэта нет никаких стихов, он их не пишет, а только обещает написать. Поскольку Поэт бесперемежно цитировал стихи чужие, в конце концов даже отец его понял, что парню верная дорога – служение Муз, и он позволил детищу отъехать, дав на дорогу самое скудное довольствие, так как ошибочно считал, что того немногого, что позволяло прожить в Кельне, достанет для существования в Париже. Тотчас же по приезде Баудолино поспешил послушаться императрицыного приказа и написал ей несколько писем. Он полагал утешить жгучую боль, следуя договоренности. Но тут же понял, до чего неутешно при письме умалчивать то, что истинно ощущаешь, и составлять совершенные и любезные эпистолы с описаниями Парижа: в этом городе, полном превосходных церквей, воздух и свеж и ясен, небо пространно и светло, если не льют дожди, но дожди случаются не чаще раза-двух в день. Прибывшему из края вечного тумана то, что он видит в Париже, кажется постоянной весной. Перегибистая река с двумя островами в середине, чистая вкусная вода, а сразу под городской стеной начинается благоуханный луг, рядом с монастырем Сен-Жермен, где в послеобеденную пору так славно протекает время за игрой в мяч. Он рассказал ей о своих первоначальных хлопотах, поисках комнаты. Комнату следовало снять напополам с товарищем и желательно не по самой разбойной цене. Та, которую они нашли, была все-таки дорогая, но зато не тесная. Там стоял стол, две скамьи, были полки для книг и большой ларь. Еще высокая кровать с периной из страусовых перьев и другая кровать, пониже, на колесах, с периной из гуся, днем ее полагалось закатывать под большую. В письме не сообщалось, что после некоего легкого разногласия по поводу дележки кроватей было решено, что сожители ежевечерне станут решать за шахматной доской, кому достается удобное ложе (шахматы при дворе считались занятием неприличным). Следующее письмо рассказывало: утром подъем бывает рано, так как занятия идут уже с семи и до позднего предвечернего времени. Дабы выдержать подобный день, следует запасаться доброй порцией хлеба и фляжкой красного. Учебное помещение – вроде овина, ученики сидят на соломе, и в помещении зябче чем на улице. Беатриса растрогалась и рекомендовала вино не экономить, ибо в противном случае молодой человек целый день будет ощущать себя вялым; а также нанять слугу, не единственно для ношения книг, ибо книги тяжелы и не по званию носить их самолично, но и ради закупки дров, чтобы загодя растапливалась печка в комнате и для вечера обиталище согревалось. И ввиду этих предвидимых расходов Беатриса посылала четыре десятка сузанских сольдов, что хватило бы купить быка. Никакой слуга не был нанят и дрова никакие не покупали, потому что двух перин им хватало вполне, сумму же использовали более доступно, учитывая, что в тавернах по вечерам было натоплено и имелась возможность прийти в себя после тяжелого дня, потискав служанок за ляжки. Вдобавок в тех жизнерадостных пристанищах – «Серебряном щите», «Железном кресте» или «Трех подсвечниках» – им подавали немало чарок, а к ним солидных со свининой пирогов, куриных паштетов, жареных гусей и голубей; когда приходилось экономить, они ели баранину и рубец. Баудолино делился с вечно безденежным Поэтом, а не то – есть бы тому рубец семь дней в неделю. Но делиться с Поэтом было и накладно. К снеди ему требовались настолько обильные винные сбрызгивания, что сузанский бугай тощал на глазах. Обойдя молчанием вышеописанное, Баудолино сосредоточивался на описаниях преподавателей и разномастных преподававшихся умностей. Беатриса к этим описаниям была особенно чувствительна, ими удовлетворялась ее охота к познанию и она по многу раз читала в Баудолиновом изложении пересказы наук: грамматики, диалектики, риторики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Баудолино же стыдился все пуще, потому что утаивал, во-первых, и то наиважнейшее, чем переполнялась душа, а во-вторых, и еще кое-что, чем он порой занимался, но о чем нельзя рассказывать ни матери, ни сестре, ни императрице, ни тем более – любимой женщине. Прежде всего, за игрой в мяч в окрестностях Сен-Жер-мена было в обычае задираться с местными жителями или со студентами-иностранцами. Скажем, пикардийцы атаковали нормандцев, ругая друг друга по-латыни, чтобы было понятнее и обиднее. Все это мало нравилось главному профосу, он посылал своих лучников усмирять оголтелых. Ясно, что в подобном положении студиозусы забывали о междоусобьях и объединялись между собой, чтобы муту-,зить лучников. На свете не было худших взяточников, нежели лучники профоса. Поэтому, когда они ловили кого-то, всем остальным студентам приходилось развязывать кошельки и выручать однокашника. От этого парижское житье становилось еще разорительнее. Во-вторых, студент без любовной интрижки – посмешище всех знакомых. К сожалению, женщины составляли наименее доступную часть парижских радостей. В университете женского пола было почти не видно, и все еще рассказывались легенды о соблазнительной Элоизе, по любви к которой воздыхателю оттяпали хвост, даром что он был не бедный студент, существо дурнославное и пренебрежимое, а почтенный профессор: великий, несчастный Абеляр. Покупной любовью можно было пробавляться только время от времени, она чересчур дорого стоила, а следовательно, оставались трактирные подавальщицы или поломойки из соседнего квартала. Но и в соседнем квартале студентов было гораздо больше, чем поломоек. Только разве фланировать с равнодушным и победительным видом по Ситэ и соблазнять дам благородного сословия. Весьма популярны были жены гревских мясников, тех, кто после славной карьеры в своем промысле уже не забивали скот, а правили всем мясным рынком и держались как господа. Будучи супругами людей, которые начинали со свежевания бычьих четвертей и чье благосостояние пришлось на поздний возраст, женушки были неравнодушны к миловидным студентам. Беда лишь, что они расфуфыривались в такие пушистые меха, в серебряные пояса и в побрякушки, что с виду были почти неотличимы от высокопоставленных блудниц, которые, пренебрегая запретами городской управы, носили именно эти наряды, тем самым вводя студиозусов во вполне оправданное заблуждение, после чего они нещадно осмеивались сотоварищами. Кому же все-таки везло захомутать уважаемую горожанку или невинную девицу, тот рано или поздно попадался ее отцу или мужу. Переходили на личности, на кулаки, на дубье, вплоть до смертоубийства (чаще всего отца или мужа), и все начиналось снова: в дело вступали лучники профоса. Баудолино никого не убивал. Он вообще держался подальше от стычек. Но одного такого мужа (мясника) ему не повезло миновать. Пылкий в любви, однако на поле брани осторожный, в час, когда супруг явился в спальню, вооруженный железной клюкой для подвешивания бычьих туш, Баудолино сиганул в окно. Едва помешкав на подоконнике, чтобы промерить высоту этажа, он успел получить такую царапину на щеку, что навсегда поперек лица у него остался шрам, достойное украшение воина. С другой стороны, завоевание горожанок требовало слишком много времени (в ущерб учебе): целыми днями в засаде у окна, подстерегая проходящих прелестниц... можно было одуреть, честное слово. Забывая любовную мечту, школьники лили помои на прохожих и стреляли по ним горошинами из рогатки, мяукали, видя проходящих преподавателей, а приведись иному из тех рассердиться – провожали с кошачьим концертом до самой квартиры, а там бомбардировали ему камнями окна, ибо в окончательном счете студенты платили преподавателям деньги и поэтому имели, черт возьми, определенные права. Баудолино рассказывал Никите то, что утаил от Беатрисы, то есть что он постепенно превращался в отпетого школяра, которых множество изучало свободные искусства в Париже, юриспруденцию в Болонье, в Салерно – медицину и магию в Толедо, однако ни в одном месте пристойному поведению не обучалось. Никита терялся, возмущаться ли, удивляться или смеяться. В Византии были известны только частные учителя для зажиточных детей, чтоб они с самого неполнолетия знали грамматику и читали божественные книги, а также главные произведения классической словесности. По достижении одиннадцати лет брались за поэзию и за риторику, воспроизводя в своих опытах образцы античности. Терминология приветствовалась самая редкая, синтаксические конструкции – замысловатые. Чем отличнее преуспевал в этой науке юноша, тем он считался годнее для светлого будущего в имперском правительстве. Наконец, знания полагалось отшлифовать либо при некоем монастыре, либо с домашними учителями – правоведами, астрономами. К ученью относились уважительно, не то что в Париже, где студенты интересовались любыми вещами помимо науки. Баудолино не согласился: – В Париже учились, и очень серьезно. Год на третий уже начинали участвовать в диспутах. Диспуты учат подбирать возражения и переходить к определению, а затем к окончательному решению задач. Кроме того, не следует думать, будто уроки – наиважнейшее для студента и что таверна – такое место, где студенты только теряют время. В университетах хорошо то, что многое воспринимается от преподавателей, но не меньшее от друзей, особенно от тех, кто тебя взрослее, они делятся с тобой прочитанным и ты обнаруживаешь, что в мире полно интересного. Чтобы познать все это, поскольку по определению объездить весь мир жизни не хватит, имеется один выход, прочитать все в мире книги. Баудолино немало книг перечитал у Оттона, однако и помыслить не мог, что бывает их на свете столько, сколько он увидел в Париже. Они были не для всех равно доступны, но тут благое обстоятельство, вернее, благоусердное хождение в школу свело его с Абдулом. – Чтобы пояснить, какая связь между Абдулом и библиотеками, нужно отступить на шаг назад, государь Никита. Однажды, сидючи на лекции и согревая дыханием пальцы... к прискорбию, зад дыханием не согреешь, так что он потихоньку себе отмерзал, ибо тонкая соломка была такой же ледяной, как и пол и как весь Париж теми зимними днями, я заприметил сбоку от себя парня, на лицо вылитого сарацина, но с рыжими волосами, которых у мавров не бывает. Не знаю, слушал ли он урок или следовал своим мыслям, но, казалось, витал за сто верст. То и дело с дрожью запахивая одежонку, он то вперивался в пространство, то корябал что-то там на табличке. Я посильно вытянул шею и увидел, что половина записей выглядела как мушиный помет, а таковы письмена арабов, вторая же половина напоминала латынь, хотя и не являлась ею. Я даже уловил сходство с наречием своих родных мест. В общем, по окончании урока я с ним заговорил. Ответил он охотно, будто иного не ждал. Мы подружились, и он, прогуливаясь около реки, поведал мне историю своей жизни. Итак, молодой этот человек, Абдул, был и взаправду мавром, но только мать его происходила из Гибернии, и этим объясняются его пылающие патлы. Все, кто прибывает с того далекого острова, лежащего севернее Британии, обычно рыжи и пользуются славой оригиналов и фантазеров. Отец Абдула был провансалец, его семья переселилась за далекое море после захвата Иерусалима не менее как за полвека или еще прежде того. Как объяснял Абдул, благородные франки, обитающие за далеким морем, перенимают обычаи тех народов, которые завоевали: одеваются в тюркском вкусе, носят тюрбаны, изъясняются на языке басурма-нов и чуть ли не следуют заповедям Алькорана. По этой причине гиберниец (наполовину) с рыжими волосами был наречен Абдулом и кожу лица имел опаленную сирийским родимым солнцем. Он думал обыкновенно по-арабски, но старинные саги студеного северного моря, услышанные от матери в детстве, перелагал почему-то на провансальский язык. Баудолино спросил его сразу, прибыл ли тот в Париж дабы сделаться правым христианином: кормиться как принято в этих местах, выражаться как принято в этих местах – а именно по-латыни. От ответа о цели приезда Абдул уклонился. Намекнул на некую тревожную, беспокойную историю, на испытание, пережитое в раннем отрочестве. Потому-де благородные родители отослали его в Париж, оберегая от не разберешь какой мести. При рассказе Абдул мрачнел, и краснел, насколько способен покраснеть мавританец, и настолько сильно весь трясся, что Баудолино предпочел переменить тему беседы. Юноша был очень способным: прожив три-четыре месяца в Париже, он заговорил и по-латыни, и на местном вульгарном диалекте. Жил он у своего дяди, настоятеля Сен-Викторского монастыря, где хранилось бесценное книжное собрание, крупнейшее по размерам как для того города, так и вообще для крещеного мира, по богатствам превосходившее александрийское! Вот каким образом благодаря Абдулу в последующие месяцы и Баудолино с Поэтом получили доступ к сокровищнице знания. Что он там строчит во время лекций, спросил Абдула Баудолино, и услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому что арабский язык несомненно удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но при том казалось: ждет, чтобы попросили. Наконец поведал, и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так: «Печаль и радость тех бесед Храню в разлуке с дамой дальней...» – Пишешь стихи? – спросил Баудолино. – Слагаю песни. Пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу. – Принцессу? А кто она? – Не знаю. Я видел ее... Вернее нет, но все равно, как будто видел... Когда я был в плену в Святой Земле... Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал. Сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой Даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь. Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой... Баудолино собрался было сказать ему: вольно дурить, по незабвенному выражению родителя Гальяудо. Но потом припомнил, что он и сам тоже изнемогает от любви неутолимой (хотя свою-то Беатрису он безусловно видел, и это видение изнуряло его по ночам). Тогда он смягчился к несчастной участи друга Абдула. Так начинаются настоящие дружбы. Однажды вечером Абдул заявился на квартиру Баудолино с Поэтом. Он нес какой-то инструмент, который Баудолино видел впервые, по форме – мандолину и со многими натянутыми струнами, и бегая перстами по этим струнам, Абдул запел: Quan lo rius de la fontana S'esclarzis si cum far sol, E par la flors aiglentina E'l rossignoletz el ram Volv e refraing et aplana Son doutz chantar et afina, Dreitz es q'ieu lo mieu refraigna... В час, когда разлив потока Серебром струи блестит, И цветет шиповник скромный, И раскаты соловья Вдаль плывут волной широкой По безлюдью рощи темной, Пусть мои звучат напевы! От тоски по вас, далекой, Сердце бедное болит. Утешения никчемны, Коль не увлечет меня В сад, во мрак его глубокий, Или же в покой укромный Нежный ваш призыв, – но где вы?! Взор заманчивый и томный Сарацинки помню я, Взор еврейки черноокой, - Все Далекая затмит! В муке счастье найдено мной: Есть для страсти одинокой Манны сладостной посевы. Хоть мечтою неуемной Страсть томит, тоску струя, И без отдыха и срока Боль жестокую дарит, Шип вонзая вероломный, - Но приемлю дар жестокий Я без жалобы и гнева.[12] Музыка была сладкой, и аккорды возбуждали незнаемую или дремлющую страсть, и Баудолино думал о Беатрисе. – Господи Боже, – сказал на это Поэт. – Ну почему я неспособен написать ничего такого? – Я не хочу быть поэтом. Я для себя пою. Если хочешь, могу подарить тебе эту песню, – ответил Абдул, весь во власти своей нежности. – Спасибо большое, – ответил Поэт. – Ты мне подаришь, я переведу на немецкий, и получится дерьмо. Абдул стал третьим в их дружбе. Как только у Баудолино хоть на минуту выходила из головы Беатриса, тут чертов рыжий мавр щипал проклятущие струны и пел, и у Баудолино вновь разрывалось на части сердце. Если соловушка в кроне Нежно любовь выпевает, Лада ему отвечает, С ним голоса сочетает, В каждом сливаяся стоне, На травянистом уклоне, Радость сердце пронзает. - Дружеской песенкой тою Душу мою утешает. Только любви взывает, Награды иной не чает И не прельстится иною. Сердце мое больное Мудрая грусть наполняет. Баудолино уговаривал себя: однажды он сочинит такие же песни для своей дальней императрицы, но он не знал, с чего начать эту работу, так как ни Оттон ни Рагевин никогда не говорили с ним о поэзии, разве только преподавая священные гимны. Так что он пользовался дружеством Абдула, чтобы проходить в сен-викторскую библиотеку. Там он целыми долгими днями, похищенными у занятий, беззвучно шевелил губами, впитывая повести и сказки. Прощайте учебники грамматики! Тут его ждали Плиниевы истории, «Александриада», география Солина и этимологии Исидора... Он читал о далеких землях, тех, где обитают крокодилы (крупные водяные змеи, которые, пожрав человека, плачут, двигают лишь верхнею челюстью и не имеют языка). Гиппопотамы, наполовину люди и наполовину лошади. Зверь половый (беложелт, левкохр), имеющий тело осла, стегна оленя, грудь и голени львиные, копыта конские, рога раздвоенные, рот растянутый до самых ушей, кричит голосом человека, а на месте зубов у него сплошной костный мост. Он читал о людях, имеющих ногу без коленного сустава, рот без языка, огромные уши, которыми они укрываются от холода, и об исхиаподах, проворно бегающих на своей единственной ноге. Неспособный отправить Беатрисе чужие песни (да и были бы они свои, все равно бы не отважился отправить), он решил, что как милой преподносятся цветы и драгоценности, так же можно преподнести те перлы знания, которыми он теперь обладает. И вот он стал писать о ландах, изобилующих мучными и медовыми деревьями, о горе Арарат, на вершине которой безоблачными днями видны остатки Ноева ковчега, и кто добирался до них, тот вкладывал палец в дырочку, послужившую для бегства бесу с корабля, когда Ной начал читать молитву Benedicite. Он рассказывал про Албанию, где обитатели столь белокожи, сколь никто иной на свете, и растительность имеют на теле жиже, нежели усы у котов. В другой стране, продолжал Баудолино, люди, глядя на восток, отбрасывают тени от себя направо. Еще в другом месте живут люди злобные, кто при рождении ребенка правит горестную тризну, а если помрет их дитя – радуются. Еще стоят великие горы из золота, сторожат их муравьи, каждый величиной с собаку. Есть на свете амазонки, женщины-солдаты, их мужчины проживают в соседней державе, младенцев мужеского пола амазонки отдают отцам или убивают, а младенцам женского пола выжигают одну из грудей каленым железом: если чадо благородного рода – левую, чтобы было место щиту, а у чада низкого происхождения – правую, чтобы было место луку. Наконец, Баудолино писал о Ниле, той одной из четырех рек, чьи истоки возникают из Земного Рая, что течет в пустынях Индии, проникает в под-земелие, взводится на гору Атлас и потом впадает в море, перерезав весь Египет. Дописавшись до Индии, Баудолино готов был забыть о Беатрисе, так увлекся новыми фантазиями: даже втемяшил себе в голову, что где-то в Индии обретается царство Пресвитера Иоанна, слышанное от Оттона. О том царстве Баудолино думал, надо заметить, беспрестанно. Всякий раз, читая о неведомом государстве, а в особенности когда на пергаментах ему попадались многоцветные миниатюры странных существ, будь то рогоносцы или пигмеи, те, чья жизнь проходит в постоянной борьбе с журавлями... упорно думая о нем, Баудолино мысленно привык считать Пресвитера Иоанна чем-то вроде старого знакомого. Потому обнаружить место его обитания было для Баудолино великим делом, а если место такое не обнаруживалось – надо все же было подыскать такую подходящую Индию, куда бы Пресвитера определить. Ведь Баудолино считал себя связанным клятвой (клятва, по правде, никогда не была дана) любимому епископу в смертную минуту. О Пресвитере услышали от него оба товарища и, немедленно увлекшись этой игрой, стали передавать Баудолино самые несвязные, но примечательные мелочи, обнаруженные в разных манускриптах, лишь бы только от них веяло индийскими фимиамами. У Абдула промелькнула даже идея, что его далеживущая принцесса... если должна жить так уж далеко, быть может, укрывает свою красу в стране, •которая далече всех дальних. – Да, – отвечал Баудолино, – но где пролегает путь в эту Индию? Она, надо думать, где-то около Земного Рая, а следовательно, к востоку от Востока, именно там где кончается земля и начинается океан... Они еще не приступили к слушанию лекций по астрономии и поэтому о форме земли имели самое туманное представление. Поэт был убежден, что земля плоская и длинная, по бокам которой воды Океана стекают вниз, одному богу известно куда. Баудолино же был наслышан от Рагевина, хотя и отнесся к этому критически, что не только философы античности и не только Птолемей, праотец астрономии, но и святой Исидор, все утверждали, будто земля представляет собою сферу, более того, Исидор был настолько свято убежден в этом, что установил и протяженность экватора: восемьдесят тысяч стадиев. Однако, оговаривал Рагевин, не менее верно, что определенные отцы церкви, например великий Лактанций, учат, что согласно Библии земля имеет форму скинии и, следовательно, небеса вместе с землей представляют собой ковчег или храм с прекрасным куполом и узорным полом, в общем нечто вроде короба, но никак не шара. Рагевин, осторожный человек, придерживался представлений блаженного Августина: что, быть может, философы-язычники и не ошибались относительно круглой земли, а в Библии скиния упоминается в переносном смысле, но знание, какова форма Земли, все равно не помогает решить то, что важнее всего правым христианам: каков путь к спасению души. А следовательно, даже полчаса, потраченные на пустые пересуды об этой форме, – напрасно потерянное время. 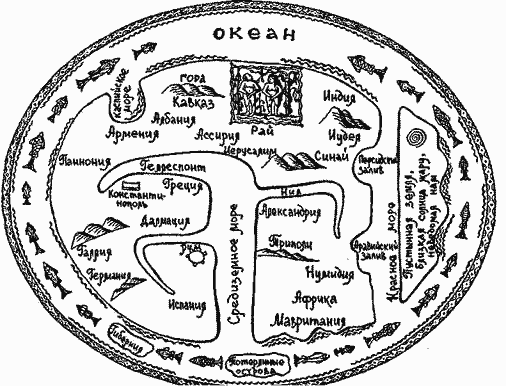
– Наверно, это так, – поддержал Поэт, торопившийся попасть в свою пивнушку. – Неосмысленно разыскивать Рай Земной, потому что будучи очаровательным висячим садом, когда по изгнании Адама некому стало подпирать кольями террасы, во время Потопа он осыпался в Океан. Абдул, напротив, мнил, что земля шарообразна. Если бы она была широкой и плоской, доказывал он, не приемля возражений, то мой взор, обостренный силою любови, как у всех любящих на свете, сумел бы различить в далечайшей дали какой-то знак присутствия желанной дамы; только по вине закругления земли она для взгляда недостижима. Порывшись в сен-викторской библиотеке, он разыскал те карты, которые уже набрасывал по памяти для товарищей. – Земля окружена огромным кольцом Мирового Океана и разделяется на части тремя великими потоками: Геллеспонтом, Средиземным морем, Нилом. – Минуточку, а где тогда Восток? – Восток тут сверху, разумеется, где находится «Азия». На самом краю Востока, там, откуда восходит солнце, обретается Земной Рай. Слева от Земного Рая гора Кавказ. Рядом Каспийское море. Теперь смотрите внимательно. Индий существует три. Великая Индия, где очень жарко, находится она справа от Земного Рая, Северная Индия, за Каспийским морем, то есть тут у нас в верхней части слева... Там студено, так студено, что вода превращается в стекло. Именно там племена Гога и Магога были окружены по приказу Александра каменной стеной. Третья Индия – это Индия умеренная, приближенная к Африке. Африка на этой карте находится справа в нижней части, у полудня, где течет Нил, где открываются Арабский и Персидский заливы. Они открываются в Красное море, на другом бреге которого пустое место, близкое к самому солнцу экватора, и до того прогретое, что пойти туда не дерзает никто. К западу от Африки, в близости Мавритании, лежат Счастливые острова. Их другое имя – Потерянные. Потерянные острова были открыты много столетий назад одним святым. Он был моим земляком... Дальше, тоже внизу, но на севере, располагается та часть мира, где живем мы. Вот Константинополь на Геллеспонте. Греция. Рим. А это на самом далеком севере германцы и остров Гиберния. – Да можно ли всерьез воспринимать подобную карту, – расхохотался Поэт, – если земля нарисована на ней как плоскость, а ты сам говорил о шаре? – Что за глупости ты мелешь, – рассердился Абдул. – Как иначе отобразить поверхность шара, если хочешь показать все, что расположено на ней? Карта служит для того, чтобы искать дорогу к цели, а дорога тянется по земле, как плоская лента. Кроме того, хотя земля и шар, но вся обратная сторона необитаема, там Океан, только всего... Живи там кто-нибудь, ему бы пришлось удерживаться вверх ногами, головой вниз. По мне, чтобы передать эту обратную сторону земли, кольцевой океан вполне годится. Но хочется получше разобраться в картах. В библиотеке я встретил клирика, которому известно все о Земном Рае... – Ну да, он гулял там, когда Ева предлагала яблоко Адаму, – сказал Поэт. – Можно знать все о неком месте, даже и не бывавши там ни разу, – отвечал Абдул. – В противном случае моряки были бы образованней богословов. Все это, пояснял Баудолино Никите, я тебе пересказываю, чтобы было понятно, как с первых лет в Париже, с младых ногтей наша компания увлеклась той историей, которая через несколько лет увела ее на самые далекие рубежи обитаемого мира. 7. БАУДОЛИНО ПИШЕТ ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА ЗА БЕАТРИСУ И СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ПОЭТА Баудолино к весне увидел, что его обожательный недуг все крепчает, как обычно и должно быть в определенную пору года, и никак не умиротворяется за счет жалких неглубоких интрижек, того хуже – нарастает по контрасту с их убожеством, так как Беатриса, кроме вежества, ясно-мыслия и королевского сана, имеет дополнительное преимущество над остальными: она отсутствует. О силе отсутствия не переставал, терзая Баудолино, распевать Абдул, целыми вечерами бия по струнам и наполняя воздух стенаньями, до такой степени что Баудолино, дабы причаститься обсуждаемой теме, на ходу выучил провансальский язык: Lanquan li jorn son lone en mai, M'es bels doutz chans d'auzels de loing, E quan me sui partitz de lai, Remembra-m d'un'amorde loing... Длиннее дни, алей рассвет, Нежнее пенье птицы дальней, Май наступил, спешу я вслед За сладостной любовью дальней. Весною я раздавлен, смят, И мне милее зимний хлад.[13] Баудолино мечтал. Абдул отчаивается увидеть свою дальнюю сладостную страсть, говорил он себе. Какой Абдул счастливец! Моя пеня неистовее, потому что я-то любовь свою должен увидеть, еще как должен, я увижу ее в один распрекрасный день и не будет мне того спасения– никогда не видеть, а одно сплошное мучение – знать и кто она и какова собой. Но коль скоро Абдул находит утешение, передавая свои чувства нам, почему бы мне не утешиться, передав свои чувства ей самой? Другими словами, Баудоли-но предположил, что можно умерить душевное трепетание, записав все то, что чувствуешь, поскольку грешно было бы лишить любимое создание всех этих изъявлений нежности. Поэтому ночами, покуда Поэт спокойно спал, Баудолино строчил. "Звездами озаряется полюс, луною ночи расцвечены. Но меня ведет одно светило, и если, по рассеянии сумерек, моя звезда подымается от Востока, разум мой отрешится от сумерек скорби. Ты моя путеводная звезда, носительница света, пришедшая рассеять ночь, а без тебя ночным мраком станет и самый свет, в то время как с тобою и ночной мрак – сплошное сияние". И затем: «Мой голод только одна ты насытишь, мою жажду только одна ты утолишь. О, что я говорю! Не утолишь, не насытишь, а только уймешь, никогда я насыщен и не был и не буду...» Далее: "Столь несравненна твоя нежность, неизреченна твоя верность, неописуема твоя беседа, неизъяснимы грация и краса, что невежеством была бы любая попытка рассказать это в словах. Да взгнетается пламя, которое нас гложет, да обрящет все новый подкорм, а чем больше оно скрывается, тем пылает сильнее, вводя в обман завид-чиков и лукавцев. Да вечно продлевается раздумье: чья из наших двух любоеей сильней, и да длится бесконечно наша тенцона, в которой победители – оба борца..." Красивые получались письма. Перечитывая их, Баудолино распалялся и все больше очаровывался созданием, умевшим вдохновлять подобный жар. Дошло до того, что он не мог уже жить, не зная, что ответит Беатриса на весь этот насладительный напор. Он решил добиться ее ответа. Поэтому, старательно имитируя женский почерк, Баудолино начертал: «Любови, исторгающейся из предсердия, благоухающей пуще любого знаемого аромата, та, что одна – и твое тело и душа твоя, для жаждущих цветов твоея младости, желает свежести вечного благополучия... Тебе, моя утеха, мое обаяние, преподношу свою верность, дарую тебе полную преданность всей души, покуда продолжается моя жизнь...» "О, – рьяно отвечал Баудолино на это письмо, – благословенна будь, ибо в тебе все мое благо, в тебе и упование и покой. Как только просыпаюсь, душа моя объемлет тебя, ибо тебя внутри себя сохраняет..." Она на это, вся пылая: «С мига, когда только мы впервые увидались, я предпочла тебя всем прочим, предпочтя, тебя возжелала, возжелавши, тебя взыскала, искавши, тебя находила, найдя, тебя возлюбила, возлюбивши, тебя взалкала, взалкавши, учредила в сердце своем превыше всего... и вкусила твой мед... привет тебе, мое сердце, плоть моя, несравненное ликование...» Эта переписка, продлившись в общем несколько месяцев, сначала принесла облегчение измученной душе Баудолино, затем даровала ему непомерную радость и наконец переполнила его горячей гордостью, ибо любовник не мог объяснить самому себе, по какой причине любовница настолько сильно его полюбила. Наподобие всех других влюбленных, Баудолино заразился тщеславием, наподобие всех влюбленных писал, что намерен сохранять тайну вместе с возлюбленной, и при этом он ожидал, что мир узнает о его счастии и потрясется пред лицом бесконечной вожделенно-сти той, которая его вожделеет. Соответственно он показал переписку своим товарищам, не вдаваясь в подробности о том, как и с кем совершался этот обмен посланиями. Он не лгал, напротив, сказал, что письма готов показывать именно потому, что они являются порождением его фантазии. Но товарищи решили, что именно в этом высказывании и запрятана ложь, и тем паче призавидовали его счастию. Абдул мысленно присвоил эти письма принцессе и заволновался, будто бы сам их получил. Поэт, который намеренно подчеркивал, что не придает никакой важности этой литературной игре (но при этом внутренне терзался, что не он написал такие прекрасные послания, вдохновляя еще более прекрасные ответы), не имея в кого бы ему влюбиться, влюбился в сами письма... В этом нет ничего странного, откомментировал с улыбкой Никита, потому что молодому возрасту свойственно влюбляться в самую любовь. Вероятно, ища новых тем для своих мелодий, Абдул усердно переписал послания, дабы читать их в сен-виктор-ском уединении. Однако однажды он обнаружил, что письма были кем-то неизвестным похищены, и испугался, что какой-то развратный каноник, укравший их для похотливого ночного смакованья, использовав, забросит неведомо где между тысяч библиотечных книг. Содрогнувшись, Баудоли-но закрыл на ключ свои письма в сундуке и с той поры уже новых не создавал, чтобы не компрометировать далекую корреспондентку. Как бы то ни было, любовная ярь семнадцатой весны требовала выхода и Баудолино перешел на стихи. В посланиях он повествовал о чистейшей любви. Стихи же его, напротив, представляли собою упражнения в кабацком виршеплетстве, обычном для клириков: воспевая рассеяния бездумного житья, те умели и попенять себе на пустую растрату времени... Чтоб Никита оценил достижения его таланта, Баудолино процитировал несколько полустиший: Feror ego veluti – sine nauta navis, ut per vias aeris – vaga fertur avis... Quidquit Venus imperat – labor est suavis, quae mmquam in cordibus – habitat ignavis. Увидев, что Никите нелегко разбирать с ходу по-латьни, Баудолино перевел: Как ладья, что кормчего – потеряла в море, Словно птица в воздухе – на небес просторе, Все ношусь без удержу – я себе на горе, С непутевой братией – никогда не в ссоре...[14] Показав эти и прочие стихи Поэту, Баудолино довел его до такой вспышки зависти и стыда, до таких слез, до признания в скудости собственного воображения, до таких проклятий творческому слабосилию, что тот криком исходил, рыдая: стократ бы лучше не мочь проникнуть в женщину, нежели подобная неспособность выразить то, что скрывается в нем самом... Выразить именно то, что Баудолино отображает столь совершенно, что кажется, будто черпал из его, из Поэтова сердца... Подумать только, сколь доволен мог бы быть его родитель, если бы узнал, что сын сочиняет такие выразительные стихи! А ведь настанет день, когда и семья и мир потребуют от него отчета за лестное прозвище Поэта, за напрасную лживую кличку! Истинно ему должно быть имя poeta gloriosus, то есть мнимый поэт, бахвал, присваивающий постороннюю почесть! Баудолино, зря друга в таком помрачении, дал ему в руки пергамент, подарил свои стихи, дабы тот отныне мог показывать их как собственные. Ценный подарок, поскольку при этом Баудолино, желая порадовать чем-то новеньким свою Беатрису, послал ей в письме стихи и сообщил, что автор – его товарищ. Беатриса прочла стихи Фридриху, Рейнальд из Дасселя слышал это чтение и, будучи любителем словесности, даром что прежде всего виртуозом дворцовых интриг, сказал, что ему приятно бы было видеть Поэта среди своих доверенных сотрудников. Рейнальду именно в тот год выпала честь сподобиться титула архиепископа Кельнского. Поэту же перспектива стать придворным стихотворцем архиепископа, а следовательно (отчасти шутя и отчасти красуясь провозглашал он), сделаться Архипиитой, была весьма приятна; отчасти потому что учиться ему очень мало хотелось, отцовых денег на парижские расходы никак не доставало, а придворному поэту, как предчувствовал он (и вполне справедливо), полагалось вкусно есть и много пить и не заботиться ни о каком другом деле. Разве только о писании стихов. Баудолино обещал снабдить его не менее чем дюжиной, но не советовал публиковать все сразу. – Видишь ли, – произнес он такую проповедь, – не всегда у стихотворцев понос. Бывают и запоры, и как раз у самых великих. Пусть все вокруг поймут, что Музы тебя истерзывают. Что ты способен порождать не более двух-трех полустиший за раз. С моим запасом ты сумеешь продержаться несколько месяцев. Но мне тоже потребно некоторое время, ведь и у меня понос бывает не всякий день. Так что погоди ехать, для начала отправь Рейнальду парочку стихов, чтоб подогреть его симпатию. Для этой цели самое уместное – стихотворное послание, воспевающее благодетеля. Баудолино просидел всю ночь и составил в честь Рейнальда следующее: Presul discretissime – veniam te pecor, morte bona morior – dulci nece necor, meum pectum sauciat – puellaram decor, et quas tacto nequeo – saltern chorde mechor. Мне, владыка, грешному – ты даруй прощенье: Сладостна мне смерть моя, – сладко умерщвленье; Ранит сердце чудное – девушек цветенье, - Я целую каждую – хоть в воображенье...[15] Никита заметил, что латинские епископы развлекались не самыми влаголюбивыми акафистами, но Баудолино ответил, что прежде всего следует знать, что такое являют собой латинские епископы. От них вовсе не ждут святого образа жизни, в особенности если ими исполняется еще и должность имперского эрцканцлера. Кроме того, невредно бы еще и иметь в виду, что за личность являл собою этот Рейнальд. От епископа в нем было крайне мало, от эрцканцлера– крайне много. Любовь к поэзии, разумеется, ему была свойственна, но в гораздо большей степени было свойственно стремление использовать таланты на своей службе, в том числе и поэтические. Использовать в чисто политических целях, как он впоследствии и продемонстрировал. – И так Поэт прославился твоими стихами. – Вот именно. В течение почти целого года Поэт посылал Рейнальду потоки изъявлений преданности, напичканные стихами, которые я ему передавал, в результате чего Рей-нальд категорически потребовал, чтобы необыкновенное дарование во что бы то ни стало прибыло пред его очи. Поэт отправился с хорошим запасом стихов, которые ему надлежало растянуть на год, постоянно жалуясь на запоры. Его превознесли... Я так и не уяснил, как можно тщеславиться лаврами, полученными в виде милостыни, но Поэта, похоже, удовлетворяло все как есть. – А я не уяснил другого: какая тебе-то радость была с того, что твои творения приписали другому человеку? И не ужасно ли, что отец отдает кому-то ради милостыни детищ от собственных чресел? – Удел кабацкого творчества – быть на устах у всех, не принадлежа одному. Главная радость, когда твою песню поют. По-моему, эгоизм – исполнять ее только чтоб преумножилась твоя собственная слава. – Нет, я не думаю, чтоб ты был столь прост. Тебе сладостно ощущать себя Князем Лукавства. Ты этим гордишься. Ты мечтаешь, как вдруг найдется твоя любовная переписка в рукописном отделе библиотеки Сен-Виктора. И как ее атрибутируют поди угадай кому... – Я и не прикидываюсь простым. Я люблю видеть: совершается нечто и только мне известно, что это дело моих рук. – Чем дальше, тем круче, милый мой, – протянул Никита. – Я величаю тебя Князем Лукавства, а ты в ответ, что тебе хотелось бы быть Господом Богом. 8. БАУДОЛИНО В ЗЕМНОМ РАЮ Баудолино хоть и был поглощен парижской учебой, однако успевал следить за тем, что происходило в Италии и в Германии. Рагевин, по завещанию Оттона, продолжил за него «Деяния Фридриха», но ныне, завершив четвертую книгу, остановился. Счел богохульством превосходить число святых Евангелий. И, распрощавшись с двором, в сознании исполненного долга, он скучал ныне в далеком баварском монастыре. Баудолино написал ему, что имеет доступ к безбрежной библиотеке Сен-Виктора, и Рагевин попросил его перечислить какие-либо редкие трактаты, дабы дать ему возможность обогатить свою ученость. Баудолино, разделяя мнение Оттона относительно бедной фантазии скромного каноника, счел за благо предложить ему неожиданную умственную пищу и поэтому, сообщив несколько названий тех томов, что действительно он видел, присовокупил и ряд других, которые тут же сам на месте выдумал, например «De optimitate triparum» («О превосходных качествах требухи»[16]) Достопочтенного Беды, а также трактаты «Ars honeste petandi» («О благопристойном ветров выпускании»), «De modo cacandi» («О способах испражнения»), «De castramentandis crinibus» («О постое гарнизонов в волосах»[17]) и даже «De patria diabolorum» («Отечество дьявола»). Эти труды изумили и даже ошеломили доброго каноника, который поспешил затребовать списки сих несусветных таилищ знания. Баудолино с удовольствием оказал бы ему эту услугу, чтоб искупить вину за перга-менты Оттона, в давнем прошлом им соскобленные, но не знал, откуда бы списать эти сочинения. Поэтому он отговорился: сочинения-де и вправду содержатся при Сен-Викторе, но они почти еретические и каноники не выдают их читателям. – Через некоторое время, – сообщил Никите по ходу рассказа Баудолино, – я узнал, что Рагевин написал одному парижскому ученому с просьбой получить для него запрещенные тома у сен-викторцев, на что те ответили, натурально, что не находят запрашиваемых книг на полках. Обвинили библиотекаря в халатности. Тот божился, что он, бедняга, даже названий этих не видел. Надо думать, в конечном итоге какой-нибудь каноник, желая привести дела в порядок, взял да и написал эти сочинения... Надеюсь, что они когда-нибудь обнаружатся ко всенародной радости... Поэт тем временем рассказывал ему последние новости о деяниях императора. Итальянские города не собирались соблюдать соглашения, достигнутые на имперском сейме в Ронкалье. Согласно этим пактам, непокорным городам полагалось разобрать военные машины и порушить оборонные укрепления, но вместо этого горожане вяло притворялись, будто закидывают рвы вокруг городов, а на самом деле рвы оставались, да еще какие. Фридрих отправил императорских посланников в Крему сказать кремаскам, чтоб пошевеливались, но насельники Кремы посулили поубивать имперских легатов, и если б те не спаслись своевременным бегством, они бы их действительно убили. Вследствие этого в Милан были посланы лично канцлер Рейнальд и один пфальцграф, с поручением назначить градоначальников, потому что не могли же миланцы на словах признавать имперские прерогативы, а на деле – самовольно выбирать собственных консулов. Там опять приехавшим воеводам чуть не привелось поплатиться жизнью, а ведь дело шло не о каких-то поверенных, а об имперском канцлере и одном из графов монаршего двора! Мало этого, миланцы обложили осадой замок Треццо и заковали в цепи гарнизон. В довершение они вторично налетели на город Лоди, а император, когда трогали его Лоди, окончательно терял кротость. В общем, чтобы показать им, где раки зимуют, Фридрих подошел под Крему с осадой. Сначала эта осада велась как заведено между правыми христианами. С помощью миланских жителей обитатели Кремы совершали молодецкие вылазки и брали в плен немало имперских воинов. Те осадчики, что происходили из Кремоны (они от ненависти к жителям Кремы присоединились к войскам императора вместе с павийцами и с ополчением из города Лоди), строили мощнейшие осадные машины, которые были опаснее для атаковавших, чем для атакуемых, но это уже частности. Стычки состоялись знатные, с удовольствием повествовал Поэт, и всем запомнилось, какую хитрость выдумал лично император: из Лоди подвезли ему двести порожних бочек, он их велел набить землей и кинуть в ров, потом на бочки навалили землю и доски, тоже подвезенные лодийским ополчением (более двух тысяч телег), и после этого по рву свободно проходили кошки, чтобы лупить тараном в стену. Но как они пошли на приступ с самой здоровенной деревянной башней, произведением кремонцев, а изнутри города стали швырять из катапульт тяжеленные камни и башню чуть было не свалили, император от гнева сделался буен. Он вывел тех военнопленных, что были родом из Кремы и Милана, и дал приказ их привязать впереди башни и по ее бокам. Он думал, что когда осажденные увидят перед собой своих братьев, сыновей, родителей и свояков, они перестанут кидать камни. Император не учел, до чего дошли в своей ярости обитатели Кремы – и те, что сражались внутри крепости, и те, что болтались снаружи. Именно эти последние и вызывали на себя канонаду из крепости, убеждая родичей никого не жалеть, и те на стенах осажденного города, стиснув зубы, не вытирая слез, не дрогнув перед казнью родных, стреляли по мощной башне, и девять военнопленных в тот день потеряли жизнь. Студенты, прибывшие учиться в Париж из Милана, уверяли Баудолино, что на башне были привязаны даже маленькие дети, но Поэт клятвенно опровергал это сообщение. Как бы то ни было, даже император был поражен, и всех прочих пленных с башни отвязали. Однако жители Милана и Кремы, остервенелые после всего, что было сделано с их товарищами, вывели из города пленных германцев и лодийцев и на крепостном валу зарезали всех до одного прямо на глазах у Фридриха. Тот велел доставить под стену Кремы двух пленных граждан, прямо на плацу устроил над ними суд, обвинив в разбое и отступничестве, и подвел под смертный приговор. Жители Кремы дали знать: если-де наших повесят, мы перевешаем всех ваших, что сидят тут у нас в заложниках! Фридрих сказал на это, что пусть только попробуют, и лишил жизни двоих осужденных. В ответ кремаски повесили всех имевшихся заложников coram populo (по выражению древних римлян, «в присутствии народа, сената и патрициев»). Фридрих от гнева так ошалел, что велел взять всех кре-масков, кто только у него еще остался, выстроил вереницу виселиц перед чертой города и начал вешать всех по очереди. Епископы и аббаты ринулись на место казни, умоляя, дабы тот, кто призван быть источником милосердия, не состязался с противником в злодействе. Фридрих был тронут их заступничеством, но не мог забрать назад ужасные посулы и поэтому потребовал уничтожить хотя бы девять человек из тех несчастных. Слушая эти истории, Баудолино плакал. И не по одному своему врожденному миролюбию, а более от мысли, что его приемный отец запятнался столькими грехотворствами. Эта мысль подвела его и к решению остаться в Париже и продолжить учебу, и, нечувствительно для него самого, как-то сняла с души камень, исполнив чувства, что не столь уж предосудительно любить императрицу. Он снова начал писать письма, чем дальше тем более страстные, и такие ответы, от которых пробрало бы и скитника. Только на этот раз он не стал их показывать другим студиозусам. Все же ощущая некую виноватость, он решил сотворить что-нибудь во славу монарха. Оттон оставил ему святую задачу: вывести на божий свет предание о Пресвитере Иоанне. Баудолино и взялся искать этого безвестного священника, который, по свидетельству Оттона, в своей безвестности был очень и даже очень известен. Поскольку Баудолино и Абдул, успешно преодолев трое-путье и четверопутье, ныне готовились к диспуту, они взялись за разработку вопроса: существует ли на самом деле Пресвитер? Но взялись они за эту разработку при таких обстоятельствах, о которых Баудолино несколько стеснялся рассказывать Никите. После отбытия Поэта Абдул переселился к Баудолино. Однажды, воротясь, Баудолино застал Абдула за одиноким пеньем. Тот исполнял одну из своих самых дивных песен и бредил, будто повстречался с принцессой недостижимой и далекой, но всякий раз, как только он подходил к принцессе вплотную, ему казалось, ноги относят его обратно. Баудолино, сам не зная, силой ли музыки или силой слов, но будто донесся до своей любимой Беатрисы, она предстала перед ним при звуках песни, но уклонялась и ускользала от взора. Абдул все пел, и никогда еще его голос не источал такого соблазна. Закончив песню, Абдул поник, изнуренный. Баудолино было испугался, не сомлел ли тот, и наклонился, но Абдул, чтоб успокоить, махнул рукой и засмеялся неведомо чему, без всякой причины. Весь сотрясался от одинокого смеха. Он в лихорадке, подумал про себя Баудолино. Абдул, не прекращая хохотать, просил оставить его в покое: само пройдет. Ему известно, в чем объяснение припадка... В конце концов, уступив Баудолиновому любопытству, он согласился выдать секрет. – Слушай же, коли так, мой друг. Я сейчас принял зеленого меда. Небольшую толику. Мне известно – это дьявольское искушение, но порой очень помогает петь. Слушай и не осуждай меня. С самого раннего детства у себя в Святой Земле я узнал былины восхитительные и жуткие. В тех былинах говорилось, что поблизости от города Антиохии проживают сарацины, у которых на скале построено укрепление, неприступное ни для кого, кроме орлов. Господин их носит имя Алоадин и внушает величайшее опасение и сарацинским владыкам, и христианским. У него в твердыне, сказывали, обретается волшебный сад, полный плодов и злаков, там текут и ручьи из вина, молока, меда и воды, а вокруг пляшут и поют девы невысказуемого пригожества. В том саду поселяют юношей, которых по приказу Ало-адина похищают из разных мест, их селят в саду и там они приучаются ко всемерным наслаждениям. Говорю про наслаждения, потому что взрослые перешептывались (а я совестился и краснел), будто девы щедры, ласковы и одаряют молодых гостей таким вниманием, что и услаждает и размучивает. И, конечно, попадающие в тот сад не желают покидать его. – Очень милое место создал твой Алоадин или как его там звали, – улыбнулся Баудолино, обтирая лоб своего друга мокрым полотенцем. – Ты послушай дальше, – перебил его Абдул. – Узнаешь, что это было на самом деле. Вдруг такой юноша просыпается на загаженном дворе, под палящим солнцем, на руках и на ногах оковы. Промучивши несколько дней его этой пыткой, юношу ведут перед очи Алоадина. Юноша, кинувшись владыке в ноги, с угрозами лишить себя жизни молит восстановить его в радостях и негах. Без них он уже себя не мыслит. Алоадин в ответ сообщает, что на юношу пало неудовольствие пророка и он сможет возвратить себе пророкову благосклонность только через геройский подвиг. Ему дают золотой кинжал и отправляют в далекое странствие, с задачей попасть ко двору некоего князя, врага Алоадина, и этого князя убить. Так он заслужит возвращение к желанному образу жизни. Если же он погибнет, выполняя свой долг, то в награду будет впущен в рай, полностью одинаковый с тем местом, которое он покинул только что, и даже в чем-то еще получше. Поэтому Алоадин обладал величайшим могуществом и устрашал соседей, как ближних так и дальних, мавров и христиан, всех без изъятия, потому что его посланцы не имели никакого страха. – Если так, – отвечал Баудолино, – предпочту какойнибудь из наших кабаков в Париже, с нашими девушками, за них не берется такой серьезный выкуп... Но ты-то как замешан в эту историю? – Я замешан, потому что десяти лет от роду был похищен слугами Алоадина. И пять лет жил у него. – И в десятилетнем возрасте ублажился этими девицами, о которых ты рассказываешь? А потом тебя отправили на смертное задание? Что ты, Абдул, несешь? – взволновался Баудолино. – Я был чересчур мал, не мог приобщаться к сонму блаженных юношей. Меня сделали прислужником дворцового евнуха, заведующего их наслаждениями. Послушай, что я обнаружил. За все пять лет я не видел сада. Юношей постоянно держали в оковах на том залитом солнцем, загаженном дворе. Каждое утро евнух брал из шкафа серебряный горшок, в котором была густая, будто мед, каша, зеленожелтого цвета, и проходил между лежащих, давая каждому по ложке зелья. Те, проглотив, начинали рассказывать вслух себе и окружающим про те радости, что обещала легенда. Понимаешь? Вот так они проводили день с открытыми глазами, с блаженной улыбкой, а к вечеру уставали, и так проходил каждый вечер: хихикают, хохочут, и так все тихо переходят ко сну. Я же, потихоньку взрослея, понимал обманные ходы Алоадина. Они жили в цепях, полагая себя в кущах Рая, и чтоб не терять тот Рай, становились орудием властелина. Если им выпадало счастье возвратиться живыми с заданий, их опять заковывали, и они снова видели и слышали то, что вызывалось зеленым медом. – А ты? – А я однажды ночью, пока остальные спали, пробрался туда, где стояли серебряные горшки с золотисто-зеленым медом, и попробовал немножко... То есть не просто попробовал... Я проглотил хороших две ложки и внезапно начал видеть удивительные вещи... – Попал в тот райский сад? – Нет, может быть, остальным тот сад мерещился, потому что при их прибытии Алоадин им рассказывал про сад. Думаю, зеленый мед вызывает те видения, что уже заложены в душу. Я внезапно попал в пустыню, пустыня была вокруг, я видел ее из оазиса, я видел цепочку верблюдов, изукрашенных перьями, вереницу разноцветных тюрбанов, тюрбаны были на маврах, мавры били в тамбуры, мерно позвякивали кимвалы. В конце каравана под балдахином, что был на плечах четырех великанов, плыла та далекая принцесса. Я не могу описать ее внешность. Она была... как сказать это... так блестяща, что я запомнил только яркость, только это слепящее сияние... – Но какова она лицом, красива? – Лица я не видел, оно было скрыто покрывалом. – В кого же ты тогда успел влюбиться? – В нее. Потому что я ее не видел. Прямо в душу, понимаешь, прямо в сердце мне вошла бесконечная благостыня... истома, не унявшаяся до сего дня... Караван уходил себе вдаль по дюнам, и я знал, что призрак никогда не вернется... Я твердил, что должен настигать восхитительную деву, однако где-то под утро на меня напал странный хохот, я подумал, что это знак счастья. Между тем это морок от зеленого меда, когда действие его проходит. Я проснулся, солнце было высоко на небе и евнух едва не застукал меня у шкафа. С той поры я приучился думать, что мой путь – побег, а затем поиски прекрасной принцессы. – Но ты ведь знаешь, что она морок от зеленого меда... – Да, видение было мороком. Но то чувство, которое внутри меня поселилось, было подлинной настоящей страстью. Страсть, которая поселяется в сердце, это уже не морок, она живая. – Но твоя страсть – к мороку. – Однако я хотел бы сохранить эту страсть. Ее достаточно, чтобы ей посвятить жизнь. Короче, Абдулу удалось бежать и вернуться в семью, где он считался без вести пропавшим. Отец, опасаясь мщения Алоадина, отправил Абдула из Святой Земли в Париж. Абдул, покидая Алоадинов замок, вынес с собой кувшин зеленого меда, однако, заметил он, ни разу не отведывал зелья, боясь, как бы проклятая отрава не завлекла его обратно в оазис, чтобы там вечно сокрушаться в экстазе. Он не знал, сможет ли совладать с волненьем. А принцесса, та отныне состояла при нем навеки, никому не удалось бы отдалить ее от Абдула. Лучше было мечтать о ней как о цели, нежели владеть ею в ложном воспоминании. Позднее, нуждаясь в энергии для песен, в которых он встречался с принцессой, присущей, невзирая на дальность, порою Абдул дерзал отведывать меда, но самую крошку, на кончике ложки, чтоб только ощутился вкус. Экстаз наступал, он был недолог. Вот и сегодня вечером тоже. Рассказ Абдула увлек Баудолино. Его соблазняла возможность воспользоваться видением, даже кратким, чтоб повидаться с императрицей. Абдул не смог отказать, дал крошку меда. Баудолино почувствовал только легкую одурь да сильный позыв рассмеяться. Но разум его воспрял. Поразительно! Мысли летели не к Беатрисе, а к Пресвитеру Иоанну! Он даже подумал: не является ли истинным предметом желания неприступное государство? Вовсе не дама, владеющая сердцем? Так случилось, в достопамятный вечер, что Абдул, уже избывший действие меда, и слегка отуманенный Баудолино снова стали рассуждать о Пресвитере: он существует? Поскольку под воздействием зеленого меда никогда не виденное становилось явным, друзья пришли к заключению о существовании Пресвитера. Существует, провозгласил Баудолино. Ибо нет причин, противостоящих его существованию! Существует, согласился Абдул: ибо он слышал от какого-то клирика, что за страной мидийцев и персов христианские цари сражаются с язычниками. – А как зовут этого клирика? – спросил Баудолино, волнуясь. – Борон, – отвечал Абдул. На следующий день друзья разыскали Борона. Тот оказался клириком из Монбельяра, вагантом, каких в Париже было немало, завсегдатаем Сен-Виктора. Сегодня здесь, назавтра он мог перебраться в любое неведомое место, поскольку, похоже, был занят какими-то поисками, а что искал – помалкивал. Вечно всклокоченная голова, глаза, воспаленные постоянным чтением при тусклом свете, – настоящий кладезь премудрости. Он очаровал их с самой первой встречи, происходившей, разумеется, в таверне, поскольку предлагал столь заковыристые темы, на которые их учителям понадобились бы бессчетные дни диспутов: можно ли замораживать сперму? может ли зачать проститутка? более ли зловонен пот головы, нежели пот всех остальных органов тела? краснеют ли уши от стыда? печалится ли более человек от смерти возлюбленной или же от ее замужества? должны ли благороднорожденные иметь висячие уши? ухудшается ли сумасшествие от полнолуния? Более же всего занимало Борона существование пустоты, о каковом предмете он был начитан лучше всякого другого философа. – Пустота, – разглагольствовал Борон, напихивая рот разной снедью, – не существует, поскольку природа ее страшится. Что пустоты не существует, видно в силу философских причин, ибо существуй она, ей бы надлежало быть или субстанцией, или акциденцией. Материальной субстанцией она не является, поскольку тогда была бы телом и занимала пространство. Бестелесной субстанцией она не является, потому что тогда, подобно ангелам, она имела бы интеллект. Она не является акциденцией, поскольку акциденции существуют лишь в качестве атрибутов субстанций. Кроме того, пустота не существует в силу и физических причин. Возьмем цилиндрическую вазу... – Но для чего, – перебивал его Баудолино, – тебе так нужно доказывать, что пустоты не существует? Далась тебе эта пустота! – Значит, далась. Повторяю: пустота может являться средоместной, то есть быть в середине между одним и другим телом подлунного мира, или же пространной, то естъ быть вне видимого нами универса, замкнутого в огромной сфере небесных тел. В этом случае там могут обретаться, в пространной пустоте, иные миры. Но если доказуемо, что средоместной пустоты не бывает, тем более не может быть пустоты пространной... – Ну, а иные-то миры на что тебе дались? – Значит, дались. Если бы они существовали, Иисус Христос должен был бы принести себя в жертву в каждом из оных и в каждом из оных пресуществить хлеб и вино. Выходило бы: предвечная вещь, доказующая и подтверждающая таинство, – не единственна, а бытует в нескольких экземплярах. Какую тогда ценность имела бы вся моя жизнь, не будь я убежден, что где-то имеется единственная предвечная сущность и я эту единственную сущность разыскиваю? – А какую ты разыскиваешь предвечную сущность? В ответ Борон отрезал, как отрубил: – Не ваше дело. Не обо всем приличествует знать профанам. Поговорим на другую тему... Если бы миров было много, было бы много и первых людей, Адамов и Ев, совершавших свой первородный грех. Следовательно, много Земных Раев. Ну, сами подумайте: настолько выспренних мест, как выспренний Земной Рай, разве может их быть на свете много? Много может быть обыкновенных городов, вроде вот этого, Парижа, с обыкновенной рекой и с обычным холмом, скажем, Святой Женевьевы. Но Земной-то Рай, он на свете только один, в отдаленной области, за мидянами, за персами... Так разговор подошел к интересующей их теме. Друзья тотчас выложили Борону все свои рассуждения о Пресвитере. Да, Борон уже об этом что-то слышал от какого-то монаха... о восточном христианском правителе... Он читал в одной книге странствий, что много лет назад к папе Ка-ликсту Второму приезжал патриарх всех Индий. Похоже на то, что он и папа почти друг друга не разумели, в силу разности языков. Патриарх описывал город Хулну, где течет одна из рек, вытекающих из Земного Рая, это река Физон, которая именуется еще и Ганг, и где на горе за стенами города построена часовня, в той часовне выставлено тело Фомы-апостола. Доступ на гору невозможен, так как она возвышается в середине озера, но на восемь дней каждый год воды озера расступаются, и самые богобоязненные из тамошних жителей поклоняются останкам апостола, нетленным, будто бы он не умирал. Напротив, по свидетельству патриарха, его лик сиятелен, как звезда, волосы рыжи, длиной они достигают плеч, есть борода, а одежду будто бы сегодня сшили. – Но ниоткуда не следует, что этот патриарх был Пресвитером Иоанном, – осторожно закончил Борон. – Ниоткуда, – ответил Баудолино, – но по всему ясно, что уже много лет мир изобилует слухами о крайсветном царстве, блаженном и неведомом. Смотри сам. В своей «Истории о двух царствах» мой учитель епископ Оттон сообщает, что некий Гугон Габальский говорил, будто Иоанн после победы над персами предлагал помощь христианам Святой Земли, но ему пришлось остановиться, когда он подошел к берегу Тигра, потому что не было судов, чтоб переправить войско. Так что Иоанн обитает на том, противоположном берегу Тигра. Видишь? Но еще интереснее, что о том было известно, кажется, и до Гугона. Перечитаем оттонову летопись. В ней, я знаю, ничто не случайно. С какой стати этот Гугон докладывает папе причины, по которым у Иоанна ничего не вышло из затеи помогать свято-земельным христианам? Иоанн как будто оправдывается? Из этого явно, что в Риме кто-то на него рассчитывал! Далее, Отгон говорит, что в речи Гугона употреблено имя «Иоанн», «sic enim eum nominare solent», «как его именуют в обиходе». Кто именует? Ясное дело, не один Гугон, раз глагол «именуют» во множественном числе! Оттон пишет, что Гугон угверждаег, будто Иоанн, по следам Волхвов, чей он последователь, отравился было в Иерусалим, и туг же Огтон использует слово «fertur» (считается), а другие глаголы опять же стоят во множественном числе: asserunt (утверждают)... Утверждают, чго Иоанн не помог христианам... В универсигете преподавагели нас учили, чго лучшим доказательством истинности, – подвел итог Баудолино, – является прецедент. Абдул шепнул на ухо Баудолино, что, поди-ведай, не случалось ли Оттону жеванугь зеленого меда, но Баудолино в огвет двинул его под ребро локтем. – Я, честно говоря, пока не понял, зачем вам занадобился эгот Пресвитер, – сказал Борон. – Но если вы хотите искать его, вам, думаю, дорога не к реке, вытекающей из Земного Рая, а прямо-прямехонько в этог Рай. Ну, о Рае я мог бы рассказывать сколько угодно... Баудолино и Абдул попробовали выудить из Борона побольше подробносгей на этог счег, но Борон гак основательно надышался винными парами «Трех подсвечников», что утверждал, будто ничего не помнит. Не сговариваясь, друзья подхватили Борона под мышки и потащили в свою квартиру. Там Абдул осторожно с кончика ложки угостил Борона снадобьем, и по полпорции друзья приняли сами. Борон, ошарашенно мотая головой, оглядывался и пытался понять, где он, но куда бы он ни глядел, повсюду оказывался Земной Рай. Он стал рассказывать о каком-то Тугдале, который, кажется, бывал в Аду и в Раю. Об Аде говорить не стоило, а вот Рай – это средоточие милосердия, утехи, отрады, красоты, святости, согласия, единства, бесконечности и вечности. За его золотыми стенами расположены скамейки с драгоценными инкрустациями, и на скамьях мужи и жены, юные и пожилые, одетые в аксамитовые мантии, с лицами яркими как свет и волосами чистого золота, и все поют аллилуйю, читая книгу с золотыми буквами. – Так вот, – рассудительно повествовал Борон, – в Ад может сойти кто угодно, захоти он только, и нередко тот, кто сходит, потом возвращается обратно и способен припоминать узнанное, причем видит себя то инкубом, то суккубом, полагая, будто ему приснился тяжелый сон. Но можно ли всерьез полагать, будто о Рае расскажет тот, кто в самом деле его увидел? Если бы кто-то и попал туда, то не нашел бы в себе потом бесстыдства рассказывать узнанное, ибо есть тайны такого рода, что честный и скромный человек предпочтет их держать при себе. – Да не допустят небеса родиться на нашей земле такому тщеславцу, – продолжил в тон ему Баудолино, – который обманет доверие, оказанное Господом Богом. – Между тем, – отвечал Борон, – вы помните случай из жизни Александра Великого, как он оказался на берегу Ганга и пустился плыть по реке, и вдоль реки тянулась какая-то стена, и в ней не было ворот, и через три дня плаванья он увидел в стене окошечко, откуда выглянул старик. Путники спросили старика, платит ли город законные налоги Александру, царю царей, но старик отвечал, что это город праведников. Поскольку мы не можем допустить, что Александр (великий царь, но нехристь) был допущен до Небесного Града, делаем вывод, что виденное и им и Тугдалом являлось именно Земным Раем. То, что я вижу перед собоюныне. – Где? – Вон там, – он показывал на дальний угол. – Вижу место, где колышутся сочные зеленые травы, луг душист, полон цветов, и повсюду веют благовония, и вдыхая ароматы, я не испытываю никакой потребности в еде или питье. Среди этих благих мурав четыре мужа препочтенного вида, в золотых коронах, в руках у них пальмовые ветви... Слышу пение, чую запахи бальзама. О мой Бог, во рту у меня медовая сладость... Вижу храм из хрусталя, в нем алтарь, из коего из середины бьет струя, белая как молоко. Эта церковь с полночной стороны подобна драгоценному камню, с полуденной – ала как кровь, на западе бела как снег, и над нею светятся несчетные звезды, звезды ярче всех тех, что поддаются наблюдению на нашем с вами небосводе. Вижу мужа, власы белые как снег, весь он в птичьем оперении, очи его нет возможности разглядеть, они закрыты бровями чистоты голубиной. Муж указывает мне дерево, которое не стареется, и в тени его кто сел, тот может вылечиться от болезней, он указывает и дерево с радужными листьями... Как это я все это сумел увидеть сейчас вот? – Ты, верно, начитался об этих образах, а вино привело их на самый порог твоего сознания, – отвечал Абдул. – Один добродетельный муж, живший на моем острове, святой Брандан, доплыл по морю до последних пределов земли. Он нашел остров, полный спелого винограда, голубые лозы, лиловые лозы, белые лозы, семь волшебных фонтанов и семь церквей, первая хрустальная, вторая гранатовая, третья сапфировая, четвертая топазовая, пятая рубиновая, шестая смарагдовая, седьмая коралловая, в каждой семь алтарей и семь лампад. Перед церквами, посередине площади, высился столп халцедоновый, увенчанньш вертящимся колесом, а на колесе бубенчики. – Нет, нет, у меня это не остров, – горячо запротестовал Борон. – Это страна около Индии. Я ее вижу. У ее жителей огромные уши и по два языка, чтобы говорить одновременно с двумя собеседниками. Какое тут всеплодие! Деревья ломятся от плодов, на полях урожаи... – Разумется, – вторил Баудолино. – Мы ведь и помним, что в Исходе говорится: земля обетованная «где течет молоко и мед». – Только не надо путать, – вставил Абдул. – В Исходе описана земля, обетованная после грехопадения, а Земной Рай, наоборот, это усадьба наших праотцев, где они проживали, пока грехопадения еще не было. – Абдул, мы сейчас не на disputatio. Наша цель не в том, чтобы выбрать, кому куда идти, а в том, чтоб выяснить, каковы характеристики идеального места, куда любому хотелось бы попасть. Очевидно, что если сказанные диковины существовали и до сих пор существуют не только в области Земного Рая, но и на островах, куда Адам и Ева ни разу в жизни не казали носа... владение Иоанна должно быть примерно таково же по внешнему облику! Попробуем же понять, как устроено царство изобилия и добродетели, в котором нет ни лжи, ни алчбы, ни развратности. Иначе с чего бы нам влечься в это царство как в совершеннейшее воплощение христианской добродетельности? – Только без переборов, – здраво предостерег Абдул. – Иначе никто нам не поверит. В смысле, что никто не поверит, что возможна такая дальняя поездка. Опять это слово «дальний»... Баудолино надеялся было, что воображая Земной Рай, Абдул забудет, пусть хоть на один вечер, о своей недостижной страсти. Но нет. Он о ней не переставал думать. Видя Земной Рай, он старался разглядеть в нем принцессу. То и дело бормотал, постепенно оправляясь от зеленого меда: – Может быть, когда-нибудь и поедем мы туда... Май наступил, спешу я вслед За сладостной любовью дальней... Борон начинал тихонечко смеяться. – Вот так, любезный государь Никита, – кончил Баудолино, – ночами я или предавался соблазнам нашего мира, или выдумывал новые миры. Бывало – под вино, бывало – под толику зеленого меда. Нет ничего приятней, чем выдумывать новые миры. Забываешь, до чего непригляден тот, в котором мы все живем. По крайней мере мне в то время так представлялось. Не понимал я, что выдумывание новых миров в конечном счете приводит к изменению нашего. – Так постараемся себе жить спокойно в этом нашем, где обрелись мы по Божией воле, – отвечал Никита. – Гляди, вот твои замечательные генуэзцы наготовили местных яств. Попробуй. Рагу из нескольких сортов рыбы, морской и пресноводной вперемешку. Не исключаю, что и в ваших краях есть недурная рыба, но думаю, от холодного воздуха она не нагуливает такую сочность, как у нас в Пропонтиде. Заправляется это рагу луком, обжаренным в оливковом масле, корнем аниса, душистыми травами, парой стаканов сухого вина. Рагу накладываем на ломоть хлеба, сверху добавляем авголемон – желтки, взбитые с лимонным соком, прогретые с каплей бульона. Думаю, что именно в Земном Раю у Адама и Евы употреблялась такая еда. Разумеется, до грехопадения. А после грехопадения им пришлось переходить на требуху, как вам в Париже. 9. БАУДОЛИНО РУГАЕТ ИМПЕРАТОРА И СОБЛАЗНЯЕТ ИМПЕРАТРИЦУ Баудолино, учась понемножку и богато фантазируя на темы эдемского сада, почти незаметно провел целых четыре зимы в Париже. Он соскучился и по Фридриху, и уж тем более по Беатрисе, которая в своем призрачно измененном виде давно утратила какие бы то ни было земные качества и превратилась в обитательницу парадизного сада, подобно недостижимой Абдуловой принцессе. Однажды Рейнальд потребовал от Поэта оду в честь императора. Поэт, придя в полный ужас, старался тянуть время и внушал своему начальнику, что обязан дождаться вдохновения, – а сам отправил к Баудолино мольбу о помощи. Баудолино написал замечательное стихотворение «Salve mundi domine»[18], где Фридрих был вознесен превыше всех других царей, а иго царствования его, говорилось, было сладчайшее. Но не желая доверять стихи случайному посланцу, решил отправиться в Италию, где за то время произошло немало событий, которые он, по их количеству, затруднялся пересказать для Никиты. – Рейнальд жизнь свою положил на прославление императора в облике повелителя всего света, мирного господина, прообраза законов, не подчиненного никаким законам, rex и sacerdos в едином лице, нового Мельхиседека, а следовательно, ему не миновать было ссоры с папой. И впрямь, приблизительно когда осаждали Кремону, скончался папа Адриан, тот самый, что короновал Фридриха в Риме, и больше половины кардиналов проголосовало за кардинала Бандинелли, чтоб он стал папой Александром Третьим. Рейнальду это было очень и очень некстати, поскольку они с Бандинелли ругались хуже кошки с собакой, и тот за превосходство пап над императорами ратовал с пеной у рта. Не знаю, как уж там интриговал Рейнальд, но ему удалось добиться, чтоб остальные кардиналы и члены сената выбрали совсем другого папу, Виктора Четвертого: им-то Рейнальд и Фридрих могли вертеть как угодно. Конечно же, Александр Третий моментально отлучил от церкви и Фридриха и Виктора... Тут уже не сошла бы обычная отговорка, что этот-де Александр не настоящий папа, и отлученье, им объявленное, несерьезно... Как на грех, французский с английским короли подумывали, не признать ли им Александра. А итальянские города, разумеется, восприняли такого папу как большой подарок: он объявил, что император еретик, а следовательно, императору совсем не обязательно подчиняться. В довершение всего доносились дальние слухи, что Александр столковывается с вашим василевсом Мануилом, ища для опоры империю еще покрупнее священноримскои. Ежели Рейнальду требовалось, чтоб Фридрих выглядел единственным наследником римских кесарей, необходимо было выставить наглядное доказательство их прямого преемства. Вот зачем он усадил за работу всех, в том числе Поэта... Никите трудно было следить за запутанной хроникой Баудолино. У него не только было чувство, что и рассказчик не уверен в очередности фактов; он еще и поражался, до чего одинаковы все поступки Фридриха, совершенные в различные годы. Толком не уяснив, Никита терялся, в каком году миланцы успели заново вооружиться, в каком году они опять объявили войну Лоди, в каком году император начал очередной итальянский поход. Была бы это летопись, – рассуждал он сам с собою, – можно было бы открывать ее наугад. На каждой странице рассказывалось бы одно и то же. Будто во сне, когда повторяется одна сцена и все не удается пробудиться. Никита понял только одно: что в последующие два года миланцы снова умудрились насолить императору своими наскоками и нападками, и потеряв терпенье, Фридрих, вкупе с Новарой, и с Асти, и с Верчелли, и с монферратским маркизом, с маркизом Маласпина, с графом Бьяндрате, с ополчениями Комо, Лоди, Бергамо, Кремоны, Павии и еще с какими-то союзниками, обложил осадою Милан. Одним весенним и приятным утром Баудолино, достигший возраста двадцати лет, везя с собой на груди «Salve mundi domine» для Поэта и переписку с Беатрисой (боязно было оставлять ее в Париже в распоряжении домовых воров), предстал под стенами этого города. – Надеюсь, что под Миланом император проявил себя лучше, чем под Кремой, – вставил свое Никита. – Он проявил себя хуже, как я узнал по приезде. Велел вырвать глаза шести военнопленным из Мельцо и Ронкате, а пленному миланцу – вырвать только один, чтобы он повел всех остальных в Милан за собою, но для равности ему отрезали нос. Когда ловили тех, кто пытался провезти в Милан провизию, им отрубали руки. – Ага, вот видишь, глаза и у вас выкалывают! – Простонародью! Но не синьорам же, как у вас! Вдобавок они были враги, а не братья родные. – Ты его оправдываешь? – Сейчас да, тогда нет. Тогда я негодовал. Не хотел даже с ним здороваться. Но потом пришлось идти с приветствием. Не было иного выхода. Император, его встречая после долгой разлуки, весело раскрыл объятия, но Баудолино не сумел сдержаться. Он отстранился с плачем, говоря, что тот-де злой человек, напрасно притязающий быть прообразом закона, поскольку ведет себя беззаконно, и ему-де стыдно именоваться сыном человека, не гнушающегося мясничать над людьми. Любому, кто посмел бы адресовать к нему такие речи, было бы велено вырвать не только глаза и нос, но и уши. Однако слыша это от Баудолино, Фридрих был потрясен и даже попробовал оправдаться. – Они сопротивлялись, сопротивлялись закону, Баудолино, а ты мне первый сказал, что закон – это я сам. Не могу простить их. Не могу быть добрым с ними. Долг вынудил меня к немилосердию. Думаешь, мне так уж приятно? – А если тебе не приятно это, отец, почто истребил этих пленных в позапрошлом году под Кремой, почто изувечил миланцев, и не в бою, а на холодную голову, ради принципа, ради мести, бесчестя себя самого? – А, так ты следил за моими действиями? Как Рагевин? Ну знай же: не для принципа, а в целях примера. Это единственный способ побороть непокорное отродье! Думаешь, Цезарь или Август были добрее? А война, Баудолино, думаешь, тебе известно, что есть война? Ты прохлаждаешься с книжечками в Париже, но когда ты вернешься, знаешь, кем я тебя назначу? Министериалом, а вполне возможно, и рыцарем! Собираешься скакать в свите святоримского императора и не запачкивать рук? Ты гнушаешься крови? Ну, сознайся! Я тебя отправлю к монахам. Но тогда придется блюсти целомудрие, заруби себе, а мне тут рассказывали про твои такие парижские выходки, что куда там в монахи... Как, скажи, ты схлопотал шрам на роже? Удивительно еще, что на роже, не на заднице! – Ты посылал за мной шпионов в Париж, а мне без всяких шпионов на всех углах докладывали, что ты вытворял в Адрианополе. Лучше уж мои игры с парижскими мужьями, чем твои с византийскими монахами. Фридрих остолбенел, бледнея. Он прекрасно понял, о чем говорит Баудолино (слышавший этот эпизод от Оттона). Будучи еще свевским герцогом, Фридрих принял крест и участие во втором заморском походе: оказывал помощь христианскому царю Иерусалима. Вот, пока крещеное воинство с трудностями пробивалось вперед, где-то под Адрианополем кто-то из ближних дворян, отбившийся от эшелона, был ограблен и убит – вероятно, местными бандитами. Отношения латинян с византийцами к тому времени были уже очень испорчены, так что Фридрих принял происшествие как вызов. Что было в Креме, то и здесь, ярость его оказалась безудержной, армия ворвалась в первый попавшийся монастырь и перебила всех монахов в монастыре. Этим было запятнано доброе имя Фридриха. Все делали вид, будто забыли мрачный случай, даже Оттон в «Gesta Federici» обошел его молчанием, описавши вместо этого, как юный герцог чудом спасся от сильного наводнения у Константинополя, и подчеркнув: это был знак, что провидение не отказало ему в сопутствии. Но не забывал сам Барбаросса. Что царапина на душе от позорного поступка не заживилась, было ясно по его ответу. Император побелел, заалел, поднял бронзовый подсвечник и ринулся на Баудолино, будто хотел убить. С трудом на последнем шаге удержался, опустил канделябр, отпустил схваченного Баудолино и произнес сквозь сжатые зубы: – Во имя всех дьяволов ада, ты больше никогда не повторишь того, что сказал сейчас. – Он пошел из шатра, на пороге обернулся: – Повидайся с императрицей, потом можешь бабиться со своими парижскими студентами. – Я тебе дам бабиться... покажу с кем имеешь дело, – бормотал Баудолино отъезжая из лагеря, хотя не сильно понимал и сам, с кем имеет дело Фридрих, только чувствуя, что ненавидит приемного отца и что хотел бы отомстить ему. Все еще в бешенстве, он пришел в апартаменты Беатрисы. Приложился к подолу ее платья, лобызнул императрице руку, она с удивлением увидела шрам, озабоченно спросила откуда. Баудолино небрежно отвечал, что перемолвился с разбойниками на дороге, дело житейское в путешествии... Беатриса глянула на него с восторгом, и надо сказать, что, двадцатилетний и львиноликий, он выглядел еще мужественнее благодаря шраму и вообще стал что называется «видный кавалер». Императрица пригласила его садиться и рассказать, где он был, что видел. Тем временем она с улыбкой вышивала, севши под грациозным балдахином. Он, примостившись у ее подножья, рассказывал, сам не соображая, что говорит, и силясь утишить задор. Но покуда текли воспоминания, он залюбовался, взглядывая от низу, ее наклоненным лицом, бесконечно миловидным, и почувствовал в душе все те же страсти, что томили его на протяжении лет. Нет, не те же, другие! В сто раз сильнее. Тут Беатриса сказала, прибавив соблазнительнейшую из улыбок, – Но ты не сдержал своего слова, не писал писем, как я наказала. Как мне хотелось. Может быть, в ее речах была обычная сестринская забота, может, она хотела только оживить разговор, но для Баудолино любые слова Беатрисы были настоящий бальзам пополам с ядом. И тогда он трясущимися руками вынул из-за пазухи свои к ней письма и ее к нему и, протягивая, прошептал: – Я писал, писал немало, и ты, о Госпожа, часто отвечала мне. Беатриса не могла понять, приняла листы, начала читать тихо вслух, пытаясь уяснить перекличку этих двух почерков. Баудолино в двух шагах от нее ломал руки, обливался потом, сознавая, что это безумие, что сейчас его вытолкают вон, вызовут стражников, сожалея, что при нем нет ножа, нечем пронзить себе сердце. Беатриса продолжала читать, ее щеки становились алее, голос вздрагивал, когда она произносила огненные словеса, будто служа богохульную мессу; она встала, дважды качнулась, дважды оттолкнув Баудолино, подскочившего, чтоб поддержать ее, а потом сказала почти без голоса: – Мальчик, мальчик, что же ты наделал, а? Баудолино приник к ней опять, чтоб отнять листы, объятый трепетом, и вся в трепете она протянула руку, лаская его волосы, он повернулся вбок, заглядывая ей в глаза, она кончиками пальцев провела по его шраму. Чтоб не обжечься от этих пальцев, он снова решительно вывернул шею, но Беатриса оказалась слишком близко, они столкнулись буквально нос к носу. Баудолино завел за спину руки, чтоб избежать объятия, но губы его прикоснулись к ее губам, а прикоснувшись, и приоткрылись, так лишь на миг, на один только самый короткий миг был поцелуй приоткрытыми губами, между которыми сблизились и приласкались один к другому также их языки. По истечении мимолетной вечности императрица отшатнулась, бледная, будто в болезненном приступе, и глядя Баудолино в лицо, четко и жестко произнесла: – Во имя всех ангелов рая, ты больше никогда не повторишь того, что сделал сейчас. Она сказала это без гнева, почти без чувства, в забытьи. Потом ее очи наполнились влагой и она добавила тихо: – Пожалуйста! Баудолино отвесил поклон, почти что ударивши лбом о камни пола, и вышел прочь, не понимая, куда несут ноги. Позднее он осознал, что в краткий миг совершил четыре преступления: оскорбил величество императрицы; прелюбодействовал; предал доверие отца; и вдобавок ко всему поддался подлому искушению – жажде мести. – В мести ли дело? – спрашивал он себя, пытаясь понять. – Если бы Фридрих не осквернился кровопролитием, если бы он не обидел меня и если бы я не ощутил в сердце позыв ко мщению, сделал бы я то, что сделано? – Предпочитая не отвечать себе, он понимал, что выйди ответ тем самым ответом, которого он боится, значит, он совершил и пятый, и самый ужасный, грех: несмываемо опорочил добродетель своего идола из-за раздражения. То, что являлось постоянным смыслом его жизни, он использовал, выходит, вместо орудия зла. – Государь мой Никита, это сомнение продолжало терзать меня год от году, хотя я не забывал душераздирающую прелесть тех минут. Все отъявленнее влюбленный, но теперь уже без надежды, даже без упованья на грезу, я жил, зная, что когда я обрету прощение, ее образу суждено исчезнуть даже из снов. В общем, говорил я себе в часы частых долгих бессонниц, ты уже имел все; большего желать ты не можешь. – Ночь сходила на Константинополь, небо не краснело. Огонь, надо думать, утих, лишь на некоторых далеких холмах замечались не языки пламен, а отсветы пожарищ. Никита приказал подать два кубка медового вина. Баудолино отхлебнул, глаза его блуждали в непроницаемой дали. – Фасосское вино. Внутрь амфоры кладется мучное тесто, замешенное с медом. После брожения крепкое, душистое вино подливают к более тонкому. Правда же, приятная сладость? – Приятная, – ответил Баудолино, все еще думая о своем. Он поставил чашу. – Тем же самым вечером, – кончил он свой рассказ, – я на всю остальную жизнь зарекся осуждать Фридриха, потому что я был виновнее его. Преступнее отсекать пленным носы или целовать в губы жену своего благодавца? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|||||||