 |
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Желязны Роджер :: Лондон Джек Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Язва :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Игры по-королевски (Близко, около звёзд - 2) :: The Boarding House :: Задача профессора Неддринга :: Утопия усталого человека :: Алмазная история - 1 :: Зловещий священник |
Дивные пещерыModernLib.Net / Советская классика / Дубровин Евгений Пантелеевич / Дивные пещеры - Чтение (стр. 19)
Солнце уже припекало вовсю. Сегодня должен быть по-настоящему жаркий день. Как это здорово… Длинный, длинный жаркий день… Есть ли еще что-нибудь более прекрасное, чем длинный жаркий день в средней русской полосе? День, медленно текущий, словно река, окаймленная плакучими ивами, нежными наивными березками, надменными, самоуверенными елями, круглыми студеными озерами, мятными лугами… И над всем этим небо с разбросанными по нему редкими голубиными перьями; бездонное голубое небо… Небо, наполненное звуками детства? Рудаков лег на спину, вытянул ноги в мягкую мокрую траву болотца, закрыл глаза и стал слушать небо. Небо молчало. Неужели права Нина, он слишком стар и огрубел душой? С самого детства он не слушал небо, а сегодня вот уже второй раз… И вдруг он опять услышал голос отца, которого он не помнил. На этот раз отец говорил что-то взволнованно, горячо, и взволнованно и горячо отвечала ему мать. Рудаков не мог разобрать слов, он только понимал, что они говорят о нем, о своем сыне. Семен Петрович пытался проникнуть в смысл разговора и не мог. Потом голос отца затих, замер, растаял в небе, и послышался страшный, отчаянный крик матери. И этот крик, как и голос отца, Рудаков никогда до этого не вспоминал и не видел во сне. Что это было? Никогда не дано узнать… Семен Петрович только знал, что это относится к нему… К его жизни. Может быть, это было предсмертное завещание отца? Какое? О чем? Каким отец хотел видеть его, своего сына? Рудаков открыл глаза и встал. Ему не нравилась эта игра – слушать небо. Она тревожила душу. Нельзя безнаказанно заглядывать в детство. Да и зачем вспоминать Утро, когда уже скоро Вечер? Семен Петрович с лилией в руке побрел по дорожке к бухте Радости, стараясь вытравить из головы неприятные звуки, особенно крик матери. Тропинка вышла из болота, согрелась. По щиколоткам захлестала полынь. По мере того как Рудаков поднимался на скалу, полынь становилась меньше, чахлее, между кустиками залегла белая пыль. * * *
Остаток дня они провели в лугах. Нине захотелось собрать букет полевых цветов. Они переплыли реку, немного полежали на огромном пустом горячем пляже обсыхая, потом отряхнули друг другу спины от песка и пошли прямо по нескошенной траве к синеющему вдали лесу. Трава была мягкой, шелковистой, ноги скользили по ней, словно по натертому мастикой полу. В низинках трава закрывала их с головой. Один раз они даже потеряли друг друга. Под старой ветлой – первым форпостом близкого уже леса – они отдыхали. Уже близок был вечер. У травы появились тени, словно она загустела; движения стеблей стали трудными, вязкими. Фигурная тень от ветлы выползла из полянки и стала принюхиваться, присматриваться к лесу, словно животное, почуявшее родное стадо. И лес тоже насторожился, стал серьезнее, строже, но, конечно, не от тянущейся к нему тени ветлы, а от предчувствия ночи, тревожных, трудных снов, еще оставшихся от тех времен, когда он был папоротником и видел кошмары: бродивших внизу чудовищ, небо, расколотое зигзагами молний, океан, коварно таящийся за поворотом… Со стороны леса уже начало пахнуть вечером: сырым туманом и растревоженным родниками болотом. На опушках стала сгущаться синева. – Уже поздно идти в лес, – сказал Семен Петрович. – Надо до захода солнца успеть переплыть реку обратно Да и плохо там сейчас. В лесу хорошо только утром… – У меня красивое тело? – спросила Нина. – Да… – Я немного худая, но у меня все пропорционально, правда? – Да, все пропорционально. – А грудь, как у девочки. – Ты и есть девочка. Она лежала на копне травы, которую нарвал Семен Петрович, под голову она положила собранный большой букет цветов, и ее зеленые глаза терялись среди разноцветья. Рудаков сидел рядом, курил, стараясь пускать дым в сторону. – Если бы нас сейчас нарисовать – получилась бы хорошая картина. Необычная, много цвета. Как у импрессионистов. Но выставить ее нельзя. – Почему? – Я стыжусь своего тела… Правда, глупо? Мне кажется, что быть женщиной стыдно. Мне кажется, что в женском теле есть что-то вызывающее, порочное… Как это лучше выразить… Женское тело – это грех. Вот. – Женское тело – это самое совершенное, что создала природа. – Я знаю. Но все-таки мне так кажется. – Ты еще не женщина, поэтому так считаешь. У тебя тело женщины, но ты девочка. Потом ты будешь гордиться своим телом. – Я уже горжусь… немножко… Только ты не смотри на меня. – Я не смотрю… – Если бы полгода назад мне сказали… Что я вот так буду в траве… перед мужчиной… я бы страшно рассердилась… Лучше умереть… Но в траве как-то не так стыдно, среди цветов… Ведь они тоже раздетые. – Кто? – не понял Рудаков. – Цветы. – Цветы – раздетые? – Ну да… А ты не понимаешь? Как бы тебе объяснить… Они словно сняли с себя одежду и говорят; вот мы какие, мы все-все вам показываем… Мы раздетые… Нам немножко стыдно… И вообще, если подумать, все кажется таким необычным, полным скрытого смысла… Вот, например, эта ветла… Она очень несчастная? – Почему же несчастная? – Одинокая. Одна среди травы. А лес далеко. – Ей одной даже лучше. Больше света и корма. – Корма! Скажешь же… Да наплевать ей на корм, если она все время одна. Все время смотрит на лес, а у леса своих забот полон рот. Лесу ветла до лампочки. Тут целая трагедия. Понял? – Ты художница… по природе… Поэтому у тебя так развито воображение. – А разве ты никогда не думаешь над такими вещами? Семен Петрович покачал головой. Сигарета кончилась, и он закурил другую. На мгновение запахло сгоревшей спичкой. Ветер унес синее облачко, пригнул к траве, насильно заставил траву дышать табачным отравленным дымом. Главному бухгалтеру показалось, что трава дышит с отвращением. – Нет… никогда, – сказал Рудаков. – Мне хватало другого, о чем надо было думать. – О вещах? – Почему ты так решила? – Почти все думают о вещах. – Не только о вещах… Но, в общем, ты права. Больше всего, конечно, о вещах. Вообще… о жизни… – Что значит – думать о жизни? – Во всяком случае, не об одиночестве ветлы. – Подай мне платье. Семен Петрович протянул ей одежду. – Отвернись. Он повернулся к ней спиной. Теперь дым обвевал его лицо. Рудаков потушил сигарету. Иначе волосы будут пахнуть табаком и Нине будет неприятно его обнимать. – Застегни платье. Главный бухгалтер принялся неумело большими грубыми пальцами застегивать кнопочки на узкой спине. – Если бы я могла, я бы научила всех думать не о вещах, а о другом, более интересном. Но я не знаю, как это сделать. – Нина поправила волосы. – В жизни столько необычного, чудесного, а она так коротка… Не стоит ее отдавать лишь вещам… Ты доволен своей жизнью? Ты много прожил… По сравнению со мной… Я совсем мало… – Я не знаю… Нина встала и подала ему руку. – Нет, ты не увиливай. У тебя есть опыт, и ты должен им поделиться. У меня ведь только теория. Они пошли по траве к реке. Ветер к вечеру покрепчал, трава гнулась, словно кланялась им в пояс. – Моя жизнь, – сказал Семен Петрович задумчиво, – делится на две неравные части. До встречи с тобой и после. Мой опыт до встречи с тобой не представляет для тебя никакой ценности. В общем это борьба за существование. Но борьба какая-то неинтересная, тусклая, без особых происшествий. Прожил год с прибылью, и хорошо. – Что значит «с прибылью»? – Ну продвинулся по службе… построил сарай… родил сына… купил телевизор… вырастил на огороде хорошую картошку… Да мало ли что… – Но это же страшно скучно. – Так живет большинство моих знакомых, и я не знал, как надо по-другому. Я был доволен… У меня имелось все, что я хотел… Оставалось только достойно встретить и проводить старость. Мне уже пятьдесят два… А тут появилась ты… Все изменилось… Вроде бы как засверкало… Даже не засверкало… Как это сказать… Ага… переоценка ценностей… То, что раньше было ценным, – оказалось пустяком. Дом, например, сад… моя должность… деньги. А твоя улыбка, шепот ветра, заря вдруг стали очень важными – это удивительно… Вот старый дурак… Не знаю, как это и называется… – Название известно очень давно. – Я думал, ее нет. Выдумали такие, как ты, художники, писатели. А остальные подхватили и придуриваются. Вот мой первый опыт. Тебе он нужен? – Нет. – Вторая часть жизни очень короткая… С зимы… С того вечера в санатории… Безумства старого дурака… Нужно? – Тоже нет. У меня свой опыт. Его хватит на двоих. Потому что я старше тебя. – На тридцать лет? – На миллионы. Ты забыл, что я женщина. Прародительница жизни. – Ах, извини. Слушай, женщина, ты забыла свой букет. – Я не забыла. Он больше мне не нужен. Сослужил свою службу… Знаешь что, давай поговорим о более важных вещах. – Разве мы говорим не о важных вещах? – О важных… Но теперь все это не имеет никакого значения. – Почему? – удивился Рудаков. – Да так… То все теория, а нам надо поговорить о деле. – Говори… – Сердце Семена Петровича екнуло от нехорошего предчувствия. – Сеня, я ждала тебя в тот вечер на танцах… В санатории. – Как это ждала? – удивился Семен Петрович. – Так… Я знала, что приедешь. – Знала? Откуда? – Меня предупредил Евгений Семенович Громов… Ваш главный инженер. Знаешь такого? – Знаю, конечно… Почему же он тогда ничего мне не сказал? Странно… – Ничего странного нет. Он попросил меня, чтобы я занялась тобой… Рудаков долго шел молча. – Как это – занялась? – спросил он наконец глухо. – Ну, чтобы ты… влюбился в меня… – Зачем это ему было нужно? – Не знаю… Но мне казалось, что он хочет как-то связать тебя, сделать покладистей, ближе к себе… Ты его опасайся, Сеня… Это нехороший человек… Он устроил мою маму к себе на завод – обещал повышение, квартиру… а взамен видишь; чтобы я занялась тобой… Мама скоро умерла… – А договор остался? – Как хорошо, что он привез тебя… Ты меня прощаешь? – Прощаю. Это и все твои тайны? – Да… Остальное ты все знаешь… Я так боялась, что ты меня не простишь… – Я прощаю. Это ерунда… Они подошли к реке. От скалы, как на Нининой картине, через реку, через пляж, по траве тянулась к лесу длинная черная тень. – Сеня, – сказала Нина, – спасибо за этот день. Это мой самый счастливый день. Утром Нина сказала: – Ты иди один загорай. – Почему? – Мне надо побыть одной. – Я тебе надоел? – Нет. Но мне надо побыть одной. Рудаков вернулся в пещеру после полудня. Нины не было. Кровать аккуратно заправлена. Куда же она делась? И вдруг главный бухгалтер вздрогнул: возле решетки, что загораживала ход в Пещеры, лежали Нинино пальто, платок… Рудаков рванулся к ходу, схватил пальто, платок… Что здесь произошло? Нет, крови не видно… пальто и платок лежат спокойно, они не носят следов насилия или спешки. Их сняла сама Нина. Сняла и аккуратно положила возле решетки… Зачем? Чтобы переодеться в другое? Чепуха. И почему одежда осталась лежать на этом месте? Семен Петрович уже знал ответ на эти вопросы. Тщательно, сантиметр за сантиметром главный бухгалтер стал исследовать пещеру. Знакомые вещи… Все знакомое, все или принесенное из дома, или сработанное его руками здесь… Но того, чего искал Рудаков, не было. Это ведь невозможно… Записка должна где-то лежать. Она не могла уйти, не оставив записки… Нигде ни клочка бумаги… Все на своих местах… И все-таки в пещере что-то изменилось. Все было на своих местах, но что-то изменилось. Рудаков стал посередине их «комнаты», уже автоматически вновь и вновь водя лучом фонарика. И вдруг он увидел, что изменилось. Изменилась картина над столом. 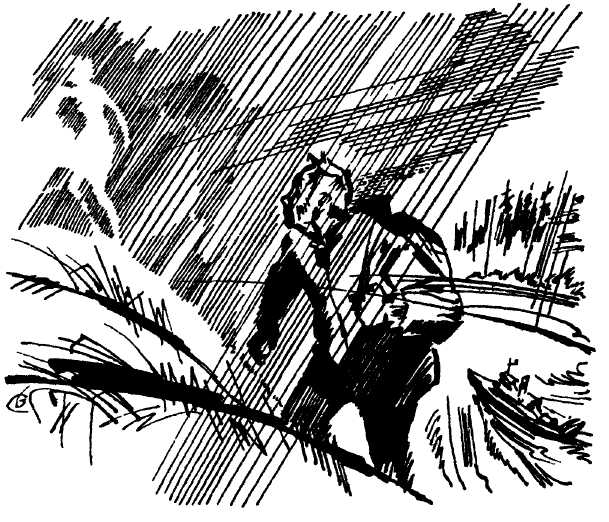
Картина, которую он не любил и боялся. То есть картина осталась, только чуть-чуть стала иной. Не было тени от скалы. Тени не было потому, что теперь на картине стоял полдень. Полдень вместо вечера. А в полдень тени не бывает… Скала возвышалась вся освещенная солнцем, сверкающая, как айсберг, посередине голубой реки, голубого неба. Вообще-то по правилам тень уже должна зародиться у основания скалы, но ее не было. Даже намека. Сияло ослепительное солнце, сияла скала, голубело бездонное знойное небо; небо, откуда прилетают звуки детства… И было еще одно изменение, которое сразу не бросилось Семену Петровичу в глаза. Не бросилось, ибо он не мог даже предположить, что такое возможно. Мужчина лежал на пляже один! Он лежал в свободной позе, с наслаждением отдаваясь солнцу, ветру, своим мыслям. От женщины не осталось даже следа. Ни вмятины, ни одежды, ничего. Она исчезла, вроде бы ее никогда и не было. Семен Петрович бессильно опустил руку с фонариком. Вот почему не было записки… – Нина! – крикнул Рудаков. Крикнул негромко. Он знал, что ничего не услышит в ответ. Потом Рудаков попытался выломать решетку. Он бил и бил в решетку плечом, пока плечо не заныло. Стальные прутья даже не погнулись. Сделано на совесть. Все, что делал Семен Петрович, делалось на совесть. И только потом, когда разболелось плечо, главный бухгалтер удивился. Как же она могла уйти, не повредив решетки? Он еще и еще раз осматривал заделанный проход. Нет, это невозможно… Надежная стальная решетка… Неужели она проскользнула в квадрат… Она же совсем худенькая… Сняла пальто и проскользнула между прутьев, как ласка?.. В Пещерах не надо иметь пальто… Там постоянная температура… И идет сейчас торопливым шагом по узким ходам?.. Или уже лежит на дне колодца? Он сам замуровал ее от себя. Рудаков закурил и вышел на улицу. Теперь можно курить… Семен Петрович спустился к бухте Радости. На скале смутно проступало ее лицо. Рядом с его лицом. Он повернулся спиной к скале. Река тихо плескалась у берега, шуршала дождем. Рудаков вылил остатки водки в стакан, выпил. Потом бросил стакан в реку. Постоял, не зная, что делать дальше. Было тихо. Шорох реки сливался с шорохом неба. В небе таились какие-то звуки, звуки детства… Так что хотел сказать отец матери? Каким он хотел видеть сына? Теперь этого никогда не узнаешь… Вдруг возник еще один звук. Со стороны хутора ветер принес звучание радио. Передавалась какая-то медленная мелодия. Семен Петрович повернулся лицом к хутору. Мелодия удивительно точно передавала его настроение, сжимала сердце… Рудаков простоял долго на берегу, повернув мокрое от слез лицо к хутору, удивляясь новому ощущению. Раньше его никогда не трогала музыка. Она его даже раздражала. Семен Петрович всегда выключал телевизор или радио, едва раздавались первые звуки. Мелодия затихла, словно затерялась. Главный бухгалтер постоял еще немного, напрягая слух, но так больше ничего и не услышал. Потом он с трудом побрел в гору… 9. СУД Семен Петрович едва вошел во двор, как через изгородь его окликнул сосед. С соседом у главного бухгалтера были добрые отношения. Они работали на одном заводе, хотя и в разных местах, сосед – слесарем-сборщиком, были приблизительно одного возраста и помогали друг другу чем могли. Сосед относился к той части петровцев, которая верила, что жена Семена Петровича сама куда-то ушла из дома, а не была убита своим мужем. – Эй, Петрович! – окликнул сосед негромко. – Подойди, разговор есть. Рудаков подошел к изгороди. – На рыбалке был? – Ага… – Поймал что? – Да так… – Слушай, – сосед понизил голос. Он был маленький, толстенький, с жидкой бороденкой, с тихим голосом, похожий на гнома. – У тебя опять рыли… – Как? – удивился Рудаков. – В выходные они не роют. – А вот рыли… – Странно… – пробормотал главный бухгалтер. – Знаешь почему? – сосед-гном оглянулся по сторонам, и голос его стал едва слышным. – Мальчишки копались у тебя в старой яме, той, что в самом углу сада, и нашли кость… – Что еще за кость? – Человечья… – Да брось ты, – махнул рукой Семен Петрович. – Плетешь невесть что. – Чтоб мне провалиться на месте! Сам видел… Берцовая, что ли. Они тут ее таскали по всей улице, а потом кто-то надоумил снести в милицию… – Ну и что? – Что… Те опять рыть стали и еще несколько штук нашли… Брешут, тут же в Суходольск на экспертизу отправили. – Вот так дела… – Семен Петрович растерянно уставился на соседа. Тот отвел в сторону глаза. – Брать тебя, наверно, будут, Петрович… – За что брать… Не за что брать… А брать – так пусть берут… – Рудаков направился к крыльцу. – Обождь… Слышь, Петрович… Мы уж с тобой почти тридцать лет знакомы… – Сосед заговорил свистящим шепотом, чтобы покрыть расстояние в два шага. – И никогда черной кошки не перебегало… Вроде бы и дружили… Откройся мне, Петрович… Было дело? Если было, я никому… Может, тебе спрятать что надо… Меня обыскивать не будут… – Мешок с отрубленной головой спрятать надо, – сказал Семен Петрович. – Ну?! – выдохнул сосед. – Вот тебе и «ну»… Дурак ты, Еремыч. – Так я ж по-соседски… – Хоть бы и по-соседски… Сказал бы я тебе, даже если б было дело? А? Подумай своей головой. Еремыч почесал в затылке. – Да вроде бы не сказал… – Что ж ты тогда… Мой крест – мне и нести. – Это уж точно… – Сосед крякнул, опять почесал в затылке. По его лицу было видно, что он еще что-то хотел сказать Семену Петровичу. Рудаков ждал. – Слушай, Петрович… Давай хоть вещи какие заберу… Передам потом твоей полюбовнице… Растащат ведь все… Слетелись уже. С утра, как только кости нашли, бегают к тебе твои родственнички… И сейчас сидят. Часа два уже сидят. Ждут тебя. Обдерут как липку, не достанется ничего твоей девчонке. Сделай разумное дело, Петрович. Я все честно сохраню и отдам. Сам отвезу. Ты только адрес дай. Малинник оказался поврежденным несильно. Две новые ямы зияли как раз между двумя яблонями, там малины было совсем мало. Пахло свежей землей и раздавленными опавшими листьями. Так пахнет на кладбище осенью возле только что вырытой могилы. * * *
Сосед не обманул. В доме в самом деле его ждали. Дочка Варя, ее муж, добродушный толстяк Иван; брат мужа Илья, как всегда, тощий, синий, озабоченный, и сын дочки, его, Рудакова, внук Олежка. Варя знала, куда он прятал ключ – иногда она прибегала в свободное время прибрать в доме, постирать – и вот сейчас навела, значит, полный дом гостей. Гости, видно, ждали его давно. На столе стояла почти выпитая бутылка водки, лежала закуска: помидоры, колбаса, сало, хлеб, рыбные консервы. Они сидели вокруг стола и о чем-то горячо спорили; когда хлопнула дверь, разговор прервался на полуслове, и все уставились на Семена Петровича. Только Олежка не поднял головы, он продолжал стругать какую-то палочку – в свои семь лет внук был самостоятельным, хозяйственным человеком. – Здорово, – сказал Рудаков и бросил рюкзак в угол, к печке. – Как я вижу, заждались. – Да, почитай, с утра сидим, – пробасил добродушно Иван. Илья и внук Олежка ничего не ответили. Дочка подошла к нему тяжелой походкой и помогла раздеться. – Руки мыть будешь? На рыбалке был? Вижу – ничего не поймал… Семен Петрович промолчал. Он помыл руки, вытер протянутым дочерью полотенцем, сел к столу. – Ты бы хоть картошки пожарила, – сказал он дочери. – Сидите на сухомятке. – Да все думали, что ты вот-вот придешь. – Варька, дуй в магазин, – сказал добряк Иван, отдуваясь и поглаживая толстый живот. – Не надо, у меня есть. – Рудаков подошел к шкафу, вынул бутылку. Варя и Иван чокнулись с Семеном Петровичем стаканами, Илья же сделал вид, что чокается, но не чокнулся. Свою долю он только пригубил. Рудаков закусил помидором и оглядел своих родственников. Вид у них был встревоженный и озабоченный. Особенно у Ильи. Лицо его сегодня было особенно синим, спина еще больше сгорбилась, и только большие черные глаза, как всегда, поблескивали нетерпеливым, лихорадочным блеском. «Ух и жаден, до чего же человек жаден», – как всегда, удивился Рудаков. Он знал, что его родственник жаден, постоянно помнил об этом, но при встрече все равно удивлялся, до какой степени может быть жаден человек. Илья работал пекарем на хлебозаводе, имел корову, телку, штук тридцать гусей, большое количество уток, кур, откармливал каждый год два поросенка, работал как черт и на заводе и дома, сорвал легкие, сердце, но ему все равно было мало. Мало денег, сада, дома, хозяйства, мотоцикла, шелка (Илья почему-то скупал в магазинах рулонами шелк. «Шелк всегда в цене будет», – говорил он). Вот и сейчас Семен Петрович не сомневался, что инициатором этого посещения был Илья. – Странно, что ты ничего не поймал, – сказал добряк Иван, методично, кусок за куском уничтожая колбасу. – Осенью щука хорошо берет. Муж дочери явно старался оттянуть начало неприятного разговора. Иван тоже считался хозяйственным мужиком, у него ничего не пропадало, но жадным он не был, добро как-то само к нему липло. Деньги у него всегда водились, хватало и на гулянки, которые Иван очень любил, и на машину, и на югославский гарнитур, и на один из первых в Петровске цветной телевизор. Сад у Ивана был лучшим в городе, ранней весной под пленкой он выращивал огурцы и тюльпаны на продажу, выручая большие деньги, но все-таки жадным его нельзя назвать. У Ивана можно было занять денег, у Ильи же – нечего и думать. Для кого копил деньги Илья, было неизвестно – он не имел детей; Варя же и Иван копили для Олежки. Они клали деньги на сберкнижку на его имя, покупали вещи «на свадьбу». Причем Олежка был полностью в курсе дела и относился к процессу накопления вполне серьезно. – Ладно про щук. – Семен Петрович доел помидор, вытер ладонью губы и положил тяжелые кулаки на стол. – Зачем пришли? – Ты что, батя, к тебе уж и в гости прийти нельзя? – сказала неискренним голосом Варя. – Совсем отшельником стал, – поддержал жену Иван. – Пришли тебя развеселить. – Может, и вправду картошки нажарить? – спросила дочь. – Я мигом… – Не суетись, Варька, – остановил ее Илья. – Хватит трепаться. Давайте потолкуем о деле. – Спешишь ты все, Илья, – укоризненно заметил Иван. – С утра здесь сидим, – огрызнулся Илья. – Да и прийти каждый момент могут. – Это кто же сюда придет? – спросил Рудаков, хотя уже знал, кого имеет в виду его нетерпеливый родственник. – Милиция. Вот кто. – Милиция? – Ну, да. Не прикидывайся дурачком, Семен. Сосед ведь рассказал – в окно видели. Знаешь, что нашли у тебя в саду? – Знаю. – Чего ж тогда треплешься? – закричал Илья. – Чего дурочку валяешь? Времени нет дурочку валять! Рудаков проткнул вилкой кусок колбасы, откусил и стал медленно жевать. – А чего ты больше всех волнуешься? – спросил он спокойно. – Не пойму я что-то, почему тебе больше всех надо? Ты что, брат мне или, может быть, следователь? – Не брат и не следователь, а я за твою дочь болею. – Так пусть дочь и говорит, – сказал Семен Петрович. – Она у меня не немая. А мы послушаем. И ты, Илья, послушай. – Правильно рассудил, – пропыхтел Иван. – Пусть Варька и говорит. – Говори, мать, – неожиданно поддержал Олежка, который вроде бы и не слушал разговора, а стругал палочку. – Почему я? – смутилась дочь. – Пусть Илья. Он больше в таких делах понимает. – Давай, Варюшка, – подбодрил Семен Петрович и посмотрел на дочь. У него с дочерью были хорошие отношения. Варюшка даже к матери относилась хуже, чем к нему. Она сидела за столом грузная, потерявшая за едой и работой всякую женственность, и только ее круглое без морщин лицо светилось девичьим румянцем. – В общем, так, батя… Мы и раньше думали… А вот сейчас, когда нашли… Мы, конечно, не верим, что ты… что мама… Но как-то все складно получается… Забрать тебя могут, батя… Ты бы решил с домом и вообще… со всем имуществом… Так, на всякий случай… А то если, не дай бог, заберут, то и конфискуют все… Так люди говорят. Все это Варя выдавила с трудом, опустив голову и до ушей залившись краской. Чтобы скрыть смущение, она сделала вид, что отряхивает с коленей крошки. «Лицо, как у матери, – подумал Семен Петрович, – только моложе, и грудь, и руки… Копия матери. И судьба такая же: работа, дом, дети, муж. Потом то же самое будет у Олежки… Они его готовят к этому…» После исчезновения матери Варя часто прибегала, плакала, суетилась, предпринимала какие-то розыски, но ни разу не усомнилась в словах отца, какие только сплетни ей ни приходилось слышать. Наоборот – она даже утешала Семена Петровича, робко осуждала мать. Иван деликатно молчал. Илья тоже молчал, но молчание его имело какое-то заговорщическое значение. Иногда и прежде при случайных встречах Семен Петрович ловил трезвый, проницательный взгляд Ильи (Илья из-за болезни почти не пил), и главному бухгалтеру даже казалось, что тот смотрит на него с завистью. Дескать, и ловкач ты, Семен. Здорово решил все вопросы: и от старухи освободился, и добро себе хапнул. Он будто бы подмигивал красным веком: меня, мол, парень, не бойся, я тебя не выдам, хоть и насквозь вижу. Рудакову был неприятен этот пристальный взгляд, он его не выдерживал, поспешно опускал глаза. Теперь обстоятельства изменились. Дом и сад стали соблазнительной приманкой. – Ну что ж, – сказал Рудаков. – Давайте решим все сразу и разойдемся. Вы устали, да и мне спать хочется. Думаю, что меня не посадят, поскольку я ни в чем не виноват. Откуда взялись кости – не знаю, говорю вам как на духу… – Тебя никто и не винит, – поспешно ввернул Иван. – Но улики, – перебил его Илья. – Ты что, идиот? Все улики против него. Виноват, не виноват – это теперь не имеет никакого значения. Семен Петрович поймал взгляд Ильи. Теперь в нем не было ни зависти, ни сообщничества. Только злоба. Злоба и жадность. – Улики, конечно… – пробормотал Иван. – Дайте мне досказать до конца, – сказал Семен Петрович. – Я не виноват. Но бывает, что судят и невиновного. Если совпадают улики. Тут я согласен – сейчас все улики против меня. Даже чересчур. По-моему, с костями – это чересчур. Кому-то я, видно, мешаю, вот и появились кости. Но это мое личное мнение. Думаю, что следствие разберется… – А если не разберется? – Илья не спускал с Рудакова своего нетерпеливого взгляда. – Думаю, что разберется. Ну а если не разберется… Тогда вот что я решил. Имущество у меня отбирать не будут, оно нажито честно, не награбленное. Дочь у меня обеспеченная, сын тоже… Поэтому я решил подписать, если меня… приговорят… все музею… Пусть откроется в Петровске музей. И будет он в моем доме. Повесят картины, может быть, даже оригинальные, в саду поставят скульптуры… Выставки передвижные начнут приезжать, детишки в школе будут рисовать и лучшее здесь вывешивать. Все слушали этот бред, раскрыв рот. – Ты над нами не издевайся, – тихо сказал Илья. – Мы с утра тебя здесь дожидались не байки слушать. Подписывай дом дочери. На всякий случай. Мало ли чего. Мы к нотариусу домой ходили, он бумаги, какие надо, дал. Варька заполнила уж все. Тебе подписать только осталось. – Не то правда, что ли, бумаги заполнила? – спросил Семен Петрович дочь. – Это я так… образец, – смутилась Варя. – Хватит брехать, Варька! Мы тут не в кошки-мышки собрались играть. Надо дело делать, пока милиция за окном не появилась. Неси бумаги. Варвара послушно сходила к вешалке и вынула из кармана пальто скрученные в трубочку бумаги. – Вот… батя… Ты уж не обижайся… Это мы на всякий случай… а там, как ты решишь… – Что значит «как решишь»! – закричал Илья. – Одно решение! Только одно! Других нету! – Насчет музея я серьезно, – сказал Рудаков. У него это получилось как-то так, что все сразу поверили. Наступила тишина. Семен Петрович шуршал документами, разглядывая их. – Так… – протянул Илья. – Ясненько. Чего же вы молчите? Варька, скажи своему родителю! 
– Я уже сказала… – дочь уткнулась взглядом в пол. – Как батя решит, так и будет… – Вот тюха! – выругался Илья. – Даже за себя постоять не может! Ее грабят, а она… Иван, а ты чего молчишь? – Скажи ты… – пробормотал Иван. – Тьфу! Вот тюлени! Я-то тут при чем? Мне, что ли, надо? Я тут сбоку припека. Ну ладно, я скажу. Мне терять нечего. Я завсегда за правду. Вот что, Семен… Мы все знаем… – Что вы знаете? – Насчет этой твоей… с…ки. – Поосторожней в выражениях. – Виноват. Насчет молодухи. Что ты видишься с нею, и все такое. – Откуда ты это взял? – Весь город говорит. Шила в мешке не утаишь, И сейчас мы не верим, что ты на рыбалке был. Но это дело твое. – Точно. Мое дело. – Да. Это дело твое. Коль жены нет – ты птаха свободная. Можешь сколько угодно с ней миловаться, но добро семейное. Добро мы ей не отдадим. Мы-то знаем, что она под дом мылится. Сама нищая, вот и заарканила богатого старого дурака. – Свои догадки можешь оставить при себе, – сказал Рудаков. Он опять взял кусок колбасы и стал медленно жевать. – Это уже не догадки, а факт. Вишь ты как сейчас про музей запел. Знаем мы эти музеи. Ей добро отказать задумал. Вот отсюда и музей, и картины, и бюсты… Как же… художница великая, слыхали… – Откуда слыхали? – Да Варька у нее дома была. – Это правда? – главный бухгалтер повернулся к дочери. – Да… – прошептала Варя. – Когда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
|||||||