 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Станюкович Константин Михайлович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Полуночный маскарад :: Полет :: Омен. Последняя битва. :: 200 км танков. О российско-грузинской войне :: «Фирма приключений» :: Агнесса. Том 1 :: Ящик Пандоры |
120 дней СодомаModernLib.Net / Зарубежная проза и поэзия / Де Донасьен / 120 дней Содома - Чтение (стр. 10)
«А кто был длинный худой человек?» – спросила Дюкло. – «Он был посредником в этой авантюре, он работал не на себя». – «Но все же он упорно встречался с ней на протяжении шести месяцев», – сказала Дюкло. – «Для того, чтобы обмануть ее», – ответила Ла Дегранж, – но продолжай свой рассказ, подобные уточнения могут наскучить господам, эта история относится и ко мне; я дам еще в этом отчет». – «Увольте от ваших сентиментальностей, Дюкло, – сухо сказал Герцог, видя, что та с трудом сдерживает непрошенную слезу, – нам неведомы подобные сожаления, скорее мир перевернется, чем мы издадим хотя бы один нздох по этому поводу. Оставьте слезы для придурков и детей; пусть они никогда не запятнают щеки разумной женщины, которую мы уважаем». Услышав эти слова, наша героиня взяла себя в руки и продолжила свой рассказ:
«В силу причин, которые я только что объяснила, я и приняла свое решение, господа; госпожа Фурнье, которая предоставляла Мне неплохое жилье, совсем по-иному сервированный стол, гораздо более дорогие, хотя и более тяжелые партии, впрочем все при равном разделе и без каких-либо вычетов, тотчас же склонила меня к окончательному решению. В то время мадам Фурнье занимала целый дом, пять молоденьких и хорошеньких девиц составляли ее сераль; я стала шестой. Позвольте мне здесь поступить так же, как я делала с мадам Герэн, то есть описывать своих товарок по мере того, как они будут становиться персонажами какой-либо истории. На следующий день после моего прихода мне дали работу; клиенты валом валили к госпоже Фурнье, и каждая из нас зачастую имела ежедневно по пять-шесть гостей. Но я буду рассказывать вам, как это делала и раньше, лишь о тех партиях, которые могут привлечь ваше внимание своей пикантностью или необычностью. Первый мужчина, с которым я встретилась на новом месте, был рантье, человек лет пятидесяти. Он заставил меня встать на колени, наклонив голову к кровати, и, устроившись на кровати также на коленях надо мной, возбудил себе член у меня во рту, приказан мне держать рот широко открытым. Я не потеряла ни капли, развратник сильно позабавился, глядя на мои конвульсии и позывы к рвоте, которые вызывало у меня это отвратительное «полоскание горла». Если вам будет угодно, господа, – продолжила госпожа Дюкло, – то я расскажу еще о четырех приключениях подобного рода, которые случились со мной в доме у мадам Фурнье, хотя и в разное время. Я знаю, эти рассказы доставят немало удовольствия господину Дюрсе, он будет мне признателен за то, что я буду говорить об этом остаток вечера; это в его вкусе, который и позволил мне иметь честь познакомиться с ним м первый раз». «Как! – сказал Дюрсе. – Ты заставишь меня играть какую-то роль в твоей истории?» – «Если вы сочтете нужным, сударь, – ответила госпожа Дюкло, – следует лишь предупредить этих господ, когда ядойду до вас в своем рассказе». – «А мое целомудрие?.. Как! Перед всеми этими юными девицами ты так запросто раскроешь все мои мерзости?» – И когда каждый от души посмеялся над забавными опасениями финансиста, Дюкло продолжила такими словами: «Один распутник, гораздо более старый и более отвратительный, чем тот, о котором я только что рассказала, дал мне второе представление об этом пристрастии. Он заставил меня лечь совершенно голой на кровать, лег в противоположном направлении подле меня, сунул свой член мне в рот, а свой язык – мне в нору, и в таком положении он требовал от меня, чтобы я отвечала на его сладострастное щекотание, которое, как он считал, доставляет мне своим языком. Я сосала изо всех сил. Для него это было лишением невинности; он лизал, копался внутри и совершал эти маневры несомненно более для себя, чем для меня. Как бы там ни было, у меня это ничего не вызывало, я была счастлива, что не чувствую слишком большого отвращения; и вот распутник кончил; операция, которая по просьбе госпожи Фурнье, предупреждавшей меня обо всем заранее, так вот, операция, которую я его заставила совершить как можно сладострастнее, сжимая губы, сося, изо всех сил выжимая себе в рот тот сок, который он выделял, гладя рукой его ягодицы, чтобы пощекотать ему анус, что он велел мне делать, исполнив это со своей стороны, как только мог, – эта операция закончилась… Сделав дело, наш герой удалился, заверяя госпожу Фурнье, что ему никогда еще не поставляли девицы, которая сумела бы удовлетворить его лучше, чем я. Немного спустя после этого приключения мне стало любопытно узнать, зачем приходила сюда одна старая колдунья, которой было уже за семьдесят и которая, судя по всему, поджидала своего клиента; мне сказали, что, действительно, вскоре к ней должны прийти. Испытывая крайнее любопытство, чему может служить такая развалина, я спросила у своих товарок, не было ли у них в доме комнаты, откуда можно было бы подсматривать, как в доме госпожи Герэн. Одна из них мне ответила, что есть, и отвела меня туда; поскольку там хватало места на двоих, то мы встали там и вот что увидели и услышали; две комнаты разделяла тонкая перегородка, что позволяло не пропустить ни слова. Старуха пришла первой и, поглядев на себя в зеркало, прибралась, несомненно считая, что ее прелести еще будут иметь успех. Несколькими минутами позже мы увидели приход Дафниса к новоявленной Хлое. Ему было не больше шестидесяти; это был рантье, очень состоятельный человек, который предпочитал скорее тратить деньги на старую развалюху, как эта, чем на хорошеньких девиц; это происходило от особенности вкуса, который, судя по всему, господа, вам понятен и который вы хорошо объясняете. Он подходит, оглядывает с головы до ног свою Дульсинею, она делает ему глубокий реверанс. «Не стоит так церемониться, старая потаскуха, – говорит ей развратник, – да и разденься… Но давай сначала посмотрим, есть ли у тебя зубы?» – «Нет, сударь, у меня остался всего один, – говорит старуха, открывая свой беззубый рот… – взгляните сами». Тогда наш герой подходит и, схватив ее голову, запечатлевает ей самый страстный поцелуй, какой только мне доводилось видеть в жизни; он не только целовал, он сосал, пожирал, любовно щекотал языком самые глубины этой гниющей глотки, а старушонка, которая давно уже не переживала подобного рода праздника, отвечала на поцелуй с такой нежностью, которую мне было бы трудно описать вам. «Ну, давай, – сказал финансист, – раздевайся,» – он также снимает свои штаны и вытаскивает черный сморщенный член, который, казалось, не скоро подрастет. И вот старуха, уже голая, бесстыдно предлагает своему любовнику старое тело с желтом сморщенной кожей, все высохшее, обвисшее, тощее, описание которого, до чего бы вы не дошли в своих фантазиях, внушит вам столько отвращения; наш распутник впадает в экстаз; он хватает се, тащит в кресло, где возбуждал себя руками, ожидая, пока она разденется; он опять всовывает ей в рот язык и, развернув се, и течение какого-то мгновения воздаст почести обратной стороне медали. Я отчетливо вижу, как он теребит ей ягодицы, ну, да что я говорю, какие там ягодицы! Две сморщенные тряпки, которые волнами свисали с бедер на ляжки. И все же, какими бы они ни были, он их раздвинул, страстно припал губами к гнусной клоаке, которую они скрывали, несколько раз он засовывал туда свой язык; тем временем старуха пыталась придать немного твердости мертвому члену, который она трясла. «Приступим к делу, – сказал этот Селадон, – без моего излюбленного момента все твои усилия будут бесполезными. Тебя предупредили? – «Да, сударь.» – «И тебе известно, что надо глотать?» – «Да, мой песик, да, мой петушок, я проглочу, я сожру все, что ты сделаешь». Распутник тотчас кладет ее на кровать головой вниз; в этой позе он вкладывает ей в клюв свое вялое орудие, засовывает его по самые яйца, берет свою прелестницу за обе ноги, кладет их себе на плечи, и таким образом его рожа оказывается, что в нише, между ягодиц дуэньи. Его язык снова помещается в глубинах этого приятного отверстия; даже пчела, летящая собирать нектар с розы, не сосет так сладострастно. Тем временем старуха сосет, наш герой возбуждается. «Ах, твою мать! – кричит он спустя четверть часа после этого чувствительного упражнения, – соси, соси же, гадкая тварь! Соси и глотай, она течет, черт подери! Течет, разве ты этого не чувствуешь?» И он целует в экстазе все, что представляется ему: ляжки, влагалище, ягодицы, анус, все лижет, все сосет. Старуха глотает, а бедный доходяга, который уходит таким же вялым, как и пришел, и который, судя по всему, кончил без эрекции, спасается, стыдясь своего распутства, торопится как можно скорее закрыть за собой дверь, чтобы не видеть в спокойном состоянии тот отвратительный предмет, который только что соблазнял его.» «А старуха? – спросил Герцог.» – «Старуха откашлялась, отплевалась, отсморкалась, наспех оделась и ушла. Несколько дней спустя настал черед той товарки, которая предоставила мне удовольствие увидеть эту сцену. Это была девушка лет шестнадцати, светловолосая с очень интересным лицом; я не преминула пойти увидеть ее в работе. Человек, с которым ее свели, был по меньшей мере такой же старый, как рантье. Он поставил ее на колени у себя между ног, заставил неподвижно держать голову, схватив за уши, и сунул ей в рот член, который показался мне грязней и отвратительней тряпки, вываленной в грязи. Моя бедная товарка, видя, как к ее свежим губам приближается этот отвратительный кусок, хотела опрокинуться навзничь, но не случайно наш герой держал ее, как пуделя, за уши. «Ну же, потаскуха, – сказал он ей, – Ты что, вздумала упрямиться?» И, пригрозив позвать госпожу Фурнье, которая несомненно рекомендовала ей быть полюбезнее, сумел сломить ее сопротивление. Она раскрывает губы, отступает, опять раскрывает их и, наконец, давясь, глотает гнусную реликвию своим восхитительным ротиком. С этого момента со стороны злодея доносилось одно лишь сквернословие. «Ну ты, подлая, – говорит он в ярости, – ты еще будешь кочевряжиться, когда тебе предлагают сосать самый прекрасный член Франции! Может, ты думаешь, что следует ежедневно подмываться специально для тебя? Ну, давай же, соси, потаскуха, соси это драже». И, распаляясь от этого сарказма и от отвращения, которое он внушал моей товарке (поскольку, господа, то отвращение, которое вы порой вызываете в нас, становится еще одним возбудителем наслаждения для вас), распутник впадает в экстаз и оставляет во рту несчастной девицы недвусмысленные доказательства своей мужественности. Будучи менее услужливой, чем старуха, она ничего не проглотила и, пребывая в большем отвращении, чем та, через минуту извергла из себя все, что было у нее в желудке; наш распутник, поправляя свой костюм, не слишком обращал на нее внимание, посмеиваясь сквозь зубы над жестокими последствиями своего распутства. Настала моя очередь, более удачная, чем две предшествующих; я была предназначена самому Амуру и, когда я его удовлетворила, мне оставалось лишь удивляться тому, что я обнаружила столь странные вкусы у молодого человека, так хорошо созданного природой для того, чтобы нравиться. Он приходит, заставляет меня раздеться, ложится на кровать, приказывает мне присесть на корточки над его лицом и попытаться ртом заставить разрядиться его довольно посредственный член; он просит, он умоляет меня проглотить сперму, как только я почувствую, что она течет. «Не оставайтесь без дела, – прибавил молодой распутник, – пусть ваша пещера наполнит мне рот мочой, которую я обещаю вам проглотить так же, как вы будете глотать мою сперму; и пусть эта прекрасная попка пукает мне в нос». Я принимаюсь за дело и исполняю одновременно три задачи с таким мастерством, что его маленький «анчоус» вскоре извергает весь свой восторг мне в рот; тем временем я глотаю это, а мой Адонис делает то же самое с мочой, которой я заливаю его, вдыхая при этом пуки, ароматом которых я непрерывно одариваю его». 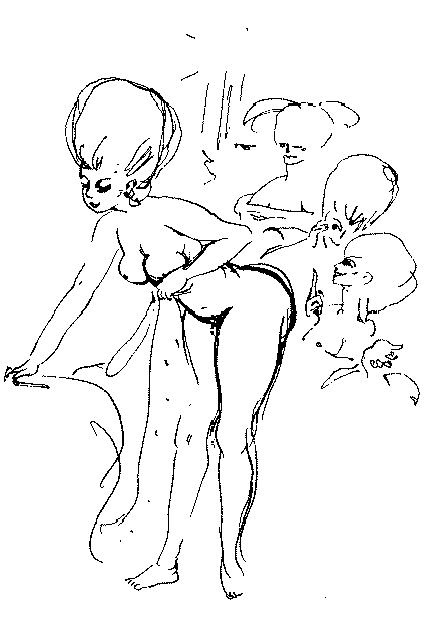 «Что вы подразумеваете под облегчением страданий? – спросил Дюрсе. – То наслаждение, которое рождается во мне от приятною сравнения их состояния с моим, исчезнет, если я стану облегчатi. их страдания: выведя их из состояния бедности, я дам им вкусить миг счастья, который, делая их похожими на меня, уничтожает всякое наслаждение от сравнения». – «Ну что ж, судя по этому. – молвил Герцог, – надо поступить каким-то образом так, чтобы упрочить это главное различие в счастье; надо, скорее всего, усу губить их положение». – «Это не вызывает сомнений, – сказал Дюрсе, – это-то и объясняет те мерзости, в которых меня упрекали всю мою жизнь. Люди, которым были неизвестны мои побуждения, называли меня грубым, жестоким, варваром; но, смеясь над всеми этими словами, я шел своим путем; признаюсь, я совершал то, что глупцы называют зверствами, но я утверждал наслаждения, вытекающие из приятных сравнений, и я был счастлив.» – «Признай тот факт, – сказал ему Герцог, – подтверди, что больше двадцати раз тебе случалось разорять несчастных лишь для того, чтобы удовлетворить таким образом извращенные вкусы, в которых ты признаешься?» – «Более двадцати раз? – переспросил Дюрсе. – Да нет! Более двухсот раз, друг мой; и я без преувеличения мог бы назвать более четырехсот семей, обреченных теперь просить милостыню, которые оказались в подобном состоянии из-за меня». – «Но ты хотя бы воспользовался этим?» – спросил Кюрваль. – «Почти всегда; но часто я делал это из-за какой-то злости, которую почти всегда возбуждают во мне органы разврата. Я возбуждаюсь, творя зло; я нахожу во зле достаточно острую притягательность; это пробуждает во мне все ощущения наслаждения, и я всецело отдаюсь – из интереса к нему». – «Для меня нет ничего нового в подобном вкусе, – сказал Кюрваль. – Я сотню раз отдавал свой голос, когда был в Парламенте, за то, чтобы вешать несчастных, о которых знал, что они невиновны; я всегда предавался этой мелкой несправедливости, испытывая внутри себя сладострастное щекотание, от которого органы наслаждения в области яичек очень быстро воспламенялись. Судите сами, что я ощущал, когда я совершал гадости». – «Совершенно очевидно, – добавил Герцог, мозг которого начинал распаляться от того, что он теребил руками Зефира, – что преступление таит в себе достаточно очарования, чтобы само по себе воспламенять все чувства, не требуя тою, чтобы мы прибегали к какой-либо другой уловке, – никто не может понять лучше меня, что злодеяния, даже самые далеки от разврата, могут возбуждать, как и те, которые связаны с ним. Лично я возбуждался от воровства, от убийства, от поджога; я абсолютно уверен, что не объект распутства движет нами, а идея зла; и, следовательно, возбуждаются единственно из-за зла, а не из-за предмета возбуждения, причем до такой степени, что если этот объект не способен заставить нас сотворить зло, мы никогда не возбудимся от него.» – «Совершенно верно, – сказал Епископ, – отсюда рождается уверенность в самом большом наслаждении от самой гнусной вещи; это система, от которой нисколько нельзя отклоняться и которая состоит в том, что, чем больше желают породить наслаждения в преступлении, тем ужаснее должно быть это преступление. Что касается меня, господа, – прибавил он, – то если вы позволите мне пояснить на собственном примере, то, признаюсь вам, я уже почти не испытываю того ощущения, о котором вы говорите, то есть я больше не испытываю его от мелких преступлений; если злодейство, которое я совершаю, не включает в себя, насколько это возможно, мерзости, жестокости, коварства, предательства, – это ощущение больше не рождается во мне.» «Ну что же, – сказал Дюрсе, – возможно ли совершать преступления именно так, как они задуманы, и так, как вы только что сказали? Что касается меня, признаюсь, что мое воображение н этом вопросе всегда превосходило имеющиеся у меня средства; я всегда замышлял в тысячу раз больше, чем делал; я всегда жаловался на природу, которая, дав мне желание оскорблять ее, постоянно отнимала у меня средства к этому». – «Существует всего два-три преступления, которые надо совершить в этом мире, – молвил Кюрваль, – а когда они совершены, этим все сказано; остальное не в счет. Сколько раз, черт подери, мне хотелось иметь возможность напасть на солнце, чтобы лишить его Вселенную или воспользоваться им, чтобы устроить всемирный пожар! Вот это были бы преступления, не то, что эти небольшие отклонения, которым мы предаемся и которые ограничиваются превращением в конце года дюжины тварей Божьих в комья земли». Головы уже распалились (что ощутили на себе две-три девушки), члены стали подниматься; все вышли из-за стола, чтобы пойти залить в хорошенькие ротики потоки той жидкости, слишком острое покалывание которой заставляло высказывать столько ужа сов. В тот вечер все сосредоточились на наслаждениях рта; были придуманы тысячи способов, чтобы разнообразить их; а когда все достаточно пресытились этим, то попытались найти в нескольких часах отдыха, необходимые силы для того, чтобы с утра все начать сначала. Девятый день. В то утро Дюкло предупредила, что считает благоразумным либо дать девочкам другие тренировочные модели для упражнений по мастурбации, заменив мужланов, которых использовали здесь, либо прекратить уроки: дети были, по ее мнению, уже достаточно хорошо обучены. Она говорила с большой рассудительностью: если будут продолжать использовать молодых людей, известных пол именем «работяг», результатом могут стать интриги, которых было бы благоразумнее избежать; эти молодые люди совершенно не родились для этого упражнения, поскольку они тотчас же получали разрядку и, кроме того, были бы слишком заняты наслаждениями, которых ожидали от них задницы господ. Таким образом, было решено, что уроки будут прекращены, тем более, что среди девочек было уже несколько таких, которые прекрасно умели напрягать члены. Огюстин, Софи и Коломб могли бы поспорить в ловкости и легкости кисти руки с самыми знаменитыми «трясуньями» столицы. Из всех них наименее ловкой была Зельмир: не то, чтобы она не была слишком легкой и умелой во всем что делала, просто ее нежный и меланхолический характер не позволял ей забыть о своих печалях; поэтому она постоянно была грустной и задумчивой. Перед завтраком в то утро старуха обвинила ее в том, что застала накануне вечером за молитвой перед сном. Девочку вызвали, допросили, требуя сказать, о чем она молилась. Сначала она отказывалась говорить, потом под угрозами призналась, что просила Бога освободить ее от опасностей, которым подвергалась, до того, пока не совершено покушение на ее девственность. Герцог объявил, что она заслуживает смерти, и специально заставил ее прочесть статью из предписаний, касающуюся этого случая. «Ну что ж, – сказала она, – убейте меня. Бог, к которому я взываю, по меньшей мере, пожелал бы меня. Убейте меня до того, как вы обесчестите меня; душа, которую я ему посвящаю, улетит чистой в его объятия. Я буду освобождена от муки видеть и слышать столько ужасов каждый день». Подобный ответ, в котором царило столько добродетели, душевной чистоты, вежливости, сильно напряг члены наших распутников. Некоторые предлагали незамедлительно лишить ее девственности, но Герцог, напомнив им о нерушимых обязательствах, которые они взяли на себя, довольствовался тем, что единодушно со своими собратьями приговорил ее к жестокому наказанию в следующую субботу, а пока что приказал подползти на коленях и сосать ртом по четверть часа члены каждого из друзей, предупредив ее, что, если подобное повторится, она уж точно расстанется с жизнью и будет осуждена по всей строгости законов. Бедная девочка подошла, чтобы исполнить первую часть своего наказания, но Герцог, которого разгорячила эта церемония и который после произнесенного приговора усиленно ласкал ей попку, гнусно излил все свое семя в хорошенький маленький ротик, грозя придушить ее, если она отвергнет хотя бы каплю; несчастная кроха проглотила все, не без ужасного отвращения. Она сосала по очереди и трех других, но они не пролили ничего, И после обычного визита к мальчикам и в часовню, который в то утро мало что дал (поскольку они отвергли почти всех), все пообедали и приступили к кофе. Кофе подавали Фанни, Софи, Гиацинт и Зеламир. Кюрвалю вздумалось отодрать Гиацинта в ляжки, заставив при этом Софи устроиться между ляжек Гиацинта, чтобы сосать кончик его, Кюрваля, члена, который выступал наружу. Эта сцена была забавной и сладострастной; он напряг себе член и заставил мальчугана направить струю спермы на нос девочки; Герцог, который, благодаря длине своего члена, был единственным, кто мог бы повторить эту сцену, устроил то же самое с Зеламиром и Фанни. Мальчик пока еще не получал разрядки; таким образом Герцог был лишен очень приятного эпизода, которым наслаждался Кюрваль. Дюрсе и Епископ пристроили также около себя четырех детей и заставляли их сосать себя; никто не кончил, и после короткой сиесты все прошли в гостиную для рассказов, где, когда все устроились поудобнее, Дюкло продолжила нить своего повествования. «С кем-либо другим, кроме вас, господа, – сказала эта любезная девица, – я не отважилась бы затронуть тот сюжет повествования, который займет у нас всю эту неделю; но каким бы распутным он не был, ваши вкусы мне прекрасно известны; вместо того, чтобы бояться вам не понравиться, я, напротив, убеждена в том, что доставлю вам приятное. Вы услышите, предупреждаю вас за ранее, ужасные мерзости, но ваши уши созданы для подобного, вашим сердцам они нравятся, и они желают их; я непосредственно приступаю к рассказу. В доме госпожи Фурнье у нас был один старый клиент, которого называли, я не знаю, за что и почему, «кавалером», он имел обычай являться каждый вечер в дом для одной простой, но в то же время странной церемонии: расстегивал штаны и требовал, чтобы одна из нас, по очереди, испражнялась ему внутрь штанов; тотчас же застегивал их и очень быстро выходил, унося этот груз. В то время, как ему «это» поставляли, он напрягал себе член, но никто никогда не видел, чтобы он кончил; никто также не знал, куда он уходил со своей «поклажей», упрятанной в штаны». «О! Черт подери, – сказал Кюрваль, который не мог ничего слышать без того, чтобы не сделать то же самое. – Я хочу, чтобы мне насрали в штаны и чтобы я сидел так весь вечер». Приказан Луизон оказать ему эту услугу, старый распутник дал собранию действенное представление о вкусе, о котором собрание только что выслушало рассказ. «Ну, давай, продолжай, – сказал он мадам Дюкло, усаживаясь на канапе, – я вижу, что прекрасная Алина, моя очаровательная подруга этого вечера испытывает неудобства от этого дела; что касается меня самого, то я чувствую себя прекрасно». Дюкло продолжила следующими словами: «Предупрежденная обо все том, что должно было происходить у распутника, к которому меня послали, я делалась мальчиком; а поскольку мне было всего двадцать лет и у меня были красивые волосы и хорошенькая фигура, эта одежда была мне очень к лицу Я предусмотрительно, перед тем, как выходить, сделала в штаны то, что господин председатель только что приказал сделать в свои. Мой мужчина ждал меня в постели: я подхожу, он два-три раза сладострастно целует меня в губы, говоря мне, что я самый красивый мальчик, которого ему доводилось до сих пор видеть; продолжая хватать меня, ом пытается расстегнуть мне штаны. Я делаю вид, что защищаюсь, с единственным намерением посильнее разжечь его желание; он торопит меня, ему это удастся; но как мне описать вам тот восторг, который охватывает его, как только он замечает «поклажу», которую я несу, и тот пестрый рисунок, который все это вывело на моих ягодицах. «Как, маленький негодник, – говорит он мне, – вы наделали себе в штанишки!… Разве можно допускать такое свинство?» – И спустя мгновение, держа меня по-прежнему повернутой к себе спиной со спущенными штанами, он возбуждает рукой себе член, делает толчки, приклеивается к моей спине и выбрасывает струю спермы на эту «поклажу», засовывая язык мне в рот». «Как? – сказал Герцог, – он ничего не касался, не теребил руками ничего из того, что вы знаете?» – «Нет, сударь, – отвечала госпожа Дюкло, – я не скрываю от вас никаких подробностей. Но немного терпения, мы постепенно придем к тому, что ни имеете в виду». «Пойдем посмотрим на одного забавного типа, – сказала мне одна из моих товарок, – этому человеку не нужна девушка, он забавляется в одиночку». Мы идем к дырке, зная, что в соседней комнате, куда он должен был прийти, стоял горшок под стулом с дыркой, который нам четыре дня назад приказали наполнить и где должно было быть, по меньшей мере, не менее дюжины какашек. Приходит наш герой; это был старый помощник откупщика налогов лет семидесяти. Он запирается в комнате, идет прямо к горшку, в котором кроются ароматы, коих он просил для своего наслаждения, берет его и, сев в кресло, в течение часа любовно разглядывает богатства, обладателем которых его сделали. Он вдыхает, трогает, берет в руки, вытаскивает одну за другой, чтобы получить удовольствие и получше разглядеть. Наконец, придя и восторг, он вытаскивает из своих штанов старую черную «тряпку», которую трясет изо всех сил; одной рукой он напрягает себе член, другую засовывает в горшок, подносит к этому орудию ту пищу, которая способна разжечь его желания; но оно не поднимается сильнее. Бывают моменты, когда природа показывает себя такой норовистой, что восторги, которые вызывают у нас наибольшее наслаждение, не могут ничего вырвать у нес. Напрасно старался наш гость, ничего не напрягалось; благодаря толчкам, совершенным той самой рукой, которая была вымазана испражнениями, происходит эякуляция: он напрягается, опрокидывается на спину, дышит, вдыхает, трет свой член и кончает на кучу говна, которая доставила ему такое наслаждение. Еще один человек ужинал наедине со мной и пожелал, чтобы на стол поставили двенадцать тарелок, наполненных тем же самым, вперемешку с тарелками с ужином. Он обнюхивал их, вдыхал по очереди запах; мне же приказал возбуждать ему член после еды на том блюде, которое показалось ему самым прекрасным. Один молодой докладчик в Государственном Совете так мною платил за клизмы, что все хотели принять его. Когда я оказывалась с ним, я получала их от него по семь, причем все он ставил мне своей рукой. После каждой проходило несколько минут; мне надо было подниматься на стремянку, он становился внизу, и я обрушивала на его член, который он напрягал, весь поток, коим он только что поил мои кишки». Легко можно себе представить, как весь вечер проходил в мерзостях подобного рода, о которых вы услышали; в это легче поверить, если принять во внимание, что наших четырех друзей объединил подобный вкус; лишь Кюрваля он завел дальше всех; трое остальных были увлечены этим, впрочем, не меньше его. Восемь кучек дерьма маленьких девочек были размещены среди блюд, поданных за ужином, а во время оргий все еще более превзошли друг друга в деле с мальчиками; так закончился девятый день, окончание которого было встречено с удовольствием, поскольку все тешили себя надеждой услышать на следующий день более подробные рассказы о том предмете, который нежно любили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|||||||