 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Кларк Артур Чарльз :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: «Фирма приключений» :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души |
Соломенная Сторожка (Две связки писем)ModernLib.Net / Историческая проза / Давыдов Юрий Владимирович / Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Чтение (стр. 36)
Однажды она сказала Волховскому: «Отец редко кого так любил и уважал, как Германа». А слышалось явственно: я редко кого так любила и уважала. И еще: «Я была девчонкой, когда он впервые пришел к нам на Мейтленд-парк-роуд… Мне было двадцать восемь, когда он пришел ко мне накануне своей последней, роковой поездки в Россию… Поверьте, он не предчувствовал – знал! Энгельс, вот уж кто понимал, что такое отвага, Энгельс восхищался: «Наш смелый, до безумия смелый Лопатин»… Герман поклонился и обнял меня: «Теперь уж действительно – прощайте»… В прекрасных глазах Тусси переливались рыжие отблески камина. Кошки, аспидные сфинксы, были неподвижны. В присутствии мужа она замыкалась. Возникала какая-то гнетущая напряженность, Волховскому непонятная. Но он мог бы побиться об заклад, что уже и тогда ему крепко не нравился Эвелинг. Неужели потому лишь, что бритое лицо Эдуарда жухло в паутине тонких, ранних морщинок и потому, что волосы были прилизаны так гладко, что и блоха поскользнулась бы, а зубы крупные, лошадиные, как на карикатуре «типического британца»? Да он и не был «типическим британцем», этот Эвелинг. Не потому лишь, что был ирландцем, а потому, что типический Джон Буль… Тусси, смеясь, рассказывала, как покойная матушка – ее иронии побаивался даже Гейне – определяла «типического»: кичится своим Мильтоном, которого не знает, своей свиной отбивной, которую хорошо знает, и, наконец, Вильямом Шекспиром; но все это пустое, всерьез он принимает только отбивную… А Эвелинг? О, Эвелинг умен и общителен, беспечен и доверчив. Вместе с Муром перевел «Капитал» на английский, как Герман вместе с Фрицем – на русский. Огромный, как и у Германа, запас естественнонаучных знаний… Как Герман, как у Германа… Не тут ли и крылась причина неприязни? Краем уха слыхал Волховской, будто старик Маркс подумывал о женитьбе Тусси и Германа. Может, это и примерещилось кому-то, но, вспоминая друга, томящегося в Шлиссельбурге, Волховской нет-нет да и воображал Германа здесь, в Лондоне, вместе с Тусси. Воздушные замки и грезы, но, сдается, этим тогда и исчерпывалась неприязнь к Эвелингу. И лишь потом, когда несчастье совершилось, когда Тусси приняла яд, узнал Волховской, как этот человек измучил Тусси своим чудовищным эгоизмом, распутством, вечными долгами, для уплаты которых не гнушался домашним воровством… А Германа не было, не было, не было… В письме почти предсмертном запрашивала Тусси известия о Германе… А Германа не было, не было, не было… До последнего часа звучал в душе ее тоскующий голос уже умершего Энгельса: «Вот мы сидим здесь, и я не уверен, что вот-вот не откроется дверь и не зайдет Герман Лопатин. Да, да, в один прекрасный день он снова зайдет в мою комнату, спокойно сядет передо мною и разразится смехом…» – Сядем, – сказал Волховской. – Сядем, – согласился Герман. Белка, распушив хвост, вознеслась на вершину дерева. Тени ветвей шевелились, и казалось, что солнечные пятна на траве тоже шевелятся. * * *
Когда Волховской умолк, Лопатин минуту-другую незряче глядел на эти тени, на эти пятна, потом медленно поднялся и подошел к озеру, зачерпнул полные пригоршни и погрузил лицо в холодную воду. Волховской прикрыл глаза: не мог он, не мог смотреть, как у Германа вздрагивают плечи. * * *
После Гайд-парка нет ни малейшей охоты окунаться в перипетии того, что происходило тогда же, летом девятьсот восьмого года, здесь же, в Лондоне, на Ноттингхилл-Гэт. Кто-то весьма остроумно заметил – история слишком важная вещь, чтобы отдавать ее в руки историков. Внесем поправку: смотря каких. Но эсеровскую конференцию в здании Вест-Лондонского этического общества уступаю другим историкам, хотя это как раз тот случай, когда требуется сугубая осмотрительность. Однако вовсе обойтись без этой конференции нельзя. Ясности ради сообщу некоторые подробности. Надо сказать, что дело было поставлено конспиративно. Помещение находилось в глубине сада. Делегатские мандаты подвергались суровой проверке. Никто из заседавших – а было их несколько десятков, приезжих россиян и эмигрантов-парижан, – не имел права что-либо записывать. Несмотря на секретность, среди «чистых» затесалось с полдюжины «нечистых». Об этом было известно устроителям, и все-таки, вопреки столь прискорбному обстоятельству, обсуждались все пятнадцать пунктов повестки дня. Присутствовали и Лопатин с Волховским, оба безмандатные. Первый – почетным гостем, которого все здесь называли партизаном русской революции или Ильей Муромцем русской революции; второй, лондонский «долгожитель», – покровитель, советчик. Герман Александрович слушал ораторов без особого интереса. Все они будто отстали от поезда, однако из опасения насмешек делали вид, что ничего особенного не приключилось. Ораторы полагали, что они подводят итоги революции пятого года; Лопатин полагал, что революция пятого года подвела итоги ораторам. Малый интерес к повестке дня не умерял его живого интереса к самим по себе делегатам – они из пловцов, что гибнут в водоворотах террора, пловцов, достойных лучшей участи. И в Питере, и сейчас, здесь, чем пристальнее всматривался Лопатин в держателей эсеровских рычагов, тем отчетливее сознавал то, что ему, правду сказать, ужасно не нравилось: принципиальное нежелание считаться с личностью, душой ее и биографией; не личность важна, а «единица», мошна, из которой можно черпать безоглядно; и честолюбие, карьерность, родственность с чиновничеством, пусть вместо мундира пиджачная пара и косоворотка. Что же до мрачной и пылкой приверженности к террорной доктрине, к террорной практике… Герман Александрович не согласился с публицистом, который утверждал, что эти люди уже охвачены атавистическим желанием «полизать крови». Будем справедливы: не охвачены; будем точны: еще не охвачены. Зато тот, кто возглавляет Боевую организацию, «лижет кровь», урчит, мерзавец, и «лижет». Вот так, присматриваясь и размышляя, Лопатин и шепнул Волховскому: – А это что за каннибал? – Где? Какой? – Вон там, справа… Экие чувственные губы. – А! – Волховской странно хмыкнул. – Почему же «каннибал »? – Да ведь глаза-то! Глаза профессионального убийцы. Во всяком случае, человека, скрывающего черную тайну. Я давеча видел его в садике, во время перерыва, он фуражку надел, я и подумал: такой апаш встретит в глухом углу девчонку – непременно изнасилует, а потом задушит. Или наоборот; сперва задушит, потом изнасилует. Волховской, сжав его локоть, быстро объявил: – А это и есть знаменитый Иван Николаевич! Они переглянулись. Ну конечно, Герман не утаил от старого друга своих подозрений, да и раньше ходил темный слушок об Азефе, но чтоб вот так, «по глазам» определить, этого Волховской не ожидал даже от Германа. Лопатин был поражен: особь с явной печатью Каина пользовалась таким влиянием, такой любовью. Разумеется, гипноз покушений на Плеве, на великого князя Сергея. И все же, и все же… Но как раз потому, что он мгновенно, «по глазам» угадал Азефа, Лопатин почувствовал неуверенность, колебания. Совсем недавно, проездом через Париж, на улочке Люнен, у Бурцева, было иначе. Как хорошо, подумал Лопатин, как хорошо, что ты настоятельно рекомендовал Львовичу вбить последний гвоздь. То не было отрицанием «физиогномики». То было нежелание отдаваться плохому впечатлению. И всегдашнее желание обнаруживать хоть что-нибудь светлое. Требовалась серия наблюдений, позволяющих схватить личность в пучок непростых конкретностей. И все же он не мог одолеть антипатии к Азефу. Не мог при встречах обменяться с ним рукопожатием. Азеф при всей своей вялости, которую все здесь принимали за усталость (а была она следствием опустошенности, на сей раз почему-то не восполненной курортными заботами о дочурке и вдове казненного боевика), при всей своей вялости Азеф остро и тонко чувствовал опасность, исходившую от Лопатина… Старые революционеры? Азеф презрительно ронял губу: у старых революционеров только одно достоинство – то, что они старые. Однако Лопатин… Лопатин… Азеф не раз слышал: Илья Муромец русской революции. Понимал: особый авторитет, вес особый. Отнюдь не возрастной, не по причине тюремного стажа… Все это сознавая, чуя антипатию «старичины», Азеф с каждым днем все сильнее и настоятельнее испытывал желание покорить «старичину». Не страх, не боязнь разоблачения толкали к тому. Нет, не страх, ибо уже было сказано Азефу: «Останься!» Не страх – другое: покорить и распорядиться по своему усмотрению. Да только не так, как боевиками, не так, как с боевиками. И вовсе не ради вящих заслуг перед департаментом, перед Фонтанкой, перед Герасимовым. Плевал он на них. Ради себя, вот что. Для себя, вот что. Он, Азеф, подведет Илью Муромца к краю бездны, склонит над бездной, ужаснет бездной. Он, Азеф, сделает то, что не сделал Шлиссельбург, – пусть рухнет, осознав никчемность своей незапятнанности, никчемность всей своей жизни, всех своих надежд. И в душе Азефа возникло чувство, какое возникало к боевику, приготовленному для заклания: Азеф любовался «старичиной», любовался почти искренне, если не сказать – совсем искренне, потому что сам Азеф всегда ощущал свои «любования» искренними. Было нечто коварно-женственное в том чувстве, – с каким Азеф наблюдал Лопатина с его мощной статью, походкой чуть враскачку, открытым смехом, общительностью, бодростью, особенной лаской на лице, когда тот говорил с Волховским. Привходящие обстоятельства заставили поторопиться. Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом… Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится… «Хорошо, хорошо», – сказал Азеф. * * *
В ресторанчике «Лайонс» сухо пощелкивал кассовый аппарат. Пахло в ресторанчике «Лайонс» сыром, жаренным на сухарях, и пивом. Азеф заказал портер. Пришел Лопатин, коротко кивнул (ни разу во все дни конференции он с Азефом не обменялся даже и молчаливым поклоном), сел, положил на стол руки, и Азеф опять заметил, какие у Лопатина сильные запястья. – Герман Александрович, – начал Азеф, ощущая себя как на проволоке, туго натянутой высоко над землей, – Герман Александрович, позвольте спросить: отчего для меня, бедного, такое исключение? – Какое? – хмуро сказал Лопатин. – Вы чрезвычайно общительны, а со мною ни слова. За что сия немилость? – Сие называется антипатией, – ответил Лопатин и прищурился, в упор разглядывая Азефа. Азеф усмехнулся очень миролюбиво, вроде бы принимая стариковскую капризность. – Вы, Герман Александрович, – сказал он, – не из тех, с кем играют в прятки… – Почему же? – колюче оборвал Лопатин. – Со мною игрывали в бо-ольшие прятки. Азеф и колючесть принял беззлобно. Тугая проволока легонько подрагивала под ногами. Сорваться он мог, разбиться насмерть не мог. Относительность риска и безотносительность безнаказанности давали смесь, всегда ему желанную. – В самом начале нашей конференции от вас не скрыли, что среди делегатов есть и сотрудники департамента полиции, – продолжал Азеф, балансируя, как канатоходец. – А один делегат пытался обратить внимание ваших товарищей на наличие провокации в центре вашей партии, – ответил Лопатин, принимая пробный шар, пущенный «каннибалом». – Так, – почти весело ответил Азеф. – Но было указание и на провокацию на местах. Помните? Очень даже подозревали московскую девицу, хотя и мандат правильный, и пароли назубок. – Я б на месте этой девицы, – сказал Лопатин, – удалился. Возникают подозрения – отойди в сторону, пока не распогодится. Азеф широко осклабился. – А я этого и хотел, я это и пытался! – Вы? – непритворно удивился Лопатин. – Представьте, я, Герман Александрович. Вчера собрался Совет партии. Я говорю: меня подозревают – я ухожу. – И что же? – А то, Герман Александрович, что все поочередно высказались: «Пусть останется». Понимаете – все до единого! А как бы вы, именно вы, поступили на моем месте? Лопатин ответил мгновенно: – Я никогда не мог бы оказаться на вашем месте. Что ж до вас, именно до вас, то вам, несмотря на единогласное «пусть останется», следовало уйти. – А я, благодарный за доверие, расцеловал всех своих соратников. – Знаете, – сказал Лопатин, – был такой эксперимент. Имен называть не станем? – Конечно, это ж азбука. – Так вот. Совсем недавно, в Вильне, показывают мне групповую фотографию, одни сидят, другие стоят. Спрашивают: «А что, найдете провокатора?» Не скажу, чтоб в секунду, но… Словом, тычу: «Не этот ли?» Говорят: «А вы еще подумайте»… Ладно, думаю. И опять: «А все ж не этот ли?» Удивились: «Верно. Этот». – Ясновиденье? – Да нет. Вполне мог бы и промахнуться. А вот когда вы… Отчего вы, годами знающие друг друга, не умеете разгадать провокатора? – Случается, что и умеем. Правда, не часто, но иногда умеем. – Однако… – обронил Лопатин и долго не спускал глаз с Азефа. – Меня, что ли? – спросил Азеф, не потупившись. – Почему бы и нет? 
– Да ведь что же высосешь из сплетен маньяка Бурцева? – набычился Азеф. – Мне иногда даже жаль его – дело благое замыслил. Но не за тот кончик потянул. А впрочем, глядишь, чего-нибудь когда-нибудь вытянет… Но тут вот что. Хлебом полицию не корми, дай подпустить: се – провокатор, а не лев. Ну и воцаряется гнетущая подозрительность, разброд и шатанье в публике. И все же, увы: язва провокаторства поедом ест. А я, вы знаете, стоял у колыбели, здоровехонький народился младенец. А теперь… – Он махнул рукой. – Брошюрки писать, газетку редактировать – одно, а когда дело-то боевое… Не мне вам объяснять. Бывает, сам в себе усомнишься. Честное слово! А почему? Я вам искренне: иной раз как подумаешь, ну и выходит, что революция – это провокация, а провокация – это революция. Мы вот недавно были в Выборге, Натансон рассказывал про Нечаева, как Нечаев-то на революционную дорогу ставил. Это что, это как, это куда отнесешь? Со стороны глядя – ах, нехорошо, ах непорядочно. А дорога в колдобинах, дорога в рытвинах, боишься замараться – лежи колодой… – Безобразное лицо Азефа словно бы даже похорошело, озаренное грозным вдохновением. Лопатин, побледнев, теребил широкополую шляпу. Азеф, как бы смягчившись, прибавил печально: – Я читал, не помню где, но очень меткое: террор обнаруживает и глубокую нравственную боль, и глубокую нравственную распущенность. Тут… Как ее? В Древнем-то Риме была? Торпейская скала, что ли? С нее преступников в пропасть сбрасывали, вот я и думаю: все мы на скале Торпейской этой, то мы сбрасываем, то нас сбрасывают… Э, Герман Александрович, Герман Александрович, это ж двадцатый век, такая рулетка пошла, такие комбинации в «красном и черном»… Он несся по натянутой проволоке, почти не балансируя, и подавленность Лопатина, молчание Лопатина, эти его сильные, с широкими запястьями руки, мнущие шляпу, были Азефу наградой упоительной, едкой и сладостной, и он уже был убежден, что «старичина» ужаснулся бездне, это ж тебе не Шлиссельбург, это ж все коту под хвост, хочешь – изобличай, хочешь – не изобличай, а все коту под хвост, и шабаш. Азеф поднял кружку и, ощущая необыкновенную жажду, положив на край кружки вислую нижнюю губу, а верхней шевеля и причмокивая, с наслаждением тянул холодный вкусный портер. Весь еще в напряжении, он не сразу понял, отчего в какой-то миг вдруг и возникли где-то под ложечкой и тяжесть, и пустота, нет, не сразу понял, а только неприятно удивился голосу «старичины» – сухому, будничному и, кажется, даже скучающему. – Отвечу по пунктам, хотя вы и вещали темно и сбивчиво, как оракул, – говорил Лопатин, оставив в покое шляпу и откинувшись к спинке стула. – Провокаторов большей частью не распознают потому, что те, кому это следовало бы делать, похожи на врачей, не думающих о тайне каждого организма, а лишь озабоченных выпиской рецепта. Рецепта, пригодного «вообще», ибо они заняты политикой «вообще». К человеку же «не вообще» они не восприимчивы, тут род презрения. Второе. Согласен – язва провокаторства. Но почему и откуда? Вы – заговорщик, ваша БО – заговорщицкая. А заговорщики без мундиров и заговорщики в мундирах, то бишь тайная полиция, поглощены шпионством, переплетены тесно. От заговорщика безмундирного до платного агента – скачок воробьиный. Особливо под угрозой тюрьмы или виселицы. Ну и при посулах денежных и прочих. Но язва-то, нет, гангрена, так вернее, гангрена есть следствие двух причин. Режим в России старческий, авантюризм в политике, авантюризм в придворной сфере, спекуляции, шантаж. Не машина даже, а просто-напросто сифилитическая развалина, вонючка, обреченная выгребной яме, но пока еще испускающая миазмы. Теперь другое. Заговор и заговорщики – отменный бульон для плесени. Кто ж не знает, что в потемках жульничать сподручнее? Вы поминали Нечаева. Я его знавал, мы были врагами, да вот первый брошу камень в того, кто зачислит Нечаева в провокаторы. Но он оставил трупный яд: беспардонное распоряжение чужими судьбами. Говорил Лопатин буднично, спокойно, даже, кажется, скучающе, и по мере того, как он это говорил, Азеф утрачивал самое дорогое – сознание своей единственности. – Ну а теперь, – сказал Лопатин уже не буднично, а презрительно, – вернемся к нашим баранам. Вернее, к свиньям… Есть, видите ли, люди с патологической охотой играть роль гениев зла. А вот французские полицейские, представьте, так определяют тех, кто служит и нашим и вашим: свинья, которая разом жрет из двух корыт. Только и всего, Азеф, только и всего: свинья. В ресторанчике «Лайонс» сухо стучал кассовый аппарат. Сыром пахло, жаренным на сухарях, и портером. Закусывали в ресторанчике клерки, конторские барышни. – Только и всего? – тоскливо переспросил Азеф. * * *
Пока ехал подземкой, а потом шел, пока был в движенье, владело Лопатиным усталое, печальное спокойствие. Но вот эта светлая комната в тихом и чистом коттедже, белеет фаянсовый умывальник и розовеет ворох полотенец, а из длинных ящиков, подвешенных за распахнутыми окнами, меланхолически кивают ромашки, маргаритки, анютины глазки. Вот он вернулся, и едва ключ щелкнул в скважине, как сухо защелкал кассовый аппарат, сыром запахло и портером, вислая губа, словно б отдельно, независимо от лица, пришлепнулась к пивной кружке – чадно и душно сделалось Герману Александровичу, чувствуя позыв к рвоте, сел он в кресло, растерянный, недоумевающий, испуганный… Что-то похожее случилось в Петербурге, Катя и Бруно притащили к врачу. Врач выслушал, врач выстукал, эдакий дятел: «Угу-угу, вроде бы визитной карточки паралича». – «Доктор, – взмолился Бруно, – объясните, пожалуйста, Герману Александровичу, нельзя же так: на пятый этаж – не переводя духа!» – «Угу-угу, на пятый, угу-угу, нельзя… Характер, батенька, от такого характера не излечишь»… Линолеум блестел, как лед, хотелось лечь, и не было сил подняться с кресла, одолеть страх перед этим линолеумом, натертым воском. 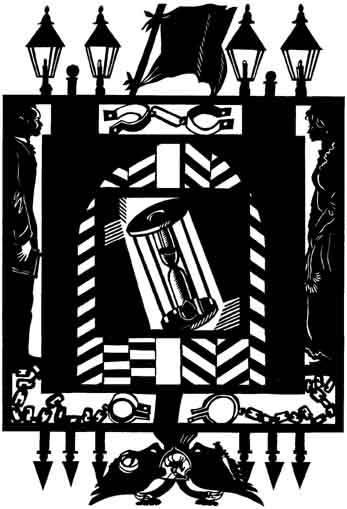 * * *
Его положили в десятую палату второго терапевтического отделения. Он знал, что теперь уж не вытянет. И сожалел о пуле. В счастливейший день, в долгожданный день рождения Российской республики, прошлогодний, – он был среди рабочих и солдат, под огнем из винтовок и пулеметов, – вот тогда-то и надо было умереть. В больнице почти не топили. Стужа костенила огромный город. Лопатин умирал в больнице на Архиерейской, неподалеку от Петропавловской крепости. Ее шпиль очертил, как циркуль, круг жизни. Умирая, он слышал грохот. Накатывало с Выборгской, мотор и броня. Накатило и опрокинуло Медного всадника. И вот уже над огромным городом трубило семь труб. А рядом, на Архиерейской, раздавалась пальба – в белой метели шел черный патруль: «Трах-тах-тах…» * * *
Но все это потом, в декабре восемнадцатого. * * *
Трах-тах-тах – гремел дверной молоток. – Что с тобой?! – вскрикнул Волховской, бледнея. – А что со мной? – переспросил Лопатин и, как умываясь, провел ладонями по лицу. – Малость вздремнул. Волховской недоверчиво покачал головой. – Вот, – сказал он, – получил. Ты, значит, дал Бурцеву мой адрес? – Чей же еще, – рассеянно ответил Лопатин, впиваясь в телеграмму: «Последний гвоздь вбит. Жду. Львович». Нет, они не торжествовали. Ни Лопатин, ни Волховской. – И эти слюнявые поцелуи, когда решено было: не уходи, Иван Николаевич, оставайся с нами, мы верим… – Волховской натянуто усмехнулся. – А ты видел, как он привечал одного из делегатов? Обратил внимание? Ну как же, как же… Мужик мужиком, позже всех из Расеюшки добрался, на подобных собраниях, видать, не бывал, ну, потерялся, ну, озирается, а каждый в спорах-разговорах, не до него. И только Азеф – вникни! вникни! – только он и занялся беднягой – отыскал местечко, усадил, потом в буфет повел, бутербродами кормил. – Эдакие, – кивнул Лопатин, – предупредительны к «простым людям». Понять дают: а вы-де, образованные лимоны, коли и написали брошюрки, не командуйте, высосем да выбросим. Эдаким штучкам «не ндравятся феории». – У Азефа, кажись, лишь одна в наличии: не вносите революцию в массы. – А как же! Я ему давеча: в потемках жульничать сподручнее. Они помолчали, наблюдая, как на улице чередою зажигались газовые фонари. – И теперь ты? – Да, – сказал Лопатин. Волховской, собственно, и без «да» знал, что Герман поедет в Париж и доведет до конца «дело Азефа». О, нечего и говорить: эсеровские цекисты не тотчас спустят флаг, драка будет нешуточная, ведь это для них не конфуз, а крах. – Можешь не сомневаться, с двухкорытным будет покончено. – Да вот с двухкорытностью едва ли… – вздохнул Волховской. – Твоего «крестника» Нечаева давным-давно нет на белом свете… – Не в параллель Азефу помянул он Нечаева, а как бы подчеркивая, что иксы-игреки приходят-уходят, а явление-то остается, меняет оттенки, грим меняет, но, увы, остается. – Есть умники, – сказал Лопатин, – утверждают, будто матушке-истории безразлично, какими средствами совершается то-то или то-то, ей важно лишь, что – «Невеселое занятие», – задумчиво повторил Волховской. – Гм, «невеселое»? Ужасное, это ж в клоаке… А тебе уж не тридцать. Ты думаешь, я не заметил? Ну, когда пришел, думаешь, не заметил? Не ет, брат, сообразил, что тут с тобой творилось. – Пустяки. Вздремнул малость. – Это ты кому-нибудь другому очки втирай. – Волховской помолчал. Потом сказал: – Я слышал, шлюшинцы за мемуары взялись. – Те-те-те, – улыбнулся Лопатин, – вот ты куда гнешь. – А почему бы и нет? Ведь кто, как не ты, может и должен? – Послушай, Феликс, я без шуток. Даю тебе честное слово, у меня нет и не будет ни малейшего желания занимать публику своей персоной. – Верю, Герман. Верю и сожалею… И вот что на уме. Знаешь, я читал: на последней войне с турками, когда в Болгарию вошли, был доброволец, ни на кого не похожий, студент, кажется. Так он что же? Он собственным почином взялся в военном лагере нужники чистить, чтоб эпидемия не возникла. Гляжу на тебя и думаю: не ты ли этот доброволец? – Ничего не скажешь, – усмехнулся Лопатин, – ароматная аналогия. Но, пожалуй, верная. Стало быть, благословясь, начнем. Было уже поздно. Они закусили, напились чаю. – Проводишь до подземки? – спросил Волховской. – Ночуй здесь. Ночуй, как бывало. А завтра зайдем к тебе: позычу на дорогу пару белья. Так тоже бывало. Волховской рассмеялся, молодо блестя глазами, ероша серебряные, с легкой синевою волосы. – Эх, Герман, походный ты человек. * * *
Его штаб-квартира была в Париже, там, где поселялся Бурцев, – на окраинной, невзрачной улице Люнен и на тесной улице Сен-Жак, с ее старинными букинистическими лавками. Год за годом Лопатин «вывозил нечистоты». Тайны Герасимовых и азефов вызывали тошноту и удушье. Я поклонник детективного жанра, но мне неохота снимать с полки документы о «двухкорытных свиньях». * * *
Изнемогая в клоаках, Лопатин отправлялся на юг, на Итальянскую Ривьеру. Уединенное местечко на берегу Генуэзского залива называлось Кави. В Кави жил писатель Амфитеатров. Огромный, черный, грузный, он работал как вол; говорили о нем: вот-де «писатель без выдумки», в ту пору это считалось вторым сортом, а теперь считается документализмом. В устной же речи был Амфитеатров, по одним свидетельствам, живописен и остроумен, по другим – тяжел и тускл. Впрочем, важно то, что в семействе Амфитеатровых, щедрых, как воры (эдак Лопатин над ними трунил), его принимали с радостью. На вилле, а сказать попросту – в большом деревянном доме с верандами, Герман Александрович занимал комнату балконом и окнами в сад; сквозь деревья проглядывала тяжелая синь южного моря. В комнате, набитой книгами, был мозаичный плиточный пол, что почему-то очень нравилось Герману Александровичу. Вообще многое тут пришлось ему по сердцу. И остро кремнистая дорога в ближайший городок, и сам городок с облупившимися домиками, увитыми виноградными лозами, и деревенская траттория, грубо размалеванная ангелами и голубками, и этот мыс в брызгах прибоя. Лопатин плавал далеко, испытывая, как в молодости, веселую и опасную тягу к горизонту. И все же блистающий воздух, лимонные и оливковые рощи, маслянистая синь волн, вся эта праздничная картинность временами навевала неясное томление, переходящее в глухую тоску. Он искал исцеленья в горах. Подъем на высоту дарил внутреннюю свободу. Отдыхая, Лопатин смотрел на откатившееся море. Отсюда, с высоты, казалось оно выпуклым и уже не густой синевы, а дымчато-лунным. Увы, приходилось начинать спуск, и счастье внутренней свободы, возможное только на вершинах, утрачивалось. Поздней осенью высоко в горах Лопатина застигла метель. Где-то в стороне звонил колокол, указывая местоположение монастырской обители. Но Лопатин не хотел избавления от этих тяжелых слепящих вихрей, от бьющего в ноздри резкого и свежего запаха белых мятущихся хлопьев. Отирая рукавом лицо и бороду, он затаился в невнятном, радостно-тревожном предчувствии. И не то чтобы вспомнилось, а наяву открылось: и кружок латунного солнца в минуту шлиссельбургского испуга перед крутой переменой жизни, и месяц-серп в окошке холодной мансарды, перекатные сугробы в степи, мгла ревущего порога, рокот большого города… И все это слилось с неизъяснимым счастьем внутренней свободы – пора домой. * * *
У нас, на Соломенной сторожке, вчера страшная метель была, нынче, правда, утихло, легонько вьюжит, но старики предрекают, что метель еще ударит, и, может, похлеще давешней. В лесу близ пруда черные птицы кричат: «Ой, ду-ду, дуду, дуду…» Никакой мистики, и вы, надеюсь, поняли это по мере чтения моих писем. Но Лопатин, я знаю, Лопатин возвращается. Примечания 1 Парень, малый (итал.) 2 Довольно, хватит! (итал.) 3 Образ жизни (лат.). 4 Формальный повод к войне (лат.) 5 Ловкая штука, проделка, фокус (нем.). 6 В переносном смысле – стать в тупик. 7 «Отец родной» – созвучно фамилии Герцена (нем.). 8 Это об Энгельсе, знатоке военного дела. 9 Да будет легка под тобою земля (лат.). 10 Все за одного, один за всех (нем.) 11 «О Венера, неужели тебе приятно играть моей добродетелью?» (франц.) 12 «Ясени» (франц) 13 Обиходное, разговорное название Шлиссельбурга. 14 Остановки, задержки. 15 Мое сердце тоскует (нем.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|||||||