 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Кларк Артур Чарльз :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: «Фирма приключений» :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души |
Соломенная Сторожка (Две связки писем)ModernLib.Net / Историческая проза / Давыдов Юрий Владимирович / Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Чтение (стр. 34)
Разошлись они в третьем часу. Экипаж, длинно шурша, плавно унес генерала. Азеф различил в тишине слабый треск вольтовой дуги – фонари-бра освещали подъезд опустевшего ресторана. * * *
Ревнивец, он запретил ей петь на публике. Амалию это радовало. Она устала от огней, пестроты, шума, флирта, букетов; шампанское от Кюба вызывало у нее тошноту. Конечно, пришлось отказать слишком дорогой портнихе. Но это не огорчало. Ей хотелось тишины. Она звала его «мой Мулат». Он был восхитительно ревнив; однажды даже отхлестал перчаткой по щекам, она, рыдая, клялась в верности. Если б только он знал, как ей хотелось ребенка, его ребенка. И чтоб они уехали в город ее юности. Неслись бы мимо монументальных, тяжеловесных станций, видели железнодорожных начальников в синих сюртуках. А потом, в Берлине, хлынет в окна электрический свет, и шнелльцуг, ноя тормозами, заклубит пар под сводом Центрального вокзала, и она, счастливая, выйдет на Фридрихштрассе и увидит белый угол Централь-отеля. О-о, в Берлине они стали бы жить очень гигиенически. Она варила бы отличный кофе и подавала бы вкусные хрустящие булочки. А Мулат, сидя у окна в халате и колпаке с кисточкой, курил бы длинную трубку. Они водили бы малыша в Зоологический сад поглядеть на слона. Или на Унтер-ден-Линден поглядеть на кайзера – император прогуливается, из ворот гауптвахты выбегает караул и салютует – айн, цвай, драй! То был голубой цветок – мечта, греза. Но Амалия верила, что все, все сбудется… Она жила на улице Гоголя. Квартирку нанял Азеф. Ему там все нравилось. И то, что в спальне с синими обоями свешивались с потолка новомодные фонарики. И то, что Амалия встречала его в розовом платье с букетиком фиалок на поясе. И то, что в гостиной висел «Остров Мертвых» в багетовой рамке, а «Дневник горничной» Октава Мирбо на круглом столике с раковиной-пепельницей всегда был раскрыт на одной и той же странице. А главное то, что он как-то очень, очень подлинно чувствовал себя здесь удачливым коммивояжером «Всеобщей компании электричества», то есть именно тем, за кого и выдавал себя этой глупышечке. Мечту-грезу она не таила от Азефа, и тот, развалясь, вдруг и ловил себя на мысли, что эдак-то и вправду было б недурно, ибо тогда уж не было б никаких БО и никаких Герасимовых, а глупышечка всегда бы любила его, какой бы фортель ни выкинула судьба. * * *
Года два спустя чета Неймайер учредила в Берлине ателье корсетов и модного дамского платья. Она готовила душистый кофе с хрустящими булочками. Он сиживал у окна в халате и колпаке. В воскресные дни они хаживали в Зоологический сад послушать отличную полковую музыку – это стоило две марки. А на Унтер-ден-Линден они видели кайзера Вильгельма – это не стоило и пфеннига. Увы, бог не дал младенца. Но она смирилась, а он не роптал. Соревнуясь в экономии, они завели отдельные чековые книжки. Она выписывала иллюстрированный журнальчик, он – беспартийную газетку. Оба были равнодушны к политике. Правда, он все-таки интересовался выборами в рейхстаг. Оказалось, в Берлине жительствует четверть миллиона социал-демократов, значительно меньше свободомыслящих, еще меньше консерваторов. Ах, пять лет голубел цветок голубой. Но вот заговорили пушки. Полковая музыка в Зоологическом саду умолкла, кайзер не прогуливался по Унтер-ден-Линден, кофе безумно вздорожал, социал-демократы ратовали за одоление варваров-славян, а берлинская полиция ловила шпионов. И в громах европейской войны никто, кроме г-жи Неймайер, не расслышал вскрика фальцетом г-на Неймайера – он был арестован. Арестованного препроводили в Моабит. Амалия, кажется, никогда не бывала на этой бесконечной, как ее горе, Инвалиден-штрассе. Надо было миновать и сельскохозяйственный институт, и естественный музей, и горную академию, и множество жилых домов, прежде чем увидишь высокие деревья парка, напротив которого находятся уголовный суд и тюрьма Моабит, одинаково угрюмые. У г-жи Неймайер текли слезы. Она не хотела знать, кто он такой, ее Мулат. Она знала только, что любит его по-прежнему, любит, как в Петербурге, и горько сожалеет, что они поселились в этом бездушном городе, где никому нет дела до страданий ее бедного Мулата. И верно, Азеф, он же Неймайер, страдал от несправедливости. Его обвинили в шпионстве. Если он и шпионил, то отнюдь не во вред Германской империи. Его обвинили в анархизме. Ни социалисты-революционеры, ни департамент полиции анархизма не исповедовали. Какая чудовищная несправедливость! Г-жа Неймайер обивала пороги испанского посольства, представлявшего в Германии интересы русских подданных. А г-н Неймайер писал в Стокгольм, «высокому комитету имени ее императорского высочества великой княгини Татьяны Николаевны» – просил посредников добиться разрешения покупать продовольствие за свой счет: совершенно необходима диета, он страдает почками. Кто уж там посодействовал – посол испанский или «комитет имени ее», сказать трудно, а только в один прекрасный день немцы, сообразив, что г-н Неймайер не занимался военным шпионажем, предложили сменить моабитскую одиночку на лагерь для гражданских пленных. Это было бы совсем неплохо, если бы Неймайер не был Азефом. После того как маньяк Бурцев и этот проклятый Илья Муромец русской революции… Нет, даже и не столько маньяк, так сказать, технический распорядитель, сколько именно Лопатин, с авторитетом и весом, суждениями и мнениями которого посчитались и те, кто долго не верил в предательство одного из основателей партии и главы БО, после того как маньяк и шлиссельбуржец сделали свое дело, он, Азеф, был публично объявлен провокатором, о нем наперебой писали газеты отечественные и неотечественные, его портреты попали и в периодику и в отдельные издания. А теперь колбасники требуют: никакого Неймайера, в лагерь пойдете только под своей подлинной фамилией. Идиотические педанты! Нечего сомневаться, в лагере непременно найдется мститель, и тебе крышка. Вот и опять, думал Азеф, вот и опять чудовищная несправедливость! Суть не в том, что бомба Созонова, убившая Плеве, как и бомба Каляева, убившая великого князя Сергея, были нацелены, и нацелены без промашки, им, Иваном Николаевичем. И Россия отнюдь не оплакивала ни Плеве, ни великого князя. Суть даже не в том, что так и не решено, на чью мельницу он вылил больше воды – революционеров или реакционеров? О, самая сокровенная суть, убеждал Азеф, словно бы и не себя, а того мстителя из лагеря для пленных, суть, она ведь вот какая: работая в терроре, он работал против террора. Людей, жаждущих подвига, посылал на подвиг, а вместе и на эшафот вовсе не ради подвига и эшафота. Нет, хотел, чтоб все наконец поняли, что между нами и теми, кто живет после нас, нет никакой связи, что есть лишь прижизненное счастье, независимое от того, будут ли счастливы другие. Всем лучше никогда не будет. Единственная гармония в отсутствии гармонии. Нет ничего дороже своей единственности. Зачем же эти лихорадочные помыслы о грядущих поколениях?.. Так Азеф убеждал не себя, а другого или других, тех, что в лагере для гражданских пленных, убеждал горячо, искренне, но знал, что его не поймут, и предпочел дожидаться лучших времен в моабитской одиночке. Спасительной, однако и губительной, потому что в тюремных условиях все сильнее сдавали сердце и почки. На четвертый год заключения ворота моабитской тюрьмы выпустили бывшего шефа БО и бывшего сверхсекретного агента уже не существующей империи. Стариковски шаркая, он увидел весенние облака, изумрудную дымку парка – и всхлипнул. Г-жа Неймайер с помощью извозчика усадила его в пролетку, укутала пледом и повезла домой. 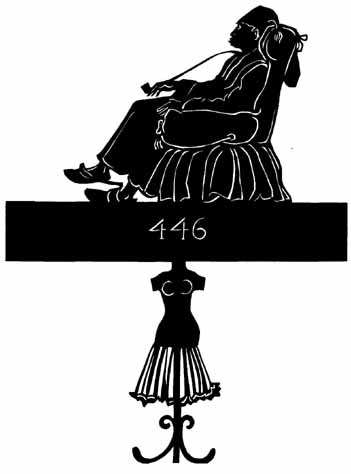
Лучших времен он не дождался. Сердце и почки отказывали. Ом очень боялся смерти и часто плакал. Совсем обессилев, затихал в видениях юности: отец-портняжка, мать-стряпуха, прыщавые сестры; недоучившийся реалист, он подрабатывал секретарем фабричного медика, корректором и репортером ростовской газетенки. Нищенское житье, хорошее житье… А молодость? О Карлсруэ – маленькая столица великого герцогства: парки и фонтаны, дворец и ратуша; тон задавали бурши – студенты, упитанные молодчаги с тросточками и жесткими, как жесть, высокими крахмальными воротничками; тугие щеки и медные лбы украшали шрамы почетных рапирных дуэлей. В кнайпах за кружками бурши чванливо третировали русских студентов политехникума за их глупое пристрастие к «политике», к «социальному». Пивных чураясь, уходили они в зеленые кущи и виноградники или отправлялись за восемь верст, к Рейну, где дымили дюссельдорфские буксиры, на рейнском берегу пели: «Выдь на Волгу», смачивая горло аффентальским красным. Он неизменно был в гурьбе, в компании, он, Азеф, прозванный земляками Толстым Жаком и уже обозначенный в бумагах департамента полиции «сотрудником из Карлсруэ» или, как написал однажды какой-то болван-писарь, «сотрудником из Кастрюли»… Потом, в России, он часто рассказывал Любушке о своем студенчестве, Любушка смеялась и хлопала в ладоши: «Толстый Жак? Славно! Ведь ты и вправду – добродушный увалень». И она тоже стала звать его Толстым Жаком… Бедная Любаша, вечная тревога за него, ранняя седина в иссиня-черных волосах, она курила папиросы «Вдова Жоз», иногда казалось, что в этом есть какой-то печальный намек… Проклятый маньяк Бурцев и трижды проклятый старик Лопатин – они, они погубили тебя, Любушка. Особенно этот шлиссельбуржец, задушил бы своими руками, – Лопатин, именно Лопатин, председатель третейского суда, положил конец сомнениям, колебаниям, всему положил конец. И ты, Любушка, ты стреляла в своего Толстого Жака, когда я, уже уничтоженный, пришел поглядеть на тебя, на наших мальчиков. Бедные, ни в чем не повинные мальчики, их сторонились сверстники, дети эмигрантов, жестокие, бездушные, указывали на них пальцем… И он опять плакал. Он плакал, страшась смерти, жалея себя, Любу, мальчиков, жалея и верную сиделку свою, увядшую, некогда пышную, златокудрую глупышечку. Этим страхом смерти, этим ужасным нежеланием перестать быть, этой жалостью он впервые приобщался к человеческому. Амалия похоронила его под сенью загородного кладбища. Заказать надгробье с именем покойного, родившегося в 1869-м и умершего в 1918-м, она не решилась – не хотела, чтобы могилу когда-нибудь осквернил осиновый кол. Но кладбище было немецкое, порядок требовал порядка, и на могиле поставили дощечку, меченную нумером «446». Когда могильщики ушли, Амалия, блекло улыбаясь, запела тихим дребезгливым голоском. Ревнивец, он запретил ей петь на публике. И вот она пела только ему, и зеленым деревьям, и зеленой траве: «Mein Herz ist betr15… Но все это годы и годы спустя. * * *
Герасимов не был бы богатырем сыска, если б нынче у «Донона» не объявил свой проект. А он, Азеф, не был бы Азефом, если б ужаснулся генеральному плану этого генерала. Азеф шел по улице Гоголя, голова была ясной, трезвой, холодной, а душа волновалась, душа предвкушала. Сквозь сон Амалия смутно расслышала, как Мулат отворил дверь. Вставать не хотелось, а хотелось дожидаться в постели, ощущая себя не содержанкой, обязанной выбегать в неглиже к своему султану, а порядочной женщиной, почти законной супругой. Разомлевшая, душистая, лежала Амалия, полуспящая, полубодрствующая, спокойно и счастливо дожидаясь, когда звоном медных пружин отзовется матрас на тяжесть грузного Мулата. Она сонно и нежно поцеловала его в щеку, угадывая, что Мулат чем-то очень озабочен, настоящему мужчине хватает настоящих забот, и сразу уснула – порядочная женщина, почти законная супруга. Он был свободен от вожделения плотского. Его снедало предвкушение, но он медлил расчислять, примерять, прикидывать, отдаваясь неплотскому вожделению, всегда мучительному, сладкому, острому. Как ни негодуй на генерала Герасимова за его паскудную угрозу открыть глаза Любе, а проект прекрасен. И, медля расчислять, прикидывать, примеривать, Азеф длил минуты, ради которых стоило жить. Ну, кто сейчас, в эту белую ночь, в этой огромной стране обладал большей властью, нежели он, сын ростовского портняжки, битого по мордасам квартальным за то, что портняжка, дрожа, как заяц, осмелился спросить должок? От кого сейчас, как не от него, Азефа, зависел роковой выбор? Он лежит в постели, узкая вертикаль, светлея между шторами, рассекает их черную плоскость. На одной стороне огненный факел уже начертал имя императора всероссийского, другая еще в багровых отблесках этого невидимого факела, ибо он, Азеф, только он, может решить, какое там обозначить имя. Но и это еще не все! Он, Азеф, обладает рычагом, способным опрокинуть замысел генерала Герасимова. Да, план прекрасен – покушение на императора! Широко шагаешь, богатырь сыска. Ой, широко, ай, широко. И веришь, что Азеф будет марионеткой в твоих руках. Ой, ошибаешься, ай, ошибаешься. Тебе нужна инсценировка покушения, лжепокушение? А ну как боевик-то, бомбист, отчаянный человек, ну как и выскользнет из-под нашего неусыпного бдения? Ты рассчитываешь захватить преступника в последнюю минуту, на последней черте? И карьерно взлететь – фрр – дальше некуда. Ан вдруг и захватишь воздух, пустоту? Скотина! Ты глядишь на меня как на маклера-крупье и уже определил мне кутаж – вознаграждение. Ты подло пригрозил, мерзавец: мною опозоришь Любу мальчишечек моих опозоришь. Это мною-то, сокрушителем Плеве и великого князя Сергея? Я мог спасти обоих, как спас Дурново. Не спас, ибо мне так было нужно, ваше превосходительство, мне, Азефу. Узкая вертикаль светила все ярче, захватывая краешки не вплотную сдвинутых штор. Фонарики, свешиваясь с потолка, казалось, тихонько колыхались. И эта зыбкость, это покачивание были приятны Азефу. Во всем мире не сыщешь мудреца, гения не сыщешь, который определил бы его, Азефа, сущность. Ибо ему наплевать – покушение или инсценировка покушения. Ничтожества, мечтающие о явной власти и звонкой наличности, где вам понять сладость зыби, сладость выбора, эту мистику и вместе реализм? Глупцы, нипочем не возьмут в толк, что у него нет никакой охоты обрекать смерти помазанника божьего, вымазанного кровью и грязью. Потому что нет к помазаннику ни капли жалости. А без жалости обрекать – это ваше дело, палаческое. Ты хитрая задница, Герасимов, и только. Можешь спокойно почивать, преступник будет схвачен в самый роковой момент, да, да, схвачен. И ты взлетишь – фррр. Но останешься всего лишь задницей с эполетными крылышками. Никаким синклитам или – как там? – никаким синедрионам не раскусить орех: обрекая боевика смерти, жалеешь его бесконечно и бесконечно тоскуешь. Ведь дело-то было не в том, чтобы избрать исполнителя, которому наперед уготована ликвидация, провал, эшафотный итог. Выбор агнца предполагал сакраментальное пиршество духа. Оно всякий раз требовало усиленной, по сравнению с предыдущей, дозы сострадания к жертве и сострадания к себе, предназначенному вершить то, что никому в целом свете не доступно. Тут темная тяга дамочек-морфинисток, вооруженных шприцем Праваца: увеличивай, увеличивай дозу, иначе морфий не подействует. Но дамочки ширкали иглой где попало, по ляжке, по руке; он, Азеф, вонзал в сердце. И тогда избирался агнец. Последним был Зильберберг, осчастливленный отцовством. Казенный пароход уже отстучал машиной, а на Лисьем носу близ флотских пороховых погребов разобрали до востребования складную виселицу, казенное же имущество – кандалы ручные и кандалы ножные – вернули по принадлежности, то есть в Петропавловскую крепость. Теперь на очереди был Никитенко, вчерашний лейтенант флота. Азеф любил Бориса, любил и берег. И предвкушалось нечто родственное оргазму. Но сейчас Азеф сознал, что силы утрачены, исчерпаны, остается лишь вялая подчиненность. И ему показалось, что он попал в нелепое положение – то ли обманулся в самом себе, то ли обманул самого себя. * * *
Вечером Азеф был у Герасимова на Мытнинской набережной, в домашнем кабинете богатыря сыска, как прежде бывал, правда, очень редко, на Таврической, в домашнем кабинете Лопухина. Лопухину он никогда не открывал до конца карты. И пользовался безнаказанностью. Уверенность в безнаказанности была необходима для наслаждения всевластием. Как и бесконтрольный выбор жертвы. Этого-то и лишил Азефа генерал Герасимов, утрата невосполнимая. Разговор вышел недолгий. Кандидатура «посягающего на священную особу государя императора», кандидатура наперед обреченного не вызвала возражений Герасимова. И Азеф в мыслях своих прощально махнул Борису Никитенко, кудлатому, с ямочкой на подбородке. Генерал дружески осведомился, когда же Азеф намерен «восприять отдохновение», Азеф ответил: «На этой неделе уеду» – и, вставая, напомнил Герасимову, чтобы тот замолвил, где надо, словечко в случае задержки заграничного паспорта госпоже Зильберберг, вдове казненного. Опять, как всегда после очередного предательства, был гнет опустошенности. Той, что могло утолить лишь новое предательство. Какая тоска… * * *
Распахнем окна – пора впустить свежий воздух. * * *
Не было в жизни случая, чтобы Лопатин самовольно явился на Фонтанку, 16. Возить – возили, водить – водили, но вот так, как теперь, нет, не бывало. Ему ничего не угрожало, он это прекрасно знал, а все ж, подходя к департаменту полиции, испытывал сложное чувство, в котором, право, находилось местечко и для предупреждающе-тревожных токов инстинкта самосохранения. Главное же было то, что всякий раз пробирала телесная, физическая неодолимая брезгливость, похожая на ту, что возникает у здорового, непричастного к медицине человека на пороге венерической больницы. Однако лицо его, вся стать и походка выражали внушительную непреклонность и еще нечто, равнозначное, пожалуй, тому, что определяют – «сам черт не брат». Чиновники, скрывая оторопь, как бы передавали его глазами от одного к другому: «Гляди, тот самый!» Товарищ министра, директор департамента, вице-директор говорили с ним очень вежливо, что, впрочем, всегда было принято у Цепного моста, где не орали, не топали ногами и не поминали Макара с телятами, обещая «сгноить» и «упечь», как городовые в какой-нибудь затрапезной каталажке. Но в этой вежливости обращения проглядывала и домашняя, что ли, короткость, признание давнего знакомства, когда нет нужды лицемерить и выписывать кренделя. Сперва он испросил разрешения на постоянное жительство в столице. Ей-богу, несколько странно: уж кто-кто, а г-н Лопатин с юности «превзошел» законы Российской империи, и для него, конечно, не секрет, что по смыслу амнистии пятого года всем бывшим шлиссельбуржцам воспрещается проживание в Санкт-Петербурге вплоть до девятьсот тринадцатого. Спорить г-н Лопатин не стал. Видно было, что он не очень-то и рассчитывал на благоприятное решение. Ну и отлично, отлично. В таком случае, продолжал он, необходима заграница, вот, извольте, заключение светоча науки, профессора Бехтерева. К тому же, объяснял, не улыбаясь, г-н Лопатин, до смерти надоело затруднять Вильненское жандармское управление обысками, каковые совершенно бессмысленны, а ведь некоторая доля осмысленности должна присутствовать даже в действиях губернских жандармов. Сверх того он полагает, что у департамента полиции превосходная заграничная агентура, пусть потрудятся тамошние филеры. Разумеется, можно было бы тряхнуть стариной, исчезнув нелегально, благо в привисленских местностях не перевелись контрабандисты. Да, да, можно было бы явочным порядком избавиться от всего, что надоело, однако нельзя: срок поручительства, данного младшим братом, увы, еще не истек. Правду сказать, Фонтанку устраивала формула – «для лечения». Во-первых, несмотря на внешнюю бравость, сивку все-таки укатали крутые горки. Во-вторых, капитальный враг – террористы, а г-н Лопатин давний противник террора; из последних же писем (понятно, перлюстрированных) явствует, что г-н Лопатин не приемлет террор как средство, особенно вредное в пору массового движения… Итак, формула «для лечения» была подходящей. Но нет формул, которые упраздняли бы формальности. Ну, ну, г-н Лопатин, вы же знаете, все пойдет нашим рутинным порядком. После Фонтанки хотелось переменить сорочку, воротничок, манжеты. Однако возникало и другое. Если он еще и не решался повторить вслед за стариком Либкнехтом: мне не шестьдесят, а лишь дважды тридцать, то уже решался сказать себе: ты, брат, не пенсионер от революции. Конец дожитию положила работа на Большой Конюшенной: переписка Маркса и Энгельса с Даниельсоном была готова для типографского станка, а стало быть, и для русского читателя. Эта работа сопрягалась с частыми поездками на Спасскую, к Бурцеву. Бурцев приоткрыл люк в преисподнюю. Остаться в стороне? Опять, что ли, «ты для себя лишь хочешь воли»? В «первой жизни» был Нечаев, был Синельников. Один исповедовал вседозволенность ради революции; другой – ради высших, державных целей. Нынешняя чадила декадансом – ради собственного «я». Засучивай рукава, надо мыть грязное белье. И тут уж не до брезгливости. Лопатин отдавал должное гневной страсти Бурцева к разгадке ребусов Фонтанки. И находил некоторые резоны в юридическом сопротивлении злу, которое выказывал бывший начальник тайной полиции, хотя и сомневался в чистоте побуждений обиженного отставкой статского генерала. Но страсть Бурцева и уж конечно рассуждения Лопухина не были Лопатину путевым компасом. Он собирался в Париж, к Бурцеву, не затем лишь, чтоб найти и пригвоздить сверхсекретного провокатора. Главное было в энергичном противостоянии пошлейшей, кровавой вседозволенности, зловещей убыли души. Но и этим все не исчерпывалось. И в Вильне, и в Петербурге он приглядывался к тем, кто сменил «старших, в борьбе уставших», к эсдекам присматривался, к эсерам. Покойный Бисмарк однажды адресовал немецким социал-демократам язвительнейшую реплику: «Если бы Лассаль воскрес и появился среди вас, он почувствовал бы себя как орел в курятнике». Воскресни Лассаль, очутись он в России, почувствовал бы себя ощипанным петухом среди орлов. Что ж до эсеров, у тех лидировали террористы-боевики, тяга к заговорам, и потому «ходом вещей» все оборачивалось политическим ребячеством, напрасной гибелью, больше того и хуже того – пусть невольным, но пособничеством реакции. Так что ж, вчуже взирать, как водоворот поглощает пловцов, достойных лучшей участи? О, пусть уж Жорж Плеханов выльет еще один ушат ледяной трезвости! Каждому – свое. Засучив рукава, стирай грязное белье. Положи последние силы, доказывай: ход вещей, террорный и заговорщицкий, неизбежно ведет к шабашу кровавой, ядовитой вседозволенности. Бурцев основал революционно-пинкертоновское бюро в Париже, на какой-то улочке Люнен. Вынь душу из бездушных департаментских чинуш – уезжай. Герцен говорил: бойся эмигрантства. Но ты не эмигрируешь – ты едешь «для лечения». Правда, не по Бехтереву. И не «дожитием» будет тебе Париж. Нет, возвращением в «первую жизнь». А на белом свете есть еще и город Лондон. На ту сторону Ла-Манша звал Феликс: давай, брат Герман, обнимем друг друга, а то, глядь, и окочуримся в розницу. О Феликс Волховской, это ж начальные строки книги бытия: «Рублевое общество», Невская куртина, медные каски стражников… В мыслях о Лондоне был дом на Мейтленд-парк-роуд, стеклянный купол Британского музея, типография «Вперед!» в проулке с пакгаузами. И была в мыслях о Лондоне желтизна казематного фонаря на странице журнала «Научное обозрение», – узнав о ее самоубийстве, нумер двадцать седьмой вдруг все перестал понимать и, может, впервые почувствовал, что это такое – тишина Шлиссельбурга… Годы спустя на Большой Конюшенной, в домашнем кабинете Фрица, читал ее письмо, почти предсмертное: «По-видимому, у вас не имеется никаких новых сведений о состоянии здоровья нашего дорогого общего друга? Из всего того, что я слышу, я вывожу печальное заключение, что нет почти никаких шансов, чтобы он поправился вполне от постигшей его болезни. С искренним приветом и всякими добрыми пожеланиями остаюсь преданная вам Элеонора Маркс-Эвелинг»… На Большой Конюшенной он уже не был нумером двадцать седьмым, и его пригнула вина перед Тусси. Сознавая тщету всех «если бы», не мог он избыть свою вину и все думал, все думал, что спас бы Тусси, если был бы на воле… Недружная весна перетекала в лето, когда ему объявили: «Выезд разрешен». Он не обрадовался: все будто б переместилось в душе, переместилось и переменилось. Им овладела тягостная мысль о смерти на чужбине. За гробом Лаврова – от улицы Сен-Жак до Монпарнасского кладбища огромная процессия, много рабочих, – за гробом Лаврова несли венки, на одном значилось: «Петру Лаврову от Германа Лопатина». То было в девятисотом, ты был в Шлиссельбурге и ничего не знал. Теперь знаешь, и этот венок – как предзнаменование. Говорил себе: «Ты отпетый здоровяк, и ты ж не навсегда приговорен к чужбине, вернешься…» Но страх смерти не расточался. Он думал о матери, думал об отце, давно похороненных в Ставрополе. Человек в прошлом кочевой, он думал об очагах ему родственных. Давешним летом был в Одессе, был на Кавказе, обнаружил племянников и племянниц, внучатых племянников и внучатых племянниц. Ни к одному из тех очагов не приник надолго, и все же они бодрили и грели. Набегая на Питер, кажется, лишь однажды остановился у сына. Не оттого, что чуждался невестки. Напротив, находил Катюшу очаровательной, тонкой духовно, она к нему ластилась искренне. Нет, не желал затруднять своей персоной. А теперь, хотя и условились, что Бруно навестит его за границей, печалился так, словно снова терял своего мальчика. Он часами бродил по городу. В одиноких хождениях держался вдалеке от конных статуй, каменных львов и бронзовых грифов, от Исаакия, проспектов, Александрийского столпа – убредал на окраины Васильевского острова, где топко и глинисто, или в Старую Деревню, где коряги у берега Большой Невки и просмоленные лодки, тиной пахнет и салакой. Он не забыл слитный рокот – тот, что прихлынул к циклопическим стенам, когда восьмерых узников доставили в Петропавловскую крепость, – но теперь в этом рокоте слышал не тоску годов, размолотых шлиссельбургскими жерновами, а движенье огромной жизни. Где-то на Охте, в переулках совсем провинциальных, застиг его ливень с грозой. Сильно прянуло молодой зеленью, мокрой землей, деревьями, и стал внятен смысл одиноких хождений. Город не был европейскими сенями азиатской избы, город не противостоял России – он тоже был Россией. Но, прощаясь с Россией, Лопатин, как бы и безотчетно, предпочитал предместья с их глиной, лужами, корягами, дровяными сараями, лодками и дощатыми пристанями. Не радуясь отъезду, собрался наконец в отъезд. Сподручнее было б из Вильны, так нет, взял да и решил – из Питера дольше ехать Россией. Он не обиделся бы, не приди Бруно с Катей. Ну нисколько! В отъезде без провожания чудился зарок скорого возвращения: обойдемся без церемоний! А они все-таки примчались на Варшавский. Он сердито засопел и сказал счастливым голосом: «Неслухи». Они рассмеялись, он тоже. – Часто-часто писать будем, – пообещала Катя, припадая лбом к его плечу; он услышал запах как бы и не духов, хотя именно духов, но притом словно бы и единственный, какой только и мог быть у его очаровательной невестушки. – Часто-часто, – смело и звонко повторила Катя, безошибочно угадывая, как ему приятен этот запах. – Адресуйте: «На деревню дедушке», – сказал он ласково. И назидательно поднял палец: – Де душ ке, сударыня. Она вспыхнула, а Бруно иронически прищурился: – Ты же настрого запретил внучатым племянникам величать тебя дедушкой. – Ах, господин адвокат, я непоследователен. Непоследователен, как Лавров. Петр Лаврыч никогда не божился – из принципа. Никаких «слава тебе богу», «не дай бог» и прочее. Но чертыхался. А я возьми да и скажи: вот, мол, атеист, а взываете к нечистому. Представьте, смутился: это, говорит, непоследовательность, больше не буду. – И что же? – улыбнулся Бруно. – Э, еще как поминал черта… – Лопатин взглянул на часы. – Облобызаемся – и ступайте. Ступайте! Не то рассержусь, а в моем возрасте это опасно. * * *
Направляясь домой после заграничных деловых свиданий и консультаций, Алексей Александрович Лопухин свернул в курортный городок близ Аахена. Тут, в Буртшейде, Лопухин поселился в лечебном заведении с ванными, залами для гимнастики и кабинетами для массажа. Всем этим медицинским комфортом в приятном соединении с почти сельским покоем пользовалась публика, одержимая нервными болезнями, в большинстве – тихие шизофреники. Алексей Александрович в шизофрениках себя не числил. Мнительностью не отличался, к лечебным процедурам склонности не имел. В Буртшейде он оказался, можно сказать, из деликатности: подчиняясь настояниям домашнего врача укрепить нервы. С нервами и вправду было скверно. В прошлом году Лопухин напечатал брошюру «Из итогов служебного опыта». И это уж означало его окончательный разрыв с той машиной, что называлась бюрократической. Брошюра рассматривала лишь полицейскую часть государственного устройства Российской империи, однако каждый понимал: часть больше целого. Нашлись языкатые: дескать, перо Лопухина дышало местью, он хотел возобновить карьеру и напоролся на отказ председателя совета министров. Да, оттолкнул Столыпин, Петруша Столыпин оттолкнул однокашника по гимназии, а ведь были на «ты». И все же Лопухин твердо полагал, что руководился отнюдь не злобой, а честно высказал наболевшее: политическая полиция требует коренных преобразований. А ему гаркнули: «Пшел вон!» Петрушин отказ оскорбил Лопухина. Он ухватился за Тацита: постараемся найти средний путь, свободный и от бесполезного сопротивления, и от рабской угодливости. Этот средний путь вел, по его мнению, в адвокатуру, и бывший прокурор задумал перейти в адвокатское сословие. Такое бывало. Увы, Лопухин упустил одно обстоятельство – свою недавнюю должность на Фонтанке… Бедные шефы сыскных и карательных ведомств! Они в кресле – их трепещут; они без кресла – их презирают. Лопухина не приняли в адвокатуру: «Пшел вон!» Лопухин был оскорблен вдвойне. Пенсии не дали. Какая пенсия уволенному по третьему пункту? Сбережения не отягощали. Какие сбережения? Жена не мотовка, но она ведь урожденная княжна Урусова. И две дочери, и у дочерей бонны – англичанка и француженка; и квартира в пятнадцать комнат; надо принимать и надо выезжать; да и вообще привычки и обыкновения человека состоятельного. Фу, так недолго и по миру пойти. Но есть, есть дрожжи коммерции, они взбадривают опару предпринимательства, а пекарям тоже, знаете ли, нужны юристы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|||||||