 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Кларк Артур Чарльз :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Омен. Последняя битва. |
Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детствоModernLib.Net / Детские / Давыдычев Лев Иванович / Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство - Чтение (стр. 8)
Выскочив из квартиры, Вовик по перилам на животе съехал вниз, выбежал из подъезда, оглянулся по сторонам – старушки нигде не было. Он сбегал до одного угла дома, до другого – тот же результат, вернее, никакого результата, – и остановился как вкопанный. В голове застучало сразу три вопроса: который подъезд? который этаж? которая квартира? – Да что это за денек такой невезучий? – с очень большой досадой прошептал Вовик, насчитав шесть подъездов в четырехэтажном доме. – Мда… положеньице… и что прикажете делать? Выход получался всего-навсего один: ждать, когда появятся Илларион Венедиктович, старушка или Григорий Григорьевич. В целях экономии времени, уважаемые читатели, и чтобы не заставлять вас ломать голову над тем, что произошло, сразу объясню случившееся. Вовик с Григорием Григорьевичем попали в бывшую квартиру Иллариона Венедиктовича, из которой он недавно выехал и в которой поселилась большущая семья. В этой семье и жила, вернее же, мучилась, старушка Анастасия Георгиевна – владелица Джульетточки. У старушки было много-много внуков и внучек, которых она называла оравой ораторов (от слова «орать»). Дети росли крикливыми, непослушными, капризными, скандальными, житья от них никому не было, даже соседям. Анастасия Георгиевна решила воспитывать их, точнее, перевоспитывать, по принципу, сформулированному ею следующим образом: полюбишь собачку – полюбишь и человека, полюбишь человека – может быть, будешь вести себя хотя бы относительно нормально. Для этого она собиралась каждому внуку и каждой внучке подарить по собачке, чтобы они (внуки и внучки) ухаживали за ними (собачками), воспитывали в них лучшие собачьи качества и сами становились хотя бы чуть-чуть похожими на хороших детей. Но первая же собачка – Джульетточка – оказалась настолько непослушной, вздорной, скандальной и тявкливой, что дети пытались её чуть ли не придушить или просто выбросить. Анастасия же Георгиевна так полюбила Джульетточку, что, когда внуков и внучек развезли по местам отдыха, решила милую собачку перевоспитать. Ей сообщили, что это легко и быстро можно сделать, если обратиться к собачьему гипнотизёру по фамилии Шпунт. Вот сегодня Анастасия Георгиевна и поехала к нему договариваться: сначала она хотела убедиться, что из себя представляет тот, кому она собиралась доверить свою дорогую Джульетточку. Из бюро услуг она пыталась вызвать нянечку, чтобы та (или тот) посидела с собачкой, но так как Джульетточка безостановочно тявкала в телефонную трубку, то старушка из ответов ничего не разобрала, а ей говорили, что собачек, даже замечательно прекрасных, бюро не обслуживает. И когда появился Григорий Григорьевич, Анастасия Георгиевна приняла его за нянечку! Так вот сейчас эта нянечка, длинная-предлинная, высилась в кухне на табурете, потому что Джульетточка от беспрерывного, но всё более озлобляющегося тявканья перешла к практическим действиям, не менее озлобленным, – пыталась цапнуть нянечку. Григорий Григорьевич ни разу в жизни не бывал в таком, как он мысленно выражался, идиотском положении. Конечно, допрыгнуть хотя бы до его ног злобная собаченция не могла, но и он спрыгнуть с табурета на пол тоже не мог – боялся быть искусанным и даже истерзанным. И он кричал Джульетточке дрожащим и прерывистым от негодования голосом: – Раздавить тебя мало! Отравить тебя недостаточно! Голодной смертью тебя прикончить маловато! С четвёртого этажа тебя выбросить – слишком большая честь для тебя! А ещё друг человека считаешься! Вдруг он вспомнил о Вовике, живо представил, как открывается дверь, входит ни о чем, вернее, ни о ком, не подозревающий мальчик, и в одну из его ног вцепляется или даже вгрызается эта ненормальная четвероногая психопаточка. Тут он заметил на подоконнике большую кастрюлю, стоявшую вверх дном, и в голове его моментально созрел план, надо сказать, великолепнейший план обезвреживания задыхавшейся от бессильной злобы дикой кандидатки в особо опасные преступницы. 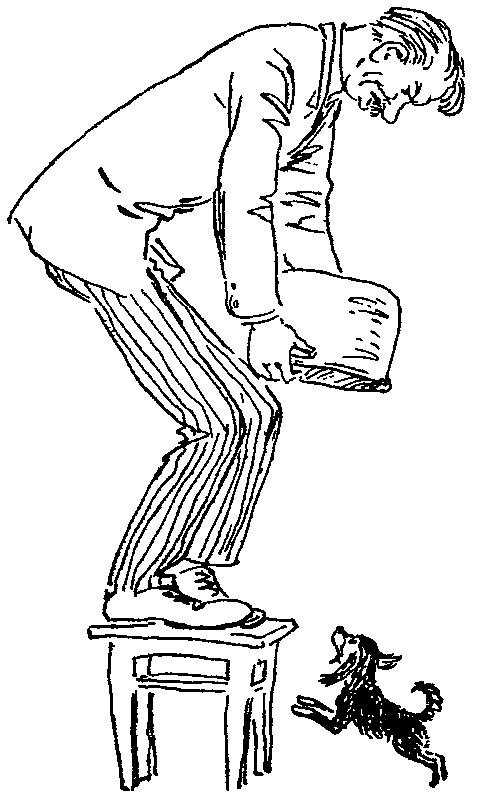
С большим трудом сохраняя равновесие, Григорий Григорьевич дотянулся до кастрюли, долго и тщательно примеривался-прицеливался, ловко спрыгнул с табурета, накрыл Джульетточку кастрюлей и в наиполнейшем изнеможении сел на неё. Отдышавшись и чуть-чуть-чуть успокоившись, он великодушно пожелал собачке приятного отдыха, а сам стал беспокоиться уже о долгом отсутствии Вовика и причинах этого отсутствия, которые представлялись ему серьёзными. Джульетточка между тем стукалась о стенки и дно кастрюли, но звуки оттуда доносились приглушенные. А Вовик на улице изнывал от неопределённости своего положения. Больше всего его волновало: что сейчас о нём может подумать Григорий Григорьевич? 
Тут на его, Вовиково, счастье из подъезда появилась девочка, голова которой была вся в разноцветных бантиках. Девчонок Вовик отчаянно (вернее, с отчаяния) презирал, разговаривать с ними по-человечески не был пока способен, однако на сей раз, подавив глубочайший вздох, был вынужден как можно вежливее спросить: – Слушай, ты! Где здесь у вас старушенция живёт с такой малюсенькой злющей собаченцией? Но девочка, видимо, привыкла, что иначе мальчики и не умеют разговаривать с девочками, и охотно ответила: – В нашем доме живёт достаточно много старушек с малюсенькими злыми собачками. Знаете, старость располагает к общению с животными и неудивительно, что… – Ты много-то не болтай! – собрав все свои способности к вежливому обращению, оборвал Вовик. – Собаченцию эту звать что-то вроде… не помню… – Простите, но я по именам собачек не знаю, – сказала девочка. – И чтобы продолжить разговор, нам необходимо представиться друг другу. Меня зовут Вероника. – Меня зовут Вовик, – сквозь зубы процедил он. – Собачек как зовут ты не знаешь, а чего ты тогда знаешь? О чём нам тогда разговаривать? – О, разговаривать можно о многом! – воскликнула Вероника. – Действительно, я не знаю имен, то есть кличек собачек, но зато могу перечислить буквально всех старушек. Я со всеми ими общаюсь, стараюсь каждой помочь, как истинно воспитанная девочка. Вот в первом подъезде, например, живёт совершенно изумительная… Вовика вдруг осенило, и он, уже забыв о всякой вежливости и тем более воспитанности, сказал, как и положено мальчишкам: – Да не нужны мне твои старушенции в общем-то! Ты мне вот что ответь! Ты случайно не знаешь, в которой квартире живёт Илларион Венедиктович Самойлов? – Ах, такой старенький генерал-лейтенант в отставке! – обрадовалась воспитанная девочка Вероника. – Извините, но я даже не знаю, в каком доме он живет. – Ну, как ты, голова[1] с бантиками, не знаешь, где живёт такой человек? Да в вашем доме он живет, к твоему сведению! – Какой вы грубый… – печально проговорила воспитанная девочка Вероника, и все разноцветные бантики на её голове поникли. – Я просто теряю всякий интерес к вам… Но Вовик промолчал, сдержался, чувствуя, что сейчас может услышать что-то нужное для себя. – Несмотря на вашу грубость, – печально продолжала воспитанная девочка Вероника, – я продолжу разговор с вами. Так обязаны поступать воспитанные девочки. Видите ли, я знаю, где жил в нашем доме Илларион Венедиктович. – Как это – жил? А сейчас не живет, что ли? – Вот именно. Прежде чем грубить, надо было подумать. Недавно он переехал на новую квартиру. Понимаете, квартира в нашем доме для него была явно велика. И он, исходя из самых благородных побуждений… – Да кончай ты свою болтовню! У меня важное дело, а она тут… Воспитанная девочка Вероника с болью поморщилась, но подробно объяснила Вовику всё, предложила даже проводить его, но на радостях Вовик даже не обозвал её никак, а взлетел на четвёртый этаж и позвонил в квартиру №33. От нетерпения он подпрыгивал, но за дверью было тихо. «Неужели эта голова[2] с бантиками, – пронеслось в Вовиковой голове, – чего-нибудь перепутала или нарочно меня обманула?» – И он звонил, звонил, звонил… Замерев в растерянности, он прислушался и уловил далекий голос, однако слов разобрать не мог. Сначала это повергло его в сильнейшее недоумение, а затем он ощутил страшок: видимо, в квартире что-то случилось. И он с неприятным ощущением уже не страшка, а подлинного страха напряженно ждал, почти прижав ухо к дверной обшивке. А в квартире, точнее, на кухне, происходило следующее. Григорий Григорьевич кричал Вовику, чтобы тот обождал, а сам никак не мог сообразить, как ему быть с собаченцией под кастрюлей, хотя она (собаченция) уже не подавала признаков активного существования. Но когда звонки прекратились, Григорий Григорьевич решил, что пора действовать, а не размышлять. Он, придерживая кастрюлю руками, осторожно приподнялся, склонился над ней, внимательно прислушался, с удивлением ничего не услышал, резко опрокинул кастрюлю… Джульетточка лежала на спинке, подняв кверху все четыре лапочки. – Сдохла, сдохла… то есть задохнулась… – еле-еле-еле слышно прошептал Григорий Григорьевич. – Прости меня, если сможешь… миленькая ты моя… я же не хотел твоей кончины… я только спасался от тебя… Зачем-то взяв кастрюлю в руки, он побрёл к дверям, открыл их, впустил обрадованного Вовика и, как говорится, загробным голосом сказал: – Нет больше нашей дорогой Джульетточки… по моей вине она погибла… в муках ушла из жизни… такое несчастье… горе-то какое… – Чего это с ней стряслось? – без особой жалости поинтересовался Вовик. – Я долго сидел на ней, – Григорий Григорьевич приподнял кастрюлю одной рукой, – а под ней была она… в муках… бедная… я не забуду её никогда… по моей вине… такая гибель… – Да живая она! – возмущенно воскликнул Вовик. – Поглядите! Григорий Григорьевич с изумлением смотрел на него, не решаясь оглянуться, а когда набрался решимости для этого, увидел, что Джульетточка, покачиваясь из стороны в сторону на своих тонюсеньких ножках, выходит в прихожую из кухни, и пролепетал: – Радость-то какая… счастье-то какое… Собаченция подошла к нему, с трудом потянулась мордочкой вперёд и лизнула ему ботинки, повиляв хвостиком. – Чу… чу… чу… чу-де-са… – с очень большим трудом выговорил Григорий Григорьевич. – Ведь совсем недавно не подавала никаких признаков жизни… а до этого я от неё на табурет влез – искусать меня пыталась… Милая ты моя! – Он взял её на руки, нежнейше прижал к груди, и Джульетточка благодарно лизнула его в щёку. – Представляешь, Вовик! – осчастливленный, воскликнул он. – Это же был бы ужас, если бы она погибла по моей вине! А что бы я сказал в оправдание хозяйке? – Илларион Венедиктович из этой квартиры выехал, – недовольно произнес Вовик. – А к кому мы попали, неизвестно. – Мы попали к Джульетточке, – радостно ответил Григорий Григорьевич, можно сказать, ласкаясь с собаченцией: он терся щекой об её бывшую когда-то злой мордочку, а она периодически лизала ему щёку. – Григорий Григорьевич! – с укором воскликнул Вовик. – Ведь мы не эту собаченцию искали, а… – Пойдем, Джульетточка, покушаем. – Григорий Григорьевич даже внимания не обратил на Вовиков упрёк, отправился с собаченцией на кухню и стал с умилением наблюдать, как она лакала молоко из мисочки, часто взглядывая на своего убийцу-спасителя, благодарно крутила хвостиком. – Давай, давай питайся, сил набирайся! Забудь всё неприятное! Григорий Григорьевич снова взял Джульетточку, на руки и принялся осторожными, даже нежными движениями убаюкивать её, как младенчика, и говорил уже тихо, в ритме колыбельной, чуть ли не напевая: – Я жестоко поступил, чуть собачку не убил. Никуда мы не пойдем, мы хозяйку подождем. Мы узнаем всё, что нужно, будем жить с собачкой дружно… Уснула… – удовлетворенно и умиротворенно прошептал он. – Мы ведь ищем твоего Иллариона Венедиктовича. Рано или поздно он вернется домой, и вы встретитесь. Чем же ты недоволен? – Да не живёт он здесь, – невольно тоже шепотом ответил Вовик. – На новую квартиру он переехал. А мы попали к какой-то ненормальной старушенции… И зря тут время тратим! Видно было, что Джульетточка блаженствовала на руках Григория Григорьевича, и он не менее блаженствовал, если не больше, и смысл Вовиковых слов не сразу дошёл до его умиленного сознания, а когда, наконец, дошёл, он сказал: – Новый адрес Иллариона Венедиктовича мы всё равно узнаем. Я по старой службе-дружбе обращусь в милицию. Но понимаешь, Вовик, если нас здесь и приняли неизвестно за кого, а мы практически согласились остаться и ждать, то невольно взятые на себя обязательства обязаны выполнить. И собачку одну оставлять нельзя: у неё по моей вине было нервное потрясение. – У меня тоже скоро будет нервное потрясение, – пробурчал Вовик. – Или с голода в обморок грохнусь. – Очень хорошо, – поразмыслив, ответил Григорий Григорьевич. – Ты отправляйся домой, пообедай и возвращайся сюда. В любом случае я тебя буду здесь поджидать с моей малюточкой. – Да не ваша она! – вырвалось у Вовика. – Старушенции она принадлежит! Григорий Григорьевич! – едва не взрыднул Вовик. – Что с вами случилось? – Со мной случилось счастье, – тихо, но торжественно произнес Григорий Григорьевич. – Ты лучше заинтересуйся, что случилось с Джульетточкой, и это будет небесполезным для тебя. Она… – голос его задрожал от нежности и умиления… – она же пе-ре-вос-пи-та-лась… Вспомни, какой мы застали её здесь. Злобной, капризной, неблагодарной. Я от неё на табурет залезал. А сейчас… – Вы считаете, что кастрюлей её перевоспитали? – ехидно спросил Вовик. – Интересный способ! Переворот в науке! Не буду, уважаемые читатели, описывать их дальнейшего спора-разговора. Передам лишь его основной смысл. Григорий Григорьевич на примере Джульетточки доказывал, что иногда к избалованным существам не вредно применять довольно жестокие методы наказания, когда все остальные не привели к положительным результатам. Вовик же настаивал на том, что собаченции это собаченции, а человек это человек, его кастрюлей не накроешь и т. д. Ещё мне следует, уважаемые читатели, сообщить вам о том, что произошло с Анастасией Георгиевной у собачьего гипнотизёра по фамилии Шпунт. Он согласился за весьма приличное вознаграждение перевоспитать Джульетточку – вместо наисквернейшего характера привить ей почти ангельский. Анастасия Георгиевна усомнилась в этом заявлении: оно представилось ей подозрительно самоуверенным, а сам обещатель – крайне подозрительной личностью. Тогда тот, показавшись ей ещё более крайне подозрительным, ещё более самоуверенно заявил: – Позвольте, я для демонстрации своих выдающихся способностей усыплю вас. Кем бы вы хотели стать во сне? – Конечно, Джульетточкой, – ответила Анастасия Георгиевна, – но доброй, послушной, отзывчивой. Собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт мгновенно усыпил старушку, но, сколько ни пытался, чтобы она во сне хотя бы немножко потявкала, ничего из этого не получалось. Тогда он попробовал разбудить её, но тут она как раз стала изредка потявкивать, но никак не просыпалась. Обескураженный и предельно растерявшийся собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт уже мечтал только об одном: узнать у старушки адрес или номер телефона, чтобы отправить её домой, но Анастасия Георгиевна продолжала крепко-крепко-крепко спать и даже уже не тявкала, а громко и сладко посыпывала, изредка радостно похрапывая. И так как всё это будет продолжаться ещё довольно длительное время, мы с вами, уважаемые читатели, отправимся в лабораторию Гордея Васильевича, где он со своим старым другом Илларионом Венедиктовичем горестно обсуждал глупую и общественно опасную затею своего внука Робика, он же бывший Робка-Пробка, а ныне шефчик Робертина, организатор банды малолетних обормотов. Глава под номером ШЕСТЬ и под названием «Воспитание детей – сверхнаиважнейший вопрос современности, или Банда Робертины пытается приступить к преступным действиям» 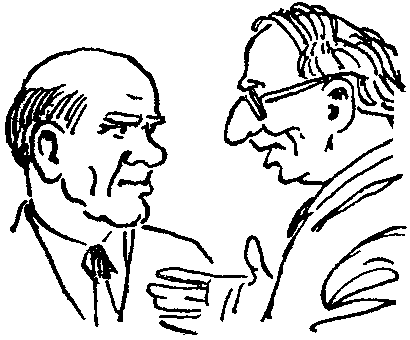
Гордей Васильевич, Илларион Венедиктович и робот Дорогуша давно уже пребывали в глубокой задумчивости. – Когда же это случилось? – вдруг резко и так громко спросил Гордей Васильевич, что у Дорогуши испуганно мигнули глаза-лампочки. – Когда именно, в какой несчастный момент очаровательный малыш начал превращаться, причем безостановочно, в будущего шефчика – организатора банды из малолетних преступников-обормотиков? – Прошу извинения, – сказал Дорогуша, – позвольте напомнить, что рабочий день окончен. Желаю приятного отдыха. До свиданья. – Спасибо, Дорогуша, – машинально поблагодарил Гордей Васильевич. – Баловали его, конечно, страшно, немыслимо баловали, антигуманно. В том числе, конечно, и я. И что мне сейчас прикажешь делать? Какие применять меры? – Прошу извинения, – сказал Дорогуша, – позвольте напомнить, что рабочий день… – Дорогуша, отключи батареи питания и включи их через двенадцать часов. – Вас понял. – Пример послушания! – восхитился Илларион Венедиктович. – Робот! – насмешливо ответил Гордей Васильевич. – Из него тоже можно бандита сделать, кстати… Главное, с родителями толковать бесполезно. Они в своем обормоте души не чают, млеют от умиления, стоит ему вытворить любую глупость. И сам-то я всего этого до последнего времени почти не замечал. Отрастил он себе редкой красоты шевелюру и решил, что голова дана человеку именно для этого… Нет, нет, ты мне объясни, Иллариоша, откуда он всей этой дряни набрался? Когда успел? Шеф! Организатор банды! – Пораньше надо было «Чадомер» изобретать. – «Чадомер» только укажет опасность, а как её ликвидировать, будут решать сами воспитатели. Я вот сейчас, честное слово, убежден, что настоящая, по всем правилам, порка прочистила бы моему внуку мозги, если, конечно, они у него имеются в достаточном количестве. – На это я тебе вот что отвечу, – насмешливо произнес Илларион Венедиктович. – Выпороть внука по всем правилам тебе не удастся, потому что ты этих правил никогда толком и не знал. А посему необходимым опытом для проведения данной процедуры ты не обладаешь… Беда нас, стариков, – уже серьёзно продолжал он, – а может, и счастье, в том-то и заключается, что мы о себе самих почти не думаем. Всё о них, о них, о потомчиках! Они и привыкли. Вот тебе сейчас только бы радоваться и радоваться. Чудо какое изобрел! А у тебя на душе… – Работы ещё невпроворот, Иллариоша. – Не прибедняйся, Гордеюшка. Главное-то уже сделано. И я ведь тебя оч-чень понимаю. Убежден, что заботы твои мне ближе, чем даже твоим ближайшим сотрудникам. – Мои сотрудники, – с обидой произнес Гордей Васильевич, – преданные науке люди и… – И я так считаю, – осторожно перебил Илларион Венедиктович. – Просто мне хотелось, чтобы ты не только умом, но и сердцем почувствовал, что мы с тобой большие единомышленники, чем может показаться на первый взгляд. Задумал я оч-чень необычнейшее мероприятие. Решил я посвятить остаток жизни детям, понимаешь, детям в принципе, а не только своим личным потомчикам, – тихо, словно Дорогуша мог подслушать, доверительно рассказывал Илларион Венедиктович. – Только ты отнесись к моим словам со всей серьёзностью, по-научному строго. Задумал я, повторяю, нечто оч-чень необычайное, но, на мой взгляд, и перспективное. И назвал я это мероприятие биолого-психолого-педагогическим экспериментом. Представляешь, среди этих, к примеру, бандитиков-обормотиков появляюсь я… мне лет десять, прозвище Лапа, как в далеком детстве… а в остальном я преждий, то есть генерал-лейтенант в отставке. И начинаю я действовать… Гордеюшка, я с удовлетворением и даже гордостью отмечаю, что ты даже не усмехнулся ни разу. – Над больными не смеются, – сочувственно объяснил Гордей Васильевич. Илларион Венедиктович до того растерялся, обиделся и тут же возмутился, что с вызовом начал: – А ты полагаешь… – Да! Если ты хочешь, чтобы я отнесся к твоей затее со всей серьёзностью, по-научному строго… Пожалуйста! Завтра же я покажу тебя психиатрам! Нет, ты не сердись, Иллариоша… – Я просил тебя подумать, а ты сразу… – Но ведь науке неизвестно… – А «Чадомер» до того, как ты его изобрел, был известен науке? – уже запальчиво воскликнул Илларион Венедиктович. – Когда ты впервые высказал идею о таком приборе, все ли в неё поверили? Не советовали тебе обратиться к психиатрам? – Но «Чадомер» – прибор! А как ты станешь десятилетним? Что с тобой потом будет? Илларион Венедиктович опечалился, ответил неохотно, вяло: – Это совершенно другой вопрос. А мне необходимо получить не только твоё принципиальное согласие на возможность редчайшего биолого-психолого-педагогического эксперимента, но и твою моральную, дружескую поддержку. Неужели ты не сможешь поверить в целесообразность моей идеи? Если ты сомневаешься в ней как ученый, то почему она не привлекает тебя как деда, наконец? – Дед-то из меня получился никудышный, – устало и уныло проговорил Гордей Васильевич, и только тут Илларион Венедиктович понял: да ведь его друг просто-напросто зверски устал!!! Пережить за день два потрясения, да тут ещё он, вместо того, чтобы утешить друга или хотя бы отвлечь, пристал к нему со своей фантастикой! – Чисто по-дедовски, – уже совсем устало и в самой высшей степени уныло продолжал Гордей Васильевич, – я мыслю примерно следующим образом. Жизни своей не пожалел бы, как мы не жалели её с тобой на войне, чтобы любой негодяйчик или негодяечка выросли хорошими людьми. Я ведь начинал свою медицинскую деятельность, если ты помнишь, детским врачом. ещё тогда, видимо, во мне подспудно мелькала идея будущего «Чадомера», вернее, мысли о его необходимости. Ведь со временем я его усовершенствую, сделаю универсальным: он будет предсказывать и возможные болезни, которые грозят пациентику или пациенточке… И бросил-то я замечательную благороднейшую работу педиатра только потому, что нервы не выдержали. Представляешь, умирает у тебя на глазах этакая крохотулечка и ещё сказать не умеет, где и что у неё болит… Эх, дети, дети… Значит, ты, Иллариоша, вознамерился из своего стариковского возраста сразу каким-то, пока никому не известным способом перейти в детский? – Гордей Васильевич неожиданно чуть-чуть улыбнулся н даже несколько оживился. – И всем своим жизненным опытом, умом постараешься воздействовать на сверстников? – Примерно так, – совершенно серьёзно отозвался Илларион Венедиктович. – И ты с кем-нибудь советовался по поводу этого опасного своими последствиями эксперимента? – Нет, по-настоящему только вот сейчас с тобой. А почему опасного своими последствиями? Опасного для кого? – Если твой биолого-психолого-педагогический эксперимент удастся… – жёстко произнес Гордей Васильевич и долго молчал, словно боялся или не хотел закончить мысль. – Неужели тебе, военному специалисту, и в голову не приходило, что возможность превращения взрослых в детей может стать новым видом оружия? – Прости, но я думал только о возможности возвращения в детство, – виновато пробормотал Илларион Венедиктович. – А о последней работе нашего дорогого Ивана – о выведении зверюшек-игрушек – ты, надеюсь, знаешь, не хуже меня? – Я к нему и собирался обратиться. – Чтобы новая игрушка получилась? – усмехнулся Гордей Васильевич. – Маленький такой генералик-лейтенантик в отставочке?.. Да не сердись, не сердись, старина! Могу я немного пошутить? – Шути себе на здоровье, ну, а при чём здесь всё-таки новый вид оружия? – А вот при чем. – Гордей Васильевич говорил сдержанно, но с явно ощутимым внутренним волнением. – Сейчас все наши враги ломают свои подлые головы над одним вопросом. Не дай бог, в ужасном страхе размышляют они, что люди мира, всё прогрессивное человечество добьется запрещения любого вида оружия! А без войны враги наши не могут. Им всё равно надо нас уничтожить! Для этого они и существуют! И, конечно же, они ищут это новое оружие! Может быть, самое опасное, самое изощренное, самое… – Извини, извини, – торопливо перебил Илларион Венедиктович. – Помнишь, я рассказывал тебе, что видел во сне Смерть-фашистку. Она ведь мне о чем-то вроде этого толковала, тоже высказывала опасения, что люди добьются запрещения всех видов оружия. И тогда, уверяла она, безмозглая и безглазая фашистка, наступит война, не просто борьба, а именно война за умы и сердца людей. Вот в ней-то главный упор будет сделан на детей. Ибо на их умишки и сердчишки, полагают враги, легче воздействовать. И к этому, думается, надо уже сейчас готовиться. – Мы и готовимся! – в необычайном возбуждении воскликнул Гордей Васильевич. – Мы должны быть готовыми отразить любое нападение на нас! К сожалению, к несчастью, к подлинной беде нашей, нет ничего проще, рассчитывают враги, чем испортить так называемое подрастающее поколение! И выгоднее всего испортить его уже в детстве!!! Вот мы с тобой сейчас сидим, думаем, как бы сделать так, чтобы потомчики наши гарантийно выросли подлинными гражданами своей страны. А где-то ТАМ тоже сидят, тоже военные и ученые, и строят о детях наших самые сверхнаиподлейшие планы: как бы сделать так, чтобы наши дорогие потомчики выросли настоящими обормотами… Вот теперь о твоем биолого-психолого-педагогическом эксперименте. Наш дорогой Иван – человек сугубо штатский, и когда он изобретает своих зверюшек-игрушек, ему в научную голову и не придёт, что за его изобретением будут охотиться, ЕСЛИ УЖЕ НЕ ОХОТЯТСЯ, все крупнейшие разведки мира, особенно знаменитые «Целенаправленные Результативные Уничтожения». – Кое-что я начинаю понимать, – растерянно признался Илларион Венедиктович. – Сейчас всё поймешь! – пригрозил Гордей Васильевич. – Представь себе, если хватит воображения, такую ситуацию. Появилось на территории мирной страны вражеское военное соединение, вооруженное самым наисовременнейшим оружием. И не успели эти головорезы приступить к своему подлому делу, как все превратились в детишек! Бегают голенькими, потому что детской-то одежды командование им не выделило! – рассмеялся Гордей Васильевич. – Кричат, визжат, играют, дерутся между собой, и мирная страна, которую они собирались поработить, может жить спокойно. Илларион Венедиктович был неподвижен, как робот Дорогуша, сказал глухо: – Значит, ты обнаружил нечто общее между изобретением Ивана и моим желанием вернуться в детство? – Конечно. Вот «Чадомер» – прибор, так сказать, самого мирного назначения. А зверюшки-игрушки рано или поздно будут утверждены как имеющие оборонное значение. Причем важнейшее. – Но ведь никто до сих пор… – Вот именно – до сих пор! – в голосе Гордея Васильевича прозвучало раздражение. – А я убежден: не может быть, чтобы «Целенаправленные Результативные Уничтожения» ДО СИХ ПОР не заинтересовались идеей создания зверюшек-игрушек и не увидели, ЧТО можно из неё извлечь для военных целей… – Хорошо, хорошо, то есть совершенно отвратительно! – вскричал Илларион Венедиктович, но почти сразу же сник и спросил чуть ли не беспомощным тоном: – И неужели дети будут лишены замечательнейшего изобретения? – Ни в коем случае, – убежденно заверил Гордей Васильевич. – Воспитание детей – сверхнаиважнейший вопрос современности. Вот поэтому, дорогой мой, ни на секунду нельзя забывать о том, что мы в ответе за будущее наших потомчиков. Мы обязаны оградить их от любых вражеских происков. А враги следят за каждым нашим шагом. И каждый наш шаг, если мы что-нибудь провороним, они тут же используют в своих наиподлейших целях! – Если воспитание детей – сверхнаиважнейший вопрос современности, – задумчиво сказал Илларион Венедиктович, – то почему ты против моей попытки вернуться в детство? Неужели ты не видишь в этом биолого-психолого-педагогическом эксперименте никакого смысла? Подожди, подожди! – не попросил, а потребовал Илларион Венедиктович. – Ведь проводили же крупнейшие медики на себе даже смертельные опыты! – Когда у них не было иного выхода. Я ведь отлично понимаю тебя, Иллариоша. Да, мы иногда, а может, и довольно часто, не умеем глубоко заглянуть в душу ребёнка. А ещё чаще он и сам не может объяснить, что с ним происходит. Когда же ты, предположим, окажешься среди них своим, ты соберёшь массу интереснейших и даже уникальных сведений. Подожди, подожди! – не потребовал, а приказал Гордей Васильевич. – Но всё это надо делать с умом! Вот мы сейчас же позвоним Ивану, может, он из-за границы уже вернулся. А ты немножко остынь. Набрав номер, Гордей Васильевич долго сидел с трубкой в руке, взглядами давая понять другу, что не отвечают, хотел уже положить трубку на место, но тут же усталое лицо его расплылось в улыбке, он радостно заговорил: – Здорово, Иванушка!.. Как съездил? И лицо его вдруг стало менять одно выражение за другим: удивление, восторг, чуть ли не ужас, затем самый настоящий ужас, растерянность… Согласно кивая и уже не так радостно он сказал: – Поздравляю тебя, дружище… Сыну, конечно, приветы и поздравления от нас с Иллариошей, он вот тут сидит рядом… Договорились… И ты ему нужен… Завтра у тебя в лаборатории сразу после обеда… Всего тебе, вернее, вам, самого наилучшего… Да, да, до завтра… Гордей Васильевич долго не мог уложить трубку обратно на рычаг, будто рука его не слушалась, а он просто слишком сильно задумался и не менее сильно растерялся. Когда трубка оказалась (не без помощи Иллариона Венедиктовича) на месте, Гордей Васильевич долго смотрел на него каким-то опустошенным взглядом, покашлял, словно прочищая горло, но голос всё равно прозвучал хрипло и глухо: – Не забудь, завтра у Ивана в лаборатории после обеда встречаемся… вот так… – Что там случилось? – Ни в сказке сказать, ни пером описать. Представляешь, за границей Иван встретил… вернее, к нему сам явился… Представляешь ситуацию… Сын к нему явился. Серж. Сергей, значит, по-нашему. А ведь я этого Сержа маленьким на коленях держал… Считали его погибшим под первой бомбежкой… – А что ж ты помрачнел? Ведь радость-то… – Да, радость, конечно, великая, – совсем мрачно согласился Гордей Васильевич. – НО! – крикнул он. – Серж этот – агент иностранной разведки!.. Закрой рот, Иллариоша… Вот так. Иван разговаривал со мной, когда его шпион принимал ванну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|||||||