 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Картленд Барбара :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Опасная любовь :: Конец материи :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: Бессмертие человеческой личности как научная проблема :: Наш бедный индивидуализм :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |
Снег на сирениModernLib.Net / Детские / Цветкова Галина / Снег на сирени - Чтение (Весь текст)
 Галина Цветкова Снег на сирени Повесть Рисунки В. Гальдяева 1 Знакомое окно, знакомая улица, знакомый двор – все знакомое, успевшее когда-то надоесть. Андрей только недавно начал вставать и никак не мог привыкнуть ко всему знакомому и такому чужому за окном. Земля была далеко. Самые тонкие ветки деревьев, голые прутики, были высоко над землей, но кончались далеко внизу, и он как бы висел в пустоте над двором, над очень старыми, большими деревьями, отделенный от них двойным стеклом окна. Когда он слег, была большая оттепель, все текло и капало, а потом вдруг ударил мороз. Красноватое солнце светило бессильно, как сквозь туман, форточки были залеплены изморозью. Солнечный луч преломлялся в чистом, едва тронутом морозом пространстве стекла, и по комнате прыгали зайчики – розовые, желтые, голубые. Деревья, одетые ледяным чехлом, переливались на солнце и казались садом из сказки. Ночью был слышен скрип снега под ногами прохожих – а ведь форточка была открыта далеко, на кухне. Днем же форточку закрывали, и на пятый этаж не долетали никакие звуки. Ветра не было. Все застыло, и время тоже. Потом лед рассыпался, исчез. Блеск погас. На деревьях сидели жалкие, взъерошенные воробьи. Было холодно и очень тихо. И вдруг закапало однажды днем: кап… кап… кап… Как часы. Как метроном: в перерывах короткий незаполненный кусочек тишины. И это было уже больше, чем просто оттепель. Тянуло запахами воды, чего-то свежего – форточку Андрей потихоньку открывал. Ящики внизу у магазина потемнели и терпко пахли мокрым деревом. Зима кончалась. Дни ползли медленно и были похожи один на другой: длинные, пустые, серые. Солнце не выглядывало. В гости никто не заходил. Все словно забыли о нем. Правда, достаточно часто звонил телефон, но спрашивали не Андрея. Просили магазин, райздравотдел, детские ясли. Звонил один тип и задавал хриплым голосом односложный вопрос: «Хто?» Андрей кидал трубку, но тип не унимался, и однажды Андрей поинтересовался: «Хде?» – да сделал это так мрачно и недружелюбно, что с тех пор тип начал кричать: «Это там хто на парфюмерной фабрике?» Уже мирно и терпеливо Андрей объяснял, что это не фабрика, но тип не слушал. Обидно, что с самим Андреем не хотели разговаривать. Подай вот парфюмерную фабрику… Из-за этих заблудившихся в телефонных проводах голосов Андрею самому иногда казалось, что он попал не туда, здесь совсем чужой, не тот, кто нужен, да еще и занимается чем-то не тем, хотя он просто ничем не занимался, простаивал целыми днями у окна и смотрел во двор. Двор был пуст. Единственным развлечением была прогулка на кухню. Оставив комнаты, он словно попадал в другой мир. Кухня была чистенькой, голубой, прохладной. Он садился на подоконник и смотрел вниз. Лиц не было видно. Только шляпки и ноги. Он прижимался лбом к холодному стеклу, стекло не пускало. Мешала высота. Ноги смешно топали перед шляпками, сбоку пристраивалась сумка, иногда – собака. Он смотрел с изумлением, словно видел все в первый раз – эту игру движения и пространства. Окно выходило на центральный проспект. И люди шли, шли. Торопились. Здесь было много деловых учреждений, первые этажи домов занимали магазины, а затем улица, закончившись двумя такими совершенно одинаковыми домами, что хотелось найти невидимое зеркало, переходила в широкую, очень пологую лестницу, а лестница – в площадь, и на площади стоял старый университетский корпус. Старый университет был виден из окна плохо, скорее угадывался. Он был серый, большой, с колоннами по фасаду. Раньше казалось, что за ним кончается все – улицы, город, потому что здесь еще было трамвайное кольцо, и трамвай, звеня, поворачивал обратно. Потом трамвай протянули дальше, к лесопарку, а к университету пристроили новые корпуса. Они толпились в университетском саду – высокие, с громадными окнами. Андрей не раз проходил здесь, возвращаясь с тренировок, и знал, что дальше тоже есть улицы, дома и люди, но не исчезало ощущение, что город кончается здесь, у подножия лестницы. С садовой стороны университет не закрасили серым, и было видно, что он весь сложен из красного кирпича. Темно-красного. Как крепость. Сад опускался к полю, на котором зимой устраивали каток. Вокруг поля шли беговые дорожки. Их постоянно ровняли и посыпали чем-то черным, но на них все равно проступали выбоины и стояли лужи. Андрей знал эти дорожки так же хорошо, как каждодневный путь из школы. Школа была через дорогу. Она работала в одну смену, и уроки давно закончились. Только в нижнем коридоре через одну горели лампы, хотя было еще светло. Прозвенел звонок. Наверное, он звенел даже ночью. Во всяком случае, с утра до вечера он точно отмерял время уроков и перемен. Стукнула дверь. Из школы вышла девочка. Андрей узнал ее: это семиклассница Стеклова Лена. Она должна была перейти сейчас трамвайную линию и свернуть в молочный: молока вчера не покупала, значит, купит сейчас. Поэтому она одна. Обычно с ней всюду Петька Горелов. Но в молочном магазине работала его мачеха, и они, видно, ладили не очень, раз Стеклова ходила за молоком без Петьки. С ней десятиклассники здоровались, с этой Стекловой, а малыши бегали по пятам. Все первоклашки хотели непременно быть, как Стеклова Лена, и уговаривали мам сделать ее взрослую прическу – шишку на макушке – и приколоть белый бант. На переменах она, смеясь, перевязывала банты, которые у мам не получались. Андрей знал, что не в бантах дело. Стеклова ходила по школьным коридорам, будто не замечая глаз, ее окружавших. Прямая. Легкая. Гимнастка! Он всегда смотрел на эту пару – Горелова и Стеклову – с каким-то беспокойством. Как будто Стекловой досталась та доля внимания, которой он лишился. С Гореловым он сидел за одной партой. И на тренировки ходили одной дорогой. И жили недалеко. Но как-то не дружили. «Привет, пока» – все. Лена шагнула на тротуар и заулыбалась. Андрей увидел Петьку и запрыгавшего вокруг них младшего братишку Стекловой Димку. Пока она покупала молоко, Петька забрал из садика ее брата. «Они ведь живут в одном дворе», – подумал Андрей, словно это было объяснением, почему Горелов дружит со Стекловой, а не с ним. Часы пробили четыре. Если бы Андрей вернулся в комнату, то увидел бы из окна одноклассницу Марину Рогозину. Она гуляла во дворе с собакой. Собаку звали Джой. Но смотреть на Марину не хотелось. Начинался вечер, еще более тягостный, чем день: к вечеру слегка поднималась температура и приходили с работы родители. – Андрюша, ты бы отошел от окна, неужели тебе не дует? Он поморщился. Вот и мать пришла. Всегда ей кажется, что на Андрея дует. Сейчас она даст ему липовый отвар, и он должен будет пить и во всем потом ощущать противный медовый вкус. Мать поставила чайник и ушла из кухни. Опять стало тихо. Ее присутствие в доме ничего не изменило, и все же Андрей сразу ушел к себе. Сидеть на окне стало неинтересно. К тому же его отсюда могли просто-напросто выгнать: от окна с отставшими бумажными полосками, хранящими легкий фруктовый запах клея, ощутимо тянуло сквозняком. Марина действительно гуляла с Джой во дворе и время от времени смотрела на его окна, и он представил, как она его видит: бледное пятно лица, воротник рубашки, плечи… Джой бегала по двору, а Марина стояла, спрятав руки в карманы. Андрей знал, что у нее нет поводка, они гуляют так. Наконец она в последний раз подняла глаза – он от окна отошел – и коротко позвала: «Домой, Джой». Стукнула дверь в подъезде. Рогозины жили этажом ниже, и Марина, наверное, постоянно слышала его шаги – в комнате на полу не было ковра, – а если он роняет книги? Когда пришел отец – ровно в шесть! – совсем стемнело. – Не лечится совершенно, – сердито сказал отец. – Вот и сидит дома. Где он? Раздался легкий стук: отец кинул на полочку под зеркалом рулончик миллиметровки – вечером собирался чертить. – Тридцать второй заказ? – обеспокоенно спросила мать. – Нет, двадцатый, – отрывисто сказал отец. – Меня еще никто не отстранял. И довольно, хватит, ужинать давайте. – Хотя мать молчала, он повысил голос. «Все ворчит и ворчит, – подумал Андрей. – Как будто кто-то виноват, что у него неприятности», Он нашарил выключатель настольной лампы, и полусвет сделал комнату загадочнее, смягчил углы, а стекла стали сразу синими и непрозрачными. Полоска света под дверью погасла – родители ушли из прихожей, но Андрей слышал, как отец спросил: – А этот? – Он не любит такую рыбу, я покормлю его потом. – Тоже мне, принц крови, – усмехнулся отец. Раздался звонок в дверь, и мать пошла открывать. Полоска света опять пробилась в затемненную комнату, и Андрей уже знал, что к нему пришла Рогозина. Она была красива – всегда красива, но сейчас особенно. У нее вились прядки на висках, и челочка вилась, а неровный свет ложился на лицо тенями и делал его еще загадочнее, тоньше. – Мы уже начали подготовку к экзаменам, – сказала она. – Ты сделал тетради для билетов? Андрею по многим причинам не хотелось касаться вопроса об экзаменах. Учился он не блестяще. Не то, что она. – Да нет пока, – сказал он нехотя. Он смотрел на нее. Она звонила и спрашивала: «Тебе не нужны уроки? Только там надо объяснить, а то ты не поймешь», – и появлялась у него, и во всех ее словах и взглядах чувствовалось настойчивое желание, чтобы он начал звонить ей. Сам. – В школе тихо, – сказала она. – Спортсменов нет. – Еще бы, – заметил Андрей. – Целый класс парней. Он не спросил, куда они делись. Уехали, наверное. Хоккеисты. Ведь был еще сезон. Они часто ездили, и тогда школа действительно затихала. Учителя стонали от этого спортивного класса, в котором были всего две девочки. Одна из них – Стеклова. – А… – начала Марина. – Да, да, да, – сказал Андрей. – Нет у меня никакой температуры. Скоро приду в школу. – Какой ты, – сказала она и, постояв немного на его месте у окна, ушла, не попрощавшись. Родители за стеной не разговаривали. Мать штопала. Отец прослушал все выпуски новостей по телевизору и теперь читал газеты, не чертил. За ужином они спорили, и мать, наверное, в чем-то его убедила, раз он сейчас молчал. А может, отец с ней просто поругался. Андрей думал, что спасен в этот вечер от его сердитого ворчания, но тут зазвонил телефон. Через некоторое время мать позвала: – Андрей, иди поговори, кажется, это опять тебя. Но говорить было не с кем. Трубка молчала, и, когда он спросил: «Ну?» – трубка вздохнула. – Да не вынуждайте вы меня отключать телефон. Там опять вздохнули, но не обнадежили, что отключать не придется. Андрей уже пошел было к себе, но отец его окликнул: – Ты бы разобрался со звонками своих барышень. Мне они надоели. – Может, это и не барышни вовсе, – вступилась мать. – Ну, конечно, это мне с завода звонят и не решаются вызвать в ночную. Отец взял новую газету. Андрей, сидя в своей комнате и слушая слова отца о том, что ему даже дома нет покоя, думал о настойчивых вечерних звонках, – конечно, звонили девчонки. В школе писали ему записки – в последнее время их количество уменьшилось, по классу словно прошелестела фамилия Рогозиной, а немногие бы решились отобрать что-нибудь у Рогозиной. Но звонки остались. Один раз отец поговорил с кем-то сам, и Андрею показалось, что от его голоса съеживается телефон. Но и голос отца не помог. Думая обо всем сразу, Андрей вдруг уснул и где-то во сне еще слышал, как мать говорит с отцом – ее спокойный голос в ответ на сердитые доводы, – потом за отцом пришла машина, и он уехал на завод, но этого Андрей уже не слышал. Какая-то путаница ему снилась. Будто то же, что он видел все дни из окна, но по-другому связанное, как это бывает во сне, а он и там был в стороне. Снился смеющийся, легко живущий и легко бегущий Горелов. Казалось, он не прилагал никаких усилий ни чтобы жить, ни чтобы бегать, и поэтому у него очень хотелось выиграть. А как? Еще снилась девочка, которую он сегодня не видел, и думал, что забыл о ней совсем, но вот не забыл. Она так торопливо перебегала дорогу, что он не успевал ее рассмотреть – курточка, сумка, кисточка на шапке. Иногда она шла рядом со Стекловой – они не ждали друг друга, просто подходили одновременно к школе, Кажется, они даже не разговаривали по дороге. Но со Стекловой девочка шла медленнее. Но Андрей тогда смотрел на Стеклову, а не на нее. «Наверное, спортсменка, другая, из стекловского класса», – подумал он во сне. И ко всему примешивалась обида на отца, на вечно занятого отца, который про Андрея говорит «этот». Школа встретила обычным шумом перед уроками. Как всегда, восьмиклассники не знали, в каком кабинете у них в этот день будет история, и пол-урока тянулись заблудившиеся; как всегда, на физкультуре вылетел мяч в окно и пришлось бежать за ним, разыскивать в кустах; на алгебре считали на логарифмической линейке, и математик ворчал, если кто-то проверял результат столбиком на бумажке. На уроках царили напряжение и расслабленность одновременно. Кому-то нужно было исправлять четвертные оценки – до весенних каникул оставалась неделя, – и они, вставая, дочитывали учебник и шли к доске; остальные были предоставлены самим себе и болтали, а самые безнадежно примерные тянули руки, изнывая от невозможности ответить на хороший вопрос. – Сдавайте взносы и расписывайтесь! – крикнул Петька сразу после звонка. Обычно ему передавали копейки прямо на уроке, а потом пересылалась по партам ведомость, но сегодня математик чуть не выставил за это Петьку из класса. – Пшеничкин! Ты куда? – спросил Петька. – А я не комсомолец! – крикнул Пшеничкин. – Потому что несознательный, – сказал Петька и погрузился в ведомость. – Сергеева, а ты? – У меня нет. Тихая Света Сергеева подошла и молчала. – У тебя в кармане, – заметил Петька, – полно двушек. Давай. – Нет. Мне нужно! Я принесу завтра. – Да мне сегодня нужно сдать! Света не отвечала, но и не уходила. «Похоже, что одного телефонного воздыхателя я нашел», – подумал Андрей и протянул Петьке пятак. – Возьми за нее и выпусти меня наконец. Петька встал, и Андрей вышел из-за парты. По тому, как поспешно исчезла тихая Света, он понял, что не ошибся: у нее дома не было телефона, она бегала звонить к автомату. Андрей расписался за Сергееву в ведомости и вышел в коридор. Прозвенел звонок. У Андрея больше не было уроков, но он стоял в светлом коридоре на третьем этаже – специально, чтобы не столкнуться в раздевалке с Рогозиной. Сзади галдели малыши, строясь в пары: их всюду еще водили парами. Пожилая учительница призывала к порядку. – Здравствуйте, Анна Борисовна! – услышал Андрей. – Здравствуй, Зимина, здравствуй, детка, – прогудела простуженным голосом учительница. – Что-то тебя не видно. Леночку вижу, а тебя нет. Но обижают вас спортсмены? – Пусть попробуют! – сказала Зимина, Малышня загалдела сильнее, и пары потянулись к лестнице. Андрей повернулся. И налетел на девчонку. И выбил у нее из рук стакан с соком. Стакан разбился, и по линолеуму расползлась громадная томатная клякса. – Медведь, – сердито сказала подбежавшая Стеклова. – Смотреть надо! – Все равно я его пересолила, – упавшим голосом сказала девчонка. Андрей пожал плечами и побежал вниз. «Ну, теперь-то она ушла», – подумал он о Рогозиной. Никуда она не ушла. Стояла у входной двери и внимательно перечитывала расписание. Теребила рукой в перчатке прядь у виска. Оглянулась на его шаги, промолчала. – Пошли, – вздохнул Андрей. Все-таки они жили в одном доме. И, пропуская в дверях ее вперед, сказал ей вслед: – Шапку надень. И она послушно надела шапку. Элька совершенно забыла про гандболисток, засмотревшись в дальний угол манежа, и один из мячей, которым они перебрасывались для разминки, попал ей в лицо. Она покачнулась, но устояла. Гандболистка подбежала и поддержала ее, подняла мяч. Тугой плетеный мячик. Под глазом вздулась шишка. Врач сказал: – Могу дать освобождение от занятий. – Не надо. – Фигуристка? – спросил врач, записывая что-то. – А что с ногой? На ноге белел бинт. – Обыкновенное растяжение, – хмуро сказала Элька. Врач не стал смотреть растяжение, но шишку пластырем заклеил. Боль немного утихла от приложенной ватки с холодной жидкостью, но неприятное ощущение примятых ресниц оставалось. Элька вернулась в манеж и встала у шведской стенки, касаясь перекладины затылком, чувствуя, что, если сядет, ее немедленно начнет тошнить. И без того гулкий манеж сделался совсем огромным, оглушающим. Гандболистка, кинувшая мяч, была не из слабых. Элька ушла в раздевалку и все-таки села, и подступившая было тошнота улеглась, только на щеке словно лежало что-то ощутимое и не слишком теплое. Осторожно просунув голову в ворот свитера, Элька глянула на себя в зеркало: белый прямоугольник под глазом оказался не таким уж страшным и большим. «Я забыла на вираже скакалку», – подумала она, но возвращаться в манеж еще раз не стала. На улице шел снег. В конце марта вдруг сноса настала зима. Деревья казались тонкими и черными, нарисованными тушью на стекле. Под ногами снег превращался в кашу, и снова падали тяжелые хлопья, делая все мохнатым. Было слегка грустно, что весна не сбылась. Неслышно, как в тапочках, прошел троллейбус. Его почти не было видно – крышу засыпал снег, и троллейбус сливался с белой аллеей. Элька пропустила его и пошла пешком, забыв, что хотела сделать задание по алгебре, поджидая после тренировки Ленку; забыла, что хотела ее дождаться. Их дружба началась с того, что они вместе опоздали и их посадили за пустующую первую парту. Стеклову вызвали к доске, и она маялась весь урок у карты, пытаясь объяснить, что значит зловещий термин «базис эрозии». «Я не слышу ничего вразумительного, – сказала учительница, явно довольная тем, как растеряна на ее уроке одна из самых уже и тогда заметных девочек в школе. – Хорошо. Покажите на карте горы Кордильеры». Это были два любимых ее вопроса – базис эрозии, горы Кордильеры. Все уже знали, где находятся эти Кордильеры, одна Стеклова почему-то не знала. Учительница уже склонилась низко над журналом – плохо видела – и приготовилась ставить двойку. Она любила ставить двойки. Класс ее ненавидел и смертельно боялся. Он еще недавно вышел из-под опеки добрейшей Анны Борисовны и плохо привыкал к тому, что от учителей может быть столько неприятностей. Стеклова у карты уже изучила Африку и не нашла Кордильер, но тут Элька ее подтолкнула, и она ткнулась в Кордильеры носом. Ей тогда все-таки поставили двойку, потому что Лена как-то неправильно их показала, но с Элькой не рассадили, и они остались вместе, только перебрались на другую парту, назад. В то время как Элька, решив не делать домашнее задание по алгебре, уходила по аллее, Стеклова смотрела на нее сверху. Она плакала в застекленном переходе между манежем и залом, только что неудачно бултыхнувшись в поролоновую яму и стремительно удалившись из зала. Запудренными магнезией руками она испачкала лицо, и слезы прокладывали на нем дорожки. Перед глазами маячило яркое пятно Элькиной курточки, сзади тянулась цепочка маленьких черных следов. Слезы высохли. Больше не плакалось. Стеклова выпрямилась, подняла голову. Отряхнув с себя белый порошок, гордо вошла в зал, навстречу бесконечным и пока безуспешным попыткам сотворить нечто, привидевшееся однажды ее тренеру. А Элька шла и думала, дома ли тетя и что она скажет, увидев на ее лице белую заплатку. Тетя была дома, но внимания на возвращение племянницы не обратила, не вышла спросить, почему пришла так рано. В тетиной комнате шел скандал. – Менять программу перед самым экзаменом! – кричала тетя. – Какое это произведет впечатление, подумай! – Я все годы играла то, что мне давали, я сама хочу выбрать выпускную программу, это моя программа, понимаете, моя! Я ничего здесь не понимаю, почему я должна это играть? Я не желаю показывать блистательную технику, ни к чему не привязанную! Громыхнули несколько диссонирующих аккордов. Элька даже приостановилась. – Ну что это?! – Ты все провалишь! Ты зачеркиваешь работу всего года! А если не потянешь технически? – Я учила эту ерунду ровно месяц. Ну, провалю! Но это будет мой провал! Могу я хоть раз сделать что-то сама? – Но что тогда? – с иронией спросила тетя. – Устроишься концертмейстером на струнном отделении? Это бесперспективно! – Всегда я была вашим беспроигрышным номером! Хватит, я ничего у вас больше не прошу, пошло оно все к черту! Подготовьте лучше Олю свою – она у вас всегда проваливается! «Лихо», – подумала Элька. Дверь хлопнула. Тетина ученица ушла. Тетя преподавала в музыкальной школе, но ученики в доме бывали редко. Элька не знала тетиных учеников. Тетя поднялась к ней в комнату и ахнула: – Кто тебя так? С кем ты подралась? – Ни с кем. – А откуда синяк? Эльке не хотелось говорить, что засмотрелась в манеже на мальчика и получила мячом по лицу. Но сказала: – Гандболистка, маленьким мячом. – Элька, – сказала тетя устало, – Ну зачем ты врешь? Даже я знаю, что гандболистки не играют маленьким мячом. Он у них большой и тяжелый. – Вам, наверное, хотелось, чтобы мне им по лицу залепили, большим и тяжелым, – хмуро сказала Элька. – Не играли они, а… я не знаю, что. И мяч у них был маленький. Для травяного хоккея. Тоже тяжелый… – Ну ладно. А есть ты будешь? – Буду, – сказала Элька вяло. Суп ей не понравился, и она начала возить ложкой по тарелке. – Смотреть тошно, как ты ешь, – сказала тетя. Элька промолчала и суп отодвинула. Тетя сделала вид, что не заметила. – Да, ты не отнесешь кое-что Марине Рогозиной? Ведь вы в одной школе учитесь? «Так это Рогозина была, – подумала Элька. – На нее похоже». И, глянув на тетю исподлобья, сказала: – Как она кричала на вас. – Это не твое дело, милая моя. И не смотри на меня так. Пробурчав: «Тогда сами ей несите», – Элька взяла чашку с компотом и пошла к себе. – Ты просто чудовище, – сказала тетя вслед. – Я всегда тебя считала трудным человеком, но ты просто сатана в юбке. Кто-нибудь другой побежал бы пить валерьянку после такого разговора, но тетя не побежала. Характер у нее и у племянницы был совершенно один и тот же. Лидия Николаевна в этом возрасте разговаривала ничуть не лучше. Эльке было четырнадцать лет, из них одиннадцать они прожили вместе – у тети было время привыкнуть и понять. Из своей комнаты Элька слышала, как тетя моет посуду, потом загремел железный лист в духовке – тетя пекла пирожные, и это было явным признаком ее плохого настроения. Зазвонил телефон. Должен был звонить Элькин тренер, и Элька занервничала: сейчас как возьмутся за ее воспитание вдвоем! Однако тетя сказала скучным голосом: – Да, но я не хочу с тобой разговаривать. Вот и тренеру Сергею Владимировичу попало… А он-то тут при чем? Элька почувствовала себя виноватой. Наверное, нужно было спуститься к тете – жили они в очень старом доме, в квартире было два этажа, внутренняя лестница всегда скрипела, как шкатулка, – но тетя пришла сама и, поставив на стол тарелку с пирожными, уже обычным голосом сказала, что в комнате пыль. Элька бездеятельно сидела в кресле. День, казавшийся таким бесконечным, проходил. День не получился: пропавшая тренировка… несделанная алгебра… скандал в квартире… Элька вытянула из книг тонкий альбом и, сначала развлекаясь, стала рисовать при вечернем, становившемся неверным свете. Потом пришлось развести акварель – понадобился цвет. Она просидела над альбомом до ночи, уже все окна светились ровно и матово, казалось, что еще удивительно светло из-за снега, и, только засыпая, подумала: все не то, не так. Опять не получилось, Она рисовала еще и тушью – свет, окно, тонкий черный силуэт, но свет идет не от окна. Лица не видно, однако оно угадывается замкнутым и немного надменным. Рисунок увидела Стеклова и сразу спросила: «Усов? Тебе нравится Усов?» Она его узнала – казалось, чего бы еще? Но хотелось другого, да не получалось, чего хотелось. Не совсем получалось. Может, она сама не знала, чего же хочется. Все в жизни словно изменилось, словно раздвинулись какие-то стены. Стало зачем ходить в школу. На тренировках Элька взлетала в прыжках и улетала далеко. Она уставала, но хотелось вернуться и еще раз испытать чувство полета птицей: поворот, толчок и летишь – и радость оттого, что можешь быть птицей. Она много рисовала – работала, оттачивала свои рисунки. Но иногда все менялось. Ходила бледной тенью, пинала лед коньком. Падала – больно. «А ты не падай». И все выходило злее, хуже, деревяннее. «Этажерка», – шепотом ругалась она. Рисовала в такие дни чертика на полях – чертика, похожего на мышку. Не знала, что такое с ней. Смотрелась в зеркало и в большом зеркале видела только свое лицо – обыкновенное, нетонкое. А рисунки оставались – везде был Усов, Усов, Усов, то сухой, графичный, с надменным ртом, то чертик с хвостиком и зубками, похожий на мышку. Марина Рогозина почему-то не пришла в школу, но Элька знала, где она живет. Многие это знали. Марина открыла дверь, сказала: «Проходи» – и Элька чуть не споткнулась о ведро с водой: Марина Рогозина мыла пол. Элька не могла себе этого представить: Рогозина – царевна, принцесса – моет пол! Она терла половицы тряпкой, вытирала насухо, опять терла, и никто ее не заставлял – в квартире было пусто. – Ты проходи, – повторила она, не оборачиваясь. – Я сейчас. Элька шагнула в ее комнату и снова чуть не споткнулась – провода, провода. Почти всю комнату занимал рояль, у окна на полу валялись наушники. На пластинку была опущена игла, но звука не было, слышалось только шуршание. Элька не утерпела и взяла наушники. Она услышала очень чистый звук – скрипка. Вдруг иголка запнулась и заскакала. Элька вздрогнула и сдернула наушники. – Это Джой в той комнате с дивана спрыгнула, – сказала Марина, входя. – Лентяйка. Даже не залаяла на тебя. Да ты сядь! Элька устроилась на диванчике, а Марина села к роялю, потому что больше сесть было негде. В свертке, переданном тетей, оказались старые ноты, тяжелый том с тиснением, с кожаными углами переплета, и Марина сразу начала его листать. Концерт Баха фа-минор, который она хотела сыграть на экзамене, был для фортепиано с оркестром, поэтому она всюду искала переложение для двух роялей, а Лидия Николаевна, имея такое переложение, не хотела его Марине дать, считая, что менять программу перед самым экзаменом – дерзость. Тогда Марина пригрозила, что подберет по слуху и так сыграет на экзамене – как получится. «Счастливо, – хладнокровно сказала Лидия Николаевна, – Моцарт по слуху мессу записывал». Вот тут-то Марина и не выдержала и закатила скандал. Марина задержалась глазами на странице и, не глядя, привстала и сунула Эльке какую-то книжку с полки. Это был альбом Дрезденской галереи. И, пока Элька разглядывала пейзажи и мадонн, Марина листала дальше. Потом она показала на полку: сама, мол, разбирайся. Элька увидела, что Марина успела распустить волосы и они почти касаются колен – такие длинные. Рогозина домашняя… Школьного высокомерия не было. Совсем другая. Элька не знала, как подошла бы к ней с нотами в школе, а сейчас ей было легко, она даже не чувствовала своего пластыря под глазом – опухоль там спала, но синяк цвел вовсю. Элька машинально тронула пластырь. – Тебя что, спортсмены ваши побили? – спросила Марина. Оказывается, она уже отвлеклась от нот. – Нет, – нехотя сказала Элька. – Это я сама. – Тогда объясни мне, что у вас за класс, – потребовала Марина. – А то эти спортсмены окружены такой таинственностью! – Никакой таинственности нет, – с досадой сказала Элька. – Да и класса тоже нет. Как бы это сказать… – Говори-говори. – Рядом же спорткомплекс университета! Совсем рядом со школой. Вот кому-то и пришла в голову идея: посмотреть, что получится, если собрать всех ребят, мало-мальски способных хоккеистов города, в одном месте… А раз лед близко, то у нас… Марина насторожилась: – Они что, правда, все способные? – Я в этом не разбираюсь, – честно призналась Элька. – Но клюшками они лупят здорово. Ну вот, собрали, переделали для них расписание, высвободили время для утренней тренировки… – И что получилось? – Наверное, получилось что-то, раз их пока не разогнали. И нас со Стекловой туда же – потому что мы «целенаправленно занимаемся спортом». – А Усов? – спросила Марина. – И Горелов? Они не целенаправленно? – Не знаю. – Элька растерялась. Она и вправду не знала. – Мы и в спортлагере вместе… Они, наверное, просто так… – Да, – сказала Марина. – Не сладко вам, должно быть, среди стольких парней. «Да нет, ничего», – хотела ответить Элька, но зазвонил телефон. – Иди, – сказала Марина, послушав. – Это тебя. – Ну? – спросила трубка голосом тети. – Ты уже отдала ноты? – Отдала. – Так почему же ты не идешь домой? Что ты там делаешь? – Мы слушали музыку… Разговаривали… – Светский вечерок, – холодно сказала тетя, хотя был еще день. – Ты скоро будешь приходить домой только ночевать. Мне это не нравится. Прощайся и уходи. – Сердится? – спросила Марина. – Но я же не нарочно… Ну, не могу я играть ту штуку! Неинтересно! Думала, неужели не сыграю? Там трели, октавы – кисть можно вывернуть. А сыграла! Это Рогозина просила прощения. «К черту!» – вспомнился ее резкий и заносчивый голос. Но разве так просят? – Да нет, она как будто на меня сердится, – медленно сказала Элька. – Ой! Я же ключ сегодня унесла! – У вас что, один ключ только? – А второй я еще раньше потеряла! Можно, я возьму почитать? – Элька показала на полку. – У нас такой нет. – Можно. В соседней комнате Джой со вздохом слезла с дивана и вышла к дверям – провожала Эльку. – Ты передай, что я уже завтра приду играть! – крикнула Марина в лестничный пролет. Элька вышла из подъезда, но Марина осталась на площадке около своих дверей. Было холодно. Но она стояла. Дверь стукнула еще раз, тише – ее придержали. Марина ждала. Поднимался Андрей Усов – кончились шесть уроков. – Здравствуй, Андрей, – сказала Марина, не давая себя не заметить. Он не остановился и ответное «здравствуй» сказал ровно и безразлично, скользнул по ней невидящим взглядом, словно не хотел видеть. Снег растаял, и ребята стали бегать кроссы в лесу: до столбика, до магазина, до второго километра – до него было, пожалуй, все пять, – до санатория и до сосны. Сосной называли неопределенной породы дерево – то ли тополь, то ли старую осину, – одиноко торчавшее посреди болотистой полянки. К сосне бегали охотнее всего: попрыгав по кочкам через кофейного цвета воду, все с хохотом висли гроздью на сухих крепких ветках. Тренер секции бегунов Катерина стояла на дорожке, глядя, как ее воспитанники штурмуют дерево. Элька тоже висла на сосне, хотя на ней был пояс с грузом. Тренер заставлял работать с отягощением и прыгать не вниз – вверх. Усевшись на ветку, она кидала пояс на выцветшую прошлогоднюю траву и прыгала, выпрямившись в воздухе, ощущая на короткий миг ставшее внезапно очень легким тело. Еще некоторое время все отдыхали – под деревом трава была относительно сухая – и, прыгая кузнечиками, выбирались на дорожку к Катерине. От сосны можно было сделать небольшой крюк и выбежать к озеру. Как раз наступал закат. В прозрачной воде плавали трубчатые куски льда. Метрах в пяти от берега лед лежал нетронутым пластом. Рыхлая стеклянная масса колыхалась, и под ней обнаруживалась черная глубокая вода. В первый раз надев пояс, Элька сумела добежать только до леса. У нее закололо в боку. Думала, что задохнется, но, совершенно вымотавшись, неожиданно почувствовала себя свежее, сбегая на обратном пути с горы на мост. Мост над железной дорогой был огромен. Открывался вид на весь город. С ревом шли потоком самосвалы. Под мостом шумели поезда. Эльке понравился город, лежащий далеко внизу. Она добежала до стадиона почти весело. Все были грязные, перепачканные, и Андрей Усов тоже. Потом лес становился суше, чище; то там, то здесь торчащие груды камней днем прогревались солнцем. Элька была рада лесным пробежкам – лучше, чем те же километры кружить по стадиону. Тем более что не существовало указания, где именно надлежит бегать. Стеклова бегает вокруг своего дома, Элька – с бегунами в лесу. И хотя никто у Эльки не спрашивал, почему она с этой группой бегает, она все держалась в хвосте и смотрела под ноги. Но не отставала. В конце концов она первая нашла подснежник. Все рассматривали лиловато-желтый цветок на мохнатой ножке и впервые обратили внимание на новую девочку. Потом стали говорить: «Те кусты, рядом с Элькиным подснежником», – хотя подснежник быстро вытянулся и опал. Нужно было писать билеты к экзаменам, но не писалось. Вернувшись из школы, Андрей садился с книгой на балконе. Хотелось перечитать Экзюпери, но Рогозина выпросила его у матери и с тех пор не возвращала. Она что-то играла – тихое, печальное, размытое, медленно перебирала звуки. Солнце уходило, и деревья оставляли на земле ровные черные тени. Андрей шел к себе. Ночью в комнате становилось совсем холодно, и в окне стояла бледная прозрачная луна. Он просыпался, закрывал балкон, задергивал шторы. Листья внизу дрожали и шумели – весь день он слышал этот шум. С тренировок Андрей ездил в одном трамвае со Стекловой. Лена жаловалась, что Элька пропадает на искусственном льду. Он слышал про Эльку каждый день, но не мог понять, кто такая Элька. Петька Горелов тренировки пока забросил, учил билеты на крыше, загорал, бегал по утрам один. Андрей шел рядом с Леной и видел в ее сумке лежащие сверху тапочки со стертым носком. В трамвае они проезжали только одну остановку. В университетском саду Андрей раскачивал для Стекловой качели среди одичавших груш. Ее бант мелькал большой бабочкой. Она смеялась, что-то кричала, а он ведь видел ее после изнурительной тренировки – второй за день. У Стекловой был веселый нрав, Андрей бы после таких тренировок не смеялся. Потом они спускались медленно в город и грызли сухой ирис. Стекловой он откалывал кусочек – больше она не брала, и в кармане у Андрея накопилось много ирисок с отломанными уголками. Вообще эти дни остались в памяти вкусом этого сухого, черствого ириса в лощеных бумажках, и не проходила та непонятная зависть, с которой он зимой смотрел на Стеклову и Петьку из окна. Словно не он, Андрей, ходил с ней вместе с тренировок, а был вроде тех десятиклассников, что здоровались со Стекловой в школе. Было тепло, как летом. Предстоящие экзамены слегка портили настроение, точили беспокойством. Наверное, только двое в классе не прикасались к тетрадям для билетов: Рогозина, учившаяся всегда ровно, и Усов, теперь совсем не учившийся. Письмо пришло еще с утренней почтой, но тетя вскрыла его не сразу – все равно старший братец ничего нового написать не мог и действительно не написал. Руда. Канавы. Шурфы. Если раньше тетя всегда справлялась в энциклопедии о подобных словах, то сейчас осталась сидеть. Он не приедет. Он всегда обещает приехать, но не приедет. Дурацкое было письмо. Он писал, что Лида может, например, выйти замуж, а Эльку пусть в таком случае пришлет к нему – у них в базовом поселке есть восьмилетка, а потом будет видно. Тетя пожимала плечами, пробегая письмо вновь. Во-первых, Эльку тетя не отдала бы ему в базовый поселок ни за какие сокровища, а во-вторых, обойдется как-нибудь без его советов – ей в конце концов двадцать семь, а в таком возрасте еще как будто выходят замуж. И вообще не то, не то: ей показалось, что брат намекает на Сергея, тренера Эльки, говоря о замужестве. Тетя почти заплакала, но сдержалась. Должна была прийти Рогозина, тетя ждала ее с утра, хотя играть не хотелось. Ничего не хотелось. Как-то вдруг не оказалось никакого дела, в свой выходной среди недели стало нечем заняться. Она уже вымыла окна и перечистила кастрюли – недаром Элька однажды заметила, что необычный порядок в доме ее пугает. У тети побаливало сердце, и все-таки она пила ежедневный кофе, не в силах отказаться от этой привычки. Собственно, привычки не было, хотелось, чтоб была. Забеливала кофе молоком, убеждая себя, что молоко заглушит любое вредное действие, В квартиру ворвалась Элька и возбужденно крикнула: – Тетя! Мне в три нужно будет идти! – Хорошо, – донеслось из-за прикрытой двери. – Не кричи. Я скажу, когда будет три. У тети разламывалась голова. Давление упало. Окна были серые, в комнате темно. Проклятая погода! Элька поднялась к себе наверх и какое-то время, странно волнуясь, не могла найти себе места. Подходила по комнате, остановилась у окна. Потом села за стол, начала писать – почти не задумываясь над словами. – Элька, – донеслось снизу. – Тебе пора. Элька побежала к двери. Одинокий белый лист остался на пустом столе. Она вернулась, сунула в книжку, чтобы не унес сквозняк, и умчалась на тренировку. Почти сразу же пришла Марина, и, слушая, как ученица разыгрывается, тетя думала: конечно, можно бы взять больничный, но его полностью еще не оплатят – стажа мало… А утром был настройщик, возился с роялем и одолженным на время соседским пианино – на нем тетя играла вторую партию в концерте Баха. Музыкальная школа, с которой Марина должна была проститься этим концертом, была очень маленькой. Классов не хватало, зал был вечно занят. А нужно ведь где-то заниматься – вот от соседки и перекатили пианино, и оно загораживало теперь часть окна. – Не гони этюд, – сказала тетя. – Оставь пока, а то загонишь. Лекарственное что-нибудь поиграй. – И показала кистью, как. Тут раздался телефонный звонок, и одновременно очень тревожно – так показалось – позвонили в дверь. – Одну минуту, – сказала тетя в трубку и пошла открывать. Принесли деньги, перевод от брата, в он в письме ничего о переводе не писал. Унылое безденежье отступило, и по телефону ее звали в театр. Или в кино. Куда захочется. Договорились просто погулять. Или в театр. Было замечательно, что он позвонил, потому что не звонил давно – она же сама не пожелала с ним разговаривать, Марина уже играла Баха одна и хорошо играла, очень хорошо, – может быть, она так своеобразно просила прощения за тот устроенный из-за Баха скандал. – Эльки дома нет? – спросила она, закончив. – Недавно убежала. Вечером появится. – Я давала ей книжку, – Марина запнулась, – а она не моя. Мне нужно ее отдать. – Ты подружилась с моей колючкой? – весело спросила тетя. – Сходи к ней наверх, найди сама, а то она на меня рычит. Марина взяла Экзюпери со стола, распрощалась с тетей и зашла с книжкой к Усову. Его дома не оказалось, но мама пообещала передать. Через неделю, наводя порядок в шкафу и на столе, Андрей увидел, что Экзюпери вернулся. Ну, Рогозина! Наконец-то прочитала! Из книги выскользнул листок и, зашелестев, лег на пол. Андрей поднял. Записка? Этого еще только не хватало! Марина Рогозина начала писать ему записки. «17 мая. Еще вчера было тепло, а сегодня выпал снег, У нас было три урока, и я шла домой, когда снег еще не успел растаять. Деревья и кусты были согнуты. Белые пятна лежали на зеленом. Уже цвели яблони, и было непонятно, где цветы, а где снег. На сирени тоже лежал снег. Цветы, наверное, были теплыми – он почти растаял, стал прозрачным, как лед, и поникшая сиреневая кисть напоминала гроздь винограда, выточенную из стекла. Снег на сирени! И сирень пахла. Она была в прозрачном холодном заточении, и запах был слишком тонким, не теплым. У меня замерзли руки без перчаток. Девятого мая я тоже забыла их дома. Тогда был салют. Я вдруг увидела Усова. Он стоял и смотрел – один. Все были на площади, а он на улице. Сначала я увидела только одинокого, слегка печального мальчишку, а потом поняла, кто это. В школе он все время усмехается, и усмешка делает его недоступным. Нельзя понять, о чем он думает. Надо отдать должное, он старается не выделяться из толпы – из всех. Но он заметен в толпе. Князь Андрей! А сейчас усмешки не было. Он был самим собой. Стоял и смотрел… И все. Один раз я его таким нарисовала. Шел дождь. Голубой, черный, белый, немного зелени – очень грустные цвета. Задумчивый Усов. Размытая, неясная акварель. Нарисовала до того, как увидела таким. Я подумала, что не видела, как он смеется. Я вернулась к сирени и стряхнула с нее снег. Освобожденные ветки тяжело закачались. Я никогда не забуду снег на сирени». Его разбудил не будильник, а грохот под окном. Восемь часов. Именно в это время на задворках магазина начинали что-то кидать – в любой день. Даже в выходные. Но сегодня день был будний. Нужно идти в школу. Их уже распустили готовиться к экзаменам, но на сегодня назначили консультацию по русскому языку. Понимая, что от одной консультации, да еще в такую жару, знать больше он не будет, Андрей решил, что все-таки пойдет. Придется. Экзамены. На кухне он закрыл окно. Родителей не было, они уже ушли. Андрей прочитал записку: «Ешь суп», – но не понял, кому это – отцу или ему. Вчерашний листок лежал в комнате на столе. Писала не Рогозина. Андрею, как и всем, не раз приходилось раздавать тетради, и он знал, что у Рогозиной совсем другой почерк. Но чей же тогда? Рогозина гуляла с Джой во дворе. – Ты не идешь в школу? – спросил он, увидев Марину с собакой. – Мне некогда, – серьезно ответила Марина. – Слушай, ты давала кому-нибудь Экзюпери? Марина забеспокоилась. Он понял, что давала. – Одной девочке… Эльке. Разве… Он не дал спросить: – Нет, ничего не порвала и не испачкала… Просто так. У школы первоклашки под руководством Стекловой сажали цветы. Раздавался голос Анны Борисовны. – Элечка, детка, – гудела она. – Ну зачем же ты хочешь рядом ноготки и анютины глазки? И куда ты дела все ирисы? Ирисы. И сразу же вспомнились ириски для Стекловой, которые он носил в кармане, ее разговоры об Эльке, пропадавшей на искусственном льду, – так вот она какая, Элька. Маленькая. Челка на глазах. Колени перепачканы землей, руки в земле. Конечно же, он видел ее раньше. В последнее время – даже часто. Но так по ней не скажешь, что она – еще одна влюбленная. – Анна Борисовна! – услышал он голос Стекловой и сообразил, что стоит на месте. – Надо все-таки полить. – Леночка! – отвечала Анна Борисовна. – Так вы же и сами будете все мокрые, и гномов моих намочите… Запищали что-то и гномы. А Элька со Стекловой побежали наперегонки за шлангом. На скамейке остались кеды – Элькины, потому что Стеклова была обута. «И стакан я тогда разбил, – подумал Андрей. – Ну и пусть. Наплевать. Снег на сирени». Андрей сидел у самого окна – руки лежали на подоконнике, а голова на руках. Солнце грело беспощадно, и он почти дремал, слушая, как Горелов монотонно перечисляет какие-то суффиксы. Даже Андрею, который все больше понимал, как много он не знает, стало ясно, что Петька запутался. Но Петька еще говорил. Перед лицом покачивалась тополиная ветка. На белый блестящий подоконник невозможно было смотреть. Окно выходило не во двор, но даже здесь были слышны крики малышни. Они, видимо, все цветы уже посадили и теперь баловались с содой. Он представил, как весело им, мокрым. Наконец Петька выдохся и замолчал. Он успел загореть на крыше, волосы у него совсем выцвели. – Купаться ведь побежите, – печально сказала учительница, – учить не будете. Ну что ж, вам сдавать, не мне. Идите. И они сдавали. Андрей на четверку, Петька наговорил на пятерку. На экзамене по алгебре Рогозина расплакалась, у нее графики функций пересекались в трех местах, а у всех – в двух. Стала переделывать – все равно три точки. Потом оказалось, что только у нее и был правильный ответ: остальные рисовали график некрупно, одну точку не разглядели. На геометрии Андрей безнадежно ничего не знал. Теорема косинусов, тупоугольный треугольник… Он вертел мел в руках – в классе пахло мелом, как известкой в сырой побеленной комнате. Математик был без пиджака. Все просто и буднично. Только пугали. – Мальчик мой! – сказал математик. – Вернись на землю! И от этих слов, столько раз слышанных на уроках, Андрей вдруг вспомнил, как доказывается теорема. Написал все быстро и бездумно. Нет, кое-что он все-таки знал. – Довольно, – сказал математик. – Теперь будешь измерять площадь фигуры. На доске он начертил окружность. – Площадь круга? – Андрей как раз помнил эту формулу. – Нет. Вычисли площадь доски без круга. Математик улыбался. Андрею показался здесь какой-то подвох. Он влез на стул, измерил высоту доски. Члены комиссии улыбались – он чувствовал эти улыбки спиной. – Девятнадцать тысяч двести два! Все переглянулись. – Девятнадцать? Тысяч? – медленно спросил математик. – В чем ты измерял? В метрах или сантиметрах? Андрей прикинул – для метров у него получился слишком большой ответ. Для сантиметров как будто тоже много. Видимо, он ошибся, возводя что-то в квадрат. Со вздохом, убежденный, что все-таки это явное издевательство, он полез измерять доску еще раз, потому что забыл высоту. – Петя, – услышал он. – Ты уже сорок минут ищешь вторую высоту в параллелограмме. Поверни его боком, посмотри, что получится! Андрею нравился математик – пожилой, очень спокойный. Он тоже иногда ставил двойки и выгонял из класса. Но не со зла. Андрей пошатнулся на стуле и схватился за плакат с латинским алфавитом. Плакат упал, и Андрей полетел вниз вместе со стулом. Было много треску и меловой пыли. Среди членов комиссии началось откровенное веселье. – Глупые шутки, – сказал Андрей, отряхивая рукав. Петька за партой хмыкнул. Он тоже считал экзамены глупой шуткой. Тем более что вторая высота у него действительно никак не строилась. А боком параллелограмм развернуть – он не мог от волнения сообразить: каким боком? Не пошли ему на пользу занятия на крыше. Да разве до занятий там? Замечательная крыша в доме! Он читал там Дюма. Такое солнце было… Не глядя, Андрей кинул мел. Мел упал и раскололся. Андрей повернулся и пошел к двери. Учителя веселиться перестали. – Усов! – сказал завуч. – Вернись сейчас же! Но Андрей уже вышел в коридор. – Немедленно вернись! Усов! Но по прохладному, необыкновенно светлому коридору на третьем этаже Андрей уходил все дальше и дальше. Вечером позвонила Рогозина и сообщила, что ему все-таки поставили четверку. – Все-таки! – разозлился он. – Слушай, Рогозина, ты-то что понимаешь? – Не беспокойся, понимаю, – ответила Марина и натянуто рассмеялась: она-то понимала, каково это, когда вся школа говорит о падении со стула на экзамене и смеется, один ты не понимаешь, как это смешно… 2 Элька проснулась до лагерного подъема – в шесть. В открытое окно заглядывали ветки яблонь с облетевшими цветками, крошечная завязь щетинилась усиками. Элька дотянулась до распахнутых снаружи створок и, вздрагивая, закрыла окно: на нее посыпались холодные капли росы. Она бесшумно оделась и вышла из комнаты через веранду. На дорожке лежали густые утренние тени. Осторожно – скрипел гравий – убегала она по этой дорожке утром в лес. Солнечный свет стоял там косыми столбами, звучали птичьи голоса. В чашечках белых мелких цветов дрожали крупные капли, вдруг вспыхивая и переливаясь, стекая меж лепестков. Цветы – белые звездочки – пахли приятно и сильно, середина у них была зеленоватой коронкой. Хотелось их попробовать – а вдруг они сладковатые, как и запах, на вкус. Полянка с затененной дорожки казалась светлым пятном. Там торчали розоватые стрелки-султанчики лохматого подорожника, и под солнцем твердо зеленели первые ягоды земляники на высоких стебельках. Эльку переполняло что-то, она делалась легкой, как воздушный шарик. Ничего не стоило вдруг броситься с разбега во всю «окрошку» – не знала, как именно все это называется: фляк, бланш, еще как-то. Недаром она столько сидела на стекловских тренировках – кое-чему научилась. Ладоням было больно от попавшего под руку сучка или деревянной крошки, кусочка коры, дыхание сбивалось и выравнивалось, она встряхивала волосами, подпрыгивала воробышком, перелетая с рук на ноги, вся замирала, чувствовала, как екает где-то сердце, – раскидывала руки, вся тянулась за ними, благодарила невидимых зрителей. Вернувшись, она еще успевала безмятежно заснуть – утро словно становилось частью счастливого сна – и проснуться со всеми, с ощущением приближения чего-то хорошего. Волосы отросли – тетя заплетала тугую косичку, тетя бы порадовалась, она жалела, что у Эльки нет кос. Косичка даже хлопала по спине, когда Элька бежала утренний кросс Почти рядом с Усовым. Целых два километра. И уже после завтрака, убегая на свою тренировку, Элька начинала ждать следующего утра. Волосы пахли речной водой, травой, гарью – за рекой на болоте дымно тлел торф. Стояла жара. Элька часто бегала к роднику и окунала разгоряченное лицо в ледяную воду. Ломило лоб, ломило зубы. На дне беззвучно шевелились песчинки. Капли падали с мокрых рук на тропинку и тут же высыхали. Быстро высыхало и полотенце, которым Стеклова обвязывала голову на тренировках. К полудню поникала трава, смолкали птицы. Дежурные запускали по лагерной трансляции музыку. Но слушали ее только завхоз и его коза. Ночью завхоз охранял лагерь с ружьем, а днем сидел на лавочке или копался в огороде, а коза паслась рядом. Все остальные торчали на реке. Когда об этом доложили старшему тренеру – он был в лагере реальной властью, – тот только рукой махнул. До этого ли! У него семинар на носу, придумали в спорткомитете, как будто нельзя в городе провести. Небось не потонут! Потом спохватился и повесил на доске приказов объявление, в котором перечислялись кары за купание без разрешения, и даже шлепнул на него печать. Понимая, что это точно не поможет, он взял со всех, кто оказался поблизости, клятвенное обещание далеко не заплывать и с обрыва не прыгать. – Да кто с него прыгает-то! – воскликнул Петька, и все посмотрели на обрыв. Отсюда он виделся круглым зеленым склоном, потому что река делала поворот. Недобрым местом считался этот обрыв: и вода здесь была холодная, и на вершине стоял идол. Когда-то вместо идола была сосна, в нее ударила молния, и остался высокий обломок. На нем нарисовали лицо, а на голову положили плоский камень – идол получился как в шляпе. Здесь даже не купался никто: у берега били холодные ключи, и к самой воде подступала трава. Трава была очень мягкой. Элька любила ходить по ней босиком. Иногда она забредала на мелководье, и ее клевали в ноги юркие мальки. – Не прыгаете? Ну и молодцы! – сказал старший тренер. Лучше бы он этого не говорил и приказа не вывешивал! Первым не выдержал Петька. – Что это ты все на обрыв смотришь? – ехидно спросил он Эльку. – Я не смотрю. – Ты смотришь. – Петька был человек очень вредный. – Только тебя-то на него и не затащишь! – Это почему? – А я как-то видел тебя на вышке! – заявил Петька. – В бассейне! Да, правда. Было такое. Позор и ужас. Стояла на краю подкидной доски и чуть не ревела. Казалось, что очень высоко, а было всего два метра. Доска пружинила, качалась – не развернешься и не уйдешь. Наконец шагнула вниз, запоздало испугалась, наглоталась хлорированной воды, и под теплым душем бил потом озноб. – Это было давно, – сказала Элька. – Да ну? – удивился Петька. – А я думал, в этом году. Элька скинула кроссовки. На Петькином остреньком носу заблестели капли. – Попадет, – сказал он неуверенно. – Не попадет! Рядом был Андрей Усов. И при нем ее обвиняли в трусости! Она побежала к тропинке. – Да вернись ты, балда несчастная! – кричал ей вслед Петька, но она мотала головой и упрямо бежала наверх. Наверху она увидела, что идол стоит безликий – дожди смыли с него всю краску – и он не был теперь ни злым, ни недовольным. «Надо его покрасить», – подумала она и вспомнила, что где-то видела кисточки и краски. Она не стала смотреть вниз, разбежалась, выпрямилась, вытянулась и головой, руками окунулась в пустоту. Показалось, что прошла вечность, и еще одна вечность прошла, пока ее не вытолкнуло из глубины наверх. Вода в глубине была ледяная, сверху ощутимо теплела. Течение само понесло к берегу. Она тряхнула головой – снова услышала голоса и запахи: трава, гарь, нагретая хвоя. Лето. Лес. – Ты испугалась? – спросил Петька примирительно. – Не успела. – Зато я успел. Вечером Андрей вышел к обрыву и сел около идола – корни сосны торчали из размытой глины, переплелись надежно. Томительная жара спадала. Солнце начинало краснеть. Андрей сидел, кидая вниз камешки. Под руку попалась черная раскрывшаяся шишка, полетела в воду и утонула, не поплыла. Сырая была шишка. Он увидел, что идолу кто-то подрисовал глаза и рот. Краска была свежая. Идол смотрел сердито и, пожалуй, зло. Андрей отряхнул руки от глины и встал. Пошел в лес, но снова вышел к обрыву по другой тропинке. Сюда идол смотрел, улыбаясь. Его сделали трехликим, как индийское божество. Солнце садилось, и золотистая дорожка на воде краснела. Течение казалось спокойным, но ключи били, холодные ключи у самого обрыва – просто их отсюда не видно. Андрей покусывал длинную травинку, сорванную в лесу. Да, высоко. Но ему высота не казалась такой страшной, может быть, потому, что он всю жизнь прожил на пятом этаже. И ему приходилось прыгать с вышки на городском пруду. Здесь было ненамного выше. Он заглянул в третий идолиный лик. Идол скалил зубы. Насмешничал. «Ну, смейся!» – подумал Андрей и, отбросив травинку, шагнул вперед. – Можешь мне ничего не говорить! – такими словами встретил его у домика старший тренер. – Я все видел. Ты можешь как-нибудь объяснить свой поступок? «На идола смотрел», – чуть не сказал Андрей. Можно было сказать, что закружилась голова и он оступился. «Ага! Скажу – упал. С кем не бывает». – Не трудись придумывать, – сказал тренер. – Я видел, что ты прыгал вполне профессионально. Я понимаю, что запрет придает всему известную притягательную силу, но знаешь, как это называется? – «Нарушение спортивного режима». – Грубое нарушение спортивного режима! Я отстраняю тебя от тренировок и при первой же возможности отправлю в город. Ясно? – Что же мне теперь делать? – машинально спросил Андрей. – Что хочешь. Иди обсохни. Шумели сосны. Погода портилась. К ночи обещали дождь. Не вовремя Андрей собрался в поселок. Но нужно было позвонить домой. Он торопился – до ужина времени оставалось не так уж много. Больше, чем попало, уже не попадет. Просто ужин могли съесть. Он вышел из леса, теперь с двух сторон тянулись картофельные поля. Становилось теплее, когда выглядывало солнце, но потом солнечные пятна бледнели, стирались, сливались с тенями, и это двойственное ощущение тепла и холода было хуже, чем любой ветер. Поселок был уже виден. В домике с зеленой крышей помещались почта и не то сельсовет, не то колхозное правление. На почте оказалось пусто. Раздумывая, стоит ли заказывать разговор, он подошел к междугородному автомату: автомат при повороте диска зарычал, Андрей испугался. По такому ни разу не звонил и обращаться с ним не умел. Девушка-телефонистка одобрительно покивала – мол, так и надо. Но ему уже расхотелось выслушивать повторное рычание. – Пожалуйста, город. Телефонистка засуетилась, закричала в трубку. – Жди. В течение часа. «Ого», – подумал Андрей и сел на скамейку, – Есть хочешь? – спросила вдруг телефонистка. – Пирожки. С черемухой. Он помотал головой. – Чего ты стесняешься? – воскликнула девушка. – Сегодня суббота, мама сама стряпала! – Лучше город побыстрее дайте, – сказал Андрей. Но телефонистка уже налила чуть остывшего чаю с мятой и протягивала ему пирог. Он пробовал черемуху в первый раз. Понравилось. Вкусно. Окна быстро синели. Незаметно пошел дождь. Телефонистка в коротком платьишке бросилась закрывать окно. Свет лампочки словно стал неярким. – Ах, окно протекает! Окно действительно протекало. Но хуже было то, что телефон молчал. – Связи нет, – сказала девушка, послушав. – В глуши, что ли, какой живете – связь пропадает? А еще центральная усадьба! – Да в прошлом году ремонт был, – словно оправдываясь, заговорила девушка. – И теперь как дождь посильнее, все из строя выходит. Ждать больше было нечего. Ужин уже не то что начался – кончился. Дождь слабее не становился – лил стеной. Андрей сидел, вытянув ноги, и думал, как быть. Переждать дождь и возвращаться? Ну да… А когда он перестанет? Хорошо еще, что не гроза. – Спасибо за черемуху, – сказал он. – Куда ты? – изумилась девушка. – Льет-то как! Возьми хоть куртку! – Нет, до свидания. И шагнул под дождь, ругая себя за желание позвонить домой. Чего он хотел? Чтобы мама уговорила старшего тренера, а его пожалела? Как в детском садике! У дороги он почувствовал, что дождь временами стихает, потом накатывается волнами. Он весь промок, и это было не так уж приятно. Время летело. Было уже совсем темно. Дорога раскисла, в вязкой глине стояли лужи. «Влип ведь!» Можно сократить путь, пойти полем. Но картошка росла в той же глине, более вязкой, чем на дороге. Не поле – настоящее болото. Ловушка. Грязный, Андрей шагал через ломкие кустики. В кроссовках чавкало. Он проваливался чуть не по колено. «Вот влип!» В лесу он пошел быстрее. Страшно не было – кто еще, кроме него, будет в такую погоду бродить по лесу! А дождь все шел и шел. Петьку вызвал к себе старший тренер и потребовал – глупейшую вещь! – график кухонных дежурств. – Я сдавал, – сказал Петька. Он не сдавал. Ему постоянно напоминали об этом графике, но на кухне ведь все равно никто из школьников не дежурил: их в лагере было мало, лагерь-то студенческий, университетский. И что теперь график, если Усова выгнали! – У меня его нет, – раздраженно сказал тренер. – Федор Игнатьевич, – заметил осторожно Петька. – Какая от нас польза на кухне? Я, например, суп только мешать могу, а солить уже не умею. Тренер сказал, что солить ничего не требуется – на то есть повариха, а ей нужна помощь: картошку чистить, воду таскать. – Ага, воду! – сказал Петька возмущенно. – Девчонки, что ли, будут воду таскать? Тренер ответил, что если эти девочки могут с гантелями присесть и встать, то принести немного воды для них только в удовольствие, а если не могут, то им здесь не место, только под ногами путаются и мешают взрослым работать. И вообще, никакой дисциплины, разболтались совсем! И со словами: «Ну, иди, иди, у меня еще дела есть» – тренер выставил Петьку за дверь. – Детский труд на фабрике! – мрачно сказал Петька двери и пошел искать Стеклову, которой необдуманно перепоручил написать этот несчастный график. Необдуманно – потому что ей пришлось бы подходить к лохматому старшекурснику, ответственному у студентов за кухню, а лохматый Петьке не нравился. И при мысли, что Стеклова будет еще и что-то спрашивать у этого лохматого, казалось, что он, Петька, вообще может каждый день не обедать, лишь бы Стеклова и этот старшекурсник не общались. Стеклова сидела в столовой у телевизора. Было время ужина, она сидела с тарелкой на коленях. Шел «Театр» Моэма. Элька еще не появлялась. Усова тоже не было. Петька сел и со своего места увидел, как Стекловой подает хлеб тот самый старшекурсник. Петька разозлился, подошел и довольно громко спросил насчет графика. На него зашипели. – Я положила тебе на кровать, – сказала Стеклова, не в силах оторваться от Паулса на экране. – Не видел, – сказал Петька. – И, по-моему, не писала ты ничего. – Не писала, – легко согласилась Стеклова. – Его Элька писала. У нее тогда время было. Уйди, не мешай, При выходе из столовой Петька налетел на старшего тренера, и тот вдогонку крикнул: «Чтоб график был!» «Да помешались все на этом графике!» – подумал Петька. На кровати у него, конечно, график не лежал. Он стал перетряхивать бумажную кучу с полки и заметил, что уже стемнело. Он не видел букв. Тогда он зажег свет, и вокруг неяркой лампочки сразу закружилась бабочка. По стене металась тревожная тень. На улице пошел дождь. По подоконнику сквозь щель в раме быстро потек ручеек. Петька сходил за тряпкой и вернулся к бумагам. Здесь много чего было: старые судейские бланки, газеты, обрезки фотографий. И график, наверное, тоже был – во всяком случае, мог быть только здесь. Петька стянул все это ничейное добро с полки, и тут на него посыпалась книги. Он начал ставить их на место и с облегчением увидел на полу листок, исписанный Элькиным почерком – очень четким, ровным, буквы без хвостиков. «А хорошо, что она писала, – подумал Петька. – У Ленки почерк ведь, как у курицы». Но это был совсем не график, о котором Петька тут же забыл. Ему даже стало жарко, он скинул куртку, хотя в домике было гораздо холоднее, чем на улице. С окна капало, тряпка уже намокла. Шумел ливень. Петька отправился искать Усова. В столовой его не было. Две порции – его и Элькина – стояли нетронутыми. Петьке показалось, что теперь все обретает какой-то иной смысл – прыжки эти… да все! Наверху, в комнате девочек, горел свет. Элька сидела под одеялом с книжкой, но не читала. – Ты не была на ужине? – спросил Петька, но плохо расслышал свой голос. В комнате стоял шум дождя, потому что на веранду была открыта дверь. – Я не люблю капусту, – не оборачиваясь, ответила Элька. – Сегодня не капуста была, – сказал Петька, закрывая дверь. – Сегодня… – Он замолчал, потому что она не слушала. – А Усов где? – Я не знаю. – Его тоже не было. Наверное, получалось ехидное, чем нужно было, Элька повернулась: – Где-нибудь он да был. Отстань. – Ну ладно! Он спустился к себе и стал собирать с пола книги. У него прыгали руки, когда он снопа взбегал по лестнице. – Твое? – Он швырнул стопку книг ей на одеяло. – Так не разбрасывай в чужих комнатах! – Не мое, – сказала Элька. – А ты бы хоть стучался. И не кричи. – А чье же? – Да отстань ты наконец! – А это?! Он стоял перед ней с листком, и от какого-то злого торжества у него даже загорелись уши. – Отдай, – сдавленно сказала Элька. Она шевельнулась, и книги на одеяле расползлись. Наверное, она увидела там что-то, непонятное Петьке, и повторила растерянно: – Отдай. Он помахал листком: – Записки друг другу пишем? Ах-ах-ах, какой он, Андрей Усов! – Смолкни, – мрачно сказала Элька. – Думаешь, я сижу, так уж не встану? – Ну, встань! – насмешливо сказал Петька. Она не встала. – Если пишешь, так хоть не бросай по комнатам! – Тебя читать никто не заставлял! – Ах-ах… Элька вскочила, но Петька успел отпрыгнуть в сторону. Он думал, что она сейчас скажет опять: «Отдай». И он отдаст. И все. К тому же она была не одета: свитер и плотные колготки, в которых девчонки занимались у хореографа. Но Элька не говорила. Ей плевать было, что она не одета. У нее сжались кулаки. – Ну, подходи давай, – сказал Петька, еще не осознав, что зажат в самый невыгодный угол: окно рядом с верандой затянуто сеткой, а дверь на веранду он сам закрыл. Оставалось еще одно окно – на улицу. А был второй этаж. – Подходи-подходи… Она шагнула. Он метнулся, и сам не понял, как оказался на подоконнике, но хорошо понял, что она подойдет. И что лучше не ждать, пока она подойдет. Ну, что она могла с ним сделать? Стукнуть? Она? Его? Из-за Усова? – А-а… И он мужественно прыгнул в темноту. Упал он счастливо на что-то мягкое, но не успел этому порадоваться, потому что следом не менее счастливо спрыгнула с окна Элька, и они зло сцепились посреди развороченной клумбы. Драка оказалась короткой. Их растащили чьи-то сильные руки. – Ну, вы! – сказал повелительный голос. Зажглась спичка. Петька похолодел, узнав старшего тренера. – Так… – недобро сказал старший тренер. У Петьки была разбита губа, и во рту стоял вкус земли и крови. Он не мог говорить. Спичка погасла. – Так, – повторил тренер. – Ты видел? – Но имел в виду он, кажется, не Петьку. – Плохо, – отозвался незнакомец. – Так посмотри получше! – взорвался старший тренер. – Тихие они у вас все! Краса и надежда отечественного спорта! Да у них вечно все не слава богу! То одно, то другое!.. – А где Катерина? – перебил незнакомец. – Она с ними ладила. – Вот именно! Нету Катерины! Понимаешь? Нету! В институт она надумала поступать! А у меня никого больше нет на эту мелюзгу! Опять зажглась спичка. Незнакомец хотел разглядеть мелюзгу получше. – Вот, любуйся, – тренер говорил уже тише. – На Зимину свою полюбуйся! Тихая. Как сделать что, так не заставишь, а тут… Да еще семинар этот! Ты не представляешь, сколько мне пришлось написать бумаг! – Зимину я заберу, – сказал незнакомец и бросил спичку. Петька понял, что это Элькин тренер. – Еще одного заберешь! – отрезал старший тренер. – А еще лучше, всю эту ораву! Смотреть за ними некому. Не помрут без лагеря. Пусть в городе друг друга калечат. – Ты иди, – сказал Элькин тренер. – Мы сами разберемся. – И не дожидаясь, пока тот отойдет, присел перед Элькой на корточки и достал платок. Глаза уже привыкли к темноте или тучи ушли – Петька видел все отчетливо. – Вот так-то, свет Элеонора Юрьевна… Вот такую я тебя и повезу красивую. Впрочем, ему тоже досталось. Что же вы не поделили? – Трепло! – сказала Элька презрительно. – Ты обо мне? – обеспокоенно откликнулся тренер. – Вот что получается, когда тренер молод, а воспитанница почти родственница, – уже обычным голосом, ворчливо сказал старший тренер и зашагал по траве на дорожку. Элькин тренер попробовал платком вытереть ей лицо. «Пижон», – подумал Петька. – Надеюсь, вас не нужно будет запирать в разных углах? – обратился тренер к Петьке. – Не нужно, – хмуро ответил он. – Ну, прекрасно… Да ты раздета! – спохватился тренер. – Марш в дом! А то приехал твой отец. Тетя и так целый день не присядет. Тебе еще только заболеть! Петька посмотрел им вслед и пошел кружной дорогой к роднику, чтобы не встретить расходящихся телезрителей. Когда он вернулся, в комнату постучали. – Твои книги, – сказал Элькин тренер. – Это… не мои, – сказал Петька. – Не понимаю я… – У тебя очень агрессивное непонимание, – заметил тренер. – Главное, выражается очень непосредственно. Открылась дверь и вошел совершенно мокрый Андрей Усов. – Ты где был? – накинулся на него Петька. – Гулял, – ответил Усов высокомерно, – Под дождем? – спросил Элькин тренер и сам себе ответил: – Впрочем, кому как нравится. Вы веселые люди. Теперь я понимаю, почему Федор Игнатьевич так жаждет от вас избавиться. Старший тренер сдержал слово и отправил Андрея в город вместе с Элькой и ее тренером. Они уезжали вечерней электричкой. Она пришла переполненной: здесь была полоса пригородных садов. Элька была в венке из колокольчиков. На лицо сыпались ярко-желтые точки. От колокольчиков сильно пахло травой. Андрей почти касался щекой ее венка. Было неудобно стоять в толпе, но травяной запах нравился. Андрей часто убегал в лес, валялся в траве, смотрел в небо. Если утром шел дождь – светлый, с солнцем, то к полудню трава просыхала. Кое-где ее подкашивали, и запах сена стоял вдоль дороги. Потом Андрей открыл, что не одинок, не одному ему приходит в голову мысль убегать от всех. Он видел Эльку, стоящую, как аист, с поджатой ногой. Перед ней лежала брошенная раскрытой книжка, но Элька смотрела мимо, наклонив голову набок, сосредоточенно и, как ему показалось, хмуро. Про книжку она забыла. Потом ему ночью почему-то снился старый пень, лесная тонкая трава, кустики черники с налетом на крупных ягодах и он сам, а вроде бы и не он сам – странно-знакомый белоголовый мальчик, трогающий сизые ягоды губами. Как-то он видел Эльку и Стеклову на берегу – они дурачились, бегали, кричали, танцевали диковинный танец, прыгали, переворачивались, словно это было легко, ничего не стоило. Правда, Стеклова Эльку подстраховывала – ладонью под спину. Они разбегались – а вспоминался их бег замедленным, лишенным ритма, как продолжение своих щемящих снов: взмах руками… вздох… лицо… и как заключительный аккорд – взмах, всплеск распущенных за спиной волос, – а он-то в стороне, он в стороне. 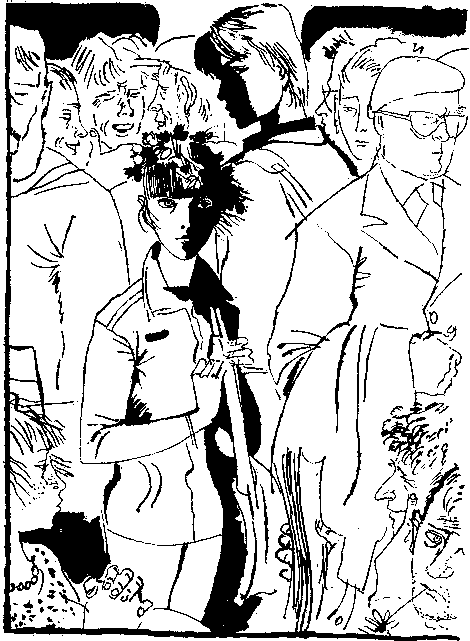
Элька сняла венок, и он увидел, что под глазом у нее синяк. «Опять!» – удивился он, потому что помнил, как она ходила с пластырем, все она же. Элька хмуро смотрелась в стекло, пробовала надеть венок боком, прятала синяк. В полутьме ей это удавалось. Но когда она придет домой и встанет под яркой лампой – страшно подумать. Элька заметила в стекле взгляд Андрея и, подавшись вперед, швырнула венок в открытое окно. Андрею не хотелось домой. Думалось тягостно, что вот он сейчас приедет, и словно кончится лето. Придется сидеть с родителями, пить чай, рассказывать… А что рассказывать? Электричка замедляла ход. Уже приехали. Сойдя с платформы, Андрей очутился в городе, от которого, оказывается, отвык. Много света – трамваи, вывески, на проспекте новые фонари. Отвык, что вокруг много людей, на пятый этаж подниматься тоже отвык. В гулком подъезде тускло светили лампы. Маслянисто блестели прутья недавно покрашенных перил. Еще во дворе он увидел, что окна его квартиры темны. Позвонил, немного помедлив. Никто не подошел к двери. Дома никого. Тихо. Вечером? Раньше родители никуда не уходили вечером вместе. Отца невозможно было вытащить ни в театр, ни в кино. Раз в год мать все-таки водила его с собой, и Андрей догадывался, что отец смотрит фильм без удовольствия, ему неловко и он страдает среди нарядных людей – таким отец возвращался мрачным. Андрей позвонил еще раз – значит, все-таки никого нет. И надо что-то делать, не ночевать же на лестнице. Днем Марина Рогозина размышляла, можно ли готовить обед из мяса, купленного только вчера утром, но пролежавшего столько времени в тепле, пока она ходила по городу. То ей казалось, что можно, то – что не стоит. Наконец мясо, уже нарезанное, опять отправилось в холодильник – до маминого приезда. Пришлось готовить одни макароны, но они прочно прилипли к сковородке, совсем не поджарившись. Озадаченно смотрела Марина на свой несостоявшийся обед. Потом махнула рукой, убедила себя, что ни есть, ни стряпать больше не хочется – пора играть. Вечером ей позвонили, сказали: приходи в гости, есть одна пластинка, Энеску играет Баха, интересная фразировка, такие линии. «Энеску? – удивленно спросила она. – Энеску?» Она думала, что он только скрипач. Но он играл ту же фугу, что Марина готовит на экзамен в училище, – запуталась она в ней с голосами, нет внутренних мелодических опор. Напевая, стала собираться в гости – была уже накрашена, в кофточке, но без юбки, когда кто-то позвонил. Заметалась по комнатам в поисках халата, не нашла, накинула мамин. Андрей Усов приехал из спортлагеря – загорелый – и просил ключ, Мать всегда оставляла ключ у Рогозиных, Марина отдала – он кивнул, не сказав ни слова. У Марины свело горло, как при плаче. Не закрывая двери, плечом задевая стену и пачкая халат, слушала она его неслышные – он был в кроссовках – легкие, какие-то бесплотные шаги по лестнице. Потом убежала в ванную – тихое, теплое, замкнутое пространство в квартире, где везде погашен свет. Ощущался цветочный запах немецкого порошка. Поблескивали флаконы – эликсиры, лаки, шампуни. Она присела на табурет из гнутых пластмассовых полос, стала смывать краску с ресниц. В глазах защипало – заплакала. Зазвонил телефон, но она не подошла, промывала глаза. Никуда не пойдет. И ни для кого ее нет дома. Дома все было чисто, его комната прибрана, букет ранних астр на столе. Его здесь будто ждали. А весь вид Рогозиной сказал ему, что о нем забыли. Он подошел к зеркалу, посмотрел на себя. Лицо показалось изменившимся. Комната без света отразилась незнакомыми, словно искаженными силуэтами. Странно, но он не любил зеркало и свое отражение в нем. Позвонил телефон. – Хто? – спросил хриплый голос. – Хде? – мстительно спросил Андрей. Голос испуганно молчал. «Тоже отвык», – подумал Андрей и отошел от телефона. Так и не включив света, не раздеваясь, он улегся под старый плед на диване, и, как только нашел на потолке знакомую трещинку и закрыл глаза, чуть уколов ресницами ладонь, положенную под щеку, так вдруг сразу наступил день, городской день, и по комнате гулял сквозняк от раскрытого балкона, а внизу у магазина гремели и трещали ящики. Его лето текло бездумно, вольное время, каникулы, Андрей каждый день выходил во двор играть в теннис с Олегом Пшеничкиным; иногда ездил в деревню, где у бабушки был небольшой домик с почти пустой комнаткой и чердачком сверху, и в этой комнатке почему-то держался стойкий запах яблок и свежеоструганных досок, и Андрей проводил целые дни в этой прохладной яблочной комнате, полулежа в гамаке, закрепленном за дверь и раму окна, читал что-нибудь под настроение, и время текло, перемещаясь по полу желтыми солнечными полосками, а когда солнце садилось, Андрей уезжал в город – там все было по-другому – привычнее, проще, будничнее… 3 Элька вздохнула и осталась стоять в промежутке между дверьми: в музыкальной школе двери были двойные. Тетя ее заметила и, велев ученице продолжать, вышла к Эльке. – Ну, что? – спросила она. – Начался учебный год? – Вас в школу требуют, – хмуро сказала Элька. – Так! Говори сразу, с какого урока тебя выставили! – Будто не знаете, – буркнула Элька. – С географии. Вот. В дневнике была запись: «Невоспитанный и донельзя избалованный подросток! Тов. родители, примите меры!» Тетя знала все это уже наизусть. Началось все с Лены Стекловой, потом перекинулось на Эльку, что-то учительнице не понравилось, и она предложила «покинуть класс». Элька, разумеется, покинула. Лена, наверное, тоже. С тех пор, как они изучают географию, эта история повторяется регулярно. Тете совсем расхотелось идти в школу. Она – сама давно уже педагог – вдруг испугалась того, что разговор окажется пустым, как и все предыдущие. Тетя была уверена, что учительница больше виновата в конфликте, чем Элька. Но Эльке-то об этом не скажешь! «Пошлю Сергея, – подумала тетя. – Пусть он объясняется и с ней и с Элькой. У него лучше получится». Тетя молча подписала дневник. Ее еще обидело, что учительница написала про Эльку: невоспитанная и избалованная. – Что это за «белый бант»? – спросила тетя, просматривая предыдущие страницы, – Это из-за него у тебя по поведению единица? – Из-за него. А бант нужен для дежурства. – Для какого дежурства? – Дежурства по школе. Раньше мы не дежурили, потому что класс спортивный, а теперь она у нас классная и сказала, что нас с самого начала поставили в исключительные условия, а зря. – Элька, я ничего не понимаю! – А у меня банта не было. Я не маленькая. – Но Лена Стеклова носит бант, я видела, – тихо сказала тетя. Элька только хмыкнула. – Если бы ты хоть иногда улыбалась и не глядела волчонком, ты была бы совсем милая девочка. Ничуть не хуже, чем твоя Стеклова. – Знаете, тетя, мне еще только белый бант завязать! – выпалила Элька и выбежала из класса. – Элька! Когда освобожусь, зайду в твою школу! Было начало сентября, осыпались прихваченные заморозками листья. Пахло дымом: во дворах жгли костры. Дома было пусто. Отец давно уехал. На полу лежало письмо, но не от него. На конверте стояло: Рогозина М., деревня Ключи. «Там же, где мы были в лагере. Она в колхозе, наверное», – подумала Элька. Марина поступила в училище и теперь студентка. На тетином столе стояла корзинка с вязаньем. Никогда тетя не рукодельничала и вдруг связала Эльке шапку. Но до снега далеко… Теперь в корзинке лежало что-то пестрое; Элька побоялась спустить петли и смотреть не стала. Она редко бывала дома днем, а днем одна – еще реже. Тихо было в доме. Сумрачно. В стекло скреблась кленовая ветка. Элька вздохнула и отправилась к себе наверх. Когда Андрей пришел первого сентября в школу, то оказалось, что школа изменилась неузнаваемо. Дело было не в том, что ее отмыли и покрасили. Другие лица, другие стены. Классы перемешали: из трех восьмых сделали два девятых. Появилось много молодых учителей, они часто устраивали хитрые письменные опросы – все это слилось в одно воспоминание: сидишь, грызешь ручку и тягостно, безнадежно ничего не знаешь. Везде висели новые белые шторы, в классах от них делалось светлее и казалось, что холоднее, сентябрь стоял бессолнечный, нетеплый. Андрей заметил, что почти не чувствует на себе Элькиных взглядов. Не потому, что они реже встречались. Как раз виделись они гораздо чаще, чем в прошлом году. Тогда он ее не замечал. А теперь она не замечала. Это задело. Задело. Но хотя какое ему дело до девчонки с отросшей челкой – так что и глаз не видно? И вообще, Элька вдруг стала гордой, невероятно гордой. Андрея однажды толкнули – он налетел на нее, чуть вместе не упали, она посмотрела королевой, плечом дернула, быстро пошла, размахивая колокольчиком – звонок в школе не работал. В белом фартуке, волосы подстригла – лоб еще скрывают, но на глаза не падают. И, слыша в тот день звонки с уроков, он представлял, как она стремительно идет по пустым коридорам с колокольчиком. Ну и пусть идет! Колючка! А записки он на уроках получал. И телефон по вечерам нет-нет звонил, и нерешительно вздыхала трубка… – Конец комкаешь! За день это вторая тренировка. Будничное синее платье взмокло, один бантик с волос начал сползать. – Еще раз! Она присела, начала подтягивать шнурок на ботинке, тянула, пока не порвала. Пришлось перешнуровывать весь ботинок. Потом отъехала от бортика, почувствовала, что скребет лед с отвратительным звуком. Сергей Владимирович, отвернувшись, сказал что-то паре, пробующей шаги. – Почему не прыгнула? Зашла ведь? – Он уже повернулся к ней. – Мне помешали. Скорость у нее была большая, и ничто не должно мешать, отвлекать во время захода на прыжок. – Нет, не помешали. Тренер заметил, что у Эльки начинает дрожать подбородок. – Еще раз. К бортику подходили, смотрели – дело обычное. Но сверху на нее смотрел еще Андрей Усов. Как он умел – безразлично-внимательно. И этот взгляд был совсем не нужен. Мешал. Стеснял. Она не могла сосредоточиться, падала, не чувствуя ушибов. Разладился прыжок двойной аксель. Она пробовала снова и снова – не получалось даже на средней скорости, падала, как на заколдованном. Тренировка явно зашла в тупик. Вот уже тренеру и говорят: – Сережа, да выкинь ты этот прыжок. Остается ведь очень приличная программа. – Зачем мне приличная, мне выдающаяся нужна. Сделает, – сквозь зубы ответил тренер. Он видел, что Элька устала. Что лед изрезан и, пожалуй, мягковат. Что пара, с которой он бьется целый день, опять коверкает шаги. – Еще раз! Он уже лупит себя по колену кулаком, повторяет кому-то: способностей тьма, но гнусный характер, гнусный, ты посмотри на нее! Она опять упала. Сидела на льду, глотая слезы. – Марш с тренировки! Это не работа. Элька поднялась, попробовала прыгнуть еще раз – упала. – Марш, тебе говорят! Она подхватила чехлы и побрела в раздевалку. – Ничего не понимаю, – жаловался тренер. – Честное слово. Заскок какой-то. И эти тоже. – Он кивнул на пару: партнеры стояли у разных бортиков надутые. Элька оделась и перебежала через темные трибуны открытого катка и аллею с мокрыми скамейками. Настроения не было совсем. Внизу лежал город, но его яркие цветные огни не радовали. Воздух сырой, прозрачный, город кажется нарядным – все равно. Пусть. Последние шаги – и дома выросли до нормальных размеров, и трамвай скрежетом на повороте заглушил все звуки. Элька свернула на свою тихую улицу. У подъезда раскинулся желтый колеблющийся круг: в редких листьях раскачивался невидимый фонарь. Здесь всегда был ветер. – Наконец-то! – сказала тетя. – Что так поздно? Что такая? – Сегодня еще рано, – медленно ответила Элька, снимая куртку. – Что случилось? Ты промочила ноги? Ну конечно же, в этих ужасных туфлях! «Они не ужасные, а удобные», – думала Элька, разглядывая ждущий ее ужин. Тетя разволновалась: ребенок пришел расстроенный, замерзший, голодный! – Я устала, тетя, – сказал ребенок. К плохому настроению прибавились угрызения совести: тетя обещала, что к вечеру сделает пельмени, если Элька поможет их лепить. Эльки лепить не стала, а тетя пельмени все-таки сделала. К чаю тетя достала варенье, но Эльки не сразу заметила, что оно из вишни. – Разве сегодня праздник? – Почему бы и нет? – ответила тетя. – Я вижу дорогую племянницу в добром здравии. Если бы еще и в настроении. И не так поздно… Элька не выдержала, рассмеялась, как ни старалась сдержаться. Но, очутившись в своей комнате, помрачнела снова. Было холодно, однако Элька не стала закрывать форточку. Шел дождь. Холодный осенний дождь. Шумели поезда. Совсем рядом. Старый фонарь раскачивался, и светлое пятно на стене качалось тоже. Шевелились тени. Элька включила большой свет, и тени исчезли. Но шум не утих, и казалось, что едешь в поезде с раскрытым окном: в комнате пахло мокрой землей и листьями. Облетали тополя. Держались дольше всех, но теперь уже облетали. Раздался звонок, довольно резкий, и Элька вздрогнула. Тетя почти тут же открыла. – Благодарю, ты что, опять оборвал позднюю клумбу? – услышала Элька ее звонкий голос, но не поняла, что ответил гость. – Элька! – крикнула тетя немного погодя. – Спускайся, у нас торт! Подумалось, уж не день ли рождения у тети – и гость с цветами, и варенье, и торт. Она перебрала в уме числа, выходило – нет, не день рождения. – Элька, а торт шоколадный! Элька промолчала. Ей вдруг показалось ужасно неудобным спуститься вниз. К тому же тетя сказала негромко, но Элька услышала: – Эти ее настроения меня с ума сведут. – Знаешь, Лида, тебя настроениями бог тоже не обидел, – ответил гость, Сергей Владимирович, Элькин тренер. – Ну и оставьте мне кусочек, – ответила Элька, как будто ее могли слышать в комнате. – Мне же еще уроки делать. Она тихо-тихо спустилась в кухню, отлила в блюдце вишневого варенья и на самом деле села за уроки, достала тетрадь по физике. Но варенье скоро кончилось, а из пяти задач успели решиться только две. Элька закрыла тетрадь и, отодвинув блюдце, устроилась с ногами на подоконнике. Дождь шел и не собирался кончаться до утра. Из-под моста вынырнула машина, и от нее в разные стороны полетели струи, будто от глиссера. Элька вспомнила, как однажды на открытом катке лед просел, воды было много, а Элька катилась, припав на одно колено, и во все стороны так же летела вода. Ранняя осень была, липы пожелтели, но еще не опали, и она потом шла по парку – маленькая, потерянная в огромных липах. Все казалось, что встретится старинная забытая беседка или дерево с большим дуплом. Но ничего такого не встретилось. Воспоминание об открытом катке отбросило к разладившемуся акселю. Она видела себя во взмокшем платье, с узлами на шнурках, разлохмаченную, злую, лицо горит, сердце колотится, подбородок дрожит! А Андрей Усов сидел наверху и смотрел. Ей казалось, что он часто теперь на нее смотрит – у них бывали уроки в кабинетах рядом, на переменах они сталкивались. Ее мучила мысль, что он все знает. Что из того? Раньше было легче. Теперь почему-то труднее. Лучше бы он не знал. Уже и голоса внизу стихли – гость ушел, и тетя легла, а Элька все сидела на подоконнике. Нарушение режима… Но если не спится, какой там режим… Мать позвонила и обратилась к Андрею с необычной просьбой: сходить вместо нее в филармонию. У нее на работе дежурство до ночи. – А что там, в филармонии? – Не знаю, – искренне сказала мать. – Пойдешь? – Да я там ни разу не был… И некогда мне. – Так пропадет ведь билет, продай тогда. – Ну, я еще буду торговать билетами! – Андрей, отец ведь не пойдет, пойди ты. Билет-то жалко. – Вот именно, – пробурчал Андрей. – Отец не пойдет, а я должен тащиться. И меня не жалко. Он и сам не знал, почему не отказался решительно, а начал собираться. Просто сидеть дома надоело. Он пошел пешком. Люди торопились, обгоняли. Уже держался, не таял снег, и многие были в зимних пальто. Андрей шел в куртке, пальто не любил: слишком тяжелое и делает его сразу господином средних лет. Уж лучше курточка. У филармонии стоял народ. Висела большая афиша. Бросилась в глаза фамилия дирижера, но он тут же забыл какая. Спрашивали билеты. Проносили завернутые цветы. Сразу чувствовался запах духов и снега. Сдавая куртку, Андрей начал замечать то, что мог увидеть только здесь и нигде больше. Ни в одном театре не было такой публики. Седую царственную старуху поддерживал под руку молодой человек. Старуха была в черном бархатном платье, волосы уложены короной. От нее дохнуло началом века. Она шла бодро и села в красное плюшевое кресло, держа спину прямо, хотя была очень, очень стара. «Но, мой Женечка»… – понял Андрей начало французской фразы. И молодой человек ответил тоже по-французски. Все это было тоже из начала века. Раньше здесь было дворянское собрание, и, может быть, старуха танцевала в нем на балу, будучи барышней на выданье, недавней гимназисткой. Раздавались радостные восклицания. Все люди, казалось, были связаны какими-то особыми узами: встречались учителя и ученики, родственники близких друзей, бывшие однокурсники, студенты в джинсах, с инструментами – и все здоровались, перебивали друг друга. Это был совершенно особый круг людей, в котором Андрей никогда не бывал и о существовании которого лишь читал. Он пробирался к своему месту, ошеломленный. На него смотрели – девчонка-гардеробщица первая стрельнула глазами, и многие женщины, одетые нарядно, удостаивали его взглядом, отвлекаясь на минутку от своих спутников. И над всем этим словно висели в воздухе приглушенные звуки настройки. Погасли люстры. Подсвеченной осталась лишь сцена. Сидящий справа сосед открыл старинный том, переплетенный в протершуюся на углах кожу, и на первой странице оказалась гравюра с ангелами, музами, лирами. Вышла женщина и объявила: – Георг Кристоф Вагензейль. Концерт для четырех клавесинов ре-мажор. Части… Андрей не понял, что обозначают названия частей, он косился на ангелов. Имена исполнителей он тоже прослушал, уловив лишь одно – Лапшин, и то потому, что слышал его еще в фойе. Борис Федорович Лапшин. Стремительно вышел на сцену и раскланялся во все стороны человек с орлиным носом и седой головой. Фалды фрака за ним летели. Это и был Лапшин. За ним тихо прошли и расселись три его ученика, среди них девушка в длинном черном платье. Лапшин опустил руки на клавиши, и концерт начался – озорно и бурно. У клавесина оказался звенящий, коротко обрывающийся звук. Ученики вступили, и их партии перемешались, подчинились главной, голоса слились. Концерт был радостный. Его играли с удовольствием. Но это была работа, а не развлечение – суровый рот Лапшина был сжат, а руки гнали, гнали, гнали, и зал был напряжен, захвачен, покорен. Андрей сидел справа и видел лица исполнителей, а не руки. Он был ошеломлен, насторожился. Краем глаза он видел вокруг сосредоточенные лица, и те, что на сцене, тоже были сосредоточенны. Не просто великолепную технику показывали люди, а говорили о чем-то, торопясь и обрывая, подхватывая снова намеченную мысль. Все было понятно и временами грустно без просвета. Только что ажурные лесенки трелей бежали радостно, и вдруг после аккуратного старинного оборота все окуналось в отчаянную тоску, так, что сжимались невольно пальцы. Девушка в длинном платье с открытыми плечиками встала и неслышно перевернула Лапшину ноты, села, опустив голову, и Андрей едва не закричал от удивления – это была Марина Рогозина. И сразу же ему словно разъяснили что-то, он стал во всем чувствовать только ее присутствие – ее больше, чем чье-либо. Она умела заставить во всем видеть только себя, но он не думал, что эта власть и на него распространяется, он ведь так давно знал ее. Самое первое воспоминание о ней: они во дворе, к ногам привязаны крепкие диванные пружины, ее выдумка. Ощущение упругости шага и зыбкости одновременно, двор зарос одуванчиками, и на голове Марины венок из одуванчиков, начинающих закрываться. Уже поздно, его давно звали домой. Растет, растет чувство, похожее на зависть: у Марины нет папы, ей никто ничего не запрещает, ее не зовут домой, на нее не ворчат, и она тогда уже умеет играть на рояле. Лапшин кивнул головой – концерт кончился. Неслышно вышли и расселись оркестранты. Появился дирижер. Аплодисменты усилились и долго не стихали. Маленький дирижер ловко забрался на крытую ковром подставку. Поднял палочку, посмотрел на Лапшина. Раздался первый звенящий аккорд. Андрей уже был насторожен и очарован. Никогда раньше такого не было: кто-то словно подходил к нему и молча глядел, а он не мог рассмотреть лицо, как ни старался. Будто во сне. Казалось, вот-вот узнает, вот-вот поймет, а узнавание ускользало, хотя все это было, было, было где-то, когда-то, на другой планете! Андрей сидел в задумчивости – боже, как живет? В пустоте какой-то. Ничего не делает, ни о чем не думает. Никто ему не нужен, и он никому не нужен тоже… Аплодисменты были громкими и долгими, дирижер неловко клюнул носом и убежал. Лапшин кланялся долго, его не отпускали. Все знали, что сейчас он уйдет и уже на сцене не появится. Потом пришли рабочие и стали готовить сцену для второго отделения. Сосед захлопнул клавир и сказал своему другу: – А Валька кланяться так и не научился! Подошла женщина, и Андрей, глянув, подумал: знакомое лицо, где-то видел. – Ну вот, – сказала она. – Старик Лапшин сегодня орлом… Подошла седая дама с Женечкой, и все вскочили. – Лидочка, чудесно… Поздравляю тебя – ты вырастила прекрасную девочку… Все еще впереди, но начало великолепное… – И она, приподнявшись, коснулась губами Лидочкиного лба. Они еще поговорили, и Андрей услышал фразу, сказанную на прощание: – У меня в среду сольный… Приходите… Буду весьма рад, – сказал юный Женечка. – Лидка, ты – голова, – сказал сосед. – Девчонка замечательная. Почему ты не окончишь аспирантуру? Твое место в консерватории, а не в школе. – Аспиранту-уру, – протянула Лидочка. – У меня и так ребенок в «дом» да в «телефон» один играл, пока я по частным урокам бегала. Мне тогда только в аспирантуру и оставалось пойти. – А Сережка тоже здесь? – спросил другой сосед. – Нет, не пошел, – сказала Лидочка и как-то растерянно оглянулась, отошла. – Так у них с Сергеем и ничего? – спросил другой сосед. – Да-а… Сначала он не торопился жениться, а теперь она вроде не хочет. И потом, ребенок… – Элька, что ли? Так это же не Лидин ребенок. – Ну да, от ее старшего брата удрала жена, он тоже где-то не здесь, а ребенок на Лидке… Что-то в этом духе. Они встали и ушли, а Андрей остался сидеть. Он понял, что Лидочка – учительница Рогозиной и чем-то она напоминала маму Марины: такая же молодая, нарядная, какая-то одинокая. Марина такая же. Металлический блеск органных труб завораживал – от них невозможно было отвести взгляд. Вернулись соседи. Медленно погас свет. Вышла женщина и назвала звонкое имя: – Антонио Вивальди. Четыре времени года. Части… Вышел дирижер и взобрался на свою ковровую подставку. Рядом встал солист-скрипач, совсем мальчишка. Некрасивый. Во время оркестрового вступления он угрюмо рассматривал зал. Потом вступила его скрипка, и музыка сразу как-то переменилась, словно повернулась другой стороной. Только что была беззаботная весна, а теперь что-то не то. Андрея поразила тревога, которая скрывалась во вроде бы легком поющем звуке. Андрей потерял счет месяцам и только выделил декабрь – лишь в декабре такое могло быть. Шел снег. Серебряный шорох клавесина казался падением маленьких белых звезд. Он околдовывал. Вступала скрипка и подчиняла своему смятению весь оркестр. А снег все падал, падал… Андрей не знал, что «Времена» не разделены на месяцы. Что всего это четыре концерта для скрипки с оркестром и части называются по обозначению темпов. Андрей смотрел на скрипачей в оркестре, словно разом очерчивающих невидимую фигуру смычками, и на солиста – мальчишку во фраке. Замкнутый. Высокомерный. Неулыбчивый солист хмуро откланялся. Ему протягивали цветы, он брал, не глядя, и очень быстро ушел за кулисы, больше не показываясь. Но дирижера так просто не отпустили. Он уходил и возвращался. Публика молила, требовала: музыки, еще музыки. – Что Валька с нашим оркестром сделал?! – сказал сосед другу. – На них смотреть стало приятно. Маленький дирижер растроганно кланялся и растерянно озирался. Он не мог уйти при таком состоянии зала, а Андрей знал из разговора соседей, что ему уже пора. Концерт был не совсем обычный. Завтра Лапшину исполнялось семьдесят лет, и он показывал своих учеников – наверное, последних. И дирижер Валька тоже, видно, был его учеником раз прилетел на этот концерт, и теперь ему надо было лететь обратно. Надевая куртку, Андрей увидел Рогозину, появившуюся из боковой двери с ворохом цветов. Просигналила машина. В дверях стоял человек – шагнул к ней, сказал сквозь зубы: – Что ты копаешься? – Это был солист. – Не командуй! – вспыхнула Рогозина. – Валька! – крикнули где-то. – На самолет опоздаешь! Маленький дирижер быстро перебежал фойе, раскланиваясь на ходу. Его тоже ждала машина, но самолет его ждать не собирался. Дирижер отбывал к месту постоянной работы – в Ленинград. – Вы будете отрицать, что Борис Федорович прекрасный педагог? – спросил сзади женский голос. – Он экспериментатор, – раздраженно ответил мужской. – Он сам экспериментировал всю жизнь, а теперь этим занимаются его выпускники. Что Валентин сделал? Он взял темп медленнее, чем нужно, и из вполне легкомысленной вещи сделал трагедию. – Борис Федорович прекрасный музыкант, и Валечка прекрасный музыкант… Андрей обернулся, но не понял, кто разговаривал. Все вокруг разговаривали. Почему-то резко упало настроение. Рогозина давно исчезла, а хотелось подойти к ней, попробовать понять, как же его сверстники ушли так далеко вперед, сверстники – ведь солист старше ненамного, совсем мальчишка. Что им дано, во что Андрей не посвящен совсем? Он вышел и по тихой улице отправился домой. Центральный проспект оставался справа, и, пересекая поперечные улицы, Андрей видел его огни. А здесь горели старые желтые фонари, и ветер шевелил ветки огромных тополей. Было похоже на новогоднюю ночь. Мать домой еще не пришла. Отец не поинтересовался его проведенным вне дома временем, сидел перед телевизором, словно и не вставал с тех пор, как Андрей ушел и уже успел вернуться. Обычно Лена Стеклова сворачивала в молочный магазин, и они прощались: Элькина тетя покупала молоко сама. Но сегодня Стеклова пошла за Элькой дальше. – Ты куда? – Да к Усову, ты его знаешь. Задание просили ему отнести. «Опять болеет», – подумала Элька и свернула за Стекловой в знакомый двор. По нему она ходила в школу и всегда – не могла не смотреть – оглядывалась на два верхних окна. Стеклова посмотрела на нее с удивлением: – Я думала, тебя придется уговаривать. Мне что-то не хочется одной идти. Ты не бойся! Я с ним сама поговорю. Дверь открыла Андреева мама, позвала Андрея: «Андрейка!» Он был одет по-домашнему – клетчатая рубашка, тренировочные штаны. Пригладив растрепанные волосы, он заговорил, и голос оказался хрипловатым, низким – горьким, как показалось Эльке. Стеклова диктовала с Петькиного дневника задание. Усов писал. – Андрей, – сказала вдруг Элька, чувствуя, как ухнуло куда-то вниз сердце. – Отдай. Он посмотрел на нее внимательно. Очень внимательно. – Отдай, – повторила Элька. – Тебе не нужно! – Потерял, – сказал Усов и сразу же стал высокомерен, отдалился. Это он умел. – Ты… – «врешь» хотела сказать Элька, но только с трудом перевела дыхание. Он понял и улыбнулся. – Что с тобой? – спросила Стеклова, выбежав за ней. – Потом. У Эльки перед глазами стоял воротник яркой рубашки в клетку, толкались слова, интонации, жесты. Она шла, не замечая, что сумка сползла с плеча и болтается на локте, не заметила, что отстала Ленка, не заметила, что прошла трамвайную остановку. Пришлось идти пешком. В университетской аллее было тихо. Из снега торчали цветные спинки скамеек. У темных елей иногда качались лапы: говорили, что в аллее живут почти ручные белки. Но Элька видела только кричащих галок и большую равнодушную ворону. Белки попрятались. Аллея вывела к главному входу на стадион, и перед Элькой оказалась большая арена; у них она называлась чаша. Здесь Эльку не знали. Вахтер пил чай, Элька даже подойти к нему не решилась, показала свой пропуск издалека. Но вахтер лишь долил себе в чашку из термоса, не глянув толком на Эльку. В холле был устроен зимний сад; росла пальма, кактусы, вились какие-то травки по горке из камней, бил фонтанчик. Монстера скрывала плетеный стульчик служителя. Элька раздвинула резные листья и села под ними. Еще не темнело, но фонтанчик был подсвечен то розовым, то голубым, то зеленым. У Эльки было еще время, тренировка начиналась в четыре, и она сидела перед каменной горкой, среди громадных кожистых листьев, никому не видимая. Рядом, за колонной был телефон, и какая-то женщина спрашивала, а срочно ли это, объясняла, если срочно, то она не сможет. Плеск воды заглушил причину, или женщина понизила голос, Элька не прислушивалась. Думала, удивлялась: его зовут дома Андрейкой… Уже на другой день тогда она прыгнула злополучный аксель, щеголяя скоростью и тугой пружинкой вращения. Прыгала и чуть не смеялась: могу! могу! Казалось, что режет коньками не лед, а масло, и в то же время ощущала его, как будто шла по льду босиком – твердый. Лед был серый, дымчатый, трещал под коньком, она сравнивала этот звук с эфирным треском капелек, радужным облачком: если сдавить перед пламенем свечки апельсиновую кожуру… Хорошие были дни. Она вжилась в музыку, музыка сидела в ней вечной радостью, удивляла при каждом прокате, Элька даже думала: «Когда же она мне надоест?» Но сейчас вся радость погасла. Думалось о предстоящей тренировке спокойно, почти равнодушно. «Потерял». Первый и последний разговор. Повода больше не будет. «Потерял». Женщина все беседовала по телефону и явно не хотела, чтобы ее кто-нибудь слышал, а Эльке уже пора было идти. Она бы выбралась из листьев незаметно, но зацепилась за большую лейку, и лейка с грохотом съехала по камням. Женщина выглянула из-за колонны, вахтер уставился на Эльку – не мог понять, откуда она взялась с таким шумом. – Извините, – шепотом сказала она всем сразу и побежала по переходам ко льду. Андрей постоял еще немного в коридоре, но уже не улыбался. Дверь за Стекловой закрылась. За Стекловой – из класса некому было принести задание. Свет кто-то незаметно погасил, наверное, мать. Он стоял в полумраке; стеклянная дверь кухни пропускала солнце, и одна стена сияла странным отраженным светом – от зеркала. Он вернулся в комнату и прижался лбом к оконному стеклу. Девчонки уже прошли. Зато во дворе гуляла Рогозина с собакой. Джой бегала по дорожкам, а Марина читала, сидя на качелях. Снег под качелями был вырезан аккуратным прямоугольником, и Марина могла, если бы захотела, покачаться, не поджимая ног. Андрей усмехнулся: Рогозина на детских качелях… Но качели были не детские, высокие, появились осенью, наверное, их повесили специально для Марины, и снег чистили, чтобы и зимой можно было качаться, с какой-то досадой понял Андрей. Он думал, какая же она, Рогозина. Дни проводит за роялем. Когда он просыпался, она уже играла. Гаммы бежали хроматической лесенкой. Особенно часто одна, голенькая, беззащитная, правой рукой. Потом он узнал ее по радио – играли Шопена. Вот на что она замахивается! Вечером всё менялось. У нее собирался народ – шумели, бренчали на рояле сразу во много рук. Выбили однажды стекло, осколки долго лежали на утоптанном снегу. Дворник ругался. Марину всегда провожали, одна она не ходила. Чаще других тот скрипач. Он думал с любопытством – что, неужели разлюбила? Не верилось, что эти шумные вечера, провожатые – серьезно, не верилось, что это может быть ей нужно, когда она не вставала из-за клавиш в утренние часы или читала на качелях. Он знал, что сейчас два часа, она позовет Джой, дома еще поиграет и уйдет в свое таинственное училище. Марина подняла голову, подозвала собаку, и они пошли к подъезду: большая собака без поводка и девочка в капюшоне, книга под мышкой, плечи приподняты. Он смотрел на это все две недели, пока сидел дома. Ему было пусто и скучно. Мать приносила книги, которые он не читал. Не хотелось читать, ничего не хотелось. Но и в школу не хотелось еще больше. Являясь к врачу, он неизменно говорил, что у него держится температура, – врач, знавший его с детства, верил, не проверял, – и сидел потом дома, слушая иногда почти неощутимую музыку Рогозиной. Марина скрылась в подъезде, и он услышал, как она открывает свою дверь. Ну вот и все… А раньше она носила ему задания, когда еще училась в школе. О школе тоже следовало бы подумать, нельзя же бесконечно сидеть дома с несуществующей температурой. Элька с Мариной встретились на улице, и Марина спросила: – Ты чего не в школе? – Я улетаю завтра на соревнования, – Сборы? Элька кивнула, раздумывая, правильно ли поняла Рогозину: сборы-соревнования или сборы в дорогу? – Ты знаешь, а я ведь так и не отдала Лидии Николаевне клавир, – вдруг сказала Марина, – Ты не заберешь его? – Вы опять поссорились? – Нет, – засмеялась Марина. – Все некогда. Никого не вижу, никуда не хожу… Некогда. Она стояла, покачиваясь на носках, руки держала в карманах. Ветер дул ей в спину, и капюшон сполз до самых глаз, – Пойдем, – сказала она. – Такой ветер, а у тебя куртка… У нее дома Эльку охватило странное чувство: Усова здесь не было, а казалось, что был. Она хорошо помнила эту комнату, только в прошлый раз в ной было солнце, а теперь не было – утро. И ветер. Стекла от него звенели. Редких прохожих на улице несло. Но здесь, со двора, была такая тишина. Марина нашла клавир, попросила передать извинения. – Будешь кофе со мной? Элька согласилась, пошла за ней на кухню. Чистенькая кухня. Цветные полотенчики. Пластмассовые табуретки. Календарь на двери, репертуар оперного театра с пометками. И опять везде Усов, Усов. Не здесь, наверху. Может быть, прямо над ней, пришел за чем-то на кухню. Он ведь болел. И ей даже почудились шаги над головой, Марина шуршала на подоконнике кофейными зернами. Элька придвинула к себе телефонную книгу. Она никогда не видела пофамильного телефонного справочника. Усовых была целая страница. Зиминых тоже хватало. А вот Рогозина была одна-единственная. Оказалось, что уже готов кофе. Пока Элька тянула одну чашку, Марина допила весь кофейник. – Это, наверное, какие-то большие соревнования? – спросила она, когда Элька засобиралась домой. Эльке надо было просто ответить: «Большие, да. Такие большие, что можно смотреть по телевизору». Но Марина могла подумать, что она хвастается, и Элька, застегивая молнию на куртке, отрезала, не подняв головы: – Просто сборы. – Хорошо, – Марина слегка удивилась. – Счастливо тебе. Элька неловко кивнула, прощаясь, и ветер сразу же ее подхватил, как только она вышла из-под арки. Снега на земле почти не осталось. «Если завтра будет такая же погода, то не видать мне никаких соревнований». Перед тем как шагнуть под арку, Элька оглянулась. Рогозина смотрела ей вслед из окна – не улыбалась, не помахала рукой. Просто смотрела. Этажом выше окно было пустым. Эльке показалось, что перед ней на миг приоткрылась какая-то тайна, нечто большее, чем просто школьное мнение, – ах, посмотрите-ка, Усов и Рогозина! Они живут в одном доме. Они знают друг друга всю жизнь. Она словно увидела другую Марину – может быть, в комнате, за роялем, и руки безвольно сложены, и шаги Усова над головой. Ветер почти донес Эльку до ее улицы, она чуть не наткнулась на голый бетонный столб – старый фонарь сорвало, и он лежал невдалеке, заржавевший железный обод, разбитые стекла. «Да, никуда я, пожалуй, не улечу. Такой ветер». Во время исполнения последней из обязательных фигур она вдруг встала на обе ноги. Главный судья дал слишком поздно разрешение начинать, приводил в порядок записи, она стояла и ждала, ноги затекли, и она коснулась второй ногой льда. Грубейшая, непростительная ошибка! Судьи на толстых подошвах, в шубах, неуклюжие, на льду, подходили, разметали ледяную пыль щеточкой, ставили вешку, разглядывали след. Раздавался негромкий свисток, и они все разом поднимали таблички с цифрами – оценки. Таблички щелкали, как кастаньеты. Такое вот щелканье отбросило Эльку на предпоследнее место. «Кому-то надо быть и последней», – обреченно думала она, сидя на трибуне в куртке. Под сводами катка царили гулкая тишина и холод. Чуть полоскались цветные флаги. Судьи двигались по льду – соревнования продолжались. В свободном секторе шла разминка. Кое-кто, откатавшись, смотрел на остальных. В первом ряду сидели два удивительно вежливых мальчика; Элька слышала, что они говорят по-немецки. По залу ходила шаткая на коньках толстушка-швейцарка Лизабет и искала очки, поминутно на кого-нибудь натыкаясь. Ее рыжие волосы были собраны в хвост, и хвост качался, когда Лизабет поднимала голову и звучно извинялась. Очки лежали рядом с Элькой, и, не зная, как окликнуть швейцарку, она молча протянула ей футляр. – Мерси, мадемуазель! – воскликнула Лизабет и удалилась почти вприпрыжку, чуть не сбив с ног грозную бабулю-вахтершу. Бабуля высматривала, не творят ли безобразий заморские дети. Такой серьезный турнир – и вдруг дети! Но дети безобразий не творили, разве что ходили где захочется, к великому неудовольствию бабули. И были среди них и не дети, соревнования-то все-таки большие, взрослые… Элька не была готова к такому срыву. Рисунок мелкий, коварный – петли. Самые настоящие ажурные петли. Две первые фигуры начертила неплохо, и вдруг срыв. Она сидела, нахохлившись, сжав руки в карманах, и не видела, что ее разглядывают в бинокль. Незадолго до этого к служебному подъезду подкатила машина и встала посреди расчищенных сугробов. На заднем сиденье кто-то сидел, окунув подбородок и нос в лохматый воротник дубленки. Это один из тренеров привез свою ученицу, они немного опоздали, не желая показываться в самом начале. Тренер зашел в подъезд и быстро вернулся: – Все хорошо, уже начали. Ученица вышла из машины – дубленка у нее была до пят, мех шапки скрывал лоб. Она прятала лицо, хотя мороз был не так велик. Светило солнце. Стояла тишина. На неподвижных темных елях лежал снег. Ученица прошла мимо милиционеров на крыльце, и в холле, и кругом зашелестело: «Горлунова, Горлунова». Соревнования шли. Придерживая воротник, эта чудо-Горлунона ушла в раздевалку, Ей позарез, но что бы то ни стало нужно было выиграть эти соревнования. Когда-то она дебютировала на них, о ней заговорили, говорили долго. Она была много моложе своих соперниц, это восхищало – двенадцатилетняя девочка и уже умеет прыгать тройной риттбергер и тройной лутц. Потом были травмы, кто-то другой ездил вместо нее со сборной за границу. «Подождем, – говорили ей. – Подождем». Но другие уходили вперед, а ей оставалось появляться на показательных выступлениях под шквалом аплодисментов – чудо-девочка, Света Горлунова, какая стала большая, взрослая! У нее было всего два показательных номера, она их чередовала. И травмы действительно были… И ноги действительно болели… И по ночам плакалось и днем на тренировках – тренировки не прекращались, а толком уже ничего и не шло. И никому не объяснишь, что ушло что-то, просто выросла Света из чудо-девочки в рядовую фигуристку, да и объяснять не надо – все видят. И все-таки не может быть, чтобы все ушло, без остатка. Словом, соревнования эти нужно было выиграть. – С этими мне, что ли, бороться! – фыркнула она. Навстречу ей попалась толстушка Лизабет в очках. В общем, нужно было обязательно выиграть. И школу она выиграла. Но если толстушка Лизабет плохо видела и прыгать как следует не умела, то школьные фигуры чертила хладнокровно и блестяще. И если Света раньше была младше всех, то теперь она была самая старшая. Радости от первой победы не было. Победа была ожидаемая и радость тоже ожидаемая – а не было… Она разглядывала соперниц, и ее бесцеремонный бинокль нашарил Эльку. «Вот эта мне все карты и спутает», – с досадой подумала она, хотя уже знала, что у Эльки место в хвосте таблицы. Но так бывает – увидишь чье-то лицо, и оно уже своим только существованием доставляет неудовольствие, и можно заранее обвинять его во всех своих неудачах. И потом она видела Эльку на льду – руки, ноги, а эта манера вскидывать голову, неожиданно выпрямляться? «Вот именно она, принесло же ее сюда, на мое несчастье». Элька сидела, и руки в карманах безвольно разжались. Все стало безразлично. Неинтересно. Она замерзла. Подходит тренер, что-то говорит, а для нее это что-то непонятное, очень трудное, на чужом языке. Не понимает. – Надо же так раскиснуть! – кричит тренер. Этот ребенок в конце концов его в гроб вгонит, вот что! Элька поднимается, и они идут между рядов. Элькин взгляд цепляется за все, что попадается на пути, – пласт льда перед ковровой дорожкой, журналистка и переводчица, отбивающаяся от журналистки, – пора обедать; дама с бутербродом на картонной тарелочке, та самая, что объясняла по телефону, что не сможет, если срочно, – это дама из спорткомитета, На тренировке появляется вдруг робость, ранее на льду не свойственная. Нет, Элька не падает, не спотыкается, но боится поднять глаза, оглядывается потерянно, всем уступает дорогу. Шнурует, перешнуровывает ботинки, разглаживает морщинки на платье, заходит наконец на прыжок, но раздумывает – не прыгает, выезжает, опустив голову… Тренер лупил кулаком по колену. Ничего не действовало. Жалка была его ученица. Хоть бы не показывала, как раскисла. Вокруг были девочки, отлично подстриженные, вся турнирная таблица, те, кого в ней называли «Ladies». Сверкали блестки. Сияли под искусственным светом коньки. И на тренировке «Ladies» выглядели нарядно. Элька была в курточке: уже почти устала, а еще не разогрелась, рядом мелькнула Анне Витте в курточке и перчатках – каталась по краю, пробовала шаги. Фрау Эльза Залезски что-то говорила ей, и Анне Витте, не останавливаясь, все набирала скорость по кругу, сбросила перчатки, курточку, и, когда Элька снова повернулась к ней, она уже прыгала – полтора, два, два с половиной оборота – так же по кругу, не сбавляя темпа. Курточку и перчатки поймали вежливые мальчики, сидящие в первом ряду. Анне Витте работала и обращала внимание на кого-то, лишь когда нужно было разъехаться – чаще всего на пути попадалась Лизабет, – а Элька так сейчас не могла. Дождались музыки, чтобы прокатать программу целиком. Начала Элька кисло, лишь обозначая прыжки, не прыгая, но потом отошла, все ее колючки растаяли. Радостное удивление начало подниматься: могу? – Хорошо! – сказал кто-то удивленно и негромко. Но она услышала. Ее вдруг качнуло, бросило в ту сторону, где раздался возглас, она легко присела в реверансе и ответила: – Благодарю. Тренер онемел. А Элька закончила прокат, точно уложилась во время и сразу же ушла со льда, сама не своя от какой-то отчаянной радости. На сегодня хватит. Слишком много всего. И конца тренировки Элька дождалась в автобусе. Свет в громадном красном автобусе был погашен, а кругом горели фонари, подъезд был освещен. С другой стороны стояли темные ели под снегом, и Элька сидела как в сказочном лесу. Человеку, который сказал ей «Хорошо!», было несвойственно такое проявление чувств. Всегда он был нарочито замкнут и молчалив и, когда катались соперники, ревниво – в упор – их разглядывал. Стоял у бортика без коньков. Усмехался надменно краем рта. Потом он прыгал – у него были высокие, необыкновенные, полетные прыжки. Никто больше таких не делал. Элька видела, как отчужденно говорил он с представителями прессы, умолявшими: – Один вопрос только! – Что за вопросы? Зачем сейчас задавать вопросы? Кому нужны ваши вопросы? Ей хотелось порисовать его, но так, чтобы он не видел. Она бы не посмела потом показаться ему на глаза. А представители прессы – ничего. И не с такими говаривали. В темный автобус кто-то вошел – Элька увидела журналистку с переводчицей. – Вот, – сказала переводчица, неприязненно глядя на журналистку. – М-м… мадам хочет задать вам несколько вопросов. Мадам на вид было лет двадцать. Она совсем не знала русского. Целый день она уговаривала переводчицу подойти к Эльке, но переводчице все было некогда. Теперь ей все равно надо было ехать в гостиницу ужинать. Она согласилась. Фрау Эльза, к которой переводчица была приставлена, отпустила ее с журналисткой, сказав, что несколько минут они обойдутся без перевода. Журналистка начала быстро сыпать по-немецки. Ее интересовал Элькин режим. Элька рассказала. Когда дошла до второй тренировки, двадцатилетняя мадам задумчиво спросила: – А потом? – Домой и спать, – сказала Элька, и журналистка развеселилась. Но, глянув на хмурую переводчицу, задала новый вопрос – теперь о годовом ходе тренировок: как круглый год? Не отдыхая? – Нет, – ответила Элька. – Бывают две недели полного отдыха. Летом, в начале августа. Про лето она сказала по-немецки. Все-таки в школе у нее была пятерка. – О! – восхитилась журналистка и медленно, чтобы Элька поняла, стала спрашивать: есть ли у нее братья и сестры, кем работает ее тетя, как Элька учится, что она любит больше всего делать. Пришел водитель, включил свет. Тренировка кончилась. Подошли фрау Эльза с мальчиками и Анне Витте, Лизабет без хвоста, зато с косичками, торчащими из-под шапки. Она грызла барбариску. Пришел Элькин тренер. У самых дверей уселась сердитая болгарка Цветанка. Русских почти не было видно – москвичи разъехались по домам, а ленинградка Оля Кузьмичева сидела, невидимая из-за большой сумки и распялки с платьем. – Англичане музыку сдали? – крикнула в открытую дверь девица с надписью «Служебный» на пропуске, выглядывающем из нагрудного кармана. Ей ответили. Водитель захлопнул дверь. Автобус плавно тронулся. Эльку качнуло. Поехали. На разминке перед короткой программой Света Горлунова упала. Было встала, покатилась, роняя капли с мгновенно намокшей юбочки, но ее подозвал тренер, начал что-то говорить и, вдруг взорвавшись, накричал на нее. – Я… Я не… – оправдывалась Горлунова. Она была накрашена, завита. Все смотрели на лидера, которого ругал при всех, не щадя, тренер. Эльке сидела у выхода на лед – это была не ее разминка. «Складной метр, железная линейка», – думала Элька, глядя на Горлунову с горящими щеками. Та всегда каталась подчеркнуто сухо, техничность ее спасала. Заданные элементы она исполняла, пробыв на льду определенное время. Умение. Скорость. Никаких чувств – они мешают. Только что Элька причесывалась, не могла придумать, что будет лучше. Понимала, что думает не о том, но все-таки… Два хвоста завязать? Не хочется. Один? Будет бить по лицу. Косичку заплести? Волосы недостаточно длинные… Две косички? Тут вспоминалась Лизабет в очках… Наконец Элька просто заколола волосы шпильками. Нельзя, не нужно было ей приезжать так рано и смотреть чужие выступления, и она, посмотрев только Анне Витте, сразу же ушла, не слушая разговоров вокруг и ни на кого не глядя. Анне выглядела сегодня взрослее, глаза подкрашены поярче, незаметные сережки сменила она на маленькие жемчужины. Мальчишеская стрижка, но кончики волос подвиты. На шее ленточка в тон платью. Она упорно шла вслед за Горлуновой. Толстушка Лизабет в короткой программе нападалась, но ее как будто даже похудевшее – без очков – лицо оставалось невозмутимым. Одна нарумяненная щека бледнее другой, уж не щекой ли проехалась по льду? Ее ободряюще хлопали по плечам, оценки на табло высыпали приличные, и Лизабет пристроилась у бортика смотреть, сменив коньки на лохматые унты и сразу заметно уменьшившись в росте. Она улыбнулась Эльке и что-то сказала, нечто вроде: счастливо, мадемуазель! И, благословленная, Элька шагнула с ковра на ледяной пласт, покрутилась у бортика, назвали ее имя, и она, оказавшись на середине, выпрямилась, подняла голову движением, так бесившим Свету Горлунову. У нее была светская музыка пятнадцатого века. «Танец миледи Кэри». Какой-то аноним восхищался миледи и не мог ничего о ней не поведать. Бледная, взволнованная миледи шла среди блеска и света. Ее платье трепетало и переливалось. Невозмутимый ход размеренных клавесинных восьмых сопровождал ее, странный верхний голос позванивал высокими нотами, бесконечно спускался вниз, замирая, и, найдя причудливое разрешение, замер совсем, И все увидели миледи – юную, но уже не девочку, а даму, надменную, с некоей особенностью, непонятностью, не дававшей покоя анониму пятнадцатого пека. Единым сердцем зрители влюбились в неизвестную аристократку, и судьи были покорены, глядя, как взмывает и плывет надо льдом в прыжках, а потом делает забытый, никем больше не исполняемый пируэт девочка с челкой под странный аккомпанемент лютни и клавесина, и пируэт по форме идеален, а прыжки по полетности неповторимы. 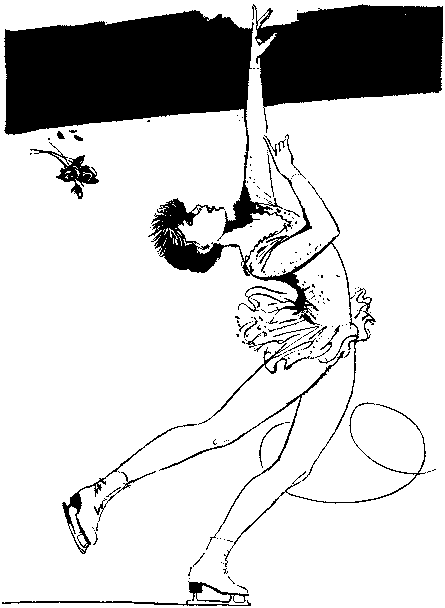
Эльке бросили цветы, хотя голос по радио убедительно просил этого не делать. Элька унесла с собой букет, и он долго стоял в банке. Едва заметный зеленый след – запачкала рукав на белом платье – потом всегда напоминал о том букете. Элька передвинулась на восьмое место со своего предпоследнего – по сумме двух программ. Ее поздравила Анне Витте. Мрачная Цветанка кивнула ей черной головой, и Элька так и не услышала, что за язык – болгарский. Половинка следующего дня оказалась свободной, и Элька отравилась гулять. В Москве не было ветра. В то утро шел снег. Больше Эльке погулять одной не удалось, и Москва надолго осталась для нее заснеженным городом, который она тем утром увидела. Элька заблудилась в центре, попала после улицы Горького на Калининский проспект – эти названия она знала, долго кружила по какой-то улице, попадая то к одному посольству, то к другому. Сначала было не по себе, потом стало весело. Белый, шумный город. Пушистые сугробы. Иностранные машины, которых еще никогда не видела. Негритянка в шубе и негритенок с лопаткой и санками у одного из посольств. Элька попробовала московское мороженое, но доела его, разочарованная: не такое уж и сказочно вкусное. В маленьком магазинчике она купила замечательного игрушечного котенка, задиру, лохматого, с зеленущими глазами – весь он словно говорил: ну, берегитесь все собаки! – а шерстка у него была мягкой, хотя в лапах прятались, как у настоящей кошки, коготки. Элька увидела памятник Маяковскому и поняла, что снова выбралась на улицу Горького. Спустившись в метро – это была самая красивая станция, какую она видела в Москве, – вышла, решив, что теперь-то уж не заблудится, если пройдет немного поверху. Разумеется, она сразу же заблудилась. Пришлось сесть в такси: она могла опоздать на тренировку. В такси ехала с некоторым страхом: у тети такси, телеграмма считались чем-то исключительным. Телеграмма приносила весть о несчастье, на такси мчались тоже из-за какой-то беды. Сейчас беды не было, наоборот. Москва мелькала за окном, но это было все равно что просмотреть комплект открыток. И только увидев рассерженного тренера – елки-палки, я тебя выдеру! – отошла и повеселела. Не было времени. Тренировки – свои и чужие, где сидела зрителем, – рисовала на картоне: утащила из пресс-центра стопку картона, что там с ним делали, непонятно; смотрела урывками телевизор, попадая либо на хоккей, либо на учебную программу: крестьянская война, типичные представители семейства губоцветных, каждая функция имеет свою область определения… Прилежно слушая передачу для девятого класса, она думала об Андрее Усове. «Он…» – она запиналась, вскакивала, ходила по комнате, присаживалась, скова оказывалась на ногах, смотрела в экран, где менялись графики, которые она будет проходить на будущий год. Он… его не хватало, и никакая Москва не могла его заменить, ничто, никакая радость или огорчение. Он словно незримо присутствовал здесь, и что ни делалось, делалось Элькой для него. Вернее, из-за него. Чем-то напоминал его фигурист, сказавший «Хорошо!» – усмешкой ли, оценивающим прищуром. Он был печален, этот фигурист. Он не выиграл турнир. Ну и что? Он уходил, ни разу не став чемпионом. Его известность была прочна, хотя и не гремела. Никто еще не знал, что он уходит, он не заявлял громко о своем уходе. Элька поняла, когда увидела его произвольную – грустную, последнюю. Прощальную. Он выиграл произвольное катание – на пьедестале стоял третьим. Упрямый, маленького роста, гордый. Иногда он казался усталым, бледным в своем темном костюме с белым воротником. Но рот всегда был крепко сжат, профиль неподвижен, глаза сощурены надменно. Он уходил. Элька каталась в последней пятерке. Вот теперь и ока приехала к самой разминке. Вместе с ней разминались Горлунова и Лизабет с накрашенными губами. У Лизабет сегодня вместо ее рыжих косичек и хвостов была роскошная модная прическе, непонятно как н из чего сооруженная, – Лизабет готовилась покорять сердца. Уже откаталась Анне Витте и счастливо бросилась к белому пальто фрау Эльзы Залевски. Немолодая фрау Эльза вытирала ей платком виски, сумка, почти хозяйственная, болталась у нее на локте – много в сумке было полезных вещей, вроде этого платка. С двух сторон Анне теребили вежливые мальчики. На шее Анне был легкий шарф, и она его тоже теребила. Анне опять сегодня показалась взрослее, чем была, но краска и сережки здесь ни при чем – на льду она бралась за концы шарфа, поднимала руки, и все словно слышали низкий голос Эдит Пиаф, хотя голоса на пленке не было. Компания фрау Эльзы, а с ними вялая русская переводчица удалились, а ничего еще ясно не было. Элька в полноги опробовала прыжки, разогревалась так, чтобы не устать, разминала дыхание. Что-то сказал ей подтянутый, всегда безукоризненный тренер – на самом деле на него уже не действуют никакие снотворные и в его кармане коробка таблеток от головной боли. Элька прыгнула – Горлуновой пришлось уступить дорогу – и посмотрела на тренера. Тот кивнул. Разминка закончилась. А Горлунова осталась на льду. Ей начинать. Трудно сказать, что именно уверило Свету Горлунову в том, что все кончено и все пропало. Может быть, тот крик тренера при всех, словно и он уверился: все кончено, все напрасно. Никто ведь не виноват, что ей больше не двенадцать лет и в своем катании она успела состариться, пока эти малявки, пигалицы, которым она же и пробила дорогу, ушли вперед. Обидно. И Света осталась на льду с таким упавшим настроением, что даже не вела счет мелким погрешностям и ошибкам. Зрители не поймут, но судьи будут беспощадны. Ну и пусть! Она даже сама не поняла, нарочно или нечаянно упала с последним аккордом, так эффектно села на лед, разбросав ноги, – видела потом запись. Зал вздохнул. Ну и пусть! Пусть считают, что победы не было из-за падения, пусть никто не видит, как здорово что-то разладилось, как много было неточностей. На ноге белел бинт. И, стараясь припадать на забинтованную ногу, Света покатилось к спасительным креслам, раздевалкам, не обращая внимания на цветы, которые ей кидали, и не оставшись посмотреть оценки. Зачем? Пусть ее и в невежливости обвинят! Зал растерялся. Лизабет чуть не плакала – ей выходить, а тут такая история, да еще порвала колготки, а сменить не могла, не было ни времени, ни целых под рукой – так и пришлось выходить с заметной дыркой. Под конец выступления распалась ее диковинная прическа – там оказалось все просто: незаметно сколотые косички, одна выскочила, все испортив, и болталась за Лизабет тонким хвостиком. Раскланиваясь и одновременно оглядываясь, Лизабет уже начинала рыдать и бросилась к тренеру (а тренером была женщина, чем-то похожая на Лизабет), причитая по-французски, и всем были понятны ее причитания: неудачница я, толстая рыжая неудачница, вот и все! И вот теперь надо было выходить Эльке. Наступила тишина. Она отвела руку – небрежно, словно нашла в воздухе опору. Опустила голову. Обвела себя вокруг руки. Кошкой подкралась к прыжку и взлетела. Была видна отточенная, оттренированная незаученность владения телом. Да Элька еще и гибка. Ее скольжение поднимало ветер. Отросшая челка разлетелась к открыла лоб. Так, с разметавшейся челкой, она закончила вращение и замерла с поднятой рукой – на ладони словно лежало что-то хрупкое – и откланялась. Зал ничего не понял. Оказывается, четыре минуты уже успели кончиться, Элька в тишине поднялась из реверанса, все очнулись, захлопали. У самого бортика, где ждал, вертя в руках чехлы, тренер, Элька споткнулась, но устояла, услышала на миг странный, будто усиленный во много раз скрежет железа о железо, нагнулась – и не поверила глазам. Это была потерянная шпилька незадачливой Лизабет – светлая, тонкая, незаметная в прическе шпилька. Элька готова была поклясться, что на этом месте уже есть след от ее конька – непостижимо, как она не споткнулась и не упала раньше? Она ждала оценок, дышала тяжело, виски были совсем мокрые. От низкого кресла перед разрисованными – для телезрителей – щитами она отмахнулась. Глотнула из протянутого стакана, поморщилась – что ей дали? ой! – вырвалось у нее. На табло загорелась первая строчка, и тут же по-русски и по-английски ее начали читать. Телеоператор наехал на ее лицо камерой, она смутилась, отвернулась, а он все старался показать ее зрителям, и она, совсем растерявшись, убежала. Загорелась вторая строка, и уже стало ясно, кто сегодня победил. Но Элька лишь шагнула с восьмого места на четвертое, не пробившись в тройку призеров. Медаль ей не дали. Зрители долго переживали по этому поводу, никто им не объяснил, что Элька оказалась неважным школьным чертежником. Уже все кончилось, пора было расходиться, а некоторые еще переживали за убежавшую девочку. «В старости я, наверное, буду совсем как отец», – думал Андрей, двигая кресло к телевизору. Отец уехал в командировку. И Андрей вот уже два дня занимал его кресло, внимательно прочитывал все газеты и целые вечера проводил перед телевизором – как отец. Но укрощать телевизор умел плохо. Местные передачи еще можно было смотреть, но вместе с московскими шли помехи – то ли со студии, то ли телевизор барахлил. Горела лампа на столе. Мать что-то шила. Кот – какой-то нахальный кот забрел к ним этой зимой и поселился на коленях у отца, отец собственноручно искупал его в тазу – сидел у лампы и смотрел на все доброжелательным взглядом вертикальных зрачков. Стучали часы, мягко отбивая каждые полчаса. Из кухни пахло тестом – мать уже на второй день ждала отца и заводила пироги. А впрочем, было просто воскресенье. Андрей дожидался с утра полуночи – должны были показывать немецкий детектив. Убежденный, что немцы еще ни одного хорошего детектива на сняли, он все-таки ждал, поглядывая на часы. День проходил. Уже голубели окна. На экране он увидел заставку со стилизованным коньком, а читая программу, показательных выступлений не заметил. Фигурное катание он смотрел с удовольствием, с детства помнил такие имена, как Эмерих Данцер, Николь Аслер, Патрик Пера. Сразу в комнату ворвался шум зала, звук рассекаемого коньком льда, мелькание перед камерой то узких рукавов, то тщательно подведенных глаз; комментатор поздоровался и заговорил обо всех соревнованиях сразу – что с кем случилось да кто чего не добился, но по экрану поползла рябь, и голоса слышно не стало. Потом пошли четкие красивые зигзаги, Андрей хлопал телевизор по деревянному нагретому боку, но это не помогло. Он полез внутрь – тронуть какую-нибудь лампу, винтик подкрутить, может, и помогло бы, – но мать взмолилась: – Андрей, ради бога, ничего там не трогай, тебя ударит током! Тут же зигзаги исчезли, но подходило к концу и чье-то выступление. Симпатичная толстушка сияла улыбкой и явно близоруко щурилась, каталась она не слишком здорово, но за улыбку, полную доброжелательности, Андрей ей это простил. Лица все были незнакомые, имена тоже, иногда Андрей узнавал тренера. Во втором отделении стало интереснее, начались вызовы, повторы, посыпались цветы – даже мать отложила шитье и стала смотреть. Снова по экрану поползли зигзаги, но Андрей уже понял, в чем дело – недалеко шел поезд, и, когда он прошел, зигзаги исчезли. Показывали девочку в темном платье с серебром, комментатор молчал, а надо льдом повисали удивительно чистые и красивые линии. Музыка была знакомой – та, что он слышал на концерте Вивальди, тот снег, серебряный шорох клавесина и скрипка. Он потом везде искал запись, пластинку, но так и не нашел. Продавец в классическом отделе посмотрел на него с осуждением: еще один – ничего не знает, но под влияние моды на старинных мастеров попал, и Андрей готов был лезть в драку, доказывая, что у него не мода. Он напрягся. Девочка творила что-то особенное, и зал завороженно следил за ней – девочка, длинноногая, с челкой, могла делать с залом что хотела. Андрей узнал ее, но не мог поверить. А комментатор молчал. Наконец Эльку показали близко, так, что Андрей увидел светлую каплю, сползшую с виска, и она уже кланялась, улыбалась, ей бросали, протягивали цветы в хрупком целлофане, и зал трепетал – как бы не наехала на стебли и не упала. Какой-то господин из первых рядов долго тряс ей руку и, сорвав с себя кепку, нахлобучил на Эльку, ей пришлось задрать голову, чтобы хоть что-то видеть: пижонская кепка с громадным козырем была ей велика. Она вышла еще раз, ее не отпускали. Теперь уже было что-то веселое, Андрей видел, как она катается с удовольствием, ей нравится внимание зрителей, которых она заставляет на себя смотреть. А он-то думал, что она так не умеет! Элька прыгала, и зал ликовал, она опускала голову, и всем хотелось бежать, выяснять, кто обидел ребенка, и наказать обидчика. Комментатор говорил: потрясающий артистизм, рассказал о скачках с места на место, и Андрей жалел, что всего этого не видел, пропустил, все пропустил! Элька уже просто кружилась, без музыки – больше не выпускали. Ее время кончилось. И закончился вечер грустно. Ждали фигуриста – невысокого, неулыбчивого, объявили уже чемпионов, а он не появлялся. Пробегал шумок. И когда он появился после всех, бледный, как всегда, но улыбаясь, все поняли, что он вышел прощаться. Трибуны молили: еще, еще движения, этой удивительной пластики, еще! Его всегда любили, но как в этот вечер – никогда, еще, ведь это в последний раз! – и он уносил эту любовь чуточку небрежно, улыбался с иронией. Далеко от зрителей, в обитом чем-то вроде фетра коридоре, он столкнется бесшумно с Элькой, и они разойдутся. И Элька подумает, что своим необыкновенным взлетом обязана ему. Ведь это было действительно необыкновенно. Андрей встал и ушел в темную кухню. Тихую улицу освещали фонари. Шел снег. Андрей увидел голубое мерцание от окна Стекловых – там тоже смотрели телевизор. Прислушался – внизу, у Рогозиной, очевидно, было плохое нестроение, она гоняла пластинку «Бони М», а он знал, что она терпеть их не может. Пришла мать и включила свет. – Ты здесь? Напугал… Хочешь, выпей компоту? Андрей холодно отказался. Что же это было? Какую-то обреченность он испытывал. Воскресенье, тихо, дом. Откуда? Не то, не то… Мать стояла у стола, не уходила, и Андрей, не поворачиваясь, сказал: – Отец звонил. Сказал: то, что должны были отправить авиа, отправили багажом. Только я ничего тут не понял. Мать, несомненно, поняла больше. Спросила: – Ты обижаешься на отца? – Он даже не поздоровался. – Дурачок, – сказала мать, и Андрей дернул плечом. – Он же торопился, у него было мало времени. И разве ты не понял, что он очень расстроен? – А что случилось? – Он поехал за документацией на этот месяц… Приборы мы получили, а документы нет. А они отца не дождались, отправили сами. Багажом. И теперь пройдет месяца два, если они вообще не потеряются. Андрей пожал плечами. – Дурачок, – повторила мать. – Это же его работа, он не может из-за нее не волноваться. – Из-за чего? Из-за чего волноваться? – Ты этого еще просто не понимаешь. Не то… Он пришел к себе в комнату. Смотреть детектив расхотелось. Рогозина упорно слушала одну и ту же сторону пластинки в третий раз. Он нарочно уронил несколько книг потяжелее, чтобы она поняла и выключила. В ее плохом настроении он совсем не виноват. Рогозина поняла, но выключать не стала, только сделала потише. Элька открыла дверь – теперь у нее был свой ключ – и вошла в квартиру. Тети не было. Она ушла на уроки. В комнате на рояле – пыль, легкий, но заметный слой, Элька вздохнула, нарисовала пальцем страшную зубастую крысу на крышке и пошла на кухню. 8 сковородке обнаружились котлеты, но, судя по запаху, тетя переусердствовала с чесноком. В кофейной кастрюльке – осадок. В общем, если не считать пыли на рояле, дома не произошло никаких изменений. А казалось, что будут. Хотя… Чего ты не знала? Чего ждала? Поднявшись к себе, Элька выложила на стол трофеи: котенка, шпильку швейцарского производства, малую золотую медаль за первое место в произвольной, кепку и две немецкие газеты – их подарила немецкая журналистка. Статьи об Анне Витте – надежде фигурного катания ГДР – и об Эльке. О ней тренер, между прочим, сказал: «А я всегда хотел вырастить что-то особенное, неповторимое, не просто чемпионку». И вдруг стало казаться, что он это сказал не из-за нее: «Я хотел…» И что ему нужна вовсе не она, Элька, а тетя. Наверняка он поехал к ней на работу, и они сейчас придут вместе. Элька не стала дожидаться, пока они придут. Она съела на кухне две холодные котлеты и поспешила исчезнуть из дома. Когда она пришла, тетя причесывалась у зеркала. Она держала во рту шпильки и поэтому говорила сквозь зубы: – Ну, знаешь, ты способна испортить любую радость. – Какая радость? – упрямо сказала Элька. На другой день тетя повела ее в школу за руку. Как маленькую. Без разговоров. Элька трусила, боялась расспросов, восклицаний, необходимости рассказывать. Из школы заранее хотелось убежать. Не было в школе Андрея Усова, без него и школа не школа, но у Эльки отлегло от сердца. Она его боялась. Вечерами перед сном Элька сидела на полу и смотрела старые детские книжки, знакомые, нарядные. Потом вытягивала из книг прошлогодний альбом и листала. Не нравилось. Не получилось. Не так, как хотелось. Только один рисунок – Усов под дождем – и был хорош. Но ведь не только Усов был в альбоме. Там даже Рогозина с косой и с кошкой на руках. Элька не помнила, когда увидела ее такой. Она запихивала альбом под книги, зная, что завтра все равно снова его достанет. Усов под дождем. – Элька, нарисуй новогоднюю газету. – Мне некогда. Ей не было некогда. Просто не хотелось иметь никаких дел с Петькой Гореловым. А он шел рядом и не отставал. – А между прочим, ты член редколлегии. – Нет. Меня вообще не было на собрании, когда выбирали. – Вот именно. Ты даже на собрания не ходишь. – Мне некогда. Пусть Пшеничкин рисует. – Ну, Элька! Ну, все! Нарисуй газету. Медвежат каких-нибудь, елочные игрушки. А? – Да некогда мне! Отстань. – Совсем зазналась, да? – сказал Петька вслед. Она обернулась так резко, что сумка упала с плеча и стукнулась об пол. – Там работы на полчаса, – сказал Петька, отступая на всякий случай. – Почему я должен у тебя клянчить? Можно подумать, мне это нужно! Элька подобрала сумку и пошла за ним в пионерскую комнату. Петька по старой памяти занимался комсомольскими делами здесь: раньше он был председателем совета дружины. Элька рисовала ровно полчаса, сделала, что он просил – и медвежат и игрушки, – разогнулась и бросила кисточку. – Получи. Но Петька не обрадовался. Получил, что котел, а смотрел на газету без интереса. – А ну вас всех, – сказал он сквозь зубы. – Ни к кому не подойди! Мне, что ли, больше всех надо? Элька не знала, что ответить. И вообще – они же в ссоре. Она тихо вышла из пионерской комнаты и пошла по коридору. Сзади из-за угла слышались шаги – Элька узнала учительницу географии, свою классную руководительницу. – …для них ничего не значит школа, учителя. Их ничто не интересует, их ни во что невозможно вовлечь! Недавно был сбор макулатуры… – Элька прислушалась, потому что это было примерно то же, о чем говорил ей Петька, – и не пришел ни один из спортсменов. – Простите, но мне кажется, что эти мальчики защищают честь школы другим, не менее достойным способом, чем сбор макулатуры. Двое из них входят, насколько мне известно, в молодежную сборную страны и тоже защищают школьную честь – и довольно успешно… – О чем вы говорите! Для них спорт – всего лишь жажда славы и сомнительных успехов. Это… Это же душевное стяжательство какое-то! Разве они могут думать о чести? Элька метнулась в первый попавшийся класс, потому что узнала голос отвечавшего. Это был ее тренер. Он-то здесь зачем? В классе дежурный возил шваброй по полу – мыл. Элька прижала палец к губам и умоляюще на него посмотрела. – Что же они делают бесчестного? И, простите, я спешу. – Но вы их учите быть лучше остальных! Смотреть на всех свысока! Заставляете уверовать в свою исключительность! – Я этому не учу. Извините, у вас превратные представления о спорте. «Калечите юные души, вселяете жажду побед…» Какая ерунда! Я даже не могу говорить с вами об этом, потому что вы не знаете предмета… – Я, собственно, вызывала не вас. – Давайте поговорим и об этом. Вы написали: «Тов. родители». А эта девочка живет у тети. Тетя эта иногда утверждает, что я провожу с Зиминой больше времени, чем она сама. Потому я и пришел. Простите, но все, что вы о ней говорили, кажется мне не совсем правдой. Она хорошо учится, умеет делать свое дело. На макулатуру, правда, времени не остается. Но в чем же здесь душевное стяжательство?.. И потом – вы никогда не задавали себе вопрос: каково всего двум девочкам учиться среди парней? Вот видите! – Мы говорим о совершенно разном! – Но я вообще не вижу смысла в этом разговоре… Вы простите, но трудно было подобрать более неподходящего человека на должность классного руководителя в этом классе. Трудности, конечно, предвиделись. Но не такого порядка. – Здесь школа! А не хоккейное поле! Элька стояла, прижавшись спиной к двери. Учительница и тренер разговаривали, встав у окна. А в классе, будто не замечая ее, мыл пол Андрей Усов. Андрей опоздал на новогодний школьный вечер. Идти не хотелось, потом собрался – и опоздал. Настроения не было, и он спрятался а дальний угол, подальше от света. А все танцевали. Вокруг елки собрался хоровод. С елочным дождем в волосах веселилась Стеклова и, пробегая мимо Андрея, попробовала вытащить его в круг, но он отговорился. Показалась Рогозина – взрослая, красивая, накрашенная. Пригласила его танцевать, он сказал: ладно, но только не висни на мне. Она еще делала независимый и веселый вид. Он повернулся и увидел Эльку: она стояла и трогала игрушки на елке. Качались елочные цепи, подрагивали бусы, шары поворачивались на толстых, невидимых сейчас нитках. И она словно хотела их приостановить. Оглянулась. И он увидел, что она улыбается. Она не прыгала так беззаботно по залу, как Стеклова, но ей было весело. Наверное, ее кто-то позвал – смотрела в сторону. А что он хотел увидеть? Слезы на глазах? Рогозина что-то спросила, он не ответил. Почему? Элька увидела его – он понял, что увидела, – но Эльку уже скрыли елочные ветки, а на плечах у него лежали руки Марины, Марины Рогозиной. Почему? Почему он раньше стряхивал с себя этот взгляд, а теперь ловил? Что изменилось? Он слегка покривил губы – улыбнулся. Потом оставил Рогозину и вышел, Ока кинулась за ним, побежала, не обращая внимания на перешептывания и удивленные взгляды. – А что будешь делать, когда догонишь? – резко крикнул он с лестницы, и голос остановил, повис в полумраке. После Нового года вдруг наступила небывалая оттепель. Рассветы были синие, туманные, дни – пасмурные. На озере готовилась цвести верба. Первоклашки в сквере у школы строили крепость из мокрого снега. Мимо них – рядом, но словно не замечая друг друга – прошли Элька с Андреем. Элька смотрела под ноги. Так, не поднимая головы, перешла дорогу. Андрею нужно было сворачивать, рядом темнела арка. Элька пошла медленнее, и ему показалось, что сейчас она ему что-то скажет. Но она пошла дальше, и ее глубокие следы у самого газона сразу наполнились водой. Андрей знал, что она обернется, и поэтому сам обернулся, когда она была уже далеко – гномик в яркой курточке с островерхим капюшоном. С капюшона свешивалась яркая кисть. К вечеру следы качали покрываться тонким льдом. Элька странствовала по мокрому снегу до сумерек. Стало скользко. Тучи ушли, и на небе появилась яркая луна. – Тетя, мне никто не звонил? – Не звонил. Не звонил… Элька поднялась к себе. Пока она вытирала свои следы в коридоре, совсем стемнело. Луна была даже какой-то радужной, и в комнате стояли четкие тени. Не звонил… А разве думалось, что позвонит? Элька сидела на полу. Форточка была открыта, становилось холодно. В комнате стоял шум поездов – они шли беспрерывно, и за этим шумом Элька не услышала, как открылась дверь. Пришла тетя. Эльке показалось, что за секунду до этого она слышала тихую трель телефона. Но тетя сказала: – Не сиди на полу. Тебя продует. Ты чай пить будешь? Элька молчала. Тогда тетя подошла и сказала почти жалобно: – Ну правда, тебя продует. Встань. Прошел поезд, и Эльке показалось, что он гудит печально. Шум колес таял, и наступала тишина. – Ну, Элька… Но Элька знала, что не встанет. Хотя бы до тех пор, пока тетя не уйдет и не закроет тихо за собой дверь. В это время Андрей кружил по комнате с бокалом шампанского – у родителей была годовщина свадьбы. За стеной пела Мирей Матье – у нее был сильный, красивый голос и грассирующий выговор. Андрей глотнул – шампанское оказалось деручим и холодным, не сладким. Он поставил его на подоконник и еще раз пролистал справочник, хотя уже знал номер наизусть. Поднял трубку, слушая одновременно длинный гудок и Мирей Матье: она смеялась, встряхивала волосами: «Танго, мосье?» Гудок был бесконечным. Но он не мог его оборвать, набрав номер, и трубку положить тоже не мог. г. Свердловск. 1, 2, 3, 4, 5 |
|||||||